Борис Осипович Костелянец
Драма для Бориса Осиповича Костелянца (1912–1999) — не один из родов литературы, а исключительная сфера творчества, где в ситуации драматического выбора проверяется мера душевной активности и где связи человека с человеком и человека с миром так же безобманно и каждый раз заново проверяются на прочность.
Можно сказать, что весь жизненный и творческий опыт Б. О. Костелянца привел к такому обостренно личностному и в то же время крупному, сущностному восприятию самой драматургической материи театра. Он принадлежал к поколению, еще заставшему великую культуру первой трети столетия, затем перекрученному перипетиями XX века, войнами, репрессиями, идеологическим прессингом. Костелянец закончил филологический факультет Ленинградского университета именно в 1937 году, прошел войну, на которой погибли оба его брата, пережил послевоенную «борьбу с космополитами» (и удостоился увидеть свою фамилию с маленькой буквы, как явление негативно-нарицательное); затем пришлось пережить долгожданную «оттепель», новые постылые «заморозки», шалую «перестройку»…
Борис Осипович Костелянец очень много работал как литературный критик. Его фундаментальные статьи о русском очерке, о Юрии Тынянове, А. С. Макаренко, Ольге Форш, Вере Пановой — это все отличные образцы отечественного литературоведения, высокая его школа. Классическими по тонкости проникновения в эпоху и поэтику, по тщательности являются его комментарии к изданию Аполлона Григорьева в Большой серии «Библиотеки поэта».
Интерес к театру проявился у Б. О. Костелянца уже в юные годы, он еще застал последние зарницы великой театральной эпохи — Мейерхольда, Таирова, Михоэлса; их спектакли он видел в студенческие еще годы. В первых публикациях начинающего филолога — рецензии на ленинградские премьеры и гастроли москвичей. Вместе со своим университетским товарищем Павлом Громовым, впоследствии автором выдающихся исследований о Блоке, Толстом, Мейерхольде, он часами пропадал в Александринском театре, бывал на репетициях, «учился театру» в беседах с К. Н. Державиным. В ленинградском журнале «Резец», где перед войной он работал в отделе критики редактором, был очень живой театральный раздел. Но режиссеры исчезали, театры закрывались, война и вовсе надолго «закрыла тему».
Теория драмы стала той нишей, где Мыслящий человек мог говорить со своей эпохой, уйдя на глубину, но и не порывая с нею. «Мир поэзии драматической» — так назвал Б. О. Костелянец свою книгу драматургических разборов, где сошлись, в этом особенном мире, всегда сопровождавшие его в жизни Софокл, Шекспир и Мольер, Грибоедов, Островский, Чехов, Горький, Вампилов… Автор книги и сам был поэтом драмы и ее философом, продолжая своих великих предшественников — Аристотеля, Лессинга, Шиллера, Гегеля. «Вы работаете на тонкостях», — заметил ему как-то его учитель и друг Наум Яковлевич Берковский. «Тонкость» здесь не исключала глубины, а была ее основанием. Критическая одаренность и исследовательская глубина — вот параметры стиля ученого. Он был требователен к себе до жестокости. Готовый текст статьи или книги — этого понятия для него не существовало. Он продолжал думать и дописывать текст на любой стадии. Это был великий труженик, умевший задавать вопросы и не удовлетворявшийся легкими ответами. После многих исключительно весомых и тонких разборов классических пьес он уже в конце жизни сделал книжку о «Короле Лире». Этот мастерский анализ трагедии, остро вписанный в современность, — итоговое философское эссе, своего рода прощальное обращение автора к людям. Его тема — «свобода и зло», актуальная, надо думать, и в наступившем веке.
Талантливый и тонкий критик, Борис Осипович Костелянец столь же хорошо умел «заражаться» общением с людьми. Он был наблюдателен и чуток не только в художественной сфере, но и в отношениях с людьми. Был, кстати, исключительным рассказчиком. Наверно, это и есть секрет обаяния его личности: человеческая отдача не может не вызвать ответного отклика. К нему тянулись люди. «Драматическая активность» — ключевое понятие в его концепции драмы, оно же характеризует и его способ взаимодействия с миром — творческий, не оценочно-схоластический. Глубоко не случайно он пришел к преподаванию и воспитал не одно поколение режиссеров, критиков, театроведов в Петербургской театральной академии. Преподавал он анализ драмы и теорию драмы, давал ощущение твердой почвы под ногами среди зыбей гуманитарной профессии. Он словно открывал шлюзы полноценного восприятия мира — мира, где все драматически связано со всем. Ни с чем не сравнимая фундаментальная школа, и можно понять режиссеров, на всю жизнь сохраняющих к нему огромную благодарность.
Надежда Tapшис«Поэтика» Бориса Костелянца: осознавание действия и обретение свободы
Он автор различных литературоведческих сочинений. Из-под его пера вышли работы о советских писателях, о классиках XIX века, о мировой литературе. Его привлекали разные области литературы: поэзия, проза, драматургия, очерк. Одним из его излюбленных жанров был комментарий. Он — комментатор и автор вступительных статей к сочинениям Аполлона Григорьева, Ивана Бунина, Юрия Тынянова. Эти комментарии, написанные в 50—70-е годы, включаются в переиздания по сей день, оставаясь непревзойденными.
Он блестящий педагог, десятилетиями оттачивавший свое мастерство. Он работал в различных учебных заведениях, начиная со школьных классов. С 1961 года он преподавал на кафедре русского и советского театра Ленинградского театрального института (ЛГИТМиК). Студенты-режиссеры, попадавшие на его занятия на третьем курсе, воспринимали семинары по анализу драмы как некое откровение. Только здесь они начинали понимать, что театральное произведение зависит не от придумок режиссера и не от таланта актера, а от объективных законов, заложенных в драме, которые нужно научиться распознавать и реализовывать на сцене с помощью режиссерской и актерской индивидуальности. Студенты получали не готовые формулы, поражающие глубиной, а проблемы, которые ставит искусство и которые нужно учиться решать самому, идя вслед за текстом. Занятия поражали участников не столько глубиной, сколько очевидностью законов искусства, которые раньше казались непостижимыми.
Секрет педагогического успеха был прост. Борис Осипович Костелянец не учил, а учился сам. Ни один тезис не казался ему бесспорным, все нужно было подвергнуть сомнению и во всем найти истину. Это стремление к истине заставляло его пересматривать все свои достижения, постоянно находить новое в очевидных фактах. «Я расту», — отвечал он в тех случаях, когда ему указывали на изменение его позиции.
В начале 90-х годов, уже тяжело болея, он продолжал преподавательскую деятельность, и его можно было видеть перед лекцией внимательно вчитывающимся в тексты Лессинга, которые он, кажется, знал наизусть, и делающим выписки. Это означало, что на лекции он скажет что-то новое, только сейчас обнаруженное.
Качества педагога и ученого, филолога и философа, театроведа и театрального критика блистательно соединились в трудах Бориса Осиповича, посвященных теории драмы. Одни из них полемичны и написаны в жанре лекций, предусматривающем диалог, прямое обращение к слушателю. Другие являются подробным анализом конкретных драматических произведений, акт за актом, картина за картиной. Таков разбор «Бесприданницы» Островского, который можно назвать классическим и универсальным — доступным для школьника и необходимым для режиссера.
В теории драмы Костелянец опирается на философские традиции, продолжая и развивая наследие Аристотеля, Лессинга, Канта, Гегеля.
Особый интерес Бориса Осиповича вызывал Лессинг, все его творчество. С гордостью он рассказывал, как вскоре после войны, в одном из немецких городов, где находилась его воинская часть, в театре давали «Натана Мудрого». Разумеется, он стремился видеть немецкие спектакли, как только они возобновились (театральные представления были запрещены по всей Германии в 1944 г., когда боевые действия перешли на немецкую территорию). Кто-то из немецких филологов или театральных деятелей, с которыми Костелянец познакомился в этом городе, стал утверждать, что драматургия Лессинга устарела и для современного театра подобные произведения неуместны. Борис Осипович растолковал «немецким товарищам» значение великой драматургии Лессинга, непреходящую ее ценность и достоинства конкретной постановки. Борис Осипович уверял, что ему удалось их переубедить.
Но особую ценность представляла для Бориса Осиповича «Гамбургская драматургия» Лессинга. Она входила для него в тройку самых значительных сочинений по теории театра наряду с «Поэтикой» Аристотеля и «Эстетикой» Гегеля. Именно в этих произведениях заключались те идеи, которые он отстаивал в теории драмы. Но на эти же произведения ссылались и другие исследователи, видевшие в театре способ выражения идеологии, раскрытия характеров, решения жизненных вопросов. С ними он вступал в скрытую полемику. На страницах книг из личной библиотеки Костелянца эта полемика выражалась в виде конкретных и эмоциональных маргиналий.
В своей знаменитой книге «Теория драмы от Аристотеля до Лессинга» А. А. Аникст пишет: «Для Лессинга существеннейшее правило заключается в том, что драматургическое действие должно строиться как раскрытие закономерностей жизни, логики характеров и страстей. Главным в фабуле, по мнению Лессинга, является «изображение нравов, душевного настроения и выразительность». Именно это, а не интрига, существенно для драмы»[1]. Экземпляр этой книги с дарственной надписью А. А. Аникста, адресованной Костелянцу, испещрен маргиналиями. Рядом с приведенной выше цитатой Костелянец пишет: «Аникст не понял здесь Лессинга, который противопоставляет, вслед за Аристотелем, фабулу нравам».
С точки зрения Костелянца, Лессинг освободил Аристотеля от классицистских и просветительских толкований и вывел на первый план действие, фабулу. Специально этому вопросу посвящена статья Костелянца «Проблема действия в теории драмы Г. Э. Лессинга»[2]. Эта статья строится на полемике с исследователем творчества Лессинга Г. М. Фридлендером[3]. Костелянец доказывает, что Лессинг в своих пьесах вырабатывает принципы принципиально нового европейского жанра — драмы, в то время как Фридлендер пытается ««вместить» Лессинга — теоретика и драматурга в сферу трагедии» (стр. 381 наст. изд.).
«Битва за Лессинга» — яркая страница в теоретическом наследии Костелянца, но лишь страница в многотомном труде. Его искания в области теории драмы включали подробное изучение драматургии от Эсхила до драматургов конца XX века, всех философских и литературоведческих сочинений, затрагивающих данную проблематику. Понятно, что такая работа в принципе не могла иметь конца; предполагаемая докторская диссертация даже не получила окончательного названия, но материалы к ней умещаются в десятках пухлых папок, занимающих огромный шкаф.
Эти рукописи ждут своего часа — разбора, систематизации, расшифровки и опубликования. Но то, что было опубликовано при жизни, представляет бесспорную ценность, ибо воплощает главные идеи Бориса Осиповича и сущность его поэтики.
В коротком обращении «К читателю» во втором выпуске «Лекций по теории драмы» (1994) Костелянец сам разграничивает задачи своих лекций и фундаментального исследования А. А. Аникста «История учений о драме». У Аникста — изложение представлений о драме «множества писателей, ученых и критиков» в хронологической последовательности этих учений. У Костелянца — анализ основных теорий драмы (Аристотеля, Лессинга, Гегеля), философские основания драмы как таковой, философские концепции театра XIX века. Уточним, что анализ философских теорий драмы направлен у Костелянца на выявление общих законов драмы. При всем разнообразии существующих концепций смысл его труда — в создании современной теории драмы на основе всей ее эволюции. Костелянец нигде не говорит «моя» теория драмы, но тот суммарный результат, который выявляется уже в первой главе об Аристотеле, а потом бесконечно уточняется, — является объективной теорией драмы в интерпретации Костелянца, т. е. его теорией драмы. У Аникста нет «своей» теории драмы, потому что его задача другая — изложить существующие теории. Его исследование — историческое. У Костелянца — не историческое, а сугубо теоретическое.
Главным в теории драмы Костелянца становится обоснование и раскрытие действия как основной особенности драмы, названной Аристотелем: трагедия — подражание, производимое в действии. Первостепенность действия является отправной точкой и для других теоретиков драмы. Эта проблема разрабатывалась в ряде трудов коллег Костелянца, и прежде всего здесь должна быть названа книга С. В. Владимирова «Действие в драме» (1972). Первостепенность действия в драме, так часто игнорируемая практиками театра, в теории театра стала общепризнанной. Однако само представление о действии и его месте в драме у теоретиков театра чрезвычайно разное.
Например, современный исследователь теории драмы Д. Н. Катышева также подчеркивает значение действия: «Действием проверяется истинность идеи. Свое понимание жизни драматург выражает через развитие конфликта, который приводит характеры в состояние внутренней готовности к действию. В этом процессе все персонажи связываются друг с другом благодаря активному стремлению привести противоречия к разрешению, либо к снятию, либо к ослаблению»[4]. Все справедливо: конфликт приводит в действие характеры, характеры действуют. Но все-таки проявление действия как-то замыкается характерами. Об этом автор говорит впрямую: «Отражая реальные конфликты действительности, драма является одновременно идейно-эстетической формой выражения определенного взгляда на роль личности в истории и мотивы ее участия в развитии общественных противоречий. Драма способствует решению одного из важнейших вопросов бытия — проблемы активности человека в преобразовании мира»[5]. Как же так? Драма становится чем-то вторичным: выражением общественных противоречий, «отражением реальных конфликтов». Все это, конечно, может присутствовать в произведении, но давно известно, что принцип мимесиса не сводится к подражанию социальным проблемам. А в приведенной цитате вполне однозначно сказано: «драма способствует… активности человека». Таким образом, действие все-таки сводится к действию человека.
Такая неожиданная упрощенность объясняется элементарно: автор ориентируется исключительно на позитивистскую эстетику, на жизнеподобие в искусстве. «Драматический конфликт, — считает Д. Н. Катышева, — подчиняется непреложному принципу реалистического искусства: он включает в мотивы действий героев обыкновенные потребности времени, эпохи. Все индивидуальные цели, отличия характеров имеют право на существование в искусстве больших художественных обобщений, если в них отражается общественно-историческая практика народа»[6].
Подобные суждения в духе Ипполита Тэна, рассматривающие произведение исключительно как документ той или иной эпохи и определяющие значение художественного произведения вложенной в него авторской идеей, — возвращают теорию драмы в «каменный» XIX век.
Понятно, что в подобную схему трагедия, например, Софокла не укладывается.
Иное у Костелянца. Природа действия в целом и драматического поступка в частности объясняется им не как инструмент для воплощения какой-либо идеи, а как собственно материал драмы, если хотите — ее «содержание». По Аристотелю, театр подражает действием (в том числе действием персонажа), но при этом подражает действию, и это уже действие не характера, не реального человека и не бога, а действие общечеловеческое, космическое, вселенское. «Драматический поступок — «произволен», в нем проявляется творческое начало, и вместе с тем он «непроизволен», поскольку и самый поступок, а в особенности его результат определены не только «принципами», исходящими от «творящего» лица, но и от сил, находящихся вне его» (стр. 55 наст, изд.), — излагает Костелянец принципы, сформулированные в «Этике» Аристотеля. Исходя из этого, герой трагедии является носителем не своего характера, а диалектики мира, в которой соединены рок и рокоборство, свобода и признание сверхчеловеческих законов. Действие раскрывает конфликт и трагического героя, и внешних сил, с которыми все герои сталкиваются.
Костелянец приходит к выводу, что результатом трагедии является приобщение зрителя к этому самому действию, — таким образом, «действие» является понятием основополагающим и для совершения катарсиса: «Самый ритм трагедии с его нарастаниями, приостановками, поворотами и разрешениями приобщал зрителя к действию, смысл которого — в преобразовании, в «очищении» и людей и ситуаций» (стр. 70 наст. изд.).
Исходя из этого, действие в драме — это борьба человека (и персонажа, и зрителя) с самим собой, преодоление внутреннего противоречия, которое, в свою очередь, является столкновением «двух миров» в общемировом движении. Здесь Костелянец опирается прежде всего на Канта: «С точки зрения Канта, человек принадлежит одновременно двум мирам. В первом — материально-чувственном — господствуют причинно-следственные связи и царит необходимость. Во втором — умопостигаемом мире разума — индивид пробуждается к проявлению свободной воли, к действиям, соответствующим его возвышенной, духовной сущности» (стр. 110 наст. изд.).
По мысли Костелянца, Кант порывает с просветительской концепцией «доброй» человеческой натуры. «Скорее Кант готов считать человека изначально «злым». Но он верит в человеческие возможности. С его точки зрения, человек может возвыситься над низменным в своей природе, подняться над собой и достичь нравственных высот в упорнейшей борьбе с самим собой как с явлением материального, «чувственно постигаемого мира»» (стр. 110 наст. изд.).
Вот это возвышение над собой, борьба с материальным миром в самом себе, и является основой драмы, целью драматического действия. А главной темой драматургии (с учетом, конечно, жанровых и временных особенностей) становится стремление человека к свободе, также формулируемое Кантом: «Покуда мы не признаем движущей силой человеческих действий свободу, мы не имеем оснований возлагать на индивида бремени личной ответственности за все, что он делает» (стр. 110 наст, изд.), — развивает Костелянец учение Канта.
Преодоление человеческой природы, возможность «подняться над собой» — естественная потребность в свободе. Осознание ее и осознание своей соотнесенности с надчеловеческими законами мироздания — основной материал драмы. Осознание ее законов — не только овладение языком театра, но и обретение этой самой свободы.
Поиск объективных законов драмы и человеческого существования Костелянец вел во всех своих сочинениях. Закономерно, что отправной точкой для него становится Аристотель и античная трагедия.
Костелянец анализирует античную трагедию как трагедию, как художественную структуру, а не как что-либо другое. В его книге «Лекции по теории драмы. Драма и действие» (Вып. 1), статьях «Рождение трагедии: суверенный человек и мировой порядок» и «Диалектика целей» в книге «Мир поэзии драматической…» (Л.: Советский писатель, 1992) античная трагедия вновь открылась в своем истинном виде, без идеологических установок и позитивистского подхода.
Однако для Костелянца, так же как и для Ницше, античность интересна не только сама по себе. В своем «Рождении трагедии» Ницше на основе обращения к античности выстраивал современную философскую картину мира. Костелянец вырабатывает универсальные критерии анализа художественного произведения, прежде всего драмы, и, естественно, для этого обращается к Аристотелю и к той трагедии, на основе которой возникла «Поэтика». В этом смысле статья Костелянца «Рождение трагедии…» имеет программный характер. Здесь выражены основные эстетические принципы автора. Здесь соединились выявление духа античной классики и выстраивание классического анализа драмы.
Все основные идеи статьи выражаются автором через полемику с предшествующими толкователями трагедии «Царь Эдип». Костелянец формулирует проблему, отталкиваясь от высказываний того или иного автора, излагает позицию, выявляет позитивное ее значение и углубляется в полемику. Далее Костелянец оставляет «использованного» автора наедине с читателем, не делая никаких выводов на его счет, а сам идет дальше, рассматривая следующую проблему и углубляя анализ.
В начале своей статьи Костелянец обращается к работе С. С. Аве- ринцева «К истолкованию символики мифа о Эдипе»[7]. Это одна из самых значительных статей об Эдипе на русском языке за последние десятилетия. Аверинцев решительно отказывается от существующих догм и руководствуется исключительно научным анализом. Работа Аверинцева, по сути, дает глубокое обоснование популярным психоаналитическим трактовкам образа Эдипа. В основе концепции Аверинцева тезис о «двусоставности» преступления (убийство отца и женитьба на матери) и «двусоставности» наказания (самоослепление и самоизгнанничество). Костелянец утверждает, что в фабуле трагедии нет ни двусоставного преступления, ни двусоставного наказания. И действительно, Аверинцев анализирует миф, хотя и использует для этого трагедию Софокла. Он как бы снимает драматический слой ради выявления собственно мифа, хотя в «чистом виде» мифа не существует и исследователь вынужден балансировать между разными жанрами.
Для Костелянца главным актом само-утверждения Эдипа является его вызов Судьбе — решение противостоять предсказанию дельфийского оракула. В этом состоит «преступление». Так Костелянцем определяется завязка трагедии. Так начинается анализ «Царя Эдипа» именно как трагедии и как художественного текста: «Именно это решение, протест, скажем даже — сопротивление Эдипа завязывает узел всех дальнейших событий» (стр. 326 наст. изд.).
И еще один момент в рассуждениях Аверинцева, вызывающий активное несогласие Костелянца, — его определение сущности софокловской трагедии как «самопознания». «Эдип выкалывает глаза, которые его предали, — утверждает Аверинцев. — Его знание обращается на него самого, его зрение обращается вовнутрь. Оказалось, что мудрость-сила, мудрость-власть — это вина и слепота, мрак чернейшего неведения: теперь он во мраке физической слепоты ищет иную мудрость — мудрость-самопознание»[8]. Так определяет Аверинцев развязку трагедии. И это справедливо: речь идет о переходе от знания к познанию, от doxa к epistema. Однако Костелянец заявляет, что идея самопознания вообще отсутствует в трагедии. Кажется, что Костелянец придирается к термину, настаивая, что Эдип познает себя в процессе общения. Но именно из этого принципиального уточнения возникает тезис, основополагающий не только для анализа данной трагедии, но, можно сказать, драматургии вообще: «В «Царе Эдипе» перед нами не самопознание, а прорыв к истине в ходе действия».
Определив главные исходные позиции на материале глубоко научном и опровергая его отчасти, Костелянец переходит к авторам менее убедительным, чем С. С. Аверинцев. Кажется, что подробный анализ «Царя Эдипа», предпринятый В. Н. Ярхо[9], не требует столь детального опровержения. В. Н. Ярхо исходит из концепции, что Эдип — идеальный герой (тут-то мы и оказывается во власти разного рода идеологий, а спор с идеологиями лежит за гранью поиска истины). Тем не менее Костелянец прослеживает развитие действия в трагедии именно в споре с В. Н. Ярхо. Он противопоставляет «идеальному» Эдипу Эдипа трагического, и через это противопоставление раскрывается драматическое действие. Потому что «однозначная, гладко выутюженная» фигура Эдипа не вмещает трагический конфликт, а именно трагический конфликт внутри героя дает возможность развиваться драматическому действию. (Кстати, Борис Осипович отказывался от определений «внутренний конфликт» и «конфликт внешний», заменяя их понятиями «конфликт скрытый» и «конфликт открытый».) Тем самым Костелянец возвращает нас к аристотелевскому определению героя трагедии: сострадание и страх вызывает «такой человек, который не отличается ни добродетелью, ни праведностью, и в несчастье попадает не из-за порочности и подлости, а в силу какой-то ошибки (hamartia), быв до этого в великой славе и счастье, как Эдип, Фиест и другие видные мужи из подобных родов»[10]. Когда Софокл — по свидетельству Аристотеля — говорит, «что сочиняет <людей> такими, как они должны быть»[11], речь идет о том идеале, который возникает в развязке в душе зрителя, а не в иллюстрации идеального героя, каковым Эдип не является. В. Н. Ярхо слишком буквально воспринимает слова Софокла в пересказе Аристотеля и сам впадает в ошибку. Ибо героем трагедии может быть только человек сложный, противоречивый, имеющий склонность и к добродетели, и к ошибке, т. е. обладающий тем, что свойственно любому, сидящему в зале.
Обращаясь к статье В. Я. Проппа «Эдип в свете фольклора»[12], Костелянец не вступает с ней в полемику. Ему нужно ввести еще один ракурс рассмотрения трагедии. В. Я. Пропп, в отличие от С. С. Аверинцева, подчеркивает разницу между легендой и трагедий Софокла. Однако и в легенде и в трагедии проявляется «ход истории». «В. Я. Пропп видит и в сказках и в трагедии наслоение противоречий, порожденных сменявшими друг друга жизненными укладами» (стр. 343 наст, изд.), — отмечает Костелянец. Так в анализ входит социальная тема: трагедия Софокла отражает движение истории, смену формаций древнегреческого общества. Постепенно развивая эту тему с помощью различных исследователей, Костелянец приходит к выводу, что Эдип «вступает на путь созидания новой нравственности, соответствующей его представлениям о человеческом достоинстве. Блюстители старых норм безжалостно сопротивляются переменам. Эдип оказывается достойным их противником. Созидательно-творческий акт, им совершаемый, обрекает его на страдания, но при этом он творит себя как личность» (стр. 352 наст. изд.). Таким образом, социальные аспекты не затушевываются при анализе художественной структуры. Эдип Софокла отражает формирование личности как воплощения новой эпохи. В творчестве Софокла личность обретает то высшее состояние, которого она еще не имеет в трагедиях Эсхила и которое будет доминировать в европейской трагедии в последующие века, вплоть до «новой драмы». «Показывая, насколько велика взаимозависимость индивида и общественного целого, — пишет Костелянец, — Софокл тем самым не отрицает значения суверенности, а, напротив, вызывает восхищение ею» (стр. 353 наст. изд.).
Эту тему «суверенности» личности и зависимости ее от миропорядка Костелянец развивает на примере «Антигоны» Софокла в статье, посвященной Еврипиду: «Диалектика целей». Единство «суверенности» и подчиненности миропорядку (року) находит воплощение в развязке «Царя Эдипа».
В развязке (уточнение ее и тем самым уточнение конфликта трагедии и эволюции главного героя делается автором на последних страницах работы) происходит познание истины (т. е. своих заблуждений и подлинного мироустройства) и соединение в финальном поступке Эдипа воли рока и свободного проявления личности. «Тут, в эксоде, совершается наивысший взлет нравственности Эдипа, что хор не сразу способен осознать. Эдип разъясняет: без воли Аполлона все бы не свершилось, но виноват во всем случившемся он один» (стр. 364 наст, изд.), — пишет Костелянец.
Сталкивающиеся в конфликте рок (миропорядок, устанавливающий космический детерминизм) и свободная личность, противостоящая своими действиями року и обладающая способностью преодолеть свои заблуждения, дойти до истины, — в развязке сливаются в единое целое. Эдип сам становится вершителем рока, миропорядок не противоречит действию героя.
Принципы анализа трагедии, предложенные Костелянцем, методика, используемая в доказательствах, являются универсальными для искусствоведения. В основе науки о театре лежит анализ драматургической структуры. Специфика театральных жанров всегда подчеркивается Костелянцем, его анализ неотделим от живого театрального процесса, без которого невозможна жизнь драмы. Однако рассмотрение конфликта, комплексное изучение произведения в историческом и эстетическом контексте являются всеобщими искусствоведческими законами.
Анализируя мировую драматургию, Костелянец решительно переосмысливал существующие трактовки. Переосмысление это связано, конечно, не с толкованием тех или иных сцен или персонажей пьес, а исключительно с выявлением и анализом конфликта пьесы, композиции, законов поэтики. Таким образом, «новаторство» заключалось в применении собственно эстетического подхода. Драма анализируется как художественное произведение, а не как свидетельство эпохи, взглядов автора, той или иной идеи, социальных типов, характеров и всего того, что может дополнять анализ, но не может его подменять.
Примеров подобных «переосмыслений», т. е. выяснения того, на чем действительно построен конфликт произведения и как развивается действие, в творчестве Костелянца немало. Один из самых очевидных — случай с горьковской пьесой «На дне», которая десятилетиями воспринималась как «обличительная» по отношению к социальному устройству рубежа XIX–XX веков. И дело не просто в идеологических установках той бесконечно долгой тоталитарной эпохи, с которой совпало творчество Костелянца и которая не позволила реализоваться в полную силу творчеству многих деятелей русской культуры и науки. Дело в искоренении эстетических законов как таковых, когда пьеса и любое произведение воспринимается только как передача определенных взглядов, а не как художественное произведение.
Костелянец выступает против подобного подхода: «Суть в том, что Горький не только обнажает и обличает, — вместе со своими героями он ищет путей преодоления бесчеловечности и ожесточения, ежечасно порождаемых этим миром»[13]. Читая тексты Костелянца, нужно принять осторожность высказываний, возведенную в литературное изящество. (Возможно, грубость и эпатажность современной журналистской, критической и псевдонаучной литературы — всего лишь закономерная реакция на эту изысканную стилистику недосказанностей и намеков, за которой смысл проявляется не сразу.) Так вот, когда Костелянец говорит: «Горький не только обнажает и обличает», — имеется в виду, что обнажение и обличение — лишь вторичные элементы, касающиеся содержания и общественных взглядов, а произведение отражает взгляды художественные в первую очередь. Драма «На дне» оказывается драмой о преодолении бесчеловечности мира. Оказывается, что в конфликте сталкиваются «коростылевщина» и «тема поисков человечности и борьбы за нее»[14]. Костелянец показывает, что Сатин не противопоставляется Луке, а протестует против того мироустройства, которое воплощено в «ко- ростылевщине» и которое решительно опровергнуто Лукой. Смерть Актера в развязке пьесы — неприятие «коростылевщины» и действенный вызов ей. Сатин, который до Костелянца воспринимался «фигурой статической» (в статье оспаривается суждение о статичности и «правильности» позиции Седина), воплощает эволюцию мировоззрения от «коростылевщины» к внутренней активности, действенности человека. Однако «Сатин и принимает Луку и оспаривает его»[15], демонстрируя противоречивость позиций, заявленных в пьесе, и сложность ее драматического конфликта.
Даже в такой пьесе, где любые толкования связаны с позициями, высказываемыми героями, Костелянец не сводит анализ действия к столкновению персонажей. Сталкиваются не персонажи, — как это было и есть в большинстве постановок «психологического» театра, — сталкиваются стороны конфликта. В статье о «На дне» Костелянец отказывается от разделения персонажей на протагонистов и статистов: «Тут нет второстепенных, эпизодических персонажей. Тут они переведены в разряд первостепенных»[16].
Костелянец обнаруживал и формулировал то, к чему с большим трудом прорывался современный ему театр. Постановка «На дне» в одном из самых новаторских театров — в «Современнике» в 1968 году отражала именно то понимание конфликта и переосмысление героев, которое ранее было предложено Костелянцем.
Но не стоит строить иллюзий: то, что становится ясным и очевидным при чтении текстов Костелянца, не могло, конечно, переломить практику, существующую в советском театроведении и в театре в целом. Режиссеры по-прежнему ставили спектакли о судьбах героев пьес, а не о тех движущих силах, носителями которых выступают персонажи. Новаторство режиссеров касалось трактовок персонажей, а не вскрытия действительного конфликта произведения. Критики по-прежнему восторгались яркими героями, созданными талантом актеров, а не выявляли объективное значение спектакля и развитие действия в нем.
Вновь и вновь в каждой своей работе Костелянец показывал, что разговоры о «характерах» в пьесах (как и выведение «характеров» на сцену) не приводят к обнаружению подлинного художественного потенциала ни в содержании, ни в форме произведения. В последней опубликованной при жизни работе — статье о «Короле Лире» — Костелянец писал: «Вводя нас в портретную галерею тончайше выписанных Шекспиром «характеров», авторы монографий словно забывают, что трагедию интересует более всего коллизия, которая создается лишь устойчивой устремленностью действующего лица, связанной с его мировоззрением и определенно направленной активностью. В трагическом произведении (да и в известной мере в любом явлении искусства, за исключением портретной живописи и мимической сцены) характер самостоятельно не существует. И понимать его вне коллизий, им создаваемых и его формирующих, невозможно, да и не следует»[17].
Тем самым Костелянец подводит черту под длительным этапом шекспироведения, основоположником которого был великий английский критик, философ, литератор, художник Уильям Хэзлитт. Его книга «Характеры в пьесах Шекспира» (1818) определила шекспироведение XIX века, но в XX веке осталась лишь фактом истории, однако именно эти тенденции продолжали доминировать в советском шекспироведении.
Костелянец вновь возвращает театр к тем законам, которые были сформулированы Аристотелем, но потом надолго забыты: «Итак, [в трагедии] не для того ведется действие, чтобы подражать характерам, а, [наоборот], характеры затрагиваются [лишь] через посредство действий, таким образом, цель трагедии составляют события, сказание, а цель важнее всего. Кроме того, без действия трагедия невозможна, а без характеров возможна…»[18] Однако до сих пор при разборе драмы анализируются прежде всего персонажи, при трактовке пьесы режиссерами — переосмысливаются образы героев, в критических работах о театре — оценивается психологическое обоснование поведения героев. Костелянец разрабатывал теоретическую основу подлинного театра, восстанавливающего традиции, воссоздающего свою сущность.
Последняя законченная работа Костелянца называется «Свобода и зло: самоочищение и пресечение зла силой. Опыт прочтения величайшей трагедии Шекспира». Написана работа в 1997–1998 годах. Журнальный, сокращенный вариант опубликован в 1999 году, в № 2 журнала «Вопросы литературы». В том же году вышло отдельное издание (вместе с текстом «Короля Лира» и с приложением высказываний о трагедии А. Григорьева, Н. Добролюбова и других) в издательстве «Гиперион».
Анализ трагедии достигает здесь совершенства: полемика с исследователями, необходимая для постановки проблемы, отходит на второй план (анализ «Царя Эдипа» полностью построен на оспаривании предшествующих концепций); характеристика персонажей не является самоцелью, взаимоотношения их важны только для раскрытия конфликта.
Задачей исследователя является обнаружение объективного художественного потенциала произведения, а не открытие парадоксальных трактовок. Анализ «Короля Лира» поражает своей неожиданностью и убедительностью. Кажется, сотни исследователей разными путями пробирались к истине, но сформулировал ее во всей простоте и точности именно Костелянец. Эту истину можно бесконечно дополнять и совершенствовать, но главное — в чем конфликт, в чем уникальность трагедии — здесь сказано.
Замечательно, что для такого «итогового» анализа оказалась избранной пьеса сложная, никак не «классическая». Первый параграф анализа «Лира» в журнальном варианте озаглавлен автором «Неестественная завязка». Оспаривая двойственность завязки «Царя Эдипа», в «Короле Лире» Костелянец видит «двуступенчатость» завязки: одна коллизия — отречение Лира от власти, другая интрига — борьба за власть Эдмунда, сына Глостера. Таким образом, заявлена одна тема: власть.
Как только ни трактовали в течение веков отречение Лира от власти — и ренессансный вызов средневековью, и феодальный
деспотизм, и самодурство, и уверенность в дочерней любви. Для Костелянца это отречение абсолютно осознанно: отказ от престола нужен для обретения личной свободы и вызывает мучительную внутреннюю борьбу с собственными «повадками великого властителя»[19].
Но это благородное своеволие Лира приводит здесь же и к трагической ошибке — проклятию Корделии, которая разрушает задуманный Лиром ритуал, возмущенная очевидной ложью сестер.
Дальше начинается погружение в ад, через который пролегает путь к истине. Костелянец показывает, что композиция не строится на параллельном развитии судеб Лира и Глостера. Их судьбы контрастны, ибо сходные изначальные ситуации развиваются в противоположных направлениях: у Глостера — подчинение судьбе и ощущение только внешних противоречий; у Лира — трагическое постижение собственных противоречий и познание противоречий мира. В этом смысле рокоборческий потенциал (мы употребим здесь не очень уместный античный эпитет, а Костелянец говорит о преодолении «узаконенных норм») проявляют Лир и Эдмунд. Они бросают вызов миру, но их «преступления» имеют противоположную направленность.
Весь путь Лира — это отказ от противопоставления себя миру. Идеализированное представление о жизни (отстранение Лира от мира) сменяется желанием мести (активная позиция) — жаждой справедливости. Но в этом состоянии он вступает в борьбу уже не с конкретными людьми, а со стихией, тем самым поднимаясь до рокоборческого уровня. Жажда справедливости приводит Лира не к очищению, а к разгулу стихийных чувств (то же с Отелло, ради «справедливости» карающим Дездемону), что соответствует разбушевавшейся стихии. Страсть отмщения приводит Лира к безумию, — утверждает Костелянец.
Для дальнейшего развития лировского конфликта принципиальное значение имеет встреча Лира с бедным Томом, соединение двух сюжетных линий. «В коллизии «Короля Лира» Эдгар играет сверхважную роль. К сожалению, ей не придают должного значения, а Джордж Оруэлл, выявляя истоки отрицательного мнения Льва Толстого о «Короле Лире», как бы соглашается с тем, что в слишком растянутой пьесе Эдгар — персонаж лишний»[20], — удивляется Костелянец.
Далее он показывает, что Эдгар, столкнувшись с несправедливостью, с успешной реализацией чудовищного плана Эдмунда в его стремлении к власти, также прошел путь познания и пришел к пониманию сути Эдмунда — не его индивидуальных свойств, а жизненных тенденций, им олицетворяемых.
Через взаимодействие с Томом — Эдгаром Лир проникается состраданием к «горемыкам» и самоосуждением. Но еще важнее — по Костелянцу, — что Лир проникается стремлением Бедного Тома пресекать зло силою. «Теперь он жаждет не мстить, а судить»[21] — Лир переходит к новому этапу познания. На этом этапе он расстается с шутом, все время тянущим Лира назад, ностальгирующим по прошлому, враждебно относящимся к бедному Тому.
В традиционном шекспироведении говорится о влиянии шута на Лира и о раскаянии Лира в своем отречении от власти. Анализ Костелянца показывает, что ничего этого нет в развитии конфликта трагедии.
Также Костелянец опровергает и традиционное представление об ослаблении конфликта в двух последних актах трагедии. Здесь Эдгар рисует перед слепым отцом картину гармонии труда и природы, но Глостер все равно бросается в воображаемую пропасть. А Лир, наоборот, обретает Корделию. Получая прощение Корделии, Лир идет дальше. Он приходит к осуждению беззакония, царящего в мире.
И опять Костелянец опровергает толкование лировского афоризма «виновных нет, поверь, виновных нет…» как выражения всепрощения. Нет, это скорее ирония: золото скрывает порок и подкупает судью, все можно оправдать и любому зажать рот, — а виновных нет. Вот что говорит Лир. Так укрепляется его действенная позиция по отношению к миру.
Только эта позиция дает Лиру воплощение свободы, к которой он изначально стремился. Но реальная свобода будет им обретена только в смерти.
Однако жажда свободы обуревает, по Костелянцу, не одного Лира. Существует «негативная свобода», которая воплощена в Эдмунде и его приспешниках.
Свобода Эдмунда — вседозволенность, переступание через всё ради достижения своих целей. И хотя носители «негативной свободы» приходят к уничтожению друг друга, в трагедии Шекспира на первом плане столкновение разных «свобод». Ренессансное мышление связано с трагической двойственностью многих основополагающих понятий, и свобода здесь исключение.
«В центре «Короля Лира», — провозглашает Костелянец, — феномен свободы, чреватой не только плодотворной, созидательной силой, но и разрушительным злом»[22]. И Костелянец находит подтверждение двойственности феномена свободы в философии Канта, Гегеля, Шеллинга.
Анализируя действие трагедии «КорольЛир», Костелянец приходит к выводу, что в основе конфликта проблема свободы индивидуума. Осуществляют свою потребность в свободе от сковывающих их структур два человека — Лир и Эдмунд. Оказывается, что свобода понимается по-разному. Лир и Эдмунд в действенном достижении свободы проходят противоположный путь.
Если тот или иной исследователь анализирует в трагедии характеры, он приходит к сравнению характеров и судеб Лира и Глостера. Если исследователь анализирует конфликт и действие, оказывается, что в трагедии сталкиваются стремление к свободе и пути ее достижения — через ущемление прав другого человека. «Через посредство действий» характеры Лира и Эдмунда раскрываются по-разному, ибо совершают противоположные поступки.
Близость Лира и Эдмунда не просто в их связи с отвлеченным понятием свободы. Эдмунд становится «свободен», когда разрывает родственные связи. Лир также разрушает родство, государственность, общепринятую иерархию. В обоих случаях речь идет о разрушении, чреватом катаклизмами. И при этом — огромная разница.
«Эдмунд — человек без проблем»[23], — замечает Костелянец. Это значит, что он не является трагическим героем, он не способен на познание — ни себя, ни другого. Поэтому он в принципе не может обрести свободу, не может ее выстрадать. И вынужден довольствоваться иллюзией непрочной власти. Лир обретает свободу в познании себя и мира. Свобода обретается Лиром и Корделией друг в друге. И пусть гармония эта также быстротечна, Лир умирает свободным человеком.
В этом противопоставлении свободы подлинной и свободы мнимой Костелянец развивает тему, ставшую для него главной уже во времена первого выпуска «Лекций по теории драмы». Противопоставляя Канта романтикам, Костелянец также говорит о свободе подлинной и мнимой, о трагическом познании и иллюзии. «По мысли Канта, индивидуальная этическая свобода одного индивида возможна лишь тогда, когда она координируется с такой же свободой другого. Романтиков же их понимание субъективности и «свободы духа» приводило к полному неверию в позитивный смысл взаимодействия одного индивида с другим и с объективным миром. И тогда в своем упоении субъективностью романтики отстаивали уже не свободу, а ничем не ограниченный произвол» (стр. 120 наст. изд.).
Совсем не случайно на последних страницах работы Костелянца о Лире столь важна Корделия. Она — носитель свободы, с самого начала трагедии бросающая вызов миропорядку. «Пройдут века (и тысячелетия), а Корделия будет удивлять и восхищать благоразумного, приспосабливающегося к обстоятельствам человека»[24], — восклицает Костелянец.
Корделия, возможно, противоположность другой героине Костелянца — Ларисе в «Бесприданнице». Тщетно борясь с обстоятельствами, Лариса все более и более теряет свободу, и только в развязке, незадолго до гибели, происходит прорыв: она осознает свое положение и находит наименование, адекватное своему положению. «Вещь… да, вещь! Они правы, я вещь, а не человек». Костелянец объясняет: «Теперь Лариса не только не спорит, не только не опровергает, как это всегда было и не могло не быть во время ее диалогов-стычек с Карандышевым. Впервые она с ним соглашается. Разными путями они оба двигались и прорвались к одной истине» (стр. 482 наст. изд.). И здесь же возникает трагедия Шекспира: «Дорого достается истина шекспировскому Лиру — о Корделии, Гонерилье и Регане, о своих роковых заблуждениях, о мире, в котором он живет» (стр. 482 наст. изд.).
Сквозная тема просматривается во всех значительных работах Костелянца. Но в анализе «Бесприданницы» она обозначена как истина, а в анализе «Лира» названа впрямую свободой.
А в «Лекциях по теории драмы» Костелянец непосредственно связывает Ларису с кантовской концепцией свободы: человек — цель, а не средство. «А. Н. Островский имел очень малое касательство к Канту, — признается Костелянец, — Однако в «Бесприданнице» он находит свое, порожденное условиями пореформенной обуржуазивающейся России воплощение той общечеловеческой коллизии, которой жил «моральный индивид» Канта. Ведь тут все герои, кружащие над Ларисой… каждый по-своему, хотели бы превратить Ларису в средство для достижения своих целей…Каждый из них ее обезличивает, обесчеловечивает, превращает в «вещь». Именно это прозревает в финале Карандышев, а вслед за ним и Лариса, смерть которой и предстает как акт сопротивления обезличению и овеществлению. Искусство XIX–XX веков продолжало ставить «кантовские» проблемы» (стр. 112 наст. изд.).
Поиск Костелянцем объективных законов драматического действия, универсальных принципов искусства выходит за рамки эстетики. Он подтверждает аристотелевское представление о человеке, высшая потребность которого — познание, и кантовское представление о человеке, реализующем себя в свободе.
Вадим МаксимовДРАМА И ДЕЙСТВИЕ. Лекции по теории драмы. Выпуск 1 (1976)
К читателю [25]Автор первого выпуска «Лекций по теории драмы», в отличие от А. Аникста (создателя цикла работ под названием «История учений о драме»[26], где подробнейшим образом изложены суждения множества писателей, ученых и критиков о сущности и законах драматургии), сосредоточился на рассмотрении вклада, внесенного философами — Аристотелем, Лессингом, Гегелем — в теорию драмы. При этом был поставлен вопрос и о значении «Критики практического разума» и «Критики способности суждения» Канта для понимания неких ключевых составляющих драматического процесса. Ведь Гегель в ряде своих положений полемизирует именно с Кантом, опровергая (не всегда убедительно) его толкование природы действия и поступка.
В первом выпуске «Лекций» автор пытался заново выявить то позитивное, что в философской теории драмы сохранило свое значение для современности, побуждает развивать и углублять найденное раннее, способствуя новому осмыслению не только драматургии далекого прошлого, но и XIX–XX веков.
Во втором выпуске «Лекций» автор обращается по преимуществу к воззрениям философов, непосредственно и развернуто исследовавших проблемы драматургии, либо тех мыслителей, что развивали их идеи или же полемизировали с ними в течение XIX века.
Философская мысль первой половины этого века, полемически направленная против Гегеля, открывала для теории драмы некие новые перспективы, что в определенной мере вело к углублению представлений о сути драматургии и «составляющих» драматической активности, проявляемой ее героями.
Но «последние шестьдесят лет XIX века были наименее благоприятными для философии. Это было антифилософское время». Успехи естественных наук, «интеллектуальный терроризм лабораторий задавили, задушили философию»[27].
На смену классической «философии духа» пришел бездуховный позитивизм. Под его влиянием теория драмы второй половины XIX века перерождалась в «технику драмы», где предельно упрощались идеи и ключевые понятия (действие, воля) философской науки о драме.
Вместе с тем уже во второй половине прошлого века дает себя знать потребность преодолеть позитивистский редукционизм, наложивший свою печать на представления о сущности и предназначении драматургии и изображаемого ею действия. Данная работа — первая попытка выявить эту плодотворную тенденцию, нашедшую развитие и в нашем веке.
Противоречивый процесс развития теории драмы в XIX веке шел по-своему в России и на Западе (этим объясняется деление работы на две части[28]). Теоретическая мысль и у нас, и за рубежом билась над решением сходных проблем. Стремясь критически осмыслить учения о драме, складывавшиеся в «послегегелевский» (условно говоря) период, автор полагает, что при этом аристотелевские и гегелевские идеи подвергались не только упрощению, но в ряде случаев и углублялись под воздействием процесса развития драматургии, побуждая современную науку о драме преодолевать то застойное состояние, в котором она пребывает у нас ныне. Старые споры по проблемам теории драмы оказываются актуальными для наших дней.
Введение
Мир драмы, ее проблематика и поэтика, как бы драматургия ни взаимодействовала с другими жанрами искусства, всегда сугубо своеобразен. С момента зарождения драма обращалась к своему, только ей подвластному жизненному «материалу», вдохновлялась своими поэтическими идеями, решала свои вопросы, накапливая необходимые для этого формы художественной выразительности. Отвечая определенным духовно-эстетическим общественным потребностям, драма своими путями шла к достижению целей, ей предназначенных.
За многовековую историю своего развития драма сохраняла некие устойчивые свои черты и особенности, но вместе с тем претерпевала и значительные изменения. Сдвиги в общественной жизни; процессы, происходившие в самой драматургии; развитие философско-эстетической мысли — все это вело к новым истолкованиям сущности драматургии, задач, перед ней стоящих, и возможностей, которыми она располагает.
Драма, как и вообще искусство, всегда ведет речь о человеке. Но человек предстает в разных видах искусства по-разному. И тогда, когда он в художественном произведении как будто отсутствует (например, в пейзажной живописи или натюрморте), все-таки художника интересует прежде всего именно человек — в разнообразных своих проявлениях и отношениях; его внешний облик и его внутренняя жизнь; мир его деятельности и мир его представлений; его связи с другими людьми, с трепещущей вокруг него природой и окружающими его неподвижными предметами.
Драма видит человека, художественно исследует и постигает его только ей доступным и только ей подобающим образом. В отличие от лирических и повествовательных жанров литературы, от скульптуры или живописи объектом изображения в драме никогда не бывал и не может быть единичный субъект, обособленная личность.
Даниэль Дефо, обрекший своего Робинзона на полное одиночество до появления Пятницы, вызывает у читателя неослабевающий интерес, рисуя длительное и тяжелое единоборство героя с природой и переживаемый им при этом моральный кризис. В известной повести Хемингуэя нас захватывает борьба одинокого старика с огромной рыбой, а затем и с пожирающими ее акулами. Человеческий подвиг старика, его величие предстают перед нами здесь во всей своей глубине и достоверности благодаря тому, что и море, и лодка, и снасти, и рыба, и акулы — все это входит в повествование как важнейшие объекты художественного изображения. Столь же, к примеру, значимы развернутые картины Петербурга, его улиц, доходных домов, меблированных комнат и углов в «Преступлении и наказании». Вне всего этого трагедия Раскольникова была бы вообще и невозможна и непонятна. История Квазимодо, Клода Фролло и Эсмеральды неотделима от Парижа, его площадей и улиц, от Собора Парижской Богоматери, ибо все они вместе ведут в романе Гюго полную драматизма жизнь.
Как видим, повествователь, автор романа, повести, рассказа имеет возможность изображать человека, втянутого в процесс общения с другими людьми, и человека, обособленного от них, но вступающего при этом в разнообразные, нередко весьма драматические отношения с миром вещей и миром природы. В этом смысле к повествовательным жанрам литературы весьма близок кинематограф. «Робинзон Крузо» или «Старик и море» могут быть экранизированы, но поставить их на драматической сцене невозможно, да и не нужно. Перед повествовательными жанрами и перед кинематографом открыты возможности, которых лишена драматургия. Но зато у драматурга — свои возможности, которыми ни повествователь, ни кинематографист не обладают.
Интерес к тому, что теперь называют «сферой обитания» человека, сближает [драму] с повествовательными жанрами, с родственным им во многом искусством кинематографа и лирику. Но тут среду обитания, окружение — все это герой как бы вбирает в себя. Лирический поэт видит мир, как бы широко и многосторонне он его ни охватывал, сквозь восприятие некоей личности, сосредоточенной на своих чувствах и мыслях, на тех разнообразнейших реакциях, которое вызывает в ней окружающая действительность. Разумеется, и герой лирики общается не только с собой и обращается не только к себе. Он может адресоваться к одному или ко многим «ты» («Я помню чудное мгновенье, передо мной явилась ты» у Пушкина; «О нет! Я не хочу, чтоб пали мы с тобой в объятья страшные» у Блока; «А вы, надменные потомки…» у Лермонтова). Но это всегда отсутствующие «ты», от которых лирическое «я» не ждет ответа. В драме же конкретное «я» вступает в прямое общение со столь же конкретным и ответствующим «ты», в свою очередь требующим ответного действия и ответного слова.
Драма, как и неотделимый от нее драматический театр, устремлена к изображению междучеловеческих отношений. «Среда обитания», природа, вещный, предметный мир — все это входит в драму для того, чтобы раскрыть характер, дух, смысл тех или иных человеческих взаимоотношений, на которых сосредоточено ее внимание. Предмет драмы — со-бытиё человека с человеком в очень напряженных, сложных, противоречивых ситуациях. Тут с предельной остротой обнажается то, что людей связывает, и то, что их разделяет.
В драме внутриличностные и междуличностные коллизии предстают диалектически связанными, выражая при этом острейшие противоречия общественного развития. Драматическим общение становится тогда, когда его участники испытывают потребность либо вынуждены перестроить некую исходную внутренне противоречивую ситуацию, их объединяющую. Свои силы, энергию, всю присущую им активность они тратят на поиски выхода из этой, их не удовлетворяющей, ситуации, на ее «ломку» или «преодоление». Поэтому драма обращается к ситуациям, которые чреваты сдвигами, кризисами, переворотами в отношениях и соответственно изменениями и переломами в судьбах, в людях, эти отношения созидающих.
Эту важнейшую особенность драматического общения имел в виду В. Г. Белинский, когда писал, что в обычном «споре», как бы остро он ни протекал, «нет не только драмы, но и драматического элемента». Если же процесс спора ставит его участников «в новые отношения друг к другу, — это уже своего рода драма»[29]. Переменами — в ситуациях, в людях, в отношениях, переменами глубокими и в свою очередь порождающими новые противоречия и перемены, в итоге так или иначе разрешающимися, — именно этим живет и захватывает нас драма.
События в ней возникают в процессе со-бытия, то есть взаимодействия людей. И даже в тех несчастных случаях, когда драматург, казалось бы, концентрирует внимание на предмете, на вещи, на явлении природы, он делает это только в той мере, в какой они участвуют в со-бытии, служат драматическому общению и стимулируют действие, происходящее между людьми. Такова роль ковра в эсхиловском «Агамемноне», бури в «Короле Лире», грозы у Островского, чайки у Чехова. Сценическая площадка, на которой развертывается действие драмы, и сценическое время, определяющее его длительность, даже если она проигрывается читателем в его воображении, рассчитаны на изображение процесса общения людей в определенных обстоятельствах и проблемных ситуациях, из которых они ищут выхода.
Марксистская наука о человеке (психология, философия, социология) в последние годы все более настойчиво обращается к проблеме общения в различных ее аспектах. Как известно, классики марксизма рассматривали вопрос о междучеловеческом общении в широком плане. Они выясняли природу и самый «механизм» экономических, политических, идеологических связей между людьми.
Историческое развитие К. Маркс и Ф. Энгельс рассматривали как «связный ряд форм общения». В процессе общественного развития «на место прежней, ставшей оковами, формы общения становится новая, — соответствующая более развитым производительным силам, а значит, и более прогрессивному виду самодеятельности индивидов»[30].
Как видим, для основоположников марксизма характер междучеловеческого общения меняется в ходе истории, и потому «самодеятельность» индивидов, участников общения, приобретает все новое и новое содержание и новые формы выражения.
Для понимания природы и духа драмы очень важен марксистский подход к человеку как существу общественно-историческому, который всегда находится в определенной системе связей. Он ею детерминирован, но он же сам ее и создает. Проблема межиндивидуального общения была одной из ключевых для философа-материалиста JT. Фейербаха. «Отдельный человек, как нечто обособленное, не заключает человеческой сущности в себе ни как в существе моральном, ни как в мыслящем. Человеческая сущность налицо только в общении, в единстве человека с человеком, в единстве, опирающемся лишь на реальность различия между Я и Ты», — писал Л. Фейербах[31]. Эта мысль о «единстве», опирающемся на «различия» между участниками общения, имеет прямое касательство к предмету драмы. Правда, в различиях между «я» и «ты» Фейербах не видел проявления их общественной сути. Ведь человека Фейербах понимает как существо природное. Общающиеся люди существуют у Фейербаха вне тех конкретных форм их социальной жизни, которыми реально определяется многое в различии между ними.
К. Маркс и Ф. Энгельс, критикуя Фейербаха, раскрыли именно эту сторону дела, показав, что «я» общается с «ты» в сложной системе социально-исторических связей. А раз это так, то в самых разных формах общения всегда так или иначе, прямо или опосредованно проявляются общественные противоречия, придающие общению гораздо более сложный характер, чем думал Фейербах. Занимая в системе искусств особое место, поскольку ее предмет — межиндивидуальные отношения, драматургия с самого своего появления стремилась выявить возникающие в процессе развития этих связей сложности, которые приобретают драматический характер, стремилась изобразить людей «в одно и то же время как авторов и как действующих лиц их собственной драмы»[32].
Интересующие драматургию отношения общения сугубо специфичны. Согласно представлениям современной социологии, каждый человек проявляет себя в целом ряде социальных ролей: он может быть врачом, отцом семейства, филателистом, учителем, кормильцем престарелых родителей, спортсменом и т. д. Выполняя каждую из этих ролей, человек при этом вступает в различные системы общения. В драме же именно отношения общения выходят на первый план. Если, например, в производственном коллективе люди общаются ради выполнения стоящих перед ними задач, то есть общение тут сопутствует трудовой деятельности и подчиняется ее целям, то в драме оно из сопутствующего фактора превращается в фактор первостепенный.
В многообразии человеческих отношений иные современные социологи и социальные психологи выделяют в особую категорию «отношения общения», хотя остается спорным вопрос о том, являются ли такие отношения самостоятельным видом деятельности в реальной человеческой жизни. Что же касается искусства драмы, то оно, бесспорно, всегда стремилось и стремится видеть человека в процессе не только «социально-ролевого», но и «личностного» общения. Междуличностные отношения, как бы вбирающие в себя и подчиняющие себе все разнообразные человеческие интересы, и есть та особая сфера жизни, изображению которой посвящает себя драма.
Разумеется, для Шекспира важнейшим обстоятельством является то, что Гамлет — принц, которого лишили престола, Клавдий — король-узурпатор, а Гильденстерн и Розенкранц — молодые придворные. Астров — доктор, Аркадина — актриса, Тригорин — преуспевающий писатель, а Медведенко и Кулыгин — учителя. Это, разумеется, имеет существеннейшее значение для отношений, складывающихся между ними и другими персонажами в пьесах Чехова. Тем, что старик Костылев — хозяин ночлежки, Сатин — шулер, а Лука — бродяга, многое определяется в коллизии горьковской пьесы. Однако отношения между Костылевым и Лукой никак не вмещаются в эти «ролевые» рамки. В действиях и поступках персонажей драмы «ролевые» стимулы поведения очень важны, но ими здесь питаются стимулы «личностные».
Брехтовская Анна Фирлинг, она же матушка Кураж, как будто все время не перестает быть маркитанткой. Вокруг нее — священник, повар, командующий, солдаты. Анна Фирлинг предстает и как женщина, чьи чувства и заботы одновременно совпадают и не совпадают с меркантильными ее стремлениями. Действия каждого из персонажей тут связаны с его социальными и профессиональными интересами, но не исчерпываются ими. Здесь, как в каждой драме, на первый план выходят те именно сложные отношения общения, в которых выражаются характеры ее героев.
Занимающие драму отношения общения своеобразны в нескольких смыслах. В реальной жизни люди могут общаться вполне добровольно. Тут возможны вполне «нормальные» отношения, выражающие существующую между партнерами солидарность, совпадение их целей и стремлений, установок и проектов, их удовлетворенность существующим положением вещей и общепринятыми ценностями.
Лишь отдельные моменты такого рода общения могут входить в драму, обязательно сплетаясь либо контрастируя с общением «принудительным». Тут расхождения между героями способны принимать конфликтный и даже непримиримо-враждебный характер. Здесь связанными воедино оказываются лица, различающиеся по своим запросам, убеждениям, стремлениям, позициям. Что же их связывает? Что тем самым придает драме единство? Персонажи драмы всегда предстают в некоей противоречивой проблемной ситуации, побуждающей, требующей, вынуждающей участвовать в ее решении каждого из них. Единая проблема или единый комплекс проблем — идейных, нравственных, политических, психологических и т. д. побуждают каждого из героев драмы проявить себя, выразить в переживаниях, решениях, мыслях, чувствах, поступках то, что он собой представляет, и то, что он способен внести в создавшуюся проблемную, критическую ситуацию.
По мысли основоположников марксизма, процесс человеческой деятельности, с одной стороны, представляет собой «обработку природы людьми», а с другой — «обработку людей людьми»[33]. Индивиды, говорит Маркс далее, «как физически, так и духовно творят друг друга»[34]. Такая взаимообработка возможна и неизбежна, ибо «развитие индивида обусловлено развитием всех других индивидов, с которыми он находится в прямом или косвенном общении»[35]. Эти мысли помогают понять специфику драматических отношений. Тут люди «обрабатывают» и «творят» друг друга и самих себя так, что в результате драматического общения самым неожиданным и непредвиденным образом «решаются», то есть складываются и переламываются человеческие судьбы.
Таким образом, драма требует от персонажа волеизъявления и самовыражения. Она побуждает его выразить себя, свою индивидуальность в той мере, на какую он способен. Поле драматического напряжения создается активностью действующих лиц, которые в драме всегда оказываются в новой, беспрецедентной ситуации, где все «впервые» и уже нельзя ограничиваться наличным опытом. Вступая на новые, неизведанные пути, драматический герой творит ситуацию, самого себя, новые связи с другими людьми. И расплачивается при этом за все им сотворенное, пожинает плоды своих действий, сталкиваясь с результатами, которые, разумеется, не совпадают с намерениями.
Они и не могут совпасть, ибо в процессе драматического общения каждый из его участников дает свое решение ситуации, каждый вносит в нее себя. Совокупный же результат всей этой проявляемой героями социальной, эмоциональной, интеллектуальной активности не может не расходиться с личными намерениями и потребностями каждого из них.
Соответственно своей природе и своему предназначению драма, подобно другим искусствам, выработала и вырабатывает необходимую ей определенную систему условностей, определенную структуру. Объединенные проблемой, иногда в достаточной мере четко выраженной (как, например, в «Антигоне» Софокла), а в других случаях сложной, запутанной и им неясной (как это имеет место, например, в «Трех сестрах» Чехова), персонажи проходят в драме через своего рода «испытательный цикл».
Через такой, каждый раз отличающийся своей конкретно-исторической определенностью «испытательный цикл» проходят герои «Короля Лира» и «Трех сестер», «Разбойников» и «Бесприданницы», «Оптимистической трагедии» и «Бега», «Галилея» и «Трамвая «Желание»». Этот цикл драматического общения длится до тех пор, пока герои не исчерпывают себя и не вносят все, что в их силах, в решение проблемы; пока не завершается то преобразование исходной ситуации, которое возможно в существующих обстоятельствах.
Вне того цикла общения, в который они вовлечены, герои драмы не существуют. У Отелло никакого иного способа жизни нет, кроме как в системе отношений шекспировской трагедии и возникающих там коллизий. Лишь внутри этой системы, в определенной цепи событий и связей с Брабанцио, Яго, Кассио, Эмилией, Дездемоной Отелло реализует себя, а его образ обретает свой подлинный смысл. Изъятый из этой системы, из этого цикла отношений, из поля художественного напряжения, создаваемого ими, из структуры данной трагедии, образ Отелло свой смысл утрачивает.
Разумеется, структуры и формы драматического действия исторически менялись, перестраиваясь каждый раз соответственно возникавшим новым проблемам, настойчиво требовавшим от драмы своего решения. Вместе с драматургией и теория драмы прошла на протяжении своей истории ряд поворотных моментов. Наиболее критический из них наступил тогда, когда была взята под сомнение способность драмы показывать людей в процессе общения, взаимодействия и взаимовоздействия.
Дело было в том, что на рубеже XIX–XX веков в связи с коренными изменениями в ходе общественного развития художественное воплощение человеческих взаимоотношений стало все с большим трудом «укладываться» в испытанные драматургические формы.
Искусство вообще, а драматургия в особенности, оказалось лицом к лицу с такой ситуацией, когда в человеке, «отчужденном» буржуазными отношениями, его общественная сущность подвергалась все большему подавлению и искажению, когда над «общением» начинало доминировать «разобщение». Человек все более подвергался унификации, нивелировке, начинался тот процесс «упразднения» личности, о котором так много теперь говорят на Западе.
Возможно ли в таких условиях самое существование драматургии, чье предназначение — показывать людей, выявляющих, обретающих либо теряющих свою личность в отношениях общения, активного, усложняющегося, ведущего к содержательным сдвигам в этих людях и ситуациях? Возможно ли существование драмы, когда жизнь обезличивает человека, обрекая его на бесхарактерность и бездействие? Где, в таком случае, черпать драматургу материал для драматических образов — типов, характеров, личностей, — которые способны двигать драматургическое действие?
Античная драма связана с пробуждением в человеке чувства личности и личной ответственности. Детище Возрождения, драма нового времени показала сбрасывающую путы средневековья и утверждающую себя в мире новую, сознающую свою мощь «свободную» личность.
Драматическое напряжение возникало здесь не столько в результате борьбы человека с высшими силами, как то было в драме античной, сколько в процессе взаимодействия устремленных друг другу навстречу людей, воодушевленных потребностью самим направлять и определять ход событий и мировой порядок. Это стремление присуще самым разным шекспировским героям: Ричарду III, Ромео и Джульетте, королю Лиру и его дочерям, Отелло и Яго, Гамлету и Клавдию.
Как бы драма ни меняла свое лицо, вскрывая сложный характер связей и взаимозависимостей, существующих между людьми, она всегда видела в этой взаимозависимости не только суровую неизбежность. В междучеловеческих связях, даже принимающих антагонистические и разрушительные формы, драма обнаруживала в итоге плодотворный смысл для общего хода жизни и ее обновления. Тем самым она снова и снова утверждала содержательность этих связей, их значимость для судеб и отдельного человека и общественной жизни в целом. Междучеловеческие связи, чем бы они ни были чреваты, драма никогда не трактовала как лишь нечто негативное. Напротив, они представали в драме как высшая — пусть далеко не всегда и не во всем разумная — необходимость.
Но вот наступила пора, когда человек будто бы оказался абсолютно свободным от каких бы то ни было общественных связей и обязательств, все более лишаясь энергии самовыражения и самоутверждения. Когда он как будто вовсе терял способность к действию, и главной его отличительной чертой многие склонны были счесть бездействие. Так казалось и по сию пору кажется многим мыслителям, в том числе и теоретикам драмы. К счастью, однако, реальный ход истории много сложнее и не соответствует столь безнадежным и пессимистическим воззрениям. И потому драма не лишается ни прав, ни возможностей существовать и делать свое дело.
Разумеется, в новых условиях конца XIX века, а затем и на протяжении ряда десятилетий XX века драма переживала трудный период своей истории. Но она искала и находила из него выходы. Она боролась со стремлением абсолютизировать представления об «обособленном» и вследствие этого вполне обезличенном современном человеке, чьи отношения с другими людьми вовсе лишены смысла и ни к чему значительному привести не могут.
Швейцарский исследователь П. Сонди, автор книги «Теория современной драмы» (1956)[36], связывает возникновение новых драматических структур у Ибсена, Чехова, Брехта и других драматургов современности с тем, что драма преодолевает наступивший было для нее кризис и в новых исторических условиях заново решает свои «извечные» задачи. Делая в своей книге особенный упор на то, что он называет «борьбой между обособлением человека и драматической формой», не предназначенной изображать обособленного человека, П. Сонди не чуждается мысли о существовании объективных факторов для «спасения» драмы как жанра, поскольку в современном обществе действуют не только центробежные силы, но и центростремительные, не только силы разъединяющие, но и сцепляющие людей.
Как о том свидетельствует реальный ход истории, наряду с тенденцией к разобщению, нередко возводимой в закон, будто бы определяющий весь распорядок современной общественной жизни, в наше время все более возрастает значение других и необычайно мощных процессов. Разобщение, нивелировка личности — тенденции, способные нарастать и спадать, но никак не факты, имеющие необратимый, фатальный характер. Условия буржуазного строя и впрямь не побуждают человеческую массу к самостоятельному мышлению. Они и впрямь способствуют обособлению человека. И то и другое не стимулирует формирования личности. Но объективный ход исторического развития таков, что прогрессивные силы берут свое. Реально массы людей стихийно либо сознательно восстают против «отчуждения», стремятся его преодолеть, двигаясь навстречу друг другу в поисках новых форм общения, противопоставляя их разобщающим и обезличивающим силам империализма и реакции.
Советская драматургия и прогрессивная драма на Западе имеют и в ходе истории все более обретают ту необходимую реальную почву, на которой могут появляться произведения, исполненные глубоких действенных коллизий, рисующие формирование и утверждение личности в процессе активного действования и общения. Разумеется, усложнившиеся формы человеческого общения, когда опосредованные связи играют в жизни человека не меньшую роль, чем связи прямые, когда судьба человеческая все более явно определяется не только его непосредственным окружением, — все это не может не побуждать драматургию к новаторским поискам.
Сложнейшие социальные, идейные, политические процессы нашей эпохи не только позволяют драме «выжить», но и определяют ее огромную роль в происходящей ныне идеологической борьбе. Но чтобы это понять, необходимо, во-первых, отрешиться от одностороннего, узкого, пессимистического взгляда на самую эпоху.
Во-вторых, надобно критически пересмотреть и многие традиционные представления о самой «драматической форме». Об особенной природе активности, проявляемой драматическим субъектом, и разнообразных формах, в которых она себя выражает; о структурах индивидуального драматического поступка и целостного произведения драматургии.
Опыт новой драмы ломает привычные представления о драматическом действии, в котором обязательны открытые столкновения и борьба как «сшибка» характеров. Но то, что, например, в «Вишневом саде» нет подобных сшибок и драматическая активность героев проявляется там иным образом, свидетельствует не о кризисе драмы, а о ее способности к развитию и обновлению. Более того: в свете опыта новой драмы мы имеем возможность посмотреть на драму прошлых веков «нынешними, свежими очами» и увидеть там важные истоки современного новаторства.
Различные представления о современном обществе, о миссии и возможностях драматургии порождают и различные мнения о задачах науки о драме. Известно, что в течение долгого периода изучение теории драмы многие заменяли изучением ее «техники», начало чему было положено Г. Фрейтагом, выпустившим в 1863 году книгу под названием «Техника драмы»[37]. В ней шла речь о неких будто бы безотказных и неотменимых приемах построения драматического произведения. Художественная практика последнего столетия опровергла схемы Г. Фрейтага как догматические и нормативистские.
Но и в наши дни в науке о драме, правда, в иных формах, тоже продолжается борьба между теми, для кого на первом месте именно «техника», и теми, кто думает о теории. В ряде структуралистских работ анализ «элементов драмы» сводится, по существу, к рассмотрению ее формальных особенностей и способов, с помощью которых она «дирижирует» чувствами зрителя, вызывая в нем напряженное нетерпение, а затем удовлетворяя его. Эти работы нередко содержат ценные наблюдения, но все же они остаются по преимуществу описательными и не претендуют на проникновение в сущность драмы.
Болгарский теоретик А. Натев справедливо полагает, что нам теперь прежде всего предстоит искать ответы на вопрос не о том, «как», а о том, «почему» создаются драматургические структуры. Идя таким путем, мы откроем себе путь к пониманию и того, «как» эти структуры делаются, думает А. Натев[38]. Развивая свою мысль, он утверждает, что в прошлом вопрос о том, «почему», ради чего создаются драматургические структуры, интересовал лишь «философию», но она, к сожалению, давала на него ответы абстрактные и мало помогавшие понять, «как делается драматургия». Мысль эта, с нашей точки зрения, несправедлива по отношению к философии и философам. Думая над тем, «почему», «ради чего», «во имя чего» возникла и существует драматургия, философы многое объяснили и в том, как драма «делается».
Когда в свете нового художественного опыта мы обращаемся к «старой» философской эстетике, многие ее наблюдения и идеи, многие выявленные ею закономерности предстают еще недостаточно оцененными. И тогда становится видно, что старое наследие имеет прямое касательство к вопросам эстетики и поэтики драмы, волнующим нас сегодня. Снова и снова перечитывая Гегеля, Шиллера или Белинского, мы обнаруживаем, как много они открыли в структуре драматического действия благодаря тому именно, что их неизменно волновал вопрос о его сущности. Ведь именно философы, начиная с Аристотеля, подходили к каждому побуждению и действию героя драмы как к явлению эмоционально духовному. Поэтому они и сегодня побуждают нас искать истоки драматического напряжения не в «технологии» драмы, а в глубинных противоречиях действительности, переживаемых героями и воплощаемых драматургами в своих произведениях.
Современная западная теория чаще всего обходит вопросы, волновавшие «старую» философскую эстетику, опасаясь, что поиски в этом направлении уводят от конкретного текста произведения с его неповторимой художественной спецификой в область туманных абстракций или тощих социологических схем.
Признавая: «сущность драмы — сложный вопрос», предпочитают вовсе от него отстраняться. Нередко же его решают и вовсе нигилистически: нет никакой родовой сущности, с которой следует связывать отдельные драматургические структуры. Возможно ли, спрашивают при этом, чтобы некая единая «сущность» реализовалась во множестве столь своеобразных явлений, составляющих мировую драматургию? Надо, говорят нам, каждую пьесу понять саму по себе, ибо она обладает собственным «существованием». И не следует в пьесе искать воплощения родовой сущности драмы, поскольку каждое произведение представляет собой «замкнутое» в себе структурное единство. Разумеется, в определенном смысле каждое произведение искусства «замкнуто» в себе, является законченной, завершенной целостностью. Но при этом оно, во-первых, связано с лежащей за его пределами действительностью и, во-вторых, имеет преемственные связи с другими родственными ему художественными структурами и тем самым включено в процесс художественного развития человечества.
Современный структурализм «изымает» произведение искусства из этого процесса, из истории. Но при этом теряет смысл, оказывается излишней и теория, стремящаяся выявить принципы и закономерности, на которых зиждется драматургия в своем развитии. Книги по теории драмы в таких условиях, естественно, превращаются в описание технических приемов, фигур и приспособлений, применяемых драматургами с целью завоевать зрителя.
Марксистская эстетика видит и в человеке, и в художнике, и в произведении искусства явления конкретно-исторические. Но именно благодаря этому она имеет возможность ставить вопрос о родовой, то есть общественно-исторической сущности человека и различных форм его материальной и духовной деятельности, в частности — родовой сущности такого жанра искусства, как драматургия.
Когда Гегель или Белинский говорили — в высшей степени глубоко — о сущности драмы, они вовсе не представляли ее себе стабильной и меняющей лишь свои формальные обличья.
Развивая идеи классиков домарксистской мысли, марксистская эстетика рассматривает самую сущность драмы как возникающую и складывающуюся в процессе исторического развития. Когда мы обратимся в дальнейшем к вопросу о природе драматургической активности и формах ее выражения, речь пойдет о том, как драма выполняет свою миссию и как при этом изменяется самая миссия. Поэтому наше внимание, с одной стороны, будет сосредоточено и на преемственных связях между эпохами, художниками и теоретиками, а с другой — на различиях между драматическими системами, выражающими историческое развитие самой сущности драматургического действия.
В последние годы советская наука обогатилась рядом исследований, в которых внимание к сущностным проблемам драматургии сочетается с анализом сдвигов, пережитых ею в переломные для нее эпохи. Это, естественно, приводит авторов и к решению проблем, стоящих перед драматургией сегодня. Е. Н. Горбунову, М. С. Кургинян, Г. Д. Гачева, В. А. Сахновского-Панкеева, А. А. Карягина,
С. В. Владимирова, написавших книги разного профиля, сближает стремление не рассматривать драму со стороны ее внешних, «школьных» признаков и особенностей, а понять ее существо[39]. Направляя свое внимание к противоречиям и конфликтам, раскрываемым драмой, они видят ее в сложной соотнесенности с реальным ходом жизни.
Автор предлагаемого пособия, думая о сделанном и достигнутом в названных работах, находит нужным сосредоточить внимание на вопросе о природе драматической активности, об особенностях как единичного, индивидуального действия-поступка и сложной его структуре, так и о структуре общего действия драмы. Речь пойдет о предмете весьма сложном, требующем исторического подхода. Тут не обойтись ни без анализа ряда явлений самой драматургии, ни без осмысления взглядов некоторых классиков эстетической мысли, размышлявших о природе драмы, ни без полемики с этими взглядами.
В нашей науке достойное место заняли фундаментальные исследования А. Аникста «Теория драмы от Аристотеля до Лессинга» (1967) и «Теория драмы в России от Пушкина до Чехова» (1972). Здесь огромный материал призван дать представление обо всех этапах развития драматургической теории в Европе и России на протяжении веков, о вкладе, внесенном в это дело каждым сколько-нибудь значительным теоретиком драмы.
В предлагаемом пособии автор обращается к истории теоретической мысли, но с иной целью: лишь в той мере, в какой это ему необходимо для изложения своих взглядов на природу драматических отношений и на связанные с ними художественные структуры. В центре внимания при этом оказывается Гегель. Во взглядах Аристотеля и Лессинга, Канта и Шиллера, Гегеля, Белинского и Добролюбова, А. Григорьева и Д. Аверкиева, других русских и зарубежных теоретиков, чьи представления о действии «бытуют» в нашей науке и используются даже теми, кто об этом и не подозревает, автор стремится выявить и устаревшее, и сохранившее свое значение — дабы таким путем постепенно идти к позитивным решениям проблемы.
Критическое рассмотрение взглядов «старых» теоретиков драмы может, с точки зрения автора пособия, оказаться полезным не только для понимания судеб драматургии более или менее далекого прошлого. В процессе этого анализа наши представления о разных аспектах жизни современной драматургии и наши требования к ней могут обрести новые измерения и должную обоснованность.
Стремясь показать, как исторически расширяются возможности драматургии в процессе художественного постижения ею глубинных жизненных противоречий и проблем, автор обращается к произведениям, созданным в разные эпохи. Эти разборы позволяют нам убедиться в том, что в драме, как вообще в искусстве, проблематика неотделима от поэтики: оказываясь лицом к лицу с опытом предшественников, драматург не «отменяет» закономерностей и принципов, сложившихся ранее, а переосмысливает их в соответствии с волнующими его проблемами своего времени и своей идейно-эстетической позицией. При этом муки новаторства всегда являются, вместе с тем, муками преемственности.
Первоосновы драматургии — прежде всего принцип действенной коллизии, — как увидим, сохраняют свое значение. Но они видоизменяются и обновляются, побуждая и теорию, отказываясь от устаревающих представлений, многое видеть и толковать по-новому, постигая все богатство накопленного драматургией опыта и всю широту возможностей, открытых перед ней сегодня.
Глава I
«Поэтика» Аристотеля. Драматическая структура. Узнавание. Страдание. Действие и фабула. Очищение.
В своей «Поэтике» Аристотель не скупится на определения самого разного рода. Их здесь много: определение трагедии, эпопеи, фабулы, характера, узнавания, перипетии, завязки, развязки, метафоры, глоссы, аналогии и т. д. Нет только одного, но для теории драмы, быть может, наиболее нужного. Э. Бентли, автор книги «Жизнь драмы», полушутливо замечает: «Что такое действие, Аристотель сказать позабыл»[40].
Трагедии Софокла и комедии Аристофана, говорит Аристотель, принято называть «драмами», потому что там изображены лица действующие. Придерживаясь, казалось бы, общепринятого мнения, автор «Поэтики» подчеркивает, однако, что оба поэта «представляют людей действующими, и притом драматически действующими»[41]. Аристотель различает обычное действие и действие драматическое, устанавливает между ними некую границу. Однако мы нуждаемся в дальнейшем развитии этой очень существенной мысли, а его тут, к сожалению, нет.
В «Поэтике» действие понимается в двух смыслах этого слова. Говоря о «драматически действующих» героях, автор разумеет их особого рода поведение. Но действие для Аристотеля не только индивидуальный поступок — действие лица. Тем же словом он обозначает и общий ход всей трагедии в целом, то есть всю совокупность изображенных в ней поступков и происшествий.
Хотя во втором своем значении действие истолковано в «Поэтике» более развернуто, многое все же и тут оставляет нас в недоумении. Это относится и к знаменитому определению трагедии в начале шестой главы как «подражания действию важному и законченному, имеющему определенный объем, подражания при помощи речи, в каждой из своих частей различно украшенной, посредством действия, а не рассказа, совершающего путем сострадания и страха очищение подобных аффектов». Прямого разъяснения туманных мест этого определения «Поэтика» не дает — возможно, потому, что ее текст дошел до нас в явно неисправном виде, с множеством пропусков, недоговоренностей и даже противоречий.
И все же Э. Бентли не вполне прав. Если вникнуть в ряд рассуждений, разбросанных в разных главах «Поэтики», и связать их воедино, если дополнить их некоторыми близкими им по теме суждениями из других сочинений Аристотеля, можно все же составить себе представление — пусть и не исчерпывающе ясное — о его концепции драматического поступка и общего действия драмы как целого.
Слова о «подражании действию… при помощи речи» уже наводят на мысль об особенной, специфической природе фабулы, с которой имеет дело драма. Аристотель ведь прекрасно знал и понимал, какое множество действий и поступков, различных трудовых актов и иных проявлений человеческой энергии вовсе обходится без помощи речи.
Значит, трагедия имеет своим предметом действия особого рода, так или иначе связанные с речью — такие, что могут и должны быть либо прямо переданы словом, либо в определенной мере нуждаются в нем для своего полного выражения.
Но если действие тут необычно и как бы неотделимо от речи, то и речь тут тоже необычна. Своеобразный характер «подражания», который представляет собой трагедия, Аристотель подчеркивает уже тем, что речь трагедии он характеризует как «различно украшенную в каждой из своих частей». Иногда это место комментируют так, будто тут он имеет в виду «художественные средства языка, из которых особенно высоко ценит метафору»[42].
Аристотель действительно ценил метафору и иные поэтические тропы, но в данном случае, говоря об «украшенной» речи, он подразумевал другое. Здесь имеется прямое и не допускающее кривотолков разъяснение, принципиально очень важное: «Украшенной речью я называю такую, которая заключает в себе ритм, гармонию и пение». Разумеется, речь лирического и эпического поэтов тоже в этом смысле является «украшенной», ибо всегда подчинена определенному ритму. Но автор «Поэтики» подчеркивает тут отличие драмы от лирики и эпоса. Если те от начала до конца выдержаны в едином, неизменно повторяющемся ритме, то каждой из «частей» трагедии присущ свой особый ритм. В итоге, в совокупности своей различные ритмы отдельных «частей» трагедии образуют сложный единый общий ритм, которому подчинена она вся в целом.
Как видим, Аристотель рассматривает «подражание», говоря о речевом, диалогическом «слое» трагедии, не как воспроизведение обычной речи, а как создание определенной ритмической целостности, некоего «гармонического» речевого единства.
Эта весьма важная мысль Аристотеля справедлива не только по отношению к одной лишь античной стихотворной трагедии, где в создании ритмического целого огромную роль играли пение и танец. Нет, тут было глубокое проникновение в природу драмы вообще. Аристотелевский подход к драматургическому произведению как к сложному ритмическому единству остается в силе на все времена, он плодотворен для понимания драмы других эпох. Подлинная драма — нам предстоит в этом убедиться — и тогда, когда ее герои изъясняются не стихами, а прозой, имеет свое особенное, только ей присущее ритмическое движение и построение. Разумеется, в «Чайке», «На дне» или «Матушке Кураж» все это гораздо более скрыто, чем в античной трагедии, весьма жестко связанной, но и стимулируемой каноном. В послеантичной драме такого рода канонов как будто нет, однако каждая подлинная пьеса обладает своими ритмическими «ходами» и только ей присущим общим ритмическим строем, или «рисунком». Мысль Аристотеля о ритме как структурном элементе драмы нисколько не устарела, ибо ритм для него — явление содержательное, способствующее достижению познавательно-художественных целей, стоящих перед трагедией. Своеобразный ритм действия ведет к проникновению в сокровенную суть изображаемого, в его динамику и его скрытые закономерности.
Обращаясь к вопросу о фабульно-событийном, а затем и эмоционально-этическом «слоях» трагедии, Аристотель здесь опять-таки говорит о «подражании» особого рода. Когда он относил поэзию к подражательным искусствам, он тем самым отделял ее, и не только ее, но и скульптуру, музыку, танец, архитектуру от математики и врачевания, в его время считавшихся искусствами. Если неподражающие искусства, например математика, изучают то, что есть, если история изучает то, что было, то поэзия «подражает» тому, что могло бы быть. Произведение искусства дает нам образное представление о возможном. Поэт в таком понимании является подражателем-творцом.
Действия, которым «подражают» и драма, и эпос, и лирика, не могут и не должны быть воспроизведением действий, совершаемых людьми в обыденной жизни. Произведение искусства, изображая вероятное и возможное, находится в сложном отношении с реальной жизнью и ее протеканием.
Какого же рода действия интересуют, по мысли автора «Поэтики», трагического поэта? В чем их отличие от действий, изображаемых лирикой или эпосом? От обычных, «непоэтических» действий и поступков людей в их реальной, повседневной жизни? Что представляет собой действие трагедии в целом?
Вдумываясь в ответы Аристотеля на эти вопросы, мы закономерно обращаем внимание на содержащееся в его определении трагедии решительное противопоставление рассказа действию. Трагедия подражает «посредством действия, а не рассказа». К рассказу прибегает эпос. Отсюда следует, что он представляет нам события как совершившиеся в прошлом и интерпретируемые повествователем. В драме его нет. Там процесс общения между персонажами предстает как совершающееся действие, происходящее на наших глазах, чем прежде всего определяется своеобразие драматической структуры.
Когда Аристотель говорит о трагедии как законченном действии, а о ее героях как действующих драматически, он вряд ли вкладывает в эти понятия то именно слишком узкое содержание, которое все упорнее стали в них вкладывать впоследствии. Ведь он прекрасно знал, что в «Умоляющих», в «Персах», в «Семерых против Фив» Эсхила на сцене нет или почти нет самих действий, что тут рассказы о них — о событиях, совершающихся за сценой, и переживание этих событий.
Даже в «Орестее», где на сцене больше действия, вернее, того, что обычно понимают под действием, чем в других эсхиловских трагедиях, «рассказы» занимают огромное место. По глубине и силе заключенного в них драматизма, по своему значению в движении коллизии рассказы эти часто не уступают сценам, где действие изображено прямо и непосредственно. Ведь, к примеру, огромное место во второй части эсхиловской трилогии, в «Хоэфорах», занимает плач-повествование Электры и хора о том, как происходило убийство Агамемнона. Тут рассказ о коварстве и жестокости убийц должен укрепить решимость Ореста, готовящегося совершить акт справедливого возмездия. Своеобразное действие-страдание, исполненное огромной силы повествование хора, достигает своей цели: Орест освобождается от колебаний. Все услышанное укрепляет его уверенность. Совершая убийство, он теперь руководствуется уже не только повелением Аполлона, а удовлетворяет и собственную осознанную потребность.
Не только у Эсхила, но и у Софокла то, что мы в наше время часто понимаем под действием, тоже происходит по преимуществу за сценой. Так обстоит дело, например, в «Антигоне», где героиня дважды совершает над братом похоронный обряд, которого мы не видим, — но рассказы об этом только способствуют нарастанию драматического напряжения и развитию коллизии.
Аристотель несколько раз ссылается на «Эдипа». Но в этой трагедии роковые поступки героев не совершаются даже за сценой. Они уже давным-давно свершились. Теперь на сцене происходит то, что Аристотель, говоря о трагической фабуле, называет «перипетией», «узнаванием» и «страданием». А они-то в очень многих случаях связаны именно с «рассказом» — с сообщениями различного рода «вестников».
Естественно, и новая драма, изображая процесс общения героев, сочетает прямой показ их действий с повествованием о событиях. Трагедии Шекспира немыслимы без имеющих огромное значение в их структуре и поразительных по своему драматизму «рассказов» о происходящих за сценой или давно происшедших событиях. Рассказ Гамлета о перипетиях его поездки в Англию действует гораздо сильнее на Горацио и на зрителя, чем прямое изображение тех же событий в киноэкранизациях шекспировской трагедии. Энобарб рассказывает о первой встрече шекспировских Антония и Клеопатры так, что его повествование вряд ли могло бы быть с адекватной силой и красотой «переведено» в действие.
В «Борисе Годунове» у Пушкина рассказ — «донос ужасный» Пимена, — как и повествования о прошлых событиях или действиях, происходящих за сценой у Ибсена, Островского, Чехова, Пристли и многих других драматургов, нисколько не мешают, а, напротив, способствуют нарастанию напряжения и углублению коллизий. Без повествований, без рассказов драма обойтись никак не может хотя бы уже из-за ограниченного времени, которым она располагает. Но, разумеется, противопоставляя «рассказ», к которому прибегает эпос, «действию», на котором зиждется драма, Аристотель констатировал непреложный и существеннейший факт: в эпосе между нами и предметом «подражания» находится посредник — повествователь, отсутствующий в драме.
В «Поэтике» Аристотель выявил ряд важнейших особенностей действия в античной трагедии — и как увидим, не только в ней. Прежде всего это относится к мысли о перипетии, узнавании и страдании, как о главных «частях», то есть о главных элементах действия (глава 9).
Страдание в «Поэтике» трактуется как «действие, причиняющее боль». Характеристика не столь уж глубока. Но важно другое: то, что Аристотель несомненно связывал страдание с действием и даже называл его действием. Узнавание он в таком случае тоже, несомненно, считал действием. А такого рода действием античная трагедия безмерно богата. Что же касается содержащихся в «Поэтике» упрощенных толкований узнавания и страдания, то они остаются на совести тех, кто записывал или переписывал ее текст. Прав, разумеется, Дж. Г. Лоусон, расширительно толкующий термины Аристотеля и считающий, что речь идет об узнавании сил, вызывающих перемены в судьбах[43]. Следуя в этом направлении, можно, как нам кажется, говорить об узнавании-осознавании героями неожиданного смысла своих поступков, ведущего их к переоценке, к переосмыслению содеянного ими и совершающегося с ними. Именно с этим связаны у Аристотеля потрясения и страдания, переживаемые героями трагедии; с этими узнаваниями связаны и потрясения зрителя, и его сострадание.
Как было замечено исследователями античной трагедии, в ряде случаев (в «Умоляющих» Эсхила, в «Антигоне» Софокла) действия не только происходят за сценой, но драматург даже не дает героям времени, необходимого для реального их совершения. В этом смысле античные трагики не соблюдают даже элементарного правдоподобия. Тут оно их вовсе не заботило, ибо они сосредоточивали свой интерес главным образом на другом — на неожиданно сложных, трагических последствиях действий. И когда Аристотель выделяет три указанные элемента фабулы, он именно это схватывает в структуре трагедии как самое в ней существенное. Событийные последствия поступков и стечений обстоятельств неотделимы у Аристотеля от последствий морально-этических.
Это уже в какой-то мере проясняет нам, почему «подражание действию» в трагедии происходит «при помощи речи». Ведь «узнавания» и «страдания», то есть эмоциональные потрясения, идейно-нравственные, этические переломы и прозрения, составляющие ядро трагического действия, лучше, тоньше и точнее всего могут быть выражены с помощью слова, человеческой речи.
Если, обращаясь к действиям-поступкам, трагедия главным образом сосредоточена на изображении их мотивов и последствий, на узнавании и страдании, то, по мысли Аристотеля, она требует особого рода «состава происшествий», то есть соответствующей фабулы. Приводить героев и зрителей к эмоционально-нравственным кризисам и потрясениям могут происшествия необычайные, из ряда вон выходящие.
Фабула — основа трагического действия — должна при этом удовлетворять нескольким, казалось бы, взаимоисключающим требованиям. Тут события должны вести к переломам в судьбах действующих лиц. На зрителя судьбы эти должны производить впечатление «страшное и жалкое», они должны вызвать в нем содрогание, сострадание. Испытывая эти чувства, зритель вместе с тем должен получать еще и удовольствие особого рода: «от… трагедии должно искать не всякого удовольствия, но [только] ей свойственного» (глава 14). Вопрос об особой природе этого удовольствия — один из сложнейших.
Естественно ждать сострадания к несчастьям, обрушивающимся на героев трагедии, чьи судьбы ломаются у нас на глазах. Но где истоки и причины, где объяснения удовольствия, испытываемого нами при виде страданий, столь сильных, что они вызывают страх и содрогание? Почему «страшная» фабула вместе с тем «увлекает душу»? И на сей счет прямых объяснений в «Поэтике» не найти. Зато эти мысли Аристотеля получили множество интерпретаций.
Согласно одному из толкований, наслаждение трагическим предметом возможно благодаря прежде всего тому, что перед нами не сам «неприятный» предмет в его подлинности, а «подражание», всего лишь его изображение. Ведь Аристотель, говоря об удовольствии, доставляемом нам любыми «продуктами подражания», любыми произведениями искусства, между прочим замечает: «На что смотреть неприятно, изображения того мы рассматриваем с удовольствием» (глава 4). Исходя из этого высказывания, делается вывод, что любой предмет, самый страшный, ужасный и трагический, будучи заключен в «эстетическую рамку», уже тем самым доставляет зрителю наслаждение. Зритель испытывает удовольствие, зная, во-первых, что происходящие ужасы — не реальные, не действительные, а всего лишь изображения. Во-вторых, что эти ужасы происходят не с ним, а с другим лицом[44].
В соответствии с излагаемой интерпретацией Аристотеля, зритель наслаждается страшным и ужасным, игнорируя нравственное содержание событий, поскольку уверен, что в трагическом действии главное «определяется не нравственными качествами человека, а тем, счастливо сложатся ли… обстоятельства или нет»[45]. Зная это, зритель и не занимается этической оценкой поступков: не в них, мол, дело, поскольку причина страданий героев — не в их вине. Особенно будто бы в этом показателен Эдип, совершивший все свои поступки по неведению. Из неосведомленности героя вытекает и его «невменяемость». А раз это так, раз герой «невменяем», то нравственные переживания не обременяют зрителя, не вторгаются в сферу испытываемого им удовольствия. В таком случае оно становится переживанием чисто эстетического свойства. Поэтому и сострадание к герою не препятствует наслаждению, ибо зритель лишь как бы, а не по-настоящему сострадает. Он сострадает герою только «в чисто эстетическом смысле»[46].
Существует и иное истолкование удовольствия, доставляемого, по мысли Аристотеля, трагическим действием. Удовольствие рассматривается не только как «эстетический» феномен, но и как явление этического порядка. Согласно этой точке зрения, процесс сострадания трагическому герою не приносит зрителю никакого удовольствия. Оно появляется только тогда, когда до зрителя доходит та истина, что через все несчастья, испытанные героями, в мире обнаруживает свою мощь некий высший порядок. Зритель испытывает удовольствие, осознавая, что торжествуют силы, пусть суровые и жестокие, но упорядочивающие общий ход жизни.
Однако при таком толковании страх и сострадание отделяются от удовольствия. Зритель, если довериться этой точке зрения, испытывает страх и сострадание по одним причинам, удовольствие — по другим. Может даже явиться мысль, будто зритель сначала ужасается и сострадает; наслаждается же потом, когда перестает мучиться ужасами, преследующими героев.
С нашей точки зрения, у Аристотеля речь идет о страхе, сопряженном с удовольствием, о сострадании, сопряженном с наслаждением. В реакциях зрителя они неразделимы. Тут не чередование чувств, а их слияние и сплав. Но чтобы понять сложный состав этих зрительских реакций, надобно приблизиться к пониманию природы поступков и событий, которые их порождают.
Для Аристотеля человек — «существо политическое», ибо он всегда находится в определенной системе общения. В «Этике» и «Политике» речь идет о разных формах человеческого общения: например, в составе семьи, экипажа корабля, религиозного союза и т. п. Наивысшая форма — общение в государстве. «Если индивид не способен вступить в общение или, считая себя существом самодовлеющим, не чувствует потребности ни в чем, он уже не составляет элемента государства, становясь либо животным, либо божеством»[47].
Разумеется, герой трагедии тоже вступает в общение. Но тут оно — особенное, отличающееся от всех видов общения, существующих в реальной жизни. Поэтому и характер, и формы, и цели общения у реального человека и героя трагедии во многом различны. Когда в «Этике» Аристотель говорит о человеке в реальной жизни, о принципах, на которых должно быть основано человеческое поведение, он констатирует, что жизнь всегда есть «известного рода деятельность». Там же, как и в других своих сочинениях, Аристотель говорит об одной важной особенности, отличающей любой вид человеческой деятельности и каждое единичное его действие. Они всегда сопряжены со страданием. Действие и страдание неизменно проявляют себя вместе. Исключение составляет одна-единственная сфера — созерцательной деятельности. Она свободна от треволнений и беспокойств.
Лишь наслаждения человека, исследующего истину, совершенно свободны от страдания, говорит автор «Этики». Поэтому в реальной жизни, где людям свойственно «избегать страданий» и добиваться наслаждений самого разного свойства и уровня, можно вовсе спастись от страданий и достичь вершин блаженства, если отказаться от всех видов деятельности, кроме созерцательной.
Сопоставляя эти идеи «Этики» с идеями «Поэтики», особенно остро ощущаешь своеобразие задач, которые Аристотель ставит перед искусством, в особенности перед трагедией. Поведение трагического героя кардинально отличается от поведения реального добродетельного человека, которому надлежит всячески избегать страданий, перед которым открыта возможность вовсе их избегнуть. Что же касается трагического героя, то именно страдания — непременный и неизбежный его удел. Прежде всего потому, что созерцательная жизнь ему противопоказана.
Если для реального человека страдания — всего лишь бремя, то трагическому герою они нужны, ибо ему потребны действия, вызывающие эти страдания. От своих действий он отказаться не в силах, побуждаемый к ним и изнутри и извне, то есть побуждаемый теми отношениями общения и обстоятельствами, в которых он оказывается.
Тут мы подходим к одной из сложнейших проблем «Поэтики», трактованной в ней и противоречиво и неясно. Речь идет о соотношении между стремлениями героя, его индивидуальной волей, с одной стороны, и его поступками и результатами этих поступков — с другой. Ведь по справедливой мысли Аристотеля, подтверждаемой материалом античной трагедии, стремления героя и реальные итоги его поступков не только не совпадают, но, как правило, противоречат друг другу. Говоря о героях трагедии как «действующих драматически», Аристотель безусловно имеет в виду эту особенность драматического поступка — он ведет к результату, на который действующее лицо не рассчитывало.
Почему, однако, так происходит? Приписывая Аристотелю мысль, что результаты поступков не связаны с характером героя, то есть с направлением его воли, ссылаются на следующие слова из «Поэтики»: «…люди же бывают какими-нибудь (подчеркнуто мною. — Б. К.) по своему характеру, а по действиям — счастливыми или наоборот» (глава 6), то есть поступки связаны с характерами, даже определяются ими, результаты же поступков и действий зависят не от направления воли действующего лица, а от везения, стечения обстоятельств, случая, воли высших сил. Поступок — следствие характера. Но счастливый или несчастливый результат не есть следствие поступка. Так можно понимать и так нередко толкуют это место «Поэтики». Надо, однако, соотнести здесь сказанное с другими рассуждениями Аристотеля на эту тему.
Прежде всего имеет смысл обратиться к «Этике». Рассуждая тут о проблеме действия и связывая ее с проблемой характера, Аристотель высказывает интереснейшие мысли о выборе, о взвешивании мотивов при необходимости действовать так или иначе, о поступках «произвольных» и «непроизвольных». Приходится только пожалеть, что все это не отразилось в «Поэтике», ибо тогда мы, несомненно, были бы избавлены от многих недоумений, возникающих при чтении этого сочинения. Аристотель в «Этике» доказывает, что человек может быть «принципом и родителем своих действий», но может им и не быть. С этим связано деление действий на «произвольные», то есть совершаемые по воле лица, и «непроизвольные», то есть совершаемые по принуждению, ибо их принцип лежит «вне действующего лица».
Однако отделить «произвольные» действия от «непроизвольных» не так-то просто. Они бывают смешанного состава и отличаются степенью содержащихся в них «произвольности» и «непроизвольности». Для проникновения в природу действий драматического героя много дает утверждение Аристотеля, что действиями «произвольными» могут быть сочтены лишь те, «принцип коих находится в самом действующем лице и которые совершаются, когда все обстоятельства, касающиеся какого-либо действия, известны действующему лицу»[48].
Оба аспекта высказанной здесь мысли в равной мере важны. Если в ее свете взглянуть на действие драматическое, оно сразу же предстает как единство «произвольного» с «непроизвольным». Но дабы разобраться в сути этого единства, имеет смысл учесть еще одну идею Аристотеля относительно различий между разными видами человеческой активности. Аристотель отделяет творчество от деятельности. Они — «не одно и то же», ибо в основе деятельности всегда лежит необходимость. Любая деятельность определена материалом и целью, которые действующее лицо получает извне. Поэтому и занятия наукой — тоже деятельность. Выясняя то, что существует, что должно быть и не может не быть, она имеет своим предметом «необходимое».
Иное дело — искусство. Оно имеет дело с тем, что не обязательно необходимо и что может появиться, но может и не появиться. В искусстве «принцип создаваемого заключается в творящем лице, а не в творимом предмете, ибо искусство касается не того, что существует или возникает по необходимости»[49].
В своих суждениях о различии между творческой и обычной деятельностью Аристотель, по существу, развивает свою, уже нам известную, мысль о различии между действием «произвольным» и «непроизвольным». Взятые в совокупности, мысли эти помогают нам уразуметь слова Аристотеля о героях трагедии как «действующих драматически».
Можно ли, пользуясь терминологией «Этики», считать их поступки «произвольными»? Эсхиловская Клитемнестра или софок- ловские Антигона и Эдип, еврипидовская Медея несомненно действуют «произвольно» в той мере, в какой «принцип» их действий содержится в них самих и они являются «родителями» этих действий. Но ведь для того, чтобы действие было вполне «произвольным», герою трагедии должны быть известны все обстоятельства, в которых он действует, а этого, как правило, никогда не бывает. Трагическая фабула заведомо ставит героя в обстоятельства, ему не до конца известные и весьма противоречивые, в обстоятельства, которые могут обернуться по-разному. Поскольку это так, то поступок драматический одновременно и «произволен» и «непроизволен».
Аристотелевское различение творчества и деятельности помогает понять природу драматического поступка. Ведь драматический герой может поступить так или иначе. Он, как правило, поступает неожиданно, то есть вопреки неким нормам, предначертаниям, установлениям. Герой действует тут в известной мере по своему усмотрению и выбору. И это, несомненно, вносит в действие драматического героя элемент творческий.
Именно лишь элемент. Ведь в отличие от художника драматический герой, проявляя свою волю, все же является «лицом творящим» лишь частично. Поступая тем или иным образом, он ведь при этом находится под давлением высших сил и обстоятельств как ему уже известных, так и еще не известных, узнаваемых им в ходе действия.
К тому же, если результатом творческой деятельности художника, принцип которой находится только в нем самом, становится произведение, полностью им сотворенное, то драматическое событие или цепь событий — результат действий не одного, а нескольких лиц и одновременно стечения обстоятельств, случайностей и игры неподвластных человеку сил.
Стало быть, драматический поступок — «произволен», в нем проявляется творческое начало, и вместе с тем он «непроизволен», поскольку и самый поступок, и в особенности его результат определены не только «принципами», исходящими от «творящего» лица, но и силами, находящимися вне его.
В «Этике» же Аристотель высказал еще одну мысль, имеющую прямое касательство к проблеме драматического поступка. Мысль эта не нашла себе места в «Поэтике». Более того: связанная с ней проблема трактована тут много проще и догматичнее, чем в «Этике».
Считая человека способным быть «принципом и родителем своих действий», Аристотель тут, в отличие от «Поэтики», подходит к характеру как динамическому единству и высказывает очень важные суждения о самой динамике его формирования. «Мы в известном отношении соучастники образования нашего характера» и «задаемся целями, сообразными нашему характеру», — говорит автор «Этики» и далее развивает мысль о связи между характером и поступком. Оказывается, не только поступок порождается характером, но имеет место и обратная причинно-следственная связь. Казалось бы, «произвольные» действия «с самого начала до самого конца», то есть всегда, в нашей власти. Однако в результате своих действий мы приобретаем все новые и новые «свойства души». А они-то «произвольны лишь сначала, и мы не замечаем в частностях постепенного сложения нашего характера»[50].
Эти мысли имеют важное значение для понимания характера не только реального человека, но и драматического героя. И если в «Поэтике» Аристотель требует от характера такой последовательности в проявлениях, которая предстает как статичность, то тут, в «Этике», речь идет о «сложении» характера. В поступках характер проявляется, но ими же он и складывается, формируется. «Свойства души произвольны лишь сначала», — говорит Аристотель. То есть каждый поступок, совершенный человеком, отпечатывается на его характере и в определенной мере предопределяет его дальнейшее поведение. Во многом, но, разумеется, не полностью, ибо после каждого поступка, оставляющего на характере свой неизгладимый след, перед героем еще остаются возможности выбирать линию поведения. Диапазон возможностей от поступка к поступку чаще всего не «расширяется», а «суживается», — во всяком случае, поведение героя все более определяется его прошлыми деяниями.
Стоит нам проявить односторонность к ходам аристотелевской мысли и вытекающим отсюда представлениям о сложной сути драматического поступка, как мы тотчас же закроем себе путь к пониманию некоторых главнейших идей «Поэтики»: о совершаемой трагическим героем «большой» (иногда переводят — великой) ошибке (глава 13) и о лицах, которых трагедии подобает изображать — они не должны быть ни вполне «безвинными», ни вполне «порочными»; ибо ни тем ни другим не дано совершить большую ошибку, которая и придает их действиям подлинно высокий драматизм.
Эта ошибка содержательна и значительна, ибо является порождением «лица творящего», а не просто деятельного. Такое лицо поступает «произвольно», по личному усмотрению и выбору направляя свою волю и энергию к достижению важной цели. Поэтому и общее действие трагедии является подражанием действию «важному», как сказано в «Поэтике». «Ошибка» героя, сложная по своей природе и по своим следствиям, ибо «ошибающийся» чаще всего терпит «поражение», внутренне закономерное, — не может и не должна вызывать у зрителя однозначных эмоций и оценок. Содержанием своих действий, неотделимых от страдания, такой герой должен вызывать и возбуждать наш интерес, увлекать наши души, порождая в нас смешанные чувства одобрения и осуждения, страха и сострадания, восхищения и ужаса, скорби и радости. Поэтому и ход всего действия трагедии, и его исход тоже вызывают у зрителя сложные эмоции: тут чувство удовлетворения и потрясения обнаруживающим себя миропорядком неотделимо от чувства удовлетворения и потрясения героев, колеблющих порядок вещей, не подчиняющихся ему и уверенных в своей правоте.
Таково, видимо, общее представление Аристотеля о задачах и структуре трагического действия. Попытаемся понять, насколько оно обоснованно, обратившись к «Царю Эдипу», — трагедии, в которой Софокл, как принято думать, показывает устрашающее могущество слепой и неумолимой судьбы, властвующей над человеком.
В последние годы в нашей литературе «Царь Эдип» оказался в центре весьма серьезной философско-эстетической полемики. Возродился интерес к проблематике не только этого произведения Софокла, но и всей античной трагедии. Это показательно для движения нашей общественной, художественно-эстетической, философской мысли. Как известно, самое ее появление было связано с кардинальными сдвигами в социальном строе жизни Древней Греции, в общественном и индивидуальном сознании, вызванными разложением общинно-родового строя, на смену которому пришла республика — аристократическая, а затем демократическая. То был одновременно процесс ломки мифологических воззрений и формирования новых взглядов на мир, на человека и его возможности.
Что же представляет собой выделившийся из родовой общности индивидуум? Каковы новые формы связи между ним и другими людьми? Какое место занимает он в миропорядке? Нарождавшаяся и бурно развивавшаяся философия искала ответы на эти вопросы. Трагедия — отвечала на них по-своему.
Крушение общинно-родового строя и связанных с ним междучеловеческих отношений в трагедии представало как катастрофа огромного значения, являвшаяся предметом эмоционального переживания, глубокого и сложного художественного постижения.
Как известно, трагедия черпала свои сюжеты по преимуществу из мифологии. Почему? Как это можно объяснить? Дело в том, что уже самая мифология по-своему, в фантастической форме отражала свойственные родовому строю противоречия, в итоге приведшие к его разложению. Однако все то темное, бесчеловечное, «демоническое», что было свойственно общинно-родовому строю, мифология представляла включенным в некий извечный, незыблемый миропорядок. Трагедия же, заимствуя у мифологии ее сюжеты и образы, все более отдалялась от свойственного мифу понимания человека и миропорядка.
Вопрос о том, в чем же выражалось коренное отличие мировосприятия трагического от мифологического, издавна и поныне вызывает острые споры. Различные ответы на него ведут к разному пониманию структуры и содержания греческой трагедии и, разумеется, к прямо противоположным истолкованиям идей «Поэтики» — в особенности аристотелевских мыслей о драматическом поступке, основанном на большой ошибке, и о реакции зрителя на трагические события как сплаве сострадания и удовольствия.
Согласно одной точке зрения, греческие трагедии показывали, как человек, выпавший из родовой общности, попадает в положение безвыходное. Герой трагедии, например Эдип, освобождаясь от власти родовых традиций, обособляясь от общественного целого и противопоставляя ему свою индивидуальность, свое «я», терпит крушение, ибо оказывается всего лишь жалким орудием таинственного рока, управляющего ходом жизни. Трагедия, согласно этой точке зрения, изображает свои коллизии как неразрешимые и неплодотворные ни для отдельного человека, ни для общества в целом. Но, изображая героя, не являвшегося хозяином своих поступков и растаптываемого роком, трагедия заключает эту безрадостную, мрачную картину в «эстетическую рамку». Благодаря ей вызываемые трагическими событиями «аффекты страха и сострадания превращаются (подчеркнуто мною. — Б. К.) в их противоположность — в источник эстетического наслаждения»[51].
Трудно согласиться с мнением, будто античных трагиков и зрителей их пьес захватывало изображение катастроф, обнаруживающих бессилие человека и тщету его стремлений управлять ходом своей жизни. Катастроф, отдаленных от зрителя временной и психологической дистанцией, непосредственно его никак не затрагивающих и тем самым «очищенных» от всех неприятностей, которые вызывают у нас реальные — наши и чужие — страдания. Трудно согласиться с тем, что таким образом катастрофы «превращаются» в красивое зрелище, уже способное доставлять чисто эстетическое наслаждение.
Впрямь ли Аристотель говорит о «превращении» одних аффектов в другие? Нет, мысль его иная. Для автора «Поэтики» страх, сострадание, удовольствие неотделимы друг от друга, они составляют единый комплекс переживаний, вызываемых трагическим действием. Но дабы понять удовольствие, возбуждаемое трагедией, не как чисто эстетический феномен, необходимо отказаться от трактовки ее коллизий как неразрешимых и неплодотворных.
Не соглашаясь с Ю. Давыдовым, один из серьезных оппонентов — Ю. Бородай — считает, что великая античная трагедия, и «Царь Эдип» в частности, не ограничивается «чисто отрицательной фиксацией» острейших противоречий, волновавших грека V века до н. э. Трагедия, с точки зрения Ю. Бородая, раскрывает позитивный смысл величайших страданий, выпадающих на долю ее героя. К стремлениям человека противопоставить себя, свое «я» общественному целому трагедия действительно относится отрицательно. Но она утверждает значение и ценность тех старых устоев и норм, благодаря которым человек полностью оставался общественным, родовым существом.
Поэтому роковые последствия действий героя, того же софокловского Эдипа, должны были «примирить индивида с его собственной общественной природой, мифологически представленной в виде судьбы». Такой ход мысли естественно завершается выводом, будто «Софокл пытался утверждать то же самое, что и тот древний миф, который он воспроизвел на сцене», будто Софокл «не привнес в древний миф ничего содержательно нового»[52]. Так будто бы происходило по той простой причине, что в новых условиях Софоклу не оставалось иного выхода, кроме как вернуться к этической идее античной мифологии — к идее единства человека с родом, подчинения человека всеобщим силам, которые воспринимались как властвующая над человеком судьба[53].
Автор изложенной точки зрения справедливо видит в трагедии не только констатацию неких неразрешимых противоречий. Но значительные идейно-этические ценности, обнаруживаемые им тут, принадлежат уходящей эпохе, а не той, когда творили великие трагики. Между тем античная трагедия искала и находила непреходящие ценности не только в прошлом, но и в современности. В этом и было ее величие. Она отразила мучительные поиски и противоречивые по своему существу завоевания, но прежде всего именно великие завоевания, которыми отмечен V век в истории античного общества и его культуры, а не только утраты.
Уже исходная посылка рассуждений и выводов Ю. Бородая вызывает возражения, ибо Софокл вовсе не «воспроизводил на сцене древний миф». Не зря же Аристотель называл трагического поэта творцом фабул и характеров (глава 9). Ведь, скажем, из фиванского цикла мифов черпали свои фабулы и Эсхил, и Софокл, и другие драматурги. Черпали, но не воспроизводили. В мифологические фабулы каждый вносил изменения, трактовал их по-своему, отражая мировоззрение и проблемы грека V века, то есть взгляд на мир, во многом резко расходившийся с мифологическими представлениями.
«Царь Эдип» (как, впрочем, и другие античные трагедии) мог появиться в эпоху, когда в человеке достаточно сильно развилось личное начало. Только осознав значение своей индивидуальности и стремясь ее отстоять, он мог, подобно Эдипу, подвергать сомнению и критике требования оракулов и жрецов, вступая в активную борьбу с их предначертаниями.
Проявив свою самостоятельность, нарушив религиозно-мифологические нормы, Эдип, к великому ужасу своему и подлинному ужасу зрителя, обнаруживает, насколько последствия его поступков не соответствуют его намерениям, — ведь предсказаний оракула ему избегнуть так и не удалось. Но борьба Эдипа против высших сил, против хода вещей, против необходимости не предстает в трагедии ни как безысходная и бессмысленная, ни как зовущая к «примирению» со старыми религиозно-мифологическими представлениями, будто бы заключающими в себе вечную и неизменную правду.
По сложившейся традиции, говоря о «Царе Эдипе», почему-то имеют в виду только главного героя и только его судьбу. Между тем трагедия Софокла представляет собой сложное структурное целое. Поле художественного напряжения образуется тут взаимными притяжениями и отталкиваниями персонажей. Лай, Иокаста, пастухи, Эдип — эти столь разные герои оказываются в сходных ситуациях и перед сходными проблемами.
Посмотрим на Лая и Иокасту. Они первыми позволили себе проявить своеволие, они первыми из действующих лиц трагедии пошли против воли богов. Вместо того чтобы ждать гибели от рук собственного сына, Лай через Иокасту передал младенца пастуху, повелев забросить его на недоступную скалу. Тем самым супруги полагают, будто они обрекли младенца на верную смерть.
Затем проявляет свою волю пастух, не выполнивший приказа Лая. Пожалев ребенка, он отдает его другому пастуху «в край далекий». Вторым спасителем Эдипа стал этот корнифский пастух, развязавший его проколотые ноги и передавший его в дом царя Полиба. Наконец, и сам Эдип тоже поступает, руководствуясь собственным решением: бежит из дома Полиба, дабы не стать, согласно пророчествам, убийцей отца и мужем родной матери.
Как оказывается впоследствии, в итоге все происходит вопреки намерениям Лая, Иокасты, обоих пастухов, Эдипа. Каждый из них проявляет свой характер, но становится при этом жертвой совершенной им «ошибки». Однако мотивы, а значит, и смысл «ошибок» при этом различны. Лай печется о себе, о самосохранении. Ни отцовских, ни человеческих чувств по отношению к собственному сыну он не проявляет. В отличие от Лая оба пастуха, не выполняющие приказания царя, движимы именно гуманными соображениями. Наконец, Эдип, стремясь избегнуть исполнения предсказаний, действует, побуждаемый сложными стремлениями. Он думает и о себе, и о родителях, не желая стать убийцей одного и вступать в кровосмесительную связь с другой.
Ошибки каждого из них нельзя считать в равной мере «великими», хотя их поступками двигала свободная воля, а не просто своеволие. Лай, стремясь избегнуть лично им никак не заслуженной жестокости, пытается спасти себя жестокостью же. Тут, в этой преднамеренной жестокости, «великой» ошибки вовсе нет. Поэтому для Софокла Лай, несмотря на проявленную им личную инициативу, на совершенный им вызов богам, то есть существующему миропорядку, не становится героем трагическим. Софокл не считает нужным показать нам Лая, не вызывает к нему ни капли сочувствия. Лай умирает, не пройдя ни через перипетию, ни через узнавание-страдание.
Иное дело — пастухи. Они для Софокла более интересны и значительны. Потому драматург о них не только «рассказывает», но и выводит их на сцену. В отличие от Лая, оставшегося в пределах того сознания, с которым он вступил в борьбу, пастухи, по существу, искали иного выхода из бесчеловечной ситуации. Они своими действиями практически стремятся преодолеть, опровергнуть несправедливый, жестокий ход вещей и внести в него элемент человечности.
Эдип в этом смысле, разумеется, противоположен Лаю и близок пастухам, ведь благодаря своему человеколюбию они оказались главными виновниками всех дальнейших несчастий (в ходе сценического действия они сами это и признают). Но то, что в пастухах лишь пробивалось, в поведении Эдипа заявило о себе с огромной мощью. Решения, лично им принимаемые, его энергия и неукротимая воля — все это воплощает новый тип человеческого сознания. Эдип не желает безропотно подчиняться высшим религиозно-мифологическим силам и вступает с ними в конфликт.
Если эпическому герою (например, Ахиллу или Агамемнону в «Илиаде») его решения в известной мере «предписывались», то Лай, пастухи и Эдип действуют на свой страх и риск и в определенной мере поступают «произвольно», даже «творчески», и именно это делает их поступки драматическими. Тут перед нами возникает проблема творческой природы драматической активности. Ее не следует понимать упрощенно. В драматургии творчество предстает как разрушение-созидание. При этом могут доминировать как разрушительные, так и созидательные начала. Разумеется, мера и глубина драматизма в их действиях различна. Пастухам кажется, будто они нашли компромиссное решение ситуации, выполняя требование Лая и вместе с тем спасая ребенка от смерти. Эдип же поступает «произвольно» и бескомпромиссно. Но и в действиях пастухов проявляется известная самостоятельность, принимающая у Эдипа форму осознанного нарушения велений, идущих извне и предписывающих человеку его поведение.
Трагическая и вообще драматическая фабула и строится на такого рода неожиданностях, связанных с «произвольными» решениями и поступками героев, отступающих от норм, от общепринятых порядков. Эти неожиданности сочетаются в фабуле с неожиданностями другого рода, связанными с непредвиденным стечением обстоятельств, со вторгающейся в ход жизни случайностью, которая, со своей стороны, вносит в жизнь разнообразие и обновление. Вторжение в ход действия неожиданных обстоятельств Аристотель называет перипетией, которую вместе с узнаванием и страданием Аристотель считает главными частями трагической фабулы.
Поступки Эдипа предстают в фабуле трагедии исполненными величия — и по своим мотивам, и по своим последствиям. С самого же начала он стремится избежать несчастий, готовых обрушиться не только на его голову, но и на других людей, которых он считает своими родителями. И первые же результаты его «произвольных» поступков оказываются более значительными, чем он сам мог надеяться. Он случайно попадает в Фивы, где ему удается победить чудовище-сфинкса и принести длительное благоденствие всем жителям города. Разве уже это не свидетельствует, вопреки многим предвзятым толкованиям трагедии Софокла, что борьба Эдипа с «роком» вовсе не сплошь бесплодна?
Плодотворный смысл его борьбы сказывается и в дальнейшем, с еще большей силой. В трагедии утверждается сложный — и ужасный и оправданный — смысл вызова, бросаемого Эдипом высшим силам. Но понять это можно не ограничиваясь лишь изложением фабулы трагедии, а попытавшись постигнуть ее структуру в целом. Аристотель видел в фабуле «душу» трагедии. Это помнят все. Но ведь Аристотель вовсе не сводил ее действие и содержание к фабуле. Ведь с его точки зрения перипетия, узнавание и страдание — «части трагедии, которыми должно пользоваться как ее основами».
«Царь Эдип» весьма показателен для понимания структурных особенностей античной трагедии, да и драматургической структуры вообще, в которой действие и фабула никак не тождественны.
В «Царе Эдипе» действие на сцене является развязкой событий далекого прошлого. Если под фабулой разуметь «состав происшествий», то лишь часть этих происшествий впрямую развертывается на сцене. К ним относятся — смертельный мор, мучающий город; возвращение Креонта с повелениями Аполлона; появление Тиресия, коринфского вестника, старого пастуха; самоубийство Иокасты; самоослепление Эдипа. То есть сценическое действие посвящено изображению катастрофы-развязки. Все события, эту катастрофу подготовившие, не являются предметом непосредственного изображения и входят в состав фабулы через повествования о них.
Между тем о структуре, содержании и смысле «Царя Эдипа» часто толкуют, игнорируя кардинальное различие между его фабулой и действием, отнюдь не совпадающими друг с другом. Здесь действие, как и во всяком произведении драматургии, шире, глубже, содержательнее фабулы.
Можно ли сводить смысл трагедии только к тому, что все поступки Эдипа привели к результатам, соответствовавшим вещанию высших сил и противоречившим его намерениям? Думать так значит ориентироваться на фабулу, а не на протекающеее на наших глазах действие.
Роковые поступки Эдипа отнесены Софоклом в далекое прошлое, за исключением тех, которые связаны с узнаваниями. Именно в этой цепи перипетий-узнаваний, в переходах Эдипа от одного узнавания к другому, в разнообразии его реакций, все усложняющихся, как и в реакциях Иокасты, пастуха, вестника, хора видит Софокл главный смысл действия, выстраиваемого им на сцене. Выше говорилось о необоснованности представлений, будто трагедия должна прибегать только к изображению действия, а не к рассказу[54]. Реально трагедия использует и рассказ, а не только показ. Но все же есть тут некая иерархия ценностей. В драматургии то, о чем рассказывается, служит тому, что в ней показывается.
Так обстоит дело и в «Царе Эдипе». Уже в фабуле, как участник событий, относящихся к прошлому, Эдип предстает человеком необычным. Тщетно стремясь предотвратить несчастье, грозящее ему и его родителям, он сумел, однако, предотвратить несчастье, нависшее над всеми Фивами. В действии, развертывающемся на глазах зрителя, Эдип уже думает прежде всего не о себе. Когда вернувшийся от оракула опытный царедворец Креонт выясняет, как ему быть:
Ты выслушать меня при них желаешь? Могу сказать… могу и в дом войти… —Эдип отвечает как человек, не желающий что бы то ни было таить от народа:
Нет, говори при всех: о них скорблю, — О собственной душе не так печалюсь.Вера в свою правоту, прямодушие, заводящее его иногда слишком далеко, забота не только о собственном престиже, но о судьбе Фив побуждает Эдипа начать расследование, которое ничто уже не может остановить — даже мольбы Иокасты, когда ей все случившееся становится в достаточной мере ясным. Потребность в узнавании истины и мужество в процессе выяснения рокового хода событий ни разу не изменяют Эдипу. Напротив, эти качества в нем умножаются. Напряжение действия определяется здесь не столько поисками преступника и возрастающей цепью улик, сколько величием духа того, кто безоглядно ведет следствие вперед, хотя уже мог бы понять, что оно оборачивается против него.
Тут-то и возникает существеннейшее, принципиальное различие между прошлыми поступками Эдипа и совершаемыми на глазах зрителя. Те и другие в равной мере роковым образом вели его к несчастью. Однако в прошлом он не только этого не знал, но даже и не предполагал, будучи, напротив, убежден, что благодаря своим действиям избегает несчастья. Теперь же все обстоит по-иному. В прошлом, поступая по своей воле и вопреки велениям высших сил, он не ведал, что творил. Теперь, поглощенный расследованием, он все более ведает и хочет изведать все до конца.
Проявляя и на сей раз самостоятельность, волю, мужество, он впадает при этом в неоправданную подозрительность по отношению к Тиресию и Креонту. Подчиняясь своему неукротимому темпераменту, он впадает в гордыню. Но главное ведь в том, что теперь он ощущает неумолимо надвигающуюся катастрофу и знает, что именно своими действиями он приближает, творит не свое счастье, а свое несчастье[55]. В развивающемся перед нами действии Софокл вывел именно этого Эдипа. И впечатления от такого Эдипа входили в душу зрителя, оставались в ней и сказывались не менее сильно, чем впечатления от могущества роковых сил, которым Эдип бросил свой дерзкий вызов[56].
Нередко говорят: Софокл показал, как человек, противопоставивший себя высшим силам, все более теряет контроль над собственными поступками. Они, мол, уходят из-под его власти и приобретают власть над ним. Но это ведь верно лишь по отношению к прошлому Эдипа. Эдип — участник развертывающегося на сцене действия — все более властно контролирует свои поступки[57], тем самым переставая быть жертвой внешних и темных сил и все более подчиняя ход событий своим стремлениям во что бы то ни стало очистить город от скверны. Разве при этом Эдип, сталкиваясь со сбывающимися предсказаниями оракула, только терпит поражения и не одерживает никаких побед?
Допустим даже, что тут перед нами всего лишь «узнавание» Эдипом своей судьбы. Надо ли толковать «узнавание» как пассивный акт? Ведь Аристотель не зря же считал «узнавание» действием. В акте «узнавания» всегда наличествует элемент преобразования: тут преобразуются и познающий субъект, и познаваемый объект. И хотя результаты этих преобразований не всегда очевидны, они от этого не становятся менее значительными. Эдип, еще не познавший, сколь могущественны силы, которым он воспротивился, и Эдип, прошедший тяжкий путь познания, — это ведь разные люди. Да и действительность, Эдипом осознанная, тоже уже не та, что была до того, как подверглась его воздействиям. Говоря о сложных результатах активности Эдипа, надо иметь в виду, что город был очищен именно им, Эдипом. Можно ли тут не увидеть его победы? Можно ли, имея в виду все это, говорить, что в трагедии Софокла речь идет о роке, властвующем над человеком? Нет, речь идет о судьбе, творимой с его участием и только потому становящейся его судьбой.
Чему же, в таком случае, учила зрителя трагедия Софокла? Смирению ли перед таинственными силами необходимости, управляющими миром? Но разве одновременно с несчастьями, постигавшими Эдипа, зрителя не потрясали его гигантская борьба, духовная мощь, устремленность к познанию истины, сила воли, мужественный характер, в «сложении» которого участвует он сам? К тому же не в одном Эдипе дело. Разве проявления самостоятельности, столь различные по своему содержанию у Лая, пастухов и Эдипа, эти новые человеческие качества, свойственные греку эпохи расцвета афинского государства, не побуждали зрителя к раздумьям, доставляя ему наслаждение, которое, разумеется, не могло быть чисто эстетическим?
Оно, естественно, было очень сложного свойства. Эстетическая рама, вмещавшая в себя трагическую фабулу, придававшая ей вид законченной, завершенной картины, отнюдь не служила лишь превращению изображаемого в красивое зрелище. Творчески активно преодолевая дистанцию, которую эта «рама» создавала между ним и сценой, зритель вместе с героями переживал все превратности их судеб и все их страдания. Миссией трагедии оказалось воспитание в человеке великой способности к подлинному состраданию, побуждающему его вникать в глубочайшие противоречия жизни, поднимаясь над житейской суетой.
Отказываясь от точки зрения, согласно которой «эстетическая рама» служила «превращению» морально-этических переживаний в чисто эстетические, не будем впадать в другую крайность.
Как известно, Лессинг, развивая идеи Аристотеля, приходил к выводу, что зритель полностью преодолевает дистанцию между собой и сценой, делая это столь радикальнее что отождествляет себя с героем, ставит себя на его место. Будь это действительно так, зрителю уже приходилось бы не столько сострадать, сколько страдать. И тогда он лишился бы возможности испытывать удовольствие: ведь сам-то герой никакого удовольствия от своих страданий не испытывает. Видимо, Лессинг, вопреки своему намерению, оказывается в противоречии с Аристотелем, находившим в зрительской реакции сострадание, смешанное с удовольствием.
Стало быть, отвергая мысль о непреодолимой дистанции, позволяющей зрителю равнодушно и даже с удовольствием наблюдать за безысходными страданиями героя, надо понять всю сложность отношений зрителя со сценой. Тут нет ни чисто эстетического, дистанцированного созерцания, ни полного слияния зрителя с героем. Зритель и отождествляет себя с ним и одновременно наблюдает его со стороны.
Ведь Эдип весь поглощен процессом узнавания, поглощен своей болью, своими муками. Но в пределы действия трагедии, в раму картины, имеющей, по словам Аристотеля, «начало, середину и конец», «завязку и развязку», включена не только история Эдипа с трагическим переломом в его судьбе. В нее входят и другие персонажи, тоже переживающие свои потрясения и переломы, тоже требующие от зрителя и сострадания и осмысления.
В этом смысле зрителю приходится даже труднее, чем каждому из героев, ибо ему предстоит эмоционально откликаться на все их «ошибки», большие и малые, ему предстоит решать вместе с каждым героем его проблемы, переживать его надежды и его разочарования.
Уходил ли зритель «Царя Эдипа» потрясенный лишь разочарованиями, поражениями и несчастьями героя? Думать так значило бы сводить содержание трагического действия к определенным моментам его фабулы. На деле это действие вводит нас в сложный мир эмоциональных, этических, художественных ценностей. Сказать, что «Царь Эдип» показывает безысходность и неразрешимость противоречий, во власти которых оказался человек, пытаясь проявить свою индивидуальность и подчинить объективный ход вещей своим целям и своему разумению, значило бы игнорировать другой и, быть может, более важный аспект трагедии. Но неверно было бы видеть в «Эдипе» утверждение ценностей прошлой эпохи, ценностей уже утраченных. Нет, зритель уходил потрясенный судьбой главного героя, поведением других действующих лиц, стремящихся утвердить в мире новые принципы поведения и новые ценности.
Так называемая «эстетическая рама» побуждала зрителя пристально всматриваться в происходящее, концентрируя и обостряя его внимание, стимулируя все его способности восприятия, требуя от него эмоционально-нравственной, идейной оценки того, что ему показывали. На зрителя «Эдипа» Софокл возлагал огромное бремя и тем самым предельно активизировал его возможности, обрушивал на него сложнейшую совокупность впечатлений, в итоге дававших нравственно-эстетический эффект.
В замечательной работе об Эсхиле А. Ф. Лосев, подводя итоги своего подробного анализа творчества великого трагика, замечает: «В сравнении с эпосом и почти всей лирикой отношение у Эсхила отдельного человека как ко всей истории, так и к божеству, несомненно уже является проблемой, решаемой в определенном направлении, в то время как раньше это отношение только фактически изображалось, но вовсе не было предметом углубленной рефлексии»[58]. Эту характеристику можно распространить и на Софокла, хотя, разумеется, проблему взаимоотношений человека с объективным ходом истории автор «Царя Эдипа» решает иначе, чем Эсхил.
Развивая свою мысль, А. Ф. Лосев видит гениальность автора «Орестеи» в том, как он постиг и изобразил «диалектику роковой необходимости и героической свободы»[59]. Эту характеристику можно распространить и на автора «Царя Эдипа». А на примере «Ифигении в Авлиде» мы убедимся, что диалектика роковой необходимости и героической свободы была в центре внимания и Еврипида.
Говоря о главной проблеме Эсхила, да и главной проблеме всей античной трагедии, выдающийся знаток античности, античной мифологии и литературы констатирует, что «мифология у Эсхила, строго говоря, играет только служебную роль, являясь выразительницей идей, уходящих далеко за пределы всякого антропоморфизма»[60]. Да, разумеется, художественное постижение диалектики необходимости и свободы — нечто новое, внесенное именно трагедией в историю искусства. Это не было и не могло быть предметом изображения в мифе и стало призванием античной, а затем и трагедии нового времени.
Если дело обстоит таким образом, то нет оснований отождествлять идеи трагедии с религиозно-мифологическими представлениями. Своего зрителя трагедия вела не только к постижению величия этих представлений, она вводила его в круг новых проблем. Когда зритель становился соучастником процесса, в котором герой проявлял свою самостоятельность и самодеятельность, свой характер и совершал при этом «большую», «творческую», содержательную, во многом оправданную ошибку; когда зритель постигал, что расплата за нее свидетельствует о власти закономерностей, отдельному человеку неподвластных, — все это вместе взятое и приобщало его к диалектике свободы и необходимости. Зрелище героической свободы в ее состязании с необходимостью не могло не вызывать в душе зрителя подлинного сострадания к судьбе героя и столь же подлинного наслаждения его поступками.
Сложная реакция зрителя трагедии, с точки зрения Аристотеля, представляет собой не только вызванное страхом потрясение — сострадание — удовольствие. В ее состав входит еще и так называемое «очищение». И тогда она предстает как потрясение — сострадание — очищение — удовольствие, неотделимые одно от другого.
Вопрос об очищении (катарсисе) относится к числу самых неясных в «Поэтике». Он породил множество различных и даже противоположных толкований. По мнению автора новейшего труда на эту тему, болгарского ученого А. Ничева, с которым во многом солидаризуется А. Ф. Лосев, «катарсическое действие трагедии имеет своей целью эстетическую гармонизацию того, что в самой трагедии изображалось как противоречивое и взаимоисключающее»[61].
В «Царе Эдипе», да и в большинстве античных трагедий свободные действия индивида и необходимый ход вещей предстают явлениями, противоречащими друг другу и даже вовсе не совместимыми. Но вместе с тем «произвольные», «творческие» усилия индивида, восстающего против неприемлемых для него норм, не желающего покорствовать ходу вещей, трагедия не толкует как бесплодные и бессмысленные.
«Гармонизация», о которой говорят А. Ничев и А. Ф. Лосев, означает движение противоположных сил навстречу друг другу, а не абсолютную победу одной (необходимости) и абсолютное поражение других (индивидуальной инициативы, самостоятельности, творческой, героической воли человека).
В таком случае очищающие переживания, через которые проходят герои и в еще большей мере зрители, вовсе не должны вести героев к раскаянию, а зрителей к одной лишь скорби о бесплодности коллизии, разыгравшейся на их глазах. Нет, зритель ощущает плодотворный смысл действий героев, хотя в них и заключалась «великая ошибка». Осознание этой «ошибки» входит в процесс очищения.
В «Поэтике» не сказано в достаточной мере ясно, кто же именно проходит через «очищение»: страдающие ли герои или сострадающие им зрители. Видимо, и те и другие.
Но мысль Аристотеля таит в себе еще один аспект. Обратившись к «Орестее» Эсхила или к «Ифигении в Авлиде» Еврипида, можно убедиться в том, что здесь не только герои, сталкивающиеся с наличными силами необходимости, через страдание возвышаются к познанию сурового, но спасающего человека от хаоса миропорядка. Своеобразному очищению подвергаются и силы порядка, силы необходимости.
Что происходит в эсхиловской «Орестее» с эриниями, превращающимися в эвменид? Ведь эринии здесь не заменяются эвменидами, а именно преображаются в них. Разве это не «очищение» через страдание — эринии у Эсхила ведь мучаются и страдают не менее преследуемого ими Ореста? Превращаясь в эвменид, эринии при этом и отказываются от себя и сохраняют себя, но уже в новом качестве. Само их назначение — блюсти определенный мировой порядок — сохраняется, но им предстоит блюсти его по-иному, ибо порядок этот претерпевает радикальные изменения, изображению которых посвящена последняя часть трилогии. Здесь с огромной художественной выразительностью раскрыта связь между «очищением» Ореста и «очищением» божественных сил, которые тоже вынуждены освобождаться от того темного, мрачного, отвратительного, что им присуще.
Не только «Орестея», но и другие античные трагедии в той или иной форме, тем или иным путем всегда вели своего зрителя к постижению связи между переменами в человеческих судьбах и переломами в ходе вещей, в миропорядке. Ибо в трагедии речь шла уже не об извечном миропорядке мифологии, в котором все только циклически повторяется, но никак не движется вперед.
При всей кажущейся незыблемости новый миропорядок подвержен изменениям, ибо поддается воздействию со стороны человека как «творящего» лица, хотя ему приходится платить за свою «произвольную» активность очень дорогой ценой. Отсюда и своеобразие ритмического движения в трагедии, имеющего начало, середину и конец, имеющего свое завершение, в отличие от природно-мифологического ритма, который строится на бесконечно однообразных повторениях. Самый ритм трагедии с его нарастаниями, приостановками, поворотами и разрешениями приобщал зрителя к действию, смысл которого — в преобразовании, в «очищении» и людей, и ситуаций. Сострадая героям, зритель вместе с тем переживал происходящее на его глазах «очищение», еще более усложнявшее эмоционально-нравственное содержание воздействия, испытываемого им от трагического зрелища.
Глава II
«Лаокоон» и «Гамбургская драматургия» Лессинга. Драматический герой. Драматический поступок.
Как Аристотель в IV веке до н. э., так и Лессинг в XVIII веке видел в драматургии часть «поэзии», одно из словесных искусств. Природу и задачи «поэзии» Лессинг стремился выявить, сопоставляя ее в своем «Лаокооне» (1766) с живописью. В этой книге, в отличие от «Гамбургской драматургии» (1767–1769), посвященной прежде всего общеэстетическим проблемам, с большой остротой поставлен вопрос о роли действия в искусстве слова, в частности, в драматургии. Вместе с тем в «Гамбургской драматургии» некоторые проблемы, связанные со спецификой искусства в целом, трактованы интереснее, чем в «Лаокооне».
Лессинг не был кабинетным ученым. И «Лаокоон», и «Гамбургская драматургия» — не плоды отвлеченных умствований и вызваны к жизни проблемами немецкой литературы и драматургии, пережившими в середине века состояние застоя. Этими работами Лессинг расчищал путь и способствовал утверждению собственной драматургии, а в еще большей мере — появлению драматургии Гёте и великого театра Шиллера.
Подобно другим выдающимся идеологам Просвещения, Лессинг, решая задачи, стоявшие перед буржуазной демократией, заходил в теоретическом отношении гораздо дальше практических целей борьбы против феодального гнета и абсолютизма. В особенности это относится к его идеям в сфере теории драмы. Они были вызваны потребностями преодоления, с одной стороны, немецкого варианта классицистской поэзии с ее регламентациями, отрывавшими искусство от реальной жизни, а с другой — натурализма, понимавшего «верность природе» слишком элементарно. Но, захваченный поисками и выявлением «истинных» принципов драматической поэзии, Лессинг включил в орбиту своих размышлений античную трагедию и Аристотеля, драматургию Шекспира, французский классицизм, его сторонников и таких его противников, как Дидро, творчество писателей «Бури и натиска» — очень широкий круг художественных явлений и теоретических трудов. Не всегда Лессинг при этом был справедлив и объективен, что проявилось в его отношении к Корнелю и Расину. Однако, рожденные в процессе непрерывной полемики, его взгляды внесли много нового в науку о драме и оказали существенное влияние на ее дальнейшее развитие.
Интересно, что не в «Лаокооне», где это, казалось бы, более уместно, а в «Гамбургской драматургии» Лессинг говорит об условности как одной из первооснов искусства вообще. Сопоставляя искусство с «природой» (подразумевая при этом и общественную жизнь — то есть все то, что не является искусством), Лессинг пишет: «В природе все тесно связано одно с другим, все перекрещивается, чередуется, преобразуется одно в другое. Но в силу такого бесконечного разнообразия она представляет собою только зрелище для бесконечного духа»[62].
Человек поэтому вынужден предписывать природе «известные границы, которых у нее нет». Во все моменты своей жизни, считает Лессинг, человеку приходится «направлять свое внимание по собственному усмотрению» так, чтобы выделять в окружающем мире только интересующие его в данный момент явления. Не обладай мы такой способностью отбирать одно и игнорировать другое, способностью «обособлять» предметы, выделять их из тех «временно-пространственных отношений», в которых они существуют, жить было бы вовсе невозможно: «вследствие бесконечного разнообразия ощущений мы ничего бы не ощущали».
Чем же занимается искусство? В известной мере оно выполняет работу, подобную той, которую каждый человек проделывает «в своем уме». Созданное художником произведение — это предмет или предметы, заключенные в особые, условные пространственно-временные границы, которых нет и не может быть в «природе», где ни одно явление не отграничено, не обособлено от другого. Но трудясь за нас, искусство делает свое дело гораздо лучше, чем мог бы каждый из нас. Искусство «отбрасывает» предметы второстепенные, а важные оно вычленяет, «обособляет» из сети многообразных связей, в которых те пребывают, представляя нам предмет или сочетание предметов в новой «связности», рассчитанной на определенную реакцию читателя, зрителя, слушателя.
Возвращаясь к этой мысли в другом месте той же «Гамбургской драматургии», Лессинг говорит о различиях между «миром действительным» и «другим миром» (произведений искусства), в котором «явления группируются в ином порядке», ибо художник «перемещает предметы действительного мира, видоизменяет их, уменьшает, увеличивает их число, чтобы создать из них новое целое, к которому он применяет свои цели»[63]. Это очень важное обстоятельство: отражая мир действительности, художник конструирует, создает иной мир, подчиненный его задачам.
«Обособленный» предмет в произведении существует уже по эстетическим законам. Чем же они определяются? В «Лаокооне» дается ответ на этот вопрос. Дело в том, что разные искусства обращаются к разным «предметам» или к различным сторонам этих предметов. Каждое из искусств ищет и находит свои возможности для художественного воплощения определенных сторон жизни.
«Поэзия» — то есть и лирика, и эпос, и драма, — по мысли Лессинга, видит жизнь в ее движении, в ее динамике. Этим «поэзия» отличается от «живописи» (к ней Лессинг относил и скульптуру), которая видит жизнь в определенных ее состояниях, в те моменты, когда она как бы приостанавливается. Отсюда Лессинг делает вывод: если живопись достигает своих целей, изображая «тела» в пространстве, то поэзия — изображая «действия» во времени. Каждое из этих искусств движется к своим целям благодаря имеющимся в его распоряжении средствам. Слово, речь — эти именно средства позволяют поэзии показывать протекание и изменчивость жизни.
Чем, однако, отличается действие в драме от действия в лирике и эпосе? К сожалению, Лессинг специально этим вопросом не занимался. В ряде случаев он говорит о «действии», не дифференцируя его на лирическое, эпическое и драматическое. Все же он высказал много важных суждений о природе драматического действия, анализируя пьесы разных эпох и авторов, оспаривая чужие суждения о них. При этом весьма поучительны и те случаи, когда, поставив очень трудные и сложные вопросы, Лессинг уклонился от ответов или дал такие, что сегодня нас уже никак не удовлетворяют.
В «Лаокооне» содержится весьма любопытное сопоставление драматической сцены с цирковой ареной. Речь, по существу, идет об особом предназначении сценической площадки, о предметах, которые драма должна или не должна включать в круг изображений, развертывающихся на этой площадке.
На драматической сцене, в отличие от цирковой арены, выражают себя со всей полнотой и силой человеческие страдания, которым нет и не может быть места на арене цирка, настаивает Лессинг. Казалось бы, он всего лишь следует Аристотелю. На деле же идеи автора «Поэтики» развиваются тут в новом направлении.
Если, как считает Лессинг, драматическая сцена призвана не развлекать, а воспитывать нравственность через сострадание, то кто же может стать объектом такого очищающего сострадания? — спрашивает он и отвечает: люди, подобные нам — «для нашего сострадания нужна отдельная личность: государство не может вызвать нашей симпатии как понятие слишком отвлеченное для наших чувств»[64]. Разумеется, в этом заявлении Лессинга нет ничего антигражданственного. Речь идет о другом: о предмете драмы и особенных, ей присущих средствах воздействия на зрителя, с помощью которых она и способна воспитывать в нем подлинную нравственность и подлинное осознание как своих человеческих, так и гражданских прав и обязанностей.
Не всякая, однако, личность может войти в ряд персонажей драматического произведения. Развивая свое сопоставление цирковой арены и театральной сцены, Лессинг поясняет, что драматическая сцена — не место для гладиаторских игр, где наемным бойцам или рабам следовало действовать и переносить все с невозмутимой твердостью, забавляя зрителя, но не вызывая в нем какого бы то ни было сочувствия. «Но то, чего не следовало возбуждать в цирках, составляет единственную задачу трагической сцены». Тут герои «должны обнаруживать свои чувства, выражать открыто свои страдания и не мешать проявлению естественных наклонностей»[65].
Размышляя о своеобразных задачах драматической сцены, Лессинг делает при этом весьма важное обобщение: «Все стоическое не сценично, и наше сострадание всегда соразмерно тому страданию, какое испытывает интересующий нас человек»[66]. Сценичность тут, разумеется, для Лессинга — синоним высокого драматизма. Герой, переносящий свои страдания «возвышенно», вызывает в нас «удивление». Но «удивление есть чувство холодное, бездейственно созерцательное». И не для того, чтобы испытывать такого рода чувства, а ради более теплых, живых активных переживаний ходим мы на драматический спектакль.
К этой же теме возвращается Лессинг в «Гамбургской драматургии», где он еще более настойчиво излагает свои представления о подлинно «сценичном» герое драмы. Ей не нужен герой, обнаруживающий «тихую покорность и безмятежную кротость». Ни стоически бесчувственный, ни безмятежно покорный, ни морально совершенный идеальные герои не «сценичны», то есть неспособны на захватывающее зрителя подлинно драматическое действие.
Подобающий ей драматизм могут внести на сцену не «мученики» и не «гнусные чудовища», «вместилища порока», а деятельно-страстные герои.
Стремясь отчетливо определить специфические задачи драмы, Лессинг на одной из страниц «Гамбургской драматургии» прибегает к тому же ходу, которому он следовал на протяжении всего «Лаокоона». Там он выявлял границы между разными родами искусства. Здесь речь идет уже о границе между двумя видами «поэзии»: драмой и басней. Поэт-баснописец хочет научить нас, он стремится преподать нам некое поучение и обращается лишь к нашему уму. Драматический поэт прежде всего стремится нас заинтересовать: «драма не заявляет притязания на особое… поучение, которое вытекало бы из ее фабулы». К уму драма обращается через сердце. Она либо возбуждает наши страсти изображением «превратностей судеб» человеческих, либо вызывает наслаждение наше «верным и живым изображением нравов и характеров»[67]. Тут у Лессинга весьма важное не то «добавление» к Аристотелю, не то отступление от него.
Автор «Гамбургской драматургии» хотел бы предстать всего лишь истолкователем подлинного смысла «Поэтики» в отличие от других истолкователей, либо не понявших, либо извративших ее смысл, но на деле это, разумеется, не так. Когда Лессинг говорит об изображении «превратностей судеб», он весьма близок Аристотелю. Но тот никогда не ставил перед драмой задачу «верного и живого изображения нравов и характеров». Тут Лессинг уже исходит из опыта драмы нового времени. Но хотя Лессинг здесь говорит всего лишь о «верных и живых» изображениях характеров, по существу, он от драмы ожидает раскрытия характеров через действия, совершаемые в особых ситуациях, выявляющих «превратности», переломы в человеческих судьбах.
О личности драматического героя Лессинг судит не по его собственным словам и не по отзывам других лиц, а по его поступкам. Именно в них характер себя и проявляет. «На сцене мы хотим видеть, каковы выведенные личности, а видеть это можно только по их действиям»[68].
Вместе с тем — и это очень важно — автор «Гамбургской драматургии» отказывается судить о людях только по поступкам. Одинаковые поступки могут совершать люди разных характеров. «Мы смотрим на факты как на нечто случайное, как на нечто такое, что может быть общим для нескольких лиц; напротив, на характеры — как на нечто существенное и индивидуальное»[69].
Тут опять же, по сравнению с Аристотелем, некое новое требование к характеру. Он должен представать как индивидуальность. Если мы будем судить о нем только по поступкам-фактам, то есть по результатам действий, то можем об этой индивидуальности получить обедненное представление. Поэтому для Лессинга поступок приобретает важное значение и как совершившийся факт, и как некое совершающееся по определенным мотивам действие.
Аристотель, по существу, отождествлял характер, направление воли и поступок. Лессинг начинает их расчленять. Поэтому у него появляется ряд понятий, у Аристотеля немыслимых, — в них отражается динамика процесса драматического действования. Разбирая различные произведения мировой драматургии, Лессинг при этом все более вникает в самое протекание действия-поступка, начиная с его побудительных мотивов и причин и переходя к тому, что он называет «интересом», которым захвачен герой. Столкновение интересов побуждает характеры, по мысли Лессинга, к обостренному проявлению своих качеств и свойств. Что же касается цели, то «действовать с целью — это и есть условие, возвышающее человека над низшими существами»[70]. Разумеется, драматический герой действует с ярко выраженной целью.
Но для Лессинга действовать с целью вовсе не означает то же самое, что для Аристотеля означало действовать, следуя определенному направлению воли. Ведь автор «Поэтики» не признавал за характером права на изменчивость и требовал от него постоянства. Когда же он сталкивался с движением в характере, то отрицательно оценивал это как непоследовательность.
У Лессинга же в «Гамбургской драматургии», вероятно, наиболее интересны его размышления о переходах героев из одного состояния в другое, от одного душевного движения к другому и о том, насколько актерам удается воплотить движение страстей, состояний и переживаний героев. «Ромео и Джульетта» вызывает его восторги «живым изображением самых малейших, самых неуловимых изворотов, которыми любовь вкрадывается в нашу душу, тех незаметных побед, которые она одерживает, всех тех ухищрений, при помощи которых она побеждает другие страсти, пока не остается единственным властелином всех наших желаний и антипатий»[71].
Придавая столь большое значение развитию, часто противоречивому, чувств и страстей, Лессинг при этом высоко ценил в драме, особенно в трагедии, изображение решительной перемены в характере героя. Раскрытие ее причин и самого ее хода — дело, с точки зрения Лессинга, первостепенной важности. Когда такая перемена особенно значима, Лессинг говорит о ней как об «обращении» (и Гегель, нам предстоит это увидеть, прибегал к этому понятию). Вспоминая в «Лаокооне» Неоптолема, обманувшего Филоктета, а затем раскаявшегося, Лессинг толкует этот поворотный момент как «обращение» героя[72].
Когда Лессинг говорит об актерской игре, он особенно внимателен и требователен к изображению сдвигов, переходов, оттенков во внутренней жизни героя. Этот интерес не только к решающим, поворотным моментам, но и к тому, что он иногда называет «развитием страсти», связан у Лессинга с тем значением, которое он придает «индивидуальным чертам» характера. В «изворотах», казалось бы, не столь уж заметных, проявляются именно они — индивидуальные особенности. Разумеется, они могут проявить себя и в ярких взрывах, а не только в трудноуловимых «изворотах». Задача драматурга — постичь и запечатлеть разнообразные проявления индивидуальности в характере.
Но тут перед Лессингом возникал труднейший вопрос: каковы истоки этих «индивидуальных черт», почему искусство поэзии должно придавать им столь большое значение?
Для художника, говорит Лессинг в «Лаокооне», Венера есть воплощение только любви. Поэт же видит в ней «богиню любви», «имеющую, кроме этого своего основного характера, и свои собственные индивидуальные черты и, следовательно, способную поддаваться как отталкивающим, так и привлекательным страстям»[73]. Индивидуальное рассматривается Лессингом как своего рода дополнение к основным чертам характера, как отклонение от них. Если художнику или скульптору, считал Лессинг, изображение этих отклонений недоступно и противопоказано, то поэт имеет возможность делать это. Что же все-таки представляют собой «отклонения»? Видимо, скорее некие «отрицательные» черты, что подтверждается выводом Лессинга: поэт «может изображать отрицательные черты и путем смешения этих отрицательных черт с положительными соединять два явления в одно»[74].
Индивидуальное в концепции Лессинга всегда так или иначе соотнесено с «идеальным» и воспринимается на его фоне. Пусть индивидуальное желательно и даже необходимо, но оно все же отступление от некоей идеальной нормы. И потому часто у Лессинга получается, что индивидуальное есть нечто не позитивное, а негативное, нечто не положительное, а отрицательное.
Автор «Лаокоона» и «Гамбургской драматургии» оказывается в плену противоречий, решить которые он, исходя из своей просветительской концепции человека и мира, так и не мог. Ведь согласно этой концепции, «естественный» человек в принципе разумен, да и весь мир, вся действительность в целом пусть и неявно, пусть скрыто, но тоже разумны. Зло и пороки — лишь наслоения на «естественной» природе. Человек способен освободиться от них, если будет образумливать себя и себе подобных. Что касается мира в целом, то его дисгармония, все его уродства — лишь «наслоения», не вытекающие из общего хода вещей, по существу «мудрого и благого». Образумливаясь, человек вместе с тем будет освобождать и всю действительность от зла, жестокостей и уродств, которые навязаны ей плохими, неразумными людьми.
Для просветителя Лессинга — нормы человеческого поведения не вырабатываются в ходе исторического развития. Они искони присущи «естественному» человеку. Таковы же нормы общественной жизни — они тоже существуют искони и в реальной действительности только искажены предрассудками и сословными привилегиями, феодально-абсолютистским гнетом.
Как же в таком случае относиться к отклонениям от норм, как их оценивать? С одной стороны, Лессинг хотел бы видеть на драматической сцене «естественного» человека, страдающего от разных форм угнетения, протестующего против ни£, добивающегося справедливости. В своих пьесах он и выводил таких героев, и тут его теория не очень расходилась с практикой.
Но вот он обращается к великим (и не только великим) произведениям других авторов и обнаруживает там героев, чьи действия — сплошное отклонение от норм, и такого рода отклонение, которого Лессинг спокойно принять не может, ибо весьма затруднительно увидеть в этих отклонениях проявление скрытой гармонии и разумности мира. Тогда Лессинг, как увидим, либо вовсе отвергает право этих «порочных» героев на существование в драматургии, либо стремится их порочность преуменьшить. В некоторых случаях, однако, он, вопреки своей схеме, принимал этих героев и тогда весьма проницательно обосновывал закономерность их существования в драматургии и на сцене.
Желая видеть в литературе, а тем более в драматургии, героя, деятельно, активно проявляющего свои чувства и страсти, Лессинг вместе с тем одобрял только такую самостоятельность и активность характера, которая соответствовала его просветительским представлениям. Поэтизировать образ человека, впадающего в «преступную дерзость» своеволия и забывающего про свои гражданские обязанности, Лессинг считал недопустимым[75]. Однако в бесчисленных произведениях мировой драматургии, в том числе у Шекспира, которого он очень высоко ставил, Лессинг обнаруживал изображение «порока», связанного с человеческой сущностью и не навязанного человеку извне.
Лессинг не допускал, что «человек может стремиться ко злу ради самого зла». Действовать на основании порочных принципов герой может лишь не сознавая их порочности, ибо «порок» — нечто наносное и чуждое «разумной» природе человека. Однако во многих произведениях мировой драматургии, которым Лессинг не мог отказать в глубине и художественной силе, ведь поэтизируется человек, творящий зло, но так и не образумливающийся.
Трудности, с которыми сталкивался Лессинг, пытаясь понять, насколько правомерно изображать «порочных» героев, да еще и вызывать к ним сочувствие, усугублялись его трактовкой аристотелевской мысли о «сострадании». Мы, считал Лессинг, можем сострадать только герою, сделанному из одного с нами теста и в положении которого мы сами легко можем оказаться. При этом Лессинг весьма, по-своему, тонко связывал воедино аристотелевские «сострадание» и «страх»: созерцая бедствия героя, мы испытываем страх не только за него, но и за себя, ибо ставим себя на его место; «сострадание» поэтому распространяется не только на героя, но и на другую возможную жертву изображаемых несчастий — на сострадающего зрителя. Поэтому сострадание без такого рода страха вообще невозможно.
Но если это верно, то как же мы можем сострадать явно порочным героям, на чьем месте мы, с точки зрения Лессинга, не можем увидеть себя при самом пылком воображении? Видимо, вынужден признать Лессинг, им мы не сострадаем. Но он не в силах отрицать и того, что эти герои вызывают жгучий интерес и волнение зрителя. Автор «Гамбургской драматургии» пытается найти этому интересу иное объяснение, не связанное с чувством сострадания.
Резко отделяя «порочного» героя от другого — к которому наше сострадание вполне оправданно, Лессинг, к сожалению, волей-неволей лишает этого героя подлинного величия, ибо связывает все выпадающие на его долю несчастья всего лишь с проявленной им слабостью. «Несчастный, к которому мы должны иметь сострадание, не заслуживает своего несчастья, хотя он навлек его на себя какой-нибудь слабостью», — говорит Лессинг[76]. Очень важны тут даже оттенки: герой не «заслужил» несчастья, а лишь «навлек» его на себя. В другом месте: «Человек может быть очень хорошим и все-таки иметь не одну слабость, сделать не один поступок, которым он навлекает на себя тяжкое бедствие, внушающее нам сострадание и огорчение, нимало не возмущая нас, потому что это — единственное следствие его проступка»[77].
Хотя о герое, впадающем всего лишь в «слабость», Лессинг толкует в связи с анализом «Поэтики» и поставленными Аристотелем вопросами о страхе и сострадании, именно туг выявляются радикальные его расхождения со своим далеким предшественником. У того шла речь о «большой ошибке», о человеке «благородного направления» воли, совершающего, однако, роковые поступки. То есть самую ошибку Аристотель готов был видеть и как в своем роде «благородную» и вместе с тем непростительную. В ней, этой «заслуженной», а не совершенной по слабости ошибке, было свое величие. Такая ошибка, самый процесс ее совершения могли вызывать у зрителя и сострадание и удовольствие.
У Аристотеля несомненны элементы диалектического подхода к самому содержанию действия героя. Лессинг же здесь подходит к делу формально-логически, метафизически, обедняя содержание драматического поступка и содержание зрительской на него реакции. Если герой проявляет всего лишь слабость, то сострадать ему, да при этом еще испытывать удовольствие, нет никаких оснований. В таком случае нам остается сострадать герою лишь в момент, когда он непомерно расплачивается за свои слабости. Что же касается наслаждения, то в такой ситуации у нас нет причин его испытывать, и не случайно Лессинг вопрос о нем вовсе обходит стороной.
Формально-логический подход особенно сказывается в «Гамбургской драматургии» там, где Лессинг спорит с Корнелем, стремясь доказать, насколько ошибались авторы «Британника» и «Родогуны», отстаивая право порочного героя стоять в трагедии на первом плане.
Один из главных аргументов Лессинга: вызывая к порочному герою^сострадание (свободное от страха, ибо поставить себя на его место никто из нас не захочет, да и не сможет), драматург тем самым скрывает «его внутреннее безобразие» и придает пороку «фальшивый блеск»[78]. Но Лессингу не удается убедить читателя в своей правоте. Ведь какого бы мы ни взяли трагического героя — из античной драматургии и из шекспировской — мы не найдем ни одного, страдающего по причине проявленной им слабости. Корнель был тут ближе к истине, хотя, разумеется, и определение трагического героя как «порочного» отличалось односторонностью и упрощало суть дела.
Сложное, диалектическое содержание действий трагического (да и вообще драматического) героя было раскрыто с очень большой убедительностью лишь Гегелем. Ему удалось это сделать, ибо он, во-первых, по-новому поставил вопрос о природе активности, проявляемой и реальным человеком в его жизни, и вымышленным героем драматического произведения. А во-вторых, и человека, отклоняющегося от норм, и самые нормы Гегель смог увидеть как явления исторически изменчивые. Отклонение от норм, посягательство на них Гегель уже мог рассматривать не как проявление порока, ибо самые нормы он увидел в их изменчивости, в их исторической ограниченности, а значит, и противоречивости.
Лессинг еще не ставит вопроса об индивидуальной энергии, проявляемой человеком, как выражении его субъективности. Поэтому он не очень последователен и тогда, когда призывает к изображению индивидуальных особенностей характера. Вдумаемся в самую форму выражения, к которой Лессинг тут прибегает: ему нужен не индивидуальный характер, он требует изображения «индивидуальных черт в характере». А ведь это не одно и то же. Говоря об «индивидуальных чертах в характере», Лессинг думал, а многие думают и поныне, о некоей добавке, о ценном, но все же довеске к тому, что присуще человеческому характеру вообще. Между тем конкретное, неповторимое, своеобразное в характере есть нечто присущее его внутренней структуре, конструирующее его. Именно «индивидуальные» черты и являются «основными» в каждом характере. Это имеет место и в жизни, а тем более в искусстве. Стоит только представить себе Гамлета, Клавдия, Полония и Лаэрта, и сразу же придется признать, что «индивидуальные черты» и иль для каждого из них «основные». Гонерилью, Регану и Корделию сближает только то, что все они женщины, но разве на этом основании можно говорить об основных чертах некоего женского характера, в каждой из них в равной мере воплощенного? И разве можно думать, будто различия между сестрами определяются какими-то индивидуальными дополнениями к этим «основным чертам» женского характера?
Мысль Лессинга о трагическом герое, терпящем свои беды из-за слабостей, им проявленных и противоречащих благородному существу его натуры, связана с его взглядом на характер как на соединение основных и дополнительных черт. И это, разумеется, не соответствует реальному положению дел в трагедии, где гамлетизм Гамлета — проявление самого существенного в нем, где Регана, Гонерилья и Корделия тоже поступают соответственно тем своим качествам и свойствам, которые составляют ядро каждого характера, а не пребывают на его периферии.
Отделяя основные черты от индивидуальных, Лессинг тем самым усложнял себе путь к пониманию драматического характера в его целостности и противоречивом единстве. Поэтому и индивидуальный поступок не мог быть понят и принят автором «Гамбургской драматургии» в его внутренних противоречиях. Лессинг доходит даже до того, что он готов объявить изображение противоречивого характера и поступка не только нежелательным, но прямо-таки непозволительным: «В характерах не должно быть никаких внутренних противоречий; они должны быть всегда единообразны, всегда верны себе; они могут проявляться то сильнее, то слабее, смотря по тому, как действуют на них внешние условия; но ни одно из этих условий не должно влиять настолько сильно, чтобы делать черное белым»[79]. Пусть в жизни, готов согласиться Лессинг, действительно существуют противоречивые характеры. «Но именно потому-то они и не могут быть предметами, достойными логического изображения»[80].
Итак, характер «верен себе», когда он свободен от внутренних противоречий. Если даже герой и поступает противоречивым образом, то это возможно лишь под воздействием внешних условий, но никак не внутренних побуждений.
Основываясь на такого рода высказываниях, иногда утверждают, что «само понятие характера у Лессинга одностороннее, статическое», а потому он, в сущности, «отказывал характеру во внутренней сложности»[81]. На деле было не совсем так. Лессинг признавал право на внутреннюю сложность, которую он обнаруживал у многих героев драматической литературы, но видел в этой сложности результат «смешения» разных черт, налагаемых друг на друга. Так, про софокловского Филоктета мы читаем: «Стоны его — стоны человека, а действия — действия героя. Из того и другого вместе составляется образ человека-героя, который и не изнежен и не бесчувствен, а является попеременно (подчеркнуто мною. — Б. К.) тем и другим, смотря по тому, уступает ли он требованиям природы или подчиняется голосу своих убеждений и долга. Он представляет высочайший идеал, созданный мудростью и воплощенный в искусстве»[82].
Да, Лессинг тут прогрессивен и в общественном, и в эстетическом планах. Ему нужен не идеальный и лишенный человечности герой и не просто человек-обыватель, неспособный к героическому поступку. Ему нужен человек-герой. Однако человеческое и героическое у Лессинга соединены механически и выступают поочередно, попеременно.
В записях к «Лаокоону» высказана мысль, проходящая через всю Лессингову теорию поэзии и драмы: «Ошибочным было бы требовать от поэта морального совершенства его персонажей». Но, как уже говорилось, Лессинг отвергал не только морально совершенного, то есть лишенного плоти и крови, неспособного к страданиям героя, но и героя порочного. И как уже тоже говорилось, отвергая порочного героя, Лессинг и здесь был не до конца последователен. Порочных героев Корнеля он никак не принимает. Но вот к образу Ричарда III, поскольку тот стал предметом изображения самого Шекспира, автор «Гамбургской драматургии» относится по-иному.
Сказать про Ричарда, что тот действует неосознанно или под влиянием «внешних условий», весьма затруднительно; что он действует попеременно — то так, то этак — тоже невозможно. Как же быть с Ричардом? Лессинг, и это весьма примечательно, не уклоняется от решения возникающей тут проблемы и высказывает при этом тончайшие соображения. Правда, он приходит к ним не сразу.
К образу Ричарда он обращается дважды. Впервые — в «Лаокооне». Там этот шекспировский герой сопоставляется с Эдмундом из «Короля Лира». Оказывается, в Эдмунде есть проблески человечности. Он не возбуждает ужаса и отвращения, как Ричард. Когда Эдмунд, «незаконорожденный сын», ропщет на несправедливость, считая себя ее жертвой, когда он говорит о таящихся в нем буйных природных силах, мы слышим «дьявола, который, однако, принимает образ светлого ангела». Когда же Ричард откровенно прокламирует свою «злодейскую» программу, то тут мы слышим «дьявола, и притом дьявола в его подлинном облике»[83]. Эдмунд, как и Филоктет, действует «попеременно», и для Лессинга в нем проступают черты «естественного» человека. Ричард же вызывает лишь ужас и отвращение.
В «Гамбургской драматургии» вопрос о герое типа Ричарда поставлен более остро и глубоко, хотя в данном случае речь идет не о шекспировской трагедии, а о сочинении немецкого драматурга X. Ф. Вейссе.
Действия Ричарда неразложимы на какие бы то ни было составные «части», одним из которых мы могли бы сочувствовать и сострадать, возмущаясь другими. О Ричарде нельзя сказать, что он поступает «попеременно», то так, то этак, как сказано в «Лаокооне» про Филоктета. Ни он, ни другие герои пьесы Вейссе, признает Лессинг, не возбуждают в нас ни сострадания, ни страха, то есть тех чувств, которые, согласно Аристотелю, должна возбуждать трагедия. Уподобить себя Ричарду, дабы при этом испытать требуемые трагедией страх и сострадание, мы никак не можем — таков вывод Лессинга. Между тем трагедия Вейссе все-таки увлекательна, хотя — надо признать — она «занимает» и «услаждает» зрителя не по правилам Аристотеля. В чем же тут дело? Почему же Ричард и его аморальные действия все-таки возбуждают интерес и доставляют наслаждение?
Этот интерес Лессинг объясняет следующим образом: «Ричард — отвратительный злодей, но и в самом чувстве отвращения есть своего рода наслаждение, особенно когда оно вызывается созданием изобразительного искусства.
И чудовищность преступлений способна возбуждать отчасти те чувства, которые возбуждают в нас величие и отвага.
Все поступки Ричарда чудовищны; но все они совершаются с известной целью. У Ричарда есть свой план, а всюду, где мы замечаем известный план действий, любопытство наше постоянно возбуждается. Мы охотно ждем, будет ли он исполнен и каким образом. Мы так пристрастны ко всему целесообразному, что оно доставляет нам наслаждение, независимо от нравственного характера самой цели»[84]. Тут все крайне интересно.
Когда Лессинг говорит о вызывающем наслаждение художественном изображении «отвратительного» предмета, мы вспоминаем четвертую главу «Поэтики». Но далее следуют рассуждения, которые с Аристотелем связать трудно: оказывается, целесообразное действие вызывает в нас удовольствие независимо от своего нравственного содержания; оказывается, чудовищность «отчасти» способна вызывать те же чувства, что и величие и отвага. Может быть, в «чудовищности» есть своя отвага и даже свое величие?
Ричард — человек, поглощенный целью. Действует он во имя ее достижения чудовищно, сама она тоже чудовищна. Но устремленность героя к цели может увлечь нас так сильно, что мы уже перестаем думать, насколько она нравственна. Цель даже может быть, как у Ричарда, вполне безнравственной.
Тут Лессинг отступает от просветительских догм и движется к постижению диалектики «добра» и «зла», хотя на других страницах своей книги резко отделяет одно от другого, требуя от художника, чтобы тот учил нас различать четкие границы между ними.
Как видим, «Ричард III» толкает мысль Лессинга в ином направлении, и в итоге он приходит тут к очень смелому и важному выводу: «Нам бы хотелось, чтобы Ричард достиг своей цели, и в то же время хотелось бы, чтобы он не достиг ее»[85]. Такая реакция сложна: мы не «попеременно» хотим то одного, то другого, а в одно и то же время желаем противоречивых вещей.
Вызвана ли, однако, эта наша реакция внутренней противоречивостью героя и его целей?
Этого вопроса, хотя он тут напрашивается, Лессинг не ставит. В дальнейших своих рассуждениях он и тонок и метафизичен одновременно. «Достижение цели, — продолжает Лессинг, — избавляет нас от досады на то, что силы потрачены совершенно понапрасну». Но, с другой стороны, «такое достижение цели было бы торжеством порока; ничто не может быть неприятнее этого для нас». Так снова возникает мысль о «попеременности» наших желаний: оказывается, мы желали успеха Ричарду, пока цель не была им достигнута, но стоило герою осуществить ее, и мы «видим только возмутительную ее сторону и желали бы, чтобы она не была достигнута»[86].
Стало быть, фиксируя и оправдывая эти, казалось бы, «противоестественные» и противоречивые желания зрителя, Лессинг тут опровергает другие свои мысли о недопустимости превращать «черное» в «белое». Но когда он, обнаруживая, принимая и даже оправдывая внутренние противоречия в реакции зрителя, ищет им объяснения, то попадает в плен формальной логики. Действия героя расчленяются на составные части, одни из которых являются желательными и положительными, другие — нежелательными и отрицательными.
Стремясь объяснить интерес и наслаждение, вызываемые у нас героями типа Ричарда, чьи поступки абсолютно противоречат представлениям о нравственности, Лессинг вплотную подходит к проблеме, которая стала одной из центральных в теории драмы Гегеля. Ведь Лессинг все-таки не говорит: мы либо хотим, либо не хотим, чтобы Ричард достиг своей цели. Все-таки он говорит: мы и хотим, и не хотим этого. Вместо формально-логического, метафизического «либо — либо» появляется диалектическое «и — и», открывающее возможность понять и самое драматическое действие и реакцию зрителя в их внутренней противоречивости.
В «Лаокооне» Лессинг всячески обосновывает мысль об изображении действий как главной задаче «поэзии». Но каковы различия между действием в драме, эпосе и лирике? Устанавливая границы, с его точки зрения разделяющие «поэзию» и «живопись», Лессинг не занимался вопросом о границах, разделяющих эпос, лирику и драму.
Поэт, говорится в «Лаокооне», изображает через действия не только людей, но и предметы. Желая показать нам колесницу Юноны, Гомер побуждает Гебу сооружать эту колесницу по частям на наших глазах. Изображая одежду Агамемнона, Гомер ее не описывает, а заставляет царя облачаться в нее на наших глазах, и, таким образом, мы видим процесс одевания. «Сосуществующее» Гомер показывает как «последовательно образующееся» благодаря ряду действий. Знаменитый щит Ахилла, доказывает Лессинг, дается Гомером не как готовая вещь, а как вещь создающаяся, то есть перед нами «живое изображение действия»[87].
Что же касается изображения не предметов, а людей, то тут у поэта много возможностей изображать их через действие. Поэт, считает Лессинг, ничем не стеснен: «Он берет, если хочет, каждое действие в самом его начале и доводит его, всячески видоизменяя, до конца»[88]. Он может обращаться и к началу, и к любому другому моменту в процессе действия, не доводя его до конца. Он может изображать действие в самых разных его аспектах, и непосредственно, и опосредованно. Так, Гомер не описывает красоты Елены, а показывает впечатление, произведенное ею на старцев. Мы не видим ни Елены, ни ее действий, и все же здесь мы все это видим, ибо Гомер дает процесс воздействия ее красоты на других людей.
Но речь у Лессинга идет о «поэте» вообще. Между тем лирик берет в действии совсем не то, что эпик. А драматурга, в свою очередь, интересуют не того рода действия, что лирика и эпического художника. Допустим, Лессинг прав и суть именно в том, что Гомер показывает не щит Ахилла, а то, как его делают. Тут действие эпично по существу — не только потому, что об этом действии нам повествует «посредник» — рассказчик и сто двадцать стихотворных строк описанию такого действия может быть посвящено только в эпическом повествовании. Главное в другом: тут в действии нет никакого драматизма.
Чем же от «эпического» действования отличается действие «драматическое»? Этот вопрос при чтении «Лаокоона», естественно, у нас возникает, но Лессинг в прямой форме его не ставит ни там, ни даже в «Гамбургской драматургии».
В одном из набросков продолжения «Лаокоона» мы читаем: «Ряд движений, направленных к единой конечной цели, называется действием». Это определение дожило до наших дней. Его в том или ином варианте можно встретить у самых разных авторов, изучающих совершенно несходные виды человеческой деятельности. Так, например, в современном учебнике психологии мы читаем: «Движения, направленные на предмет и преследующие определенную цель, называются действиями»[89]. Как волевое движение к «определенной цели» рассматривает в одной из своих давних статей Б. Е. Захава действие актера[90]. Понимания действия как движения к определенной цели Б. Е. Захава придерживается и в своей более поздней книге[91]. Можно было бы привести много определений, восходящих к Лессинговому. Чаще всего они лишь в какой-то мере соответствуют изучаемой авторами сфере действования и не учитывают именно того, в чем заключается ее своеобразие.
Определение Лессинга, будучи в известном смысле универсальным, менее всего схватывает специфику действия в драме. Разве при изготовлении щита Ахилла не имел места ряд движений, направленных к определенной цели? Робинзон Крузо на своем острове тоже совершал движения, направленные к определенным целям, но до появления Пятницы объектами его действий были не люди, а природа, предметы, вещи и т. д. Самые различные трудовые акты вполне покрываются определением Лессинга, а действие драматическое — в очень малой мере.
Когда современная наука различает в человеческой деятельности такие ее стороны, как мотивационную, исполнительную и целевую, то при этом одним из важных моментов действования считают сличение, то есть сопоставление получаемых результатов с целью.
Входят ли все эти структурные элементы, присущие действию, в состав драматического поступка? Если и входят, то принимают при этом своеобразную, иногда парадоксальную форму. Здесь ведь специфичны и мотивы, и цели, и исполнение, и сличение, здесь своеобразен результат, имеющий мало общего с результатом обычного действования.
Здесь активность лица направлена не на предмет, что характерно, например, для трудовой деятельности, а прежде всего на другое лицо, действующее ответно и сообразно со своими мотивами и целями. Скипетр Агамемнона, щит Ахилла, колесница Юноны как были задуманы, так были и выполнены. Допустим, там могли иметь место неполадки и ошибки. При сличении промежуточных результатов с главной целью можно было все сделанное плохо заново переделать с тем, чтобы Ахилл получил подобающий ему щит, а в руках Агамемнона оказался подобающий ему скипетр.
Трагический или драматический герой находится в особом положении. Под воздействием Одиссея Неоптолем поступает с Филоктетом подло. Когда он сличает то, что произошло, с требованиями своей совести и начинает «переделывать» содеянное, это-то и рождает полную драматизма ситуацию. Орест у Эсхила, сличив результаты с целью, приходит в ужас. Достигнутый результат принес с собой нечто, ни Аполлоном, ни им вовсе не предусмотренное. Это несоответствие между целью и результатом рождает ситуацию в высшей степени трагически напряженную. Травимый эриниями за убийство матери, один Орест вообще «переделать» ничего не в силах. Тут «переделывать» предстоит уже не ему, а богам и эриниям. Им приходится менять общественные устои. Цель, достигнутая Орестом, оказалась не «единой и конечной», а двойственной, противоречивой и более сложной, чем можно было предполагать.
Ромео хотел бы навсегда примириться с Тибальдом. Однако у того цеди прямо противоположные. Не желая усугубления вражды, стремясь прекратить схватку между Тибальдом и Меркуцио, Ромео, действуя в соответствии со своими мотивами и целями, способствует, однако, гибели Меркуцио. Несомненно, что «исполнительная» сторона в этих действиях Ромео оказалась в противоречии с «мотивационной» и «целевой». В случае с Ромео обнаруживается, насколько результат драматического действования в отличие от обычного — непредвидим и непредсказуем. В отличие от обычного действования в драматическом может происходить смена целей. Ведь в этот момент Ромео вовсе забывает о Джульетте и необходимости примириться с Тибальдом. Оказавшись во власти иных побуждений, он совершает поступок роковой, вовсе противоречащий его главной цели.
Так вступает в силу еще один момент, характерный для структуры драматического действия: необратимость результата. Тут «переделать» уже ничего нельзя, и этим драматизм коллизии усугубляется почти предельно.
Когда пушкинский Самозванец, униженный Мариной, пренебрегающей его любовью, желает ее уязвить с наибольшей силой и делает свое признание, он тут же опоминается и сличает результат со своим намерением. «С таким трудом устроенное счастье я, может быть, навеки погубил. Что сделал я, безумец?» Но результат сделанного опять же необратим. Да, отношения Самозванца и Марины в итоге восстанавливаются, но это уже иные отношения — двух взаимосвязанных заговорщиков, трезво оценивающих друг друга.
Ни действия Самозванца и Ромео, ни действия Ореста и Неоптолема не предстают перед нами как «ряд движений, направленных к единой конечной цели». Определение Лессинга не подходит ни к одному из этих случаев.
Почему же это определение столь популярно и в несколько модифицируемом виде повторяется многими авторами — психологами, искусствоведами, театроведами и т. д.? Тому имеются разные причины. До недавнего времени наука вообще мало занималась вопросом о природе человеческой деятельности. Теперь появляются работы, где рассматриваются различные формы проявления человеческой активности и их специфические структуры
В драме, имеющей дело с особого рода «вымышленной» деятельностью, протекающей в вымышленных же особых отношениях общения, структура индивидуального поступка существенно отличается от структуры индивидуального действия или поступка реального человека в жизни. Исследования о природе и структуре человеческой деятельности, несомненно, будут стимулировать изучение драматического действования как своеобразной формы активности, реализующейся в процессе моделируемого драматургом особого рода общения между персонажами.
Лессинг многое сделал, выявляя эту особую природу драматической активности, но в итоговых его определениях это не находило должного отражения. Приведенное нами выше определение в этом смысле весьма показательно. Но есть у него и другое проницательное определение, свидетельствующее об остроте, присущей его ищущей мысли, и схватывающее самую суть проблемы. В тех же набросках продолжения «Лаокоона» мы читаем: «…Поэт изображает действия, а не тела; действия же являются тем более совершенными, чем более проявляется в них разнообразных и противодействующих друг другу побуждений»[92].
Речь тут идет именно о драматическом поэте, о чем свидетельствует дальнейший текст: «Идеальный моральный характер может поэтому играть не более как второстепенную роль в этих действиях. Если же поэт, к несчастью, предназначил ему главную роль, то отрицательный характер, более энергично проявляющийся в действии, нежели идеальному характеру позволяют свойственные ему душевное равновесие и твердые принципы, всегда будет заслонять последний»[93]. Оказывается, действие — вовсе не ряд движений, направленных к единой цели, а нечто совсем иное. Оно характеризуется разнонаправленными и противоположными побуждениями, лежащими в его основе.
Пусть Лессинг и тут еще остается в пределах альтернативы: «идеальный» либо «отрицательный» характеры. Подлинно драматическим при таком ходе мыслей оказывается «отрицательный», поскольку именно им, а не «идеальным», могут двигать стремления разнонаправленные, да к тому же еще и противоречащие друг другу. Мы, разумеется, понимаем, что когда герой действует подобным образом, это вовсе не делает его лицом «отрицательным», как не делает и «положительным».
Такое истолкование природы драматического поступка неизбежно влечет за собой отказ от деления героев на положительных и отрицательных. Гегель так и сделал, ибо увидел драматический поступок как объективно противоречивый. В этом, быть может, даже более, чем во всем ином, выразился гениальный вклад Гегеля в теорию драмы.
Глава III
«Философия истории Гегеля». Свобода. Воля. Страсть и пафос. Субъективное и всеобщее.
На современные представления о природе действия и конфликта в драматургии огромное влияние продолжает оказывать теория Гегеля. Мы во многом продолжаем руководствоваться выдвинутыми им принципами, хотя их происхождение уже как будто и не столь очевидно.
В последние десятилетия в связи с процессом преодоления «теории бесконфликтности» и ее последствий наша наука активно обращается к Гегелю, ища у него ответов на актуальные вопросы теории драмы. Это естественно, ибо мысли Гегеля о сущности и назначении искусства драмы относятся к наиболее глубокому из всего, что было когда-нибудь сказано на эту тему.
Но авторы иных работ, минуя гегелевскую концепцию как целое, ссылаются на отдельные его высказывания как на истины абсолютные. Вместе с тем, критикуя определенные гегелевские суждения, [они берут их] изолированно от всего хода его мысли, и потому критика эта не всегда достаточно основательна, убедительна и плодотворна.
Гегель создал законченную концепцию драмы, на которой, при всей ее глубине, лежит все же и печать исторической ограниченности. Его взгляды на драму и драматическое действие тесно связаны с органичным для его философской системы пониманием хода истории и той роли, какую играет в ней действование — разнообразные формы человеческой деятельности.
Историю человека и человечества Гегель не считал этапом в развитии природы — не мог же человек, говорил философ, развиться из животной тупости. Истоки этой истории Гегель находил не в материи, не в природе, не в труде, а в отличающей человека от животного способности мыслить[94]. Этой способностью его наделяет господствующее в мире субстанциональное, духовное начало. Именно дух является внутренним творцом истории, ее субстанцией.
Но этот дух, или — по-другому — разумная идея, существует лишь как некая возможность. Это творческое начало еще вполне абстрактно и безлично. Его потенции воплощаются в действительности благодаря людям, человеческой деятельности. Через нее дух многообразно воплощает, «опредмечивает», «отчуждает» себя: в предметно-чувственных явлениях, в приобретающих все более сложные формы человеческих отношениях и связях, в искусстве, в нравственных, правовых и иных установлениях, в меняющихся государственных формах.
Каждый этап всемирной истории представляет собой все более высокую ступень самореализации духа: в конце концов он обретает себя как Абсолютный дух, как коллективный разум человечества. Итогом трудного пути восхождения духа ко все новым и новым вершинам является философское мышление, благодаря которому он «распредмечивает», развоплощает себя, становится наконец чистой духовностью, осознающей всю присущую ему диалектическую мощь.
Таким образом, не только история нуждается в духовном субстанциональном начале как источнике движения, но и сама эта субстанция нуждается в человеческой деятельности, ибо только благодаря ей он может раскрыть свою сущность и стать тем, чем он хочет и может стать. Диалектика духа лежит и в основе гегелевской теории драмы, определяя ее сильные и уязвимые стороны.
Во-первых, по его мысли, развитие мирового духа, то есть человеческой истории, происходит драматически и даже трагически. Тут имеет место «тяжелая, изнурительная борьба духа с самим собой». Начать с того, что на каждом этапе истории дух воплощает себя неполно. Между идеей и конкретными формами ее «инобытия» всегда существует противоречие. Оно-то и является стимулом дальнейшего движения: каждой формой своего «инобытия» идея одновременно и удовлетворена и не удовлетворена. Существующие исторические формы жизни непременно преодолеваются и отрицаются вновь возникающими и приходящими им на смену, ибо они всегда внутренне противоречивы; эти противоречия ведут к тому, что в недрах одних форм вызревают новые. Отрицание нового есть вместе с тем процесс наследования, вбирания в себя, освоения наиболее плодотворного из того, что содержало в себе старое.
В истории искусства, в частности драматургии, Гегель обнаруживает те же диалектические закономерности. Художественная деятельность тоже стимулируется духовной субстанцией: ей необходимо «опредметить» себя и в произведениях искусства, где она реализует определенные свои возможности.
Всемирная история представляет собой на первый взгляд хаотическое нагромождение событий. Но стоит обнаружить их внутреннюю связь, и всемирная история предстанет перед нами как процесс непрерывных, закономерных, необходимых изменений, переживаемых народами, государствами, индивидуумами.
По мысли Гегеля, в ходе исторического развития торжествует разумная необходимость. Победы, однако, достаются ей дорогой ценой. В знаменитом своем введении к «Философии истории» Гегель говорит не только о разумности исторического процесса, но и о драме истории[95]
Как в драме, которую представляет собой история человечества, так и в драматической поэзии, эту драму исторически и культурно осмысляющей, Гегель обнаруживает высокий и разумный смысл. Его «Лекции по эстетике», содержащие философское истолкование истории искусств, теснейшим образом связаны с его «Философией истории». В истории искусства Гегель находит художественное отражение закономерностей, прокладывающих себе путь в реальной истории человечества.
Драма истории возникает благодаря тому, что все ее участники действуют и их действия весьма при этом своеобразны. Действие одного человека — потребность мирового [духа]. «Дух, по существу, действует» (подчеркнуто Гегелем. — Б. К.). Он не смеет пребывать в бездействии, ибо абстрактное, потенциальное бытие его не удовлетворяет и он жаждет добиться бытия реального, «наличного», конкретного. Он воплощает себя в духе отдельных народов и одновременно в отдельных индивидах и их действиях.
Но между действиями индивидов и требованиями духа (мирового и духа каждого народа), то есть требованиями исторической необходимости, возникают отношения весьма противоречивые и сугубо драматические.
Хотя дух каждого народа осуществляет себя, достигает своей цели, выполняет свое предназначение только через действия людей, люди эти в своей реальной жизни меньше всего думают о требованиях народного, а тем более мирового духа. Вся их воля, вся их энергия и деятельность устремлены к удовлетворению эгоистических потребностей и своекорыстных нужд: от своих забот людям ведь некуда деться. Поскольку каждый человек думает о себе, возникает столкновение человеческих интересов, стремлений, способностей, намерений и целей. Борьба страстей, пишет Гегель, может при этом доходить до крайнего неблагоразумия и даже неистовства. Осуждать это не следует, ибо «ничто великое в мире не совершается без страсти»[96]. Противоборство интересов, игра сплетающихся при этом страстей, овладевающих людьми, глубоко драматичны.
Люди, доказывает Гегель, добиваясь удовлетворения своих интересов, содействуют осуществлению результатов, которые могут обернуться против них. Человек из мести поджигает дом соседа, но при этом, вопреки намерениям действовавшего лица, сгорают другие дома. Его действие становится преступным и влечет за собой наказание, то есть субъективное стремление приводит к торжеству некоего объективного закона. Сложные, противоречивые пути движения мирового духа делают участниками подобных драм не только индивидуумов, но и целые народы. Ища и добиваясь своего, те и другие «оказываются средствами и орудиями[97] чего-то более высокого и далекого, о чем они ничего не знают и что они бессознательно исполняют»[98]. Драматургия и занимается изображениями подобного рода коллизий, вскрывая их закономерность и их разумный смысл.
Как уже говорилось, человек для Гегеля является существом не природным, а духовным. Поэтому он отвергает просветительские представления о «естественном» человеке как изначально нормальном, добром, свободном и ставшем «ненортальным», «злым» вследствие уродств цивилизации, лишающей человека его изначальной свободы.
Так называемое «естественное состояние» — это, по мысли Гегеля, состояние бесправия, необузданных влечений, бесчеловечных поступков и ощущений, насилия и несвободы. Лишь в ходе исторического развития человек постепенно очеловечивается. Поэтому все его влечения, стремления, страсти и запросы — насквозь историчны. Они связаны с этапами в становлении и развитии мирового духа, с коллизиями, которые переживают и мировой дух, и деятельно реализующие его потребности индивидуумы.
В развитии мирового духа Гегель различал несколько этапов всемирно-исторического значения. Человечество прошло через несколько качественно различных «состояний мира», явившихся ступенями в движении мирового духа к полному самовыражению. Что же ему предстояло познать и выразить? Что ему надлежало воплотить и в человеке, и в человечестве? Предметом его поисков и его познания является свобода. Именно ее дух ищет, за нее борется, ее обретает. Содержанием всей истории человечества является «прогресс в сознании свободы»[99].
Для понимания природы и назначения драмы как жанра искусства особое значение имеет то, что, согласно Гегелю, этапы исторического развития, «общие состояния мира» отличаются друг от друга тем именно, насколько народы и индивидуумы на каждом из этих этапов осознают свою свободу и проявляют ее в своих действиях.
Но в таком случае реальное человеческое действие представляет собой очень сложное и противоречивое образование. Это действие движимо эгоистической страстью и вместе с тем осуществляет требования мирового разума. Через это действие мировой разум достигает своих целей. Объективные результаты, заботящие мировой дух, достигаются тем более успешно, чем решительнее и ярче индивидуум проявляет при этом свою субъективность, свою свободу.
По мысли Гегеля, для возникновения драмы этот аспект действия имел решающее значение. Драма могла развиться лишь тогда, когда ход жизни открыл перед человеком возможность действовать самостоятельно. И не только открыл эту возможность, но побуждал его к самостоятельной, свободной деятельности.
В условиях античного общества, разделенного на свободных и рабов, начинается переход от несвободы к свободе и в общественной жизни, и в человеческом сознании. Та эпоха, по мысли Гегеля, и была наиболее благоприятной для развития искусства, чье предназначение — изображать мир как творение человека, как порождение и плод его активности.
Разумеется, до античности, в пору господства «восточного» принципа, ни во что не ставившего индивидуальность и ее свободу, субстанциальные силы тоже выполняли свое предназначение, но тогда это происходило помимо воли, инициативы, осознанных устремлений людей, в ту пору еще являвшихся слепыми орудиями мирового духа.
В античном мире, в «век героев», как называет Гегель эту пору, люди действовали свободно, но через их действия осуществляли свое предназначение высшие, всеобщие силы. Тут возникало и происходило взаимопроникновение, единство индивидуального и общего, то есть индивидуальные человеческие цели «совпадали» с целями мирового духа, ибо мир еще не был «готов»: нравственность, справедливость, законность еще только устанавливались. Все тогда было в руках индивидов — зависело от них самих, от их личных склонностей и влечений, от их воли.
Это время и оказалось наиболее благоприятным для развития не только эпоса и лирики, но и драмы. Хотя интересы отдельных людей совпадали с интересами мирового духа, именно это вело к драматическим коллизиям, ибо сам мировой дух несет в себе противоречия и раскалывается на различные противоборствующие субстанциальные силы. Связанные с этим расколом человеческие коллизии отличались тогда глубоким содержанием.
Гораздо менее благоприятные условия для искусства, для драматургии представляет «современное состояние мира». В отличие от античной эпохи, той «героической» поры, когда мир находился в состоянии брожения и люди деятельно, бурно, активно искали достойные и соответствующие требованиям мирового духа семейные, правовые, государственные формы жизни, искали подлинно человеческую нравственность и познавали истину, все обстоит по-иному в обществе, которое Гегель называет «промышленным».
Казалось бы, если мировая история представляет собой «прогресс в сознании свободы», современная эпоха должна бы и в этом смысле превосходить «античную», как та превосходила «восточную». Но Гегель видит диалектически противоречивую природу исторического прогресса. Да, новая эпоха — и в этом ее величие — довела до сознания каждого индивида его право на свободу, прежде всего — на внутреннюю свободу. Но одновременно Гегель смотрит на эту эпоху трезвым и даже беспощадным взором и признает, что вполне упорядоченный современный мир предоставляет человеку очень мало, а то и вовсе не открывает ему никаких возможностей для действенного проявления личной инициативы, самостоятельности, свободы. Доведя до сознания человека его право на свободу, современный мир вместе с тем и обезличивает его.
Гегель видит в прочно установившихся, господствующих буржуазных формах и нормах жизни воплощение разума истории, воплощение исторической необходимости. Вместе с тем он проницательно характеризует «промышленное» общество следующим образом: «Здесь нет человека, который сохранил бы свою самостоятельность и не был бы опутан бесконечной сетью зависимостей от других людей». В этом обществе деятельность человека не имеет «индивидуального, живого характера», она «в большей и большей мере совершается машинообразно, согласно всеобщим нормам».
Не только люди, погрязшие в бедности и нищете, но даже богатый человек, имеющий как будто возможность отдаваться высшим интересам, «не чувствует себя свободным в своей ближайшей среде, ибо она не является делом его собственных рук»[100]. Как же быть с «прогрессом в сознании свободы»? Гегель от этой идеи не отказывается, но считает, что в новое время человек имеет возможность проявлять «свободу в мышлении», а не в активной практической деятельности. И этого ему, человеку, будто бы вполне достаточно.
Получалось так, что превыше всего Гегель ценит ту «законо-упорядоченную» жизнь, тот самый буржуазный строй, который отнимает у человека возможность действенно проявлять свою индивидуальную волю и свободу и при котором художник уже не может почерпнуть из жизни материал, необходимый для изображения активного человеческого действия. Теперь искусству остается неблагодарная роль изображать человека либо утрачивающего, либо уже вовсе утратившего свою былую мощь и инициативу, склоняющего голову перед необходимостью. Если же искусство обращается к изображению бунтующего человека, то в этом бунте, по мысли Гегеля, оно тоже не может найти уже подлинного поэтического содержания.
Однако сокрушаться по этому поводу не следует, полагает Гегель, ибо искусство вообще выполнило свою историческую миссию и вступило в период неотвратимого упадка, поскольку мировой дух теперь уже не может удовлетвориться конкретно-чувственной, образной формой инобытия, предлагаемой ему искусством. Он ее, так сказать, перерос.
Как известно, заявления Гегеля о наступающем упадке искусства не оправдались в ходе исторического развития. Но в них содержалась гениальная догадка о реальном положении искусства в условиях буржуазного общества. Гегель тут придал характер фатальной и вместе с тем разумной необходимости тому, в чем К. Маркс увидел проявление враждебности капиталистического производства таким сферам духовного производства, как искусство и поэзия[101]
Когда Гегель анализирует античное искусство и античную трагедию, когда он обращается к произведениям Шекспира, когда он более или менее уничижительно отзывается о французской классической или современной ему драматургии, во всех его истолкованиях и оценках непременно сказывается его общая концепция, его представление о ходе истории, о миссии искусства и его судьбах.
В ряде случаев концепция эта, оборачиваясь схемой, не дает возможности Гегелю объективно оценить значительные явления драматургии предшествующих эпох, а в особенности — сложные тенденции в жизни современной ему драматической литературы. Но вместе с тем Гегель выявил некие основополагающие принципы и закономерности в жизни драмы и сделал при этом открытия, навсегда сохранившие свое значение и ценность.
Эти открытия касаются прежде всего вопроса о содержании и структуре как индивидуального драматического действия, так и общего действия всей драмы в целом.
Драматический поступок, по мысли Гегеля, всегда противоречив — и по своему содержанию, и по своим последствиям, с этим содержанием связанным. В нем всегда есть элемент свободы, но этот элемент отвечает требованиям того «состояния мира», в условиях которого поступок совершается. Поэтому поступок никогда не может
быть полностью и абсолютно свободным. Человек участвует в историческом творчестве, он вносит в это творчество энергию своей личности, свою субъективность, но всегда при этом имеет дело и с тем, что уже наработано людьми до него, и с тем, что предстает перед ним как необходимость.
Иногда можно встретить утверждение, будто бы Гегель отождествляет свободу с необходимостью. Это несправедливо и упрощает * позицию Гегеля. Он видел сложные взаимоотношения, складывавшиеся между ними в ходе истории. Именно то, что он находил тут диалектическое противоречие, позволило ему подойти к самой сути как индивидуального поступка драматического персонажа, так и структуры целого драматического произведения.
Предшественники Гегеля — Спиноза, Кант, Фихте — все упорнее стремились понять сложную природу человеческой деятельности как обусловленную определенными обстоятельствами, но вместе с тем и открывающую перед индивидуумом возможность проявить свою свободную волю. Однако увидеть в этой деятельности акт детерминированный и одновременно спонтанный им мешало то, что необходимость и свободу они рассматривали как явления сосуществующие, но полярные. Гегель же увидел здесь не сосуществование, а взаимопроникновение и показал, как свобода рождается из необходимости'.
Человек для него был существом не «естественным», а исторически развивающимся и поэтому — исторически обусловленным. Но Гегель показал, что, во-первых, действуя в определенных условиях, человек преобразует их соответственно своим интересам и страстям, то есть «сам себя определяет» и в этом смысле действует свободно. Во-вторых, будучи причастен к разумным целям, преследуемым мировым духом, он опять же — пусть и не сознавая этого — своей деятельностью способствует осуществлению свободы.
Анализируя в соответствии с этими своими идеями произведения драматической литературы, Гегель обнаруживает в действиях и поступках героев их объективную противоречивость. Действия эти всегда предстают в драме как направленные к цели, определяемой самим героем, и одновременно к цели, преследуемой мировым духом.
Побеждает в итоге, разумеется, мировой дух. Люди добиваются выполнения своих субъективных намерений, но благодаря их действиям «получаются еще и несколько иные результаты, чем те, к которым они стремятся и которых они достигают, чем те результаты, о которых они непосредственно знают и которых они желают». Интересы людей осуществляются, но при этом «осуществляется еще и нечто дальнейшее, нечто такое, что скрыто содержится в них, но не осознавалось ими и не входило в их намерения»[102]. Этим сложным содержанием поступка, — объективно, то есть независимо от воли героя направленного как бы к двум целям, — порождается его драматизм. Поступки одних героев драма сплетает и сталкивает с поступками других, столь же сложных по своему содержанию, чем еще более усугубляется драматический характер происходящего.
Драма делает для нас явной ту противоречивость человеческих стремлений, целей и поступков, которая в реальной жизни может оставаться скрытой или недостаточно осознанной. Отсюда следуют необычайно глубокие и навсегда сохранившие свое значение выводы Гегеля о существе, о направлении, об итогах общего действия драмы, слагающегося из совокупности усилий всех ее участников. Подлинно драматический конфликт, по мысли Гегеля, строится и завершается так, что его итогом не бывает и не может быть победа какой-либо из втянутых в него сторон. Ведь такая победа означала бы, что эта сторона своими действиями всего лишь осуществила свои намерения. Если реальная деятельность людей всегда дает «еще и несколько иные результаты», чем те, к которым люди стремятся, то, по мысли Гегеля, драма, именно она прежде всего, призвана выявлять закономерности, господствующие в жизни, но людьми не осознаваемые, призвана делать их предметом художественного изображения и осмысления.
Тут особую важность приобретает устанавливаемое Гегелем соотношение между драмой и действительностью. В реальной жизни действия людей часто ведут к удовлетворению их интересов, к осуществлению их воли и одновременно — еще к чему-то иному, не входящему в их намерения. В драматическом произведении все происходит несколько по-иному. Драма по преимуществу показывает, как вопреки интересам и стремлениям людей осуществляются «иные результаты», нежели те, к которым ее герои стремились. То есть драма призвана обнаруживать в самостоятельных действиях индивидов прокладывающую себе дорогу субстанциальность[103].
Разумеется, можно назвать ряд пьес мировой драматургии, в финале которых вполне осуществляются цели тех или иных персонажей. Но это, за некоторыми исключениями, всегда будут «пьесы интриги» типа «Женитьба Фигаро» Бомарше или «Стакана воды» Скриба. Что же касается таких произведений драматической литературы, как «Орестея» Эсхила, «Царь Эдип» и «Филоктет» Софокла, «Ифигения в Авлиде» Еврипида, «Гамлет» и «Король Лир» Шекспира, «Разбойники» Шиллера, «Гроза» и «БеспрЯданница» Островского, «Чайка» и «Три сестры» Чехова, «На дне» Горького, «Оптимистическая трагедия» Вишневского, «Матушка Кураж» Брехта и других подобных им явлений высокой драмы, то тут вполне проявляет себя установленная Гегелем закономерность.
Недаром Белинский так дорожил этой мыслью Гегеля. «В драме, — говорил он, — не должно быть ни одного лица, которое не было бы необходимо в механизме ее хода и развития», но направление этого общего хода и его смысл состоят в том, что «каждое лицо, стремясь к собственной цели и действуя только для себя, способствует, само того не зная, общему действию пьесы», то есть некоему общему результату, не совпадающему со стремлениями какого-либо или каких-либо из этих лиц
В чем, по существу, идейно-философский смысл такого толкования общего действия драмы? Речь тут идет о том, как необходимость-рождается из свободы, определяется ею. Именно на это обращал внимание Белинский. «Действуя только для себя», то есть руководствуясь своими побуждениями, поступая творчески и в этом смысле «свободно» преодолевая существующую ситуацию, герои приходят к некоему совокупному результату своих действий. Результат этот сотворен ими. Но будучи уже сотворен, он начинает властвовать над людьми, его сотворившими. Так, индивидуальная активность каждого из действующих лиц порождает необходимость, то есть преобразуется в силу, приобретающую господство над ними, подчиняя их себе. Такое понимание диалектических отношений между индивидуальными действиями и общим ходом и исходом драмы ведет Гегеля к тому, что центральным моментом в драматической структуре для него становится катастрофа, то есть катастрофический переход свободы в необходимость.
Но, к сожалению, искомую и ценимую им диалектику свободы и необходимости Гегель обнаруживает и одобряет лишь в определенных драматургических системах. В драмах с иным типом действия
Гегель этой диалектики не видит и не желает видеть. Он находит катастрофическое перерастание свободы в необходимость у античных трагиков и в некоторых явлениях драматургии других эпох. Чем более он приближается к своему веку и к драматургии своих современников — тем более сказываются ограниченность и односторонность его концепции.
Это имеет свое объяснение. Хотя Гегель внес очень много существенного в понимание диалектики субъекта и объекта, диалектики свободы и необходимости, подлинное разрешение проблема эта получила лишь в марксизме, критически переработавшем идеи гегелевской философии.
То, что Гегель идеалистически трактовал реальную действительность как движимую невесть откуда возникшей идеей, изначально разумной и свободной субстанцией, не могло не сказаться на его понимании субъективного начала в человеке, на его отношении к свободному человеческому волеизъявлению. В принципе оправдывая субъективность индивидуума и свободную волю героя драмы, Гегель, встречаясь лицом к лицу с конкретными проявлениями этих качеств, далеко не всегда готов с ними примириться.
Полное одобрение у Гегеля вызывает субъективная свобода человека античной эпохи (и героя античной трагедии), ибо он видит ее смысл в том, что человек (а стало быть, и герой трагедии) творил мир, творил разумную необходимость исходя из противоречивых норм своего времени и стремясь эту противоречивость преодолеть. Что же касается субъективности, проявляемой человеком нового времени, своим современником, то ее смысл и предназначение философ видит уже не в том, чтобы творить необходимость, а только лишь в том, чтобы познавать ее и подчиняться ей.
Любое иное проявление субъективности со стороны людей нового века (и героев литературы этого века) Гегель уже рассматривает как произвол и зло. Такая субъективность, с точки зрения Гегеля, превращается из начала творческого в начало лишь разрушительное и не имеющее себе оправдания. Так великий диалектик отказывается от диалектического подхода к субъективности, проявляемой в действиях человека нового времени. Сталкиваясь с реальными притязаниями героя новой драмы на самостоятельность, на неприятие мира, на сомнение в разумности господствующего миропорядка, Гегель принять все это был не в силах.
Дело в том, что отрицательное отношение Гегеля к субъективности, проявляемой драматическим героем «века промышленного», связано с его общей философской концепцией и сдержанным отношением к субъективности вообще. Ведь он принимал и одобрял субъективность лишь потому, что через нее проявляют себя разум истории, ее субстанциальные силы, абсолютный дух. По Гегелю, человек, можно сказать, подчинен двум властям и в его действиях проявляется это двоевластие. Одна власть — «внутренняя», так сказать, законодательная. Это — власть абсолютной идеи, утверждающей себя в действиях человека независимо от того, насколько он это сознает. Вторая власть — «приводящая в действие», так сказать, исполнительная. Она принадлежит самому человеку. Главная из этих властей, конечно, законодательная [104].
Исполнительную же власть Гегель оправдывает только в той мере, в какой ее активность так или иначе работает на власть законодательную и не расходится с нею. Расхождений Гегель не одобряет. Субъективность и свободу в тех проявлениях индивидуума, которые никак не растворимы во «всеобщем» и не подчиняются ему, Гегель считает неразумным и недопустимым. В любом стремлении субъекта к автономности, к самоутверждению Гегель видит зло, произвол, посягательство на разумную необходимость.
Античную трагедию он, как увидим, принимал потому именно, что, показывая силу субъективного начала, она одновременно вводила индивидуальное в определенные рамки. Его толкование шекспировской трагедии, как увидим, временами уже отличается натянутостью, ибо и там он находит изображение того, как «всеобщее» разумно торжествует над «индивидуальным», хотя шекспировский материал с трудом поддавался такой интерпретации и сопротивлялся ей.
Гегель, при всем том значении, которое он придавал индивидуальности в историческом творчестве, все же не мог признать за личностью права на суверенное, индивидуальное существование. И это естественно, ибо предпосылкой истории для него была абстрактная идея. Не признавая того, что предпосылка истории — «это, конечно, существование живых человеческих индивидов»[105], Гегель приходил к выводу, что подлинный субъект истории — она сама, а не люди, ее творящие. Поэтому он не видел в конкретном индивидууме качеств, без которых невозможна подлинная творческая деятельность. Не признавал за ним относительной автономности, неповторимости, способности выступать субъектом своих поступков и обогащать мир своей субъективностью.
Человек не свободен изначально, говорил Гегель. В процессе исторического развития, от эпохи к эпохе люди деятельно расширяют сферу своей свободы и сопряженной с нею ответственности — в этой мысли Гегеля содержалось одно из его величайших открытий. Однако, обнаружив, что «промышленная» эпоха активно сопротивляется дальнейшему расширению сферы свободы, Гегель это принял как должное. Любые формы борьбы с такой ситуацией Гегель отвергал, считая их несостоятельными и ненужными.
Тут сказалось уже не величие его философии истории, а присущие ей слабости. Ведь он вообще считал интересы и страсти, движущие индивидами, слишком мелкими и ничтожными в сравнении с разумным ходом истории и ее высокими целями. Эгоистические интересы индивида, с точки зрения Гегеля, особенно измельчали в «промышленную», то есть буржуазную эпоху, когда они вовсе лишились субстанциального содержания. К тому же история, считал Гегель, больше уже не нуждается в индивидах, реализующих ее требования. Она ведь уже достигла своих вершин в его философской системе — продолжать тяжелую, изнурительную работу самопреодоления и движения вперед ей уже незачем.
Тут сказалось патетическое отношение Гегеля к движению истории и пренебрежительное — к ее жертвам. Пусть временами история торжествующего мирового духа представляет собой настоящую человеческую бойню, скорбеть по поводу расточительности и жестокости ее хода было бы, по Гегелю, жалкой сентиментальностью. Не будем возмущаться ее беспощадным ходом, настаивает Гегель. Стоит только разобраться в ее законах, чтобы навсегда усвоить, насколько они необходимы, а значит, и разумны.
Характеризуя позицию Гегеля в этом вопросе, исследователь пишет: «Устами Гегеля говорит государственный муж, которому чужды грустные размышления по поводу «издержек мирового прогресса», ибо они возникают тогда, когда размышляющий встает на точку зрения «единичного». Достаточно встать на точку зрения мирового духа, как перед глазами возникает захватывающее зрелище, которое чисто эстетически не может не поражать величием своего размаха»[106]. Да, из двух возможных точек зрения на исторический процесс — индивидуума или мирового духа — Гегель выбирает вторую.
Выступая философом истории, Гегель толкует и оценивает события, исходя из интересов «всеобщего», то есть идеалистически понимаемых потребностей народной, государственной жизни, и без колебания отдает предпочтение требованиям исторического процесса, а не нуждам и запросам отдельной личности. По существу, он оказывался на той же позиции, когда выступал в качестве теоретика и философа искусства, когда говорил об интересующих нас проблемах и законах драматургии.
В центре внимания Гегеля-эстетика — человек с его эмоциями и страстями. Более того: драматизм, о которой говорит автор «Лекций по эстетике», связан с проявлениями субъективности, с реализацией личностью ее «самости» и «свободы». Но и на почве искусства Гегель сохраняет свое пристрастие ко «всеобщему», подчиняющему себе и даже поглощающему «субъективное».
Тут приобретает особую важность гегелевское противопоставление страстей и пафоса. В жизни люди действуют соответственно страстям. Искусство же, считает Гегель, имеет и должно иметь дело с очищенной страстью. Ее-то он и называет пафосом. Герои Корне- ля и Расина Гегелю резко антипатичны. Они для него — «твари». Один из главных мотивов такого отношения в том, что они движимы не пафосом, а страстями.
Когда Пушкин говорил: драма заведует страстями человеческими, он имел в виду особую сферу жизни, подлежащую ее ведению. К этой сфере, связанной, разумеется, с другими сферами жизни, Пушкин подходил как к сложной, содержательной и значительной. Тут для Пушкина — особый мир, великий и ничтожный, имеющий решающее значение для судеб человеческих и народных.
Для Гегеля сфера страстей человеческих — все-таки скорее служебная. Ее дело: обслуживать мировой разум. Именно в этой роли искусство и должно рассматривать страсти, убеждая нас в том, насколько правомерно и необходимо торжество разума над ними. Драматургия — так в итоге получается у Гегеля — изображает самый процесс достижения победы разумных сил над индивидуальными страстями \
Итак, Гегель начинал с того, что в человеке как явлении историческом и в его деятельности справедливо видел выражение не только его сугубо индивидуальных, субъективных сил, но и сил «надиндивидуальных» — общественных. Однако, постигая таким образом общественную природу человека и даже социальные истоки его деятельности, Гегель кончал тем, что в итоге «лишал индивида специфической способности быть субъектом»[107]. Отношение к человеку как явлению истории, как средоточию разнообразных ее сил оборачивалось у Гегеля отрицательным отношением к тому, что принадлежит в человеке лично ему, исходит из его творческих потенций и вносится им в мир, в окружающую его систему необходимостей как элемент его самовыражения.
Это сказалось и в его теории драмы. Поскольку Гегель отдавал предпочтение разумной необходимости перед неразумной, частной, субъективной свободой, он отвергал того героя, чья свободная субъективность не могла быть растворена в этой необходимости и поглощена ею без остатка. Если же такого рода герой (например, шекспировский) все-таки привлекал к себе Гегеля, то он его трактовал в соответствии со своей концепцией, доказывая, будто сам этот герой приходит в конце концов к признанию несостоятельности своих субъективных притязаний.
Начиная с утверждения права личности на свободу, Гегель кончает тем, что «необходимым условием свободы личности оказывается растворение личности во всеобщем, то есть в конечном счете отрицание личности. Свободным остается только всеобщее, только то, что властвует над личностью»[108]. Поэтому когда Гегель видел, как «частный интерес» героя вступает в непримиримое противоречие с интересом «общим», с разумной идеей, он трактовал это как проявление не свободы, а недопустимого произвола и зла. Поэтому многие герои мировой драматургии, например шекспировский король Лир, вообще остались Гегелю чуждыми, что сказалось в его толковании этих образов.
Гегелевским пониманием субъективности определяется и его позиция по отношению к важнейшей для теории драмы проблеме выбора героем решения и способов действия. Одобряя свободное действие героя, Гегель не придает никакого значения тому, как эта свобода проявляется на стадии выбора, когда герой ищет и принимает решения — осознанные, взвешенные, выстраданные, либо импульсивные, спонтанные, для него самого неожиданные. Великие характеры не выбирают, а действуют, охваченные своим пафосом, утверждает Гегель и потому вообще отвергает, а то и третирует произведения, где герои колеблются, сомневаются, от одной цели
переходят к другой, проявляя свою субъективность именно таким образом. В структуре индивидуального поступка, как ее толкует Гегель, момент выбора не имеет существенного значения, не идет ни в какое сравнение с моментом катастрофы, которую он ставит на первое место.
Когда факты жизни и искусства противоречили тому, чего от них хотел и ждал Гегель, он часто от них отворачивался с негодованием. Обнаруживая у немецких романтиков героя, всецело поглощенного своей субъективностью и никак не склонного признавать разумность мира, Гегель все это объявлял «суетностью», «произволом» и «злом». Но если уже драматургия немецкого романтизма не соответствовала гегелевским критериям, то расхождения между ними и реальным развитием драмы обнаруживались в XIX–XX веках снова и снова. Пьесы Ибсена, Чехова, Горького, Брехта, казалось бы, все менее укладываются в гегелевскую концепцию драматического действия. Однако это и так и не так. Гегелевские идеи вовсе не утратили своего принципиального значения. Не следует лишь, обращаясь к реальной драматической литературе, интерпретировать гегелевские кардинальные положения односторонне-догматически.
Но чтобы разобраться в этом вопросе более детально, чтобы дальнейшее критическое рассмотрение взглядов Гегеля обрело необходимую конкретность, имеет, как нам кажется, смысл сделать небольшое отступление в сторону от «Лекций по эстетике» и их автора. Многое в теории драмы Гегеля может быть прояснено, если мы обратимся ко взглядам некоторых его современников, с которыми он либо скрыто, либо открыто полемизировал.
Глава IV
«Критика способности суждения» Канта. Моральный индивид Канта и действующий индивид Гегеля. Свобода — движущая сила человеческих действий. Самовоплощение человека у Шиллера. Сострадание и наслаждение зрителя.
В своих «Лекциях по эстетике» Гегель несколько раз обращается к Аристотелю, во многом придерживаясь его трактовки драматического характера и некоторых других его идей. При этом, разумеется, в «Лекциях по эстетике» ставятся новые проблемы, которых не существовало для автора «Поэтики»: в первую очередь, проблема драматического конфликта.
Идеи Лессинга о действии как предмете изображения в поэзии Гегель тоже разработал в новых и во многом неожиданных направлениях. Но хотя он не игнорировал ни Аристотеля, ни Лессинга, ни
других своих значительных предшественников, его воззрения на драматургию и ее природу все-таки формировались прежде всего под непосредственным воздействием идей его современников — Канта, Шиллера, немецких романтиков.
В отличие от Гегеля, Кант интересовался только общеэстетическими проблемами, да и то лишь в определенном ракурсе, связанном с истолкованием прекрасного и возвышенного. Природа отдельных искусств, их принципы и предназначение — все это осталось вне поля зрения Канта. Поэтому появление его имени в работе, посвященной определенным аспектам теории драмы, может на первый взгляд показаться неожиданным. Но только на первый взгляд. Дело в том, что идеи Канта, Шиллера и немецких романтиков составляли проблемный контекст, в котором складывалась не только общеэстетическая концепция Гегеля, но оформлялось и его понимание драмы и драматического действия.
С Кантом Гегеля сближал повышенный интерес к проблеме действования, деятельности, человеческой активности. Стремление понять природу этой активности, ее истоки и ее возможности было для той эпохи глубоко закономерным. Идеи французской революции и осмысление ее уроков привели на немецкой почве к своеобразному философскому перевороту. Между прочим, это проявилось в новом понимании человека, резко расходившемся с просветительским. Кант, а затем и Фихте решительно отказались видеть в человеке эгоиста, пусть даже «разумного», чья задача — приспособиться к другим подобным ему эгоистам.
Просветители ошибаются, ибо не эгоизмом единым жив человек, говорит Кант. Он увидел в человеке его внутреннее достоинство, его духовные и моральные возможности, его глубокие, отнюдь не эгоистические только запросы. В философии Канта поэтому речь шла о правах и обязанностях моральной личности, о том, на каких именно путях, какими способами она может деятельно, активно, свободно проявить и реализовать как свои права, так и свои обязанности.
Придавая огромное, первенствующее значение разумному, духовному, этическому началам в человеке, требующим своего свободного проявления, Кант при этом не игнорировал завоеваний научной и философской мысли, согласно которым объективная реальность и человек, входящий в нее, подчинены законам природы, подвластны требованиям необходимости.
Сам Кант следующим образом сформулировал одну из главных «антиномий», то есть ключевых проблем, над решением которых он бился: «человек обладает свободой» и «нет никакой свободы, но все в человеке обусловлено необходимостью»[109]. Как известно, Канту не удалось найти удовлетворяющего нас решения этой проблематики, чему в конечном счете помешал особый кантовский дуализм: субъект и объект так и остались у него противопоставленными друг другу, ибо сфере природы и действующим в ней законам причинности он противополагал сферу сознания, сферу внутренней жизни как единственно подлинную арену человеческий активности. Доказывая, что человек способен к самоусовершенствованию и обладает для этого огромными возможностями, Кант не считал, что радикальное изменение человека зависит от коренных преобразований общественных отношений, всей окружающей его социальной действительности.
Настойчиво ставя вопрос о праве индивида на духовное самоопределение и самовыражение, Кант решал его абстрактно-умозрительно. Решение было найдено позднее. Сначала — в гегелевской философии, где «моральный субъект» предстал не абстрагированным от хода истории, а формируемым в процессе ее движения. Затем — в марксизме, где человек был понят материалистически в его конкретных социальных и общественных связях.
При всем том, поставив в центр своей этической проблематики «морального индивида», защищая его право на внутреннюю «автономию» и независимость, присущую ему способность без принуждения со стороны решать постоянно возникающие перед ним вопросы нравственности, Кант обнажил некоторые существеннейшие противоречия, характеризующие междучеловеческие отношения буржуазной эпохи. И не одной лишь этой эпохи. Поэтому у Канта получили теоретическое, философское выражение многие проблемы, волновавшие драматургию на всем протяжении ее развития. Здесь эти проблемы, разумеется, получали все новые и новые художественные решения, связанные с философией лишь сложным, опосредованным образом.
Что представляет собой интересующий Канта «моральный индивид», каково содержание его поступков, где он черпает мотивы своих действий и какую форму они принимают? У читателя кантов- ской «Критики способности суждения» возникают любопытные параллели между тем, как в этой книге истолкована художественная деятельность, и толкованием морального действия, которое Кант дает в другой работе — «Критике практического разума».
Каковы по происхождению своему поэтические идеи, воздействия которых жаждет наш дух? — спрашивает Кант в «Критике способности суждения». Эти идеи — плод воображения. Оно обладает способностью созидать как бы другую природу из материала действительной природы. В отличие от идеи рассудочной или разумной, получающей свое выражение в понятии, в эстетической идее всегда есть нечто, способное быть «изреченным» только в чувственной, прекрасной форме. Она создается деятельностью воображения.
Вот эта деятельность, связанная со способностью воображения, не является и не может быть порождена необходимостью. Для того чтобы создать произведение искусства, то есть «вторую природу», художник освобождается из-под власти необходимости, господствующей в окружающей природе и подчиняющей его своему господству.
Покуда человек остается природным существом, он подвластен необходимости. Но, становясь художником, он уже действует не столько как часть природы и ее продукт, сколько в ином качестве — как существо разумное, творческое, свободное. Тут он добивается целей, которые сам себе ставит, тут он руководствуется своей волей.
Вот эти положения «Критики способности суждения» оказываются важными для понимания драматического поступка, драматической деятельности. Существует определенное сходство между художественной деятельностью, как тут ее трактует Кант, и моральной деятельностью, о природе и структуре которой речь идет в «Критике практического разума». Сопоставляя художественную деятельность с другими видами действования, Кант выявляет такие ее особенности, которые могут нам прояснить нечто существенное в природе действия драматического и его специфике. Он пишет: «Искусство отличается от природы как делание (facere) от деятельности или действования вообще (agere), а продукт или результат искусства отличается от продукта природы как произведение (opus) от действия (effectus)»[110]. Стало быть, в мире, где господствует необходимость, появляются продукты. В искусстве же рождаются произведения.
На чем же основано различие между «деланием» в искусстве и «действованием» в природе? Между «продуктом» и «произведением»? В структуре акта, называемого «действованием», не участвуют «соображения разума», там все совершается «инстинктивно». Совсем иная структура акта «делания». «Искусством по праву следовало бы назвать только созидание через свободу, т. е. через произвол, который полагает в основу своей деятельности разум», — говорит Кант[111]. Тут, казалось бы, «свобода» отождествляется с «произволом», но в основе «произвола» лежат у Канта требования разума. Свобода для Канта — проявление одной из самых существенных возможностей и потребностей разумного человека. У Канта созидание чего-либо через свободу означает — «через решение, в основе которого — акт разума»[112].
Вот именно они — то есть свобода, выбор, решение, цель — входят, по мысли Канта, в состав, в структуру того «делания», которым занимается человек искусства, то есть в состав художественной деятельности. Но без них, по Канту, немыслима и человеческая деятельность в сфере нравственности.
С точки зрения Канта, человек принадлежит одновременно двум мирам. В первом — материально-чувственном — господствуют причинно-следственные связи и царит необходимость. Во втором — умопостигаемом мире разума — индивид побуждается к проявлению свободной воли, к действиям, соответствующим его возвышенной, духовной сущности. Для того чтобы поступать как должно, как того требуют законы нравственности, человеку предстоит преодолевать жестокие, неумолимые законы необходимости, и он обладает возможностью добиваться своего.
Лессинг, как нам известно, отрицательно относился к изображению «святости» и «праведности» на драматической сцене, поскольку они лишены драматизма и не могут ни захватить и увлечь зрителя, ни чему-либо научить его. Кант скептически относится к «святости» эмпирического человека. Он в нее не верит.
Разговоры об «изначальной» чистоте человека он считает беспочвенными, отвергая любые руссоистские вариации на тему о природной «доброте» человеческой натуры. Скорее Кант готов считать человека изначально «злым». Но он верит в человеческие возможности. С его точки зрения, человек может возвыситься над низменным в своей природе, подняться над собой и достичь нравственных высот в упорнейшей борьбе с самим собой как с явлением материального, «чувственно постигаемого мира»[113].
Но преодолеть в себе своекорыстие, эгоизм, все то, что связано с материально-чувственными влечениями, с давлением необходимости, индивид может лишь тогда, когда он будет непрестанно слышать голос своей совести, различая должное от недолжного, добро от зла, все достойное человека от того, что не соответствует его предназначению как существу нравственному. Проявляя таким образом свою «автономию», согласуя свои поступки с самим собой, со своим внутренним императивом, «этический человек» ввергается в сложнейшие коллизии. Они человеку нужны, ибо только проходя через них он способен выявить в себе подлинно человеческое и стать личностью. Нетрудно понять, что эти коллизии имеют близкое касательство к коллизиям, всегда воодушевлявшим драматическую поэзию, что кантовский «моральный индивид» в какой-то мере представляет собой философскую «модель» того драматического индивида, который жил и страдал на сценических подмостках в разные исторические эпохи.
Своему «этическому человеку» Кант предписывает действовать «свободно», а это ни много ни мало означает у философа следующее: «Действуй так, чтобы человечество как в твоем лице, так и в лице всякого другого применялось тобою как цель, а не как средство». Ни самого себя, ни кого-либо другого ты не можешь превратить в «средство». Ни в «твоем лице», ни в «другом лице» человечество твоими поступками не должно подвергнуться унижению, а тем более насилию. Превращая кого бы то ни было в средство, ты тем самым посягаешь на человека, обезличиваешь его, отнимаешь у него его «индивидуальность», достоинство, действуешь на него губительно и гибельно.
Эта проблема соотношения целей и средств в самых разных ее аспектах — одна из главнейших не только для кантовского «морального индивида», но и для мировой драматургии, где она решалась не абстрактно, а через конкретные человеческие судьбы. У Шиллера, различно преломляясь, эта проблематика проходит через всю его драматургию, начиная с «Разбойников» и кончая «Валленштейном». Стоит только прибегнуть к неморальным средствам, стоит только превратить другого человека лишь в средство достижения своих целей (пусть они даже не будут низменными, как у Франца Моора, а высокими, как у Карла), цели при этом непременно извратятся. А действующее таким образом лицо окажется в острейшей моральной коллизии. Луиза Миллер из «Коварства и любви» готова примириться с тем, что ее превращают в средство, и отсюда вырастает ее трагическая вина. И в «Валленштейне» среди главных проблем — превращение одних героев в управляемых, а других — в господствующих над ними, скрыто либо открыто ими повелевающих.
Разумеется, близость шиллеровской драматургии к кантовской проблематике легко объяснить близостью их идейных исканий, связанных с жизнью Европы тех десятилетий, когда осмыслялись задачи и уроки французской революции. Но ведь в ходе революции лишь до крайности обнажились противоречия, характерные для больших, ей предшествовавших и за ней последовавших периодов человеческой истории.
В отличие от Шиллера, А. Н. Островский имел очень малое касательство к Канту. Однако в «Бесприданнице» он находит свое, порожденное условиями пореформенной обуржуазивающейся России воплощение той общечеловеческой коллизии, которой жил «моральный индивид» Канта. Ведь тут все герои, кружащие над Ларисой — и Паратов, и Вожеватов с Кнуровым, и Карандышев тоже, — все они, каждый по-своему, хотели бы превратить Ларису в средство для достижения своих целей. Им нужна Лариса со всей ее человеческой яркостью и неповторимостью, но вместе с тем, борясь за обладание ею, каждый из них ее обезличивает, обесчеловечивает, превращает в «вещь». Именно это прозревает в финале Карандышев, а вслед за ним и Лариса, смерть которой и предстает как акт сопротивления обезличению и овеществлению. Искусство XIX–XX веков продолжало ставить «кантовские» проблемы, ибо они относятся к важнейшим в общественной и индивидуальной жизни человечества.
С остро выявившейся у Канта сложной диалектикой целей и средств связана, в свою очередь, важная для философа проблема ответственности. То, что кантовский «этический индивид» осознает свою личную ответственность за совершенные им поступки, не пытается от нее откреститься, хотя это и дорого ему стоит, тоже сближает его с драматически действующим индивидом. Тут между ними, разумеется, существуют не только сходство, но и важные различия. Дело в том, что, по мысли Канта, за поступки, предопределенные либо извне, либо изнутри (его чувственной природой), за поступки, не зависящие от его собственных решений, человек не может нести ответственность. Покуда мы не признаем движущей силой человеческих действий свободу, мы не имеем никаких оснований возлагать на индивида бремени личной ответственности за все, что он делает. Ни он сам себе, ни кто-либо другой со стороны не будут вправе вменять ему в вину или в заслугу и самые поступки, и их результаты. Настаивая на том, что человек в сфере нравственной действует свободно, Кант тем самым ставит человека перед проблемой вменяемости и ответственности.
Если, однако, кантовский «этический человек» обязан еще до совершения поступка взвесить, осмыслить, пережить все его возможные последствия, и это часто удерживает нас от действования, то драматический герой, в отличие от него, вынужден действовать. С вопросом об ответственности герой часто сталкивается, уже пожиная плоды своих поступков. Драма не уберегает человека от действий, а Кант как бы хочет его уберечь.
Уделом кантовского «морального индивида» оказывается лишь внутреннее действие. Философ ведь прекрасно понимает, что в условиях, его окружающих, «моральному индивиду» трудно, а то и попросту невозможно поступать свободно, то есть по совести, нравственно, беря на себя полную ответственность за содеянное. Мир, в котором пребывает «моральный индивид», — совсем ведь не тот, где проживает индивид реальный, эмпирический. Понимая это, Кант считает, что главное для «морального индивида» — не самый поступок, не действование, ибо реализация должного в условиях сущего невозможна. Между должным и сущим Кант обнажает разрыв, и это свидетельствует не только о готовности философа примириться с сущим, а и о максимализме его требований к человеку. Но в ситуации такого разрыва для Канта главным оказывается не действование, а «добрая воля», акт внутреннего выбора между должным и недолжным, интенсивно индивидом переживаемый.
Получается в итоге, что внутренней свободе субъекта, его намерениям вовсе не обязательно быть воплощенным в акциях, в действиях. Если воля «добра не в силу своей пригодности к достижению какой-либо поставленной цели, а только благодаря волению»[114], то у Канта, естественно, первостепенное значение приобретают побудительные мотивы, которыми живет субъект. Они — в центре внимания философа, на них он стремится сосредоточить активность индивида.
Гегель в такой позиции видел лишь «пустословие о моральности»[115]. Он ценил не «воления», а действия. Если с точки зрения Канта человек становится личностью в процессе самоусовершенствования и внутренней борьбы, то с точки зрения Гегеля человек проявляет себя как личность в борьбе с другими людьми. Ведь у него лишь дух борется с самим собой, преодолевая собственные противоречия. Что же касается индивида, в котором всегда воплощается лишь один момент жизни всеохватывающего духа, то он борется с другим индивидом, воплощающим иной момент этой жизни духа. Бороться с самим собой человеку незачем и ни к чему.
В отличие от Канта, побуждавшего человека к проявлению своей свободы и одновременно обрекавшего его на бездействие, Гегелю нужен был человек впрямую активный — не только в помыслах, но и в поступках. Гегелевского человека можно было бы, в отличие от кантовского «морального индивида», назвать «действующим индивидом». Поле его действия — взаимоотношения с другими людьми, принимающие характер противодействий и борьбы. Поэтому драматического героя Гегель видит в столкновении с другими персонажами. Ему нужен герой «без коллизии внутри себя». Он даже находит, будто «субъективный трагизм внутренней противоречивости, если превращать его в рычаг трагического действия», заключает в себе нечто «жалкое и неприятное» и нас только лишь «раздражает». Изображать «колебания и метания» — это значит вводить вовнутрь самого индивида «ложную художественную диалектику», говорит Гегель[116].
Во внутренне противоречивом, да к тому же еще и мучительно переживающем свои противоречия герое Гегель не мог обнаружить пафоса служения определенному жизненному принципу. Скорее философ готов был усмотреть в поведении такого героя и в такого рода субъективности — склонность героя к неприятию мира в целом, полное его отрицание. А это, с точки зрения философа, — и непростительно, и бессмысленно.
Кантовского «морального индивида» Гегель, по существу, вводит в систему исторических связей и отношений. Он заставляет индивида реально действовать. Но при этом Гегель сильно урезывает его «автономию», его права на проявление своей субъективной свободы, «примиряет» индивида с тем, с чем Кант его примирять не желал. Так во многом оказалось обесцененным то, что было Канту особенно дорого в жизни «морального субъекта» — противоречия его внутренней жизни, акты выбора решений, работа совести, стремление к должному и неприятие сущего. Поэтому и в теории драмы Гегеля решающее значение приобрело действие, а не то, что может быть названо предварением действия и его переживанием, преддействием и последействием. Завоевания, сделанные при этом Гегелем, были, как видим, сопряжены и с некоторыми утратами.
Идеи Гегеля — теоретика драмы обращены не только против автора «Критики практического разума» и «Критики способности суждения», но и против Ф. Шиллера, чьи необычайно глубокие суждения о природе драмы и ее герое, о сущности сострадания и наслаждения, вызываемых в нас его страданиями, органически связаны и с этической и с эстетической концепциями Канта.
Следуя ему, и даже в каких-то смыслах решительнее, чем он, Шиллер отстаивает самоценность человеческой личности и ее право на свободу. По-кантовски Шиллер отделяет действия, совершаемые по велению долга, то есть свободные, от других — подчиненных склонности, страсти, внешним обстоятельствам, то есть давлению необходимости. В духе кантовской философии Шиллер противопоставляет человеческие инстинкты, природное начало — другому, прямо противоположному — духовному, и личность связывает со свободным началом в человеке[117]. Растение или животное, говорит Шиллер, сковано кольцом необходимости, человек же имеет возможность прорвать его по своей воле. Если, порождая животное и растение, «природа не только выражает их назначение, но и сама его воплощает», то человеку «она дает лишь назначение, предоставляя ему самому воплощение. Только это (то есть процесс самовоплощения. — Б. К.) и делает его человеком»[118].
Каким же путем «прорывается» это кольцо? Самовоплощение, самосозидание человека — в его воле и в его руках. «Акт, посредством которого он это совершает, именуется по преимуществу деянием, а поступки, вытекающие из деяния, — действиями. Таким образом, только своими действиями человек может доказать, что он — личность»[119]. Как видим, шиллеровское определение резко расходится с тем лессинговым, где действие толкуется как ряд движений, направленных к единой цели. Определение Шиллера, в отличие от того, которое дано в набросках к продолжению «Лаокоона», касается специфики действия морального, интересующего искусство и в особенности — драматургию. Тут речь идет не о действии просто, а о поступке, то есть о действии, направленном на другого человека и связанном с духовной коллизией.
Мы, разумеется, без большого труда улавливаем слабые стороны этих шиллеровских рассуждений. Конечно же, человек творит себя не «самостоятельно», не, так сказать, собственными силами. Шиллер вносит в понятие действия особый смысл. Для него в действии важнее всего его роль в процессе очеловечивания человека. Шиллер преувеличивает меру свободы воли, меру возможностей, которыми обладает личность в каждой конкретной жизненной ситуации. Ведь ее волю ограничивает не только природная, но и общественно-историческая необходимость.
К тому же, в отличие от Шиллера, мы видим в природной и общественной необходимости не только силы, противостоящие человеку, но в еще большей мере и его союзников. Ведь самая общественная необходимость есть во многом результат предыдущих человеческих усилий. Она и сковывает человеческую активность, и стимулирует ее. Необходимость поэтому — не только полярна свободе. Она же является и ее почвой. «Моральная независимость» субъекта, столь важная для Шиллера, в полной мере может проявить себя, как мы знаем, лишь на основе свободы социальной и политической. Да и сам автор «Разбойников», «Коварства и любви», «Валленштейна», переходя от теории к художеству, обнаруживал, насколько тесно связаны между собой сферы моральная и социально-политическая. Однако не будем преуменьшать глубокое содержание мысли Шиллера о праве и обязанности человека становиться личностью, дабы светить собственным светом, а не только отражать лучи чужого, хотя и божественного разума, как это казалось необходимым Гегелю.
Понимая под действием акт, посредством которого человек становится тем, чем он может и должен стать, и ставя этот акт столь высоко, Шиллер тут уже во многом отходит и от Канта, для которого большее значение, чем сама акция, имели побуждения к ней.
Для Шиллера (и тут его полным единомышленником был Гёте) «воление» — один из главных элементов в структуре драматического поступка. Подчеркнем: в кантовском смысле «воление» — не изъявление и не осуществление воли, а сложный комплекс стремлений и переживаний, скорее отвращающих от совершения поступка, чем побуждающих к этому. Шиллер же, принимая кантовское «воление», и как философ и как драматург не может им ограничиться. Какой бы сложностью ни отличалось «воление», в драме оно должно принять форму поступка — так считал Шиллер (и в этом Гёте тоже был его единомышленником)[120].
Шиллер — и это очень важно — расширительно понимает действие, отнюдь не сводя его к плоско понимаемой акции, направленной со стороны одного субъекта на другого, то есть к тому, что у нас нередко именуется «внешним действием» в отличие от «внутреннего». Само такое противопоставление несостоятельно. Оно основано на предположении, будто в жизни, а тем более драме, вообще может иметь место какое бы то ни было действие, не выраженное так или иначе объективно, остающееся полностью скрытым, никак не проявленным для какого-либо лица или зрителя.
Насколько Шиллер расширяет понятие действия, становится особенно ясным из его трактовки патетического. Поэта волнует вопрос о сущности страдания, испытываемого драматическим, в особенности трагическим героем, и о природе переживаемых при этом зрителем сострадания и сопряженного с ним наслаждения. Эти темы являются «сквозными» в ряде шиллеровских статей[121].
Они написаны в период, когда идеи «Бури и натиска», вдохновлявшие автора драм «Разбойники», «Коварство и любовь», «Дон Карлос», потерпели крах. В ту пору Шиллер уже перестал верить в возможность социального и политического освобождения личности, и в центре его внимания оказались кантианские проблемы нравственной, внутренней ее свободы. Но при этом идеи Канта развиваются Шиллером по-своему, хотя бы уже благодаря тому, что он имеет дело непосредственно с самой материей искусства, в том числе и с драматургией.
Многое в шиллеровской теории трагического сохранило свое значение и стимулирует наши сегодняшние размышления, оберегая нас от поверхностного, плоского понимания задач драматического действия. Прежде всего это касается вопроса о природе сострадания, вызываемого трагическими предметами.
Почему мы испытываем не только сострадание, но и наслаждение в момент, когда на наших глазах герой трагедии страдает? Источник столь противоречивой реакции, отвечает Шиллер, коренится в сложном состоянии героя. Его страдание ведь не пассивно, оно деятельно. Патетика тут рождается тогда, когда герой, страдая, преодолевая ценой мучений разнообразные требования необходимости, обращенные к нему не только со стороны, но и из глубин его природного, чувственного, эгоистического «я», тем самым проявляет свою свободу, свою «самодеятельность».
Патетическое состояние — это состояние страдания, претерпеваемого героем, который ищет, выбирает, определяет свой путь, руководствуясь свободной волей. В нас, зрителях, вызывает сострадание и наслаждение именно зрелище того, как активно, бурно, мощно действует человеческое в человеке. В это время мы воочию видим его «самостоятельный или способный к самостоятельности дух»[122].
Воздавая должное герою, выходящему победителем из переживаемой им нравственной борьбы, Шиллер, однако, вовсе не считает нужным одобрять лишь такого рода патетические изображения. И тут Шиллер-художник еще более расходится с Кантом-моралистом. Только с точки зрения морали важно практическое применение свободной воли, говорит Шиллер. Другая точка зрения — эстетическая — побуждает нас судить о человеке по его способностям, по его стремлениям, независимо от того, оказался ли его поступок нравственным либо безнравственным.
Развивая эту мысль, Шиллер идет еще далее, когда признает, что эстетически нас привлекают и даже захватывают сильные, мощные проявления воли, независимо от их моральной направленности. В данном случае отклонение Шиллера в сторону от Канта особенно разительно. Руководствуясь тем, что «уже сама по себе воля возвышает человека над животностью», то есть руководствуясь, казалось бы, вполне кантовской идеей, Шиллер движется, однако, в неожиданном направлении. Он вовсе не считает нужным ограничивать себя возвеличением одной лишь «доброй воли». Он готов принять и, так сказать, злую волю, если и в ней проявляется духовная свобода человека. В этом Шиллер расходится не только с Кантом, но и с Гегелем, который принимал «зло» как движущую силу истории, но отвергал право художника на сочувственное изображение в искусстве зла в его конкретном, индивидуальном воплощении, ибо это означало бы сочувствовать силам, противопоставляющим себя мировому разуму. Шиллер в понимании зла сближается, как увидим, с Шеллингом.
Шиллер вовсе не становится при этом апологетом зла. Тут необычайно интересны и ход его мыслей, и выводы из них. Поскольку, рассуждает Шиллер, трагедия имеет целью изображать «людей в состоянии страдания», ее героями должны быть только люди, способные мощно страдать. «Чистые воплощения нравственности» к этому не способны. Тут Шиллер весьма близок к Лессингу. Подобно ему Шиллер считает, что героями трагедии могут быть только «люди в полном смысле этого слова», то есть «характеры смешанные», далекие от совершенства[123]. Но затем Шиллер заходит в этом вопросе гораздо далее Лессинга, признавая право трагического поэта брать себе в герои не только «смешанный», но и преступный характер. Пусть будут пороки, но свидетельствующие о силе характера. Изображению добродетели, в которой дает себя знать не свобода человеческого духа, а духовная инерция, Шиллер безоговорочно предпочитает изображение пороков, в которых проявляется свободная самодеятельность субъекта.
Ведь поэзия, считает Шиллер, воздействует на человека не советами, не картинами примерного человеческого поведения. Ее влияние тем сильнее, чем более она побуждает нас осознавать возможности, таящиеся в человеческой личности. Как можно объяснить то, что с отвращением отворачиваясь от «сносного» персонажа, мы с жутким восхищением следим за насквозь порочным? — спрашивает Шиллер и отвечает: в первом мы отчаялись найти даже малейшее проявление свободной воли, «тогда как в каждом движении второго мы замечаем, что одним-единственным волевым актом он способен возвыситься до высшей степени человеческого достоинства»[124].
Лессинг, как мы помним, касался этой же проблемы, когда стремился объяснить, почему мы одновременно желаем, чтобы Ричард достиг и не достиг своей цели. Сложность нашей реакции Лессинг стремился связать с особой природой действий героя, с присущей этим действиям целесообразностью. Шиллер аналогичную ситуацию объясняет по-другому: нас привлекает в таких действиях проявление духовно-деятельного, свободного начала, противостоящего началу материально-природному, подчиненному законам причинности и необходимости.
Поскольку для Шиллера значительны моменты, когда герой втянут в патетическую борьбу стремлений и влечений, он, думается, не случайно наряду с понятием «действие» употребляет и другое — «действенное состояние». Пафос Шиллер и трактует как такое сложное действенное состояние героя, когда тот мощно сопротивляется полному грузу страдания, на него взваленному.
Подобное понимание пафоса в его противоречивости как состояния, связанного с происходящей в герое внутренней борьбой, для Гегеля, как нам предстоит убедиться, абсолютно неприемлемо. «Воления» и колебания кантовского морального субъекта, которого Шиллер к тому же увидел еще в состоянии бурного патетического брожения чувств, Гегель отвергает. С точки зрения Гегеля, реальному человеку, а тем более герою драмы, менее всего подобает доводить себя до такого состояния. Пафос Гегель понимает совсем не по-шиллеровски. Для Гегеля — это свободная от низменной страстности душевная устремленность героя, не знающего колебаний в своем движении к цели.
В своих философских построениях и в своей теории драмы Гегель считает нужным всячески умерять и обуздывать кантовско-шиллеровского индивида с его притязаниями на свободную самодеятельность. Но еще большее неприятие вызывает у Гегеля индивид, каким его представляли себе немецкие романтики — и в своих теоретических сочинениях, и в художественной практике.
Они, констатирует Гегель, дошли до последней крайности в своем противопоставлении индивидуальной свободы объективному ходу жизни. У романтиков кантовское «воление» трансформировалось в «томление» — в нечто намного дальше отстоящее от решительных действий, чем «воление». Пафос их героев, если тут вообще применимо это понятие, был насквозь проникнут духом абсолютного неприятия буржуазно-филистерской действительности. По мысли Канта, индивидуальная этическая свобода одного индивида возможна лишь тогда, когда она координируется с такой же свободой другого. Романтиков же их понимание субъективности и «свободы духа» приводило к полному неверию в позитивный смысл взаимодействия одного индивида с другим и с объективным миром. И тогда в своем упоении субъективностью романтики отстаивали уже не свободу, а ничем не ограниченный произвол.
Гегель настойчиво критиковал обособленную романтическую личность, гордую своей субъективностью и замкнувшуюся в ней. Поскольку в самой отрицаемой действительности романтики не обнаруживают ничего позитивного, Гегель считал их критику буржуазного прозаического мира несостоятельной.
Такое отношение к романтикам проявилось и в гегелевских оценках драматургии Г. Клейста, чей огромный талант он не мог не почувствовать. Воздавая должное жизненности образов, характеров и ситуаций Клейста, Гегель, однако, не находит в них подлинного субстанциального содержания. Самая жизненность утрачивает тут
смысл, поскольку герой, например принц Гомбургский, не обладает твердым характером и каждое его устремление превращается в свою противоположность. Пафос, говорит Гегель, все время разрушается в душе такого человека, предстающей в своей разорванности, в своем внутреннем разладе и раздвоении. Характер клейстовского героя отвращает Гегеля своими непрерывными переходами из одного настроения в другое, бесконечной своей рефлексией[125].
Для Гегеля во всем этом — неприемлемое проявление субъективности. Подлинная индивидуальность, считал Гегель, накрепко связана с неким устойчивым жизненным содержанием, дорожит им и не отказывается от него никогда. Поэтому ни рефлексии романтического героя, ни его поступков, на которых всегда лежит ее все- разъедающая печать, Гегель не приемлет.
Глава V
«Лекции по эстетике» Гегеля. Пафос и патетическое. Пафос как двигатель поступка, как поэтическая идея. Пафос субъективный и субстанциональный.
Триединство: характер — воля — цель. Основные компоненты действия: борьба — катастрофа — примирение. Диалектика свободы и необходимости в личности и в историческом процессе.
Когда Гегель говорит: «Действие является наиболее ясным раскрытием человека, раскрытием как его умонастроения, так и его целей. То, что человек представляет собой в своей глубочайшей основе, осуществляется лишь посредством действия»[126], — эти решительные заявления теперь уже должны зазвучать для нас остро полемически. Не мотивы, не взвешивание их, не устремления, не рефлексия, не решения, не работа совести, не воление и не страдания характеризуют человека, а прежде всего его действия, говорит Гегель, и мы понимаем, от какого наследства философ при этом отказывается.
Предмет «поэзии» для Гегеля — «изображение действия как единого, целостного в себе движения, содержащего акцию, реакцию и разрешение их борьбы»[127]. Разумеется, все это — прежде всего предмет поэзии драматической. И в этих словах опять же ощутима их полемическая направленность. «Цели», «акции», «реакции», «борьба», ее «разрешение» — тут ключевые для Гегеля понятия, связанные с определенным представлением о структуре индивидуального поступка и общего действия всей драмы.
Ставя превыше всего действия героя драмы, Гегель подходит к нему с теми же критериями, что и к человеку, проявляющему себя в реальной жизни. Ведь и там, говорит философ, воля, которая ничего не решает, не есть действительная воля. Он уничижительно отзывается о бесхарактерности, которая «никогда не доходит до решения», и косности, не желающей «выходить из углубленного внутрь себя раздумья»[128]. В реальной жизни Гегель ценит действия, поскольку «лавры одного лишь хотения суть сухие листья, которые никогда не зеленели»[129]. Жизни, истории нужны хотения, способные перейти в поступки. А «ряд поступков субъекта (подчеркнуто Гегелем. — Б. К.) — это и есть он»[130].
Гегелю нужно не «воление», он одобряет лишь «исполненную волю». По его мысли, драматургия разных эпох только тогда справлялась со своими задачами, когда показывала не одни лишь хотения, но исполнение, осуществление хотений в поступках, когда ее героем был индивид, способный к решительным действиям.
Чью же именно волю исполнял этот драматический герой? Казалось бы, и спрашивать нечего — конечно же свою. Однако это и так и не так.
Гегелевский ответ на данный вопрос связан с истолкованием пафоса — одного из ключевых понятий его эстетики и теории драмы. Аристотель понимал под пафосом страдание, связанное со сложным поступком, с «большой ошибкой». Пафос у него был неотделим от перипетии и узнавания — то есть сцены патетические, исполненные страдания, по мысли автора «Поэтики», следуют за неким поворотным событием, повергающим героя в состояние бурного аффекта. В концепции Шиллера патетическими являются скорее сцены выбора, решений, предваряющих поступок, или сцены совершения решающего поступка, связанного с бурными внутренними коллизиями.
Совсем по-иному понимает пафос и патетическое Гегель. С его точки зрения, пафос вообще не есть страдание, и он дает себя знать не в каких-либо определенных сценах, не в какие-то особенные моменты развития действия. Гегель понимает пафос как силу, стимулирующую героя, двигающую его поступками на всем протяжении действия.
Мы помним, что в реальной истории, с точки зрения Гегеля, людьми движут страсти. В искусстве же герой движим не страстями, а пафосом. Это — очень важная мысль в гегелевской эстетике и в его теории драмы. Шиллер видел в пафосе бурное обнаружение внутренней борьбы, победителем в которой может оказываться свободная воля человека. Для Гегеля пафос — это «всеобщие силы». Но они «выступают не только сами по себе, в своей самостоятельности, но также живут в человеческой груди и движут человеческой душой[131] в ее сокровеннейших глубинах»[132].
Пафос, говорит Гегель, не совсем то, что «страсть», ибо ей сопутствует представление о чем-то ничтожном и низком. Поэтому обычно требуют от человека не поддаваться своей страсти. Когда же он движим пафосом, это только вызывает наше восхищение. Словом, по Гегелю, пафос — это высокая страсть, воодушевляющая героя драмы, в отличие от реальных людей, одержимых эгоистическими страстями. Ссылаясь на Антигону и Ореста, Гегель толкует пафос не только как высокую, но и как обдуманную, осмысленную, разумную[133] страсть.
Перед нами сразу же возникает вопрос: если пафос — это всеобщие субстанциальные силы, овладевшие душой и движущие ею, то в какой мере этот пафос является индивидуальным? Что в этом пафосе принадлежит лично индивиду? При чтении «Лекций по эстетике» этот вопрос не перестает нас преследовать. И дать на него решительный ответ оказывается очень трудно, ибо Гегель, всячески стремясь сохранить за героем драмы его право на свободную волю, на самостоятельность и независимость, в то же время разными способами — в особенности своим толкованием пафоса — лишает героя этого права.
Для Гегеля пафос — понятие очень сложное. Он употребляет его в разных смыслах. Не только великие люди, не только герои эпоса и драмы движимы каждый своим пафосом. Он же — сила, движущая и каждым художником, искусством вообще; «его (пафоса. — Б. К.) воплощение является главным как в произведении искусства, так и в восприятии последнего зрителем»[134].
Говоря о пафосе, Гегель имел в виду ту пронизывающую произведение поэтическую идею, благодаря которой оно образует нерасторжимое единство содержания и формы. Именно пафосом своим оно воздействует на эмоции человека, на его душу, на всю его нравственную и духовную природу. Современные историки искусства, теоретики, критики воздают должное гегелевской категории «пафоса», позволявшей ему и позволяющей нам ныне видеть в произведении искусства не «художественно оформленное» рассудочно-понятийное содержание, а сгусток образно выраженной страстной мысли художника.
Субъективный пафос художника Гегель связывает с глубиной постижения им закономерностей изображаемых явлений, отношений, ситуаций, со своеобразием содержания, им, данным художником, постигнутого, и своеобразием им же найденного поэтического выражения этого содержания.
Однако тут же сказывается и объективизм философа. «После того как художник сделал предмет всецело своим достоянием» и сумел «полностью погрузиться в материал», он должен, считает Гегель, забыть свою субъективность, ему не следует более проявлять себя и свое отношение к предмету, ему надо стать «органом и живой деятельностью самого предмета». Как и вопрос о праве индивида на субъективность, так и вопрос о пафосе художника в итоге решается Гегелем весьма односторонне. Из произведения искусства должно быть устранено все субъективное и связанное с мировоззрением и мировосприятием художника, с его личной позицией. Художнику надобно растворить себя в предмете изображения, умереть в нем, забыть о себе, о своей душе и о ее запросах, если они не совпадают с требованиями самого предмета изображения[135].
Гегель приходит к тому, что отказывает художнику в праве на субъективный пафос. В известном смысле аналогично отношение философа к пафосу героя драмы. Всеобщие силы, как и боги, не способны к индивидуальному действию. «Оно свойственно только человеку», — говорит Гегель, всячески стремясь связать действия людей, а тем более героев трагедии с их самостоятельностью, с их внутренней сущностью, с их свободными решениями. Где он ищет почву для субъективности? Оказывается, что всеобщие, или божественные, силы всегда сугубо односторонни. Человеческое же сердце может воодушевляться различными пафосами, разными идеями. То есть в принципе человек способен к большей широте и многосторонности, чем каждая отдельная божественная или субстанциальная сила. И когда человек действует как характер, это значит, что в его поступках проступает лишь одно какое-либо субстанциальное начало, которому он отдал предпочтение, которое им овладело.
Итак, одно дело человеческое сердце — оно способно на многое и разное. Другое дело — человеческий характер, в особенности — драматический. Он уже сосредоточен на чем-то едином, одностороннем. Так, близкими к пафосу ключевыми понятиями гегелевской теории драмы становятся не только «характер», но и «цель». В действии выражаются пафос и характер, устремленные к цели[136]. Цель же эту герой отстаивает со всей энергией столь последовательно, решительно и неуклонно, что готов найти свою гибель в борьбе за нее.
Характер героя и его цель должны быть сращены в такой предельной мере, а одержимость пафосом должна быть настолько всепоглощающей, что не может быть и речи о выборе героем тех или иных решений, а тем более об их перемене. В том для Гегеля и заключается сила великих, да и не только великих, но и значительных характеров, что «они не выбирают, а по своей природе суть то, что они хотят и совершают. Они — то, что они есть, и таковы вовек»[137]. Да, именно вовек — до момента своей гибели. Во власти своего пафоса герои находятся изначально и как бы приговорены к нему навсегда. Какие-либо сомнения героя в правомерности своего пафоса недопустимы. Тем более немыслим отказ от него.
Лирический герой погружен в свои эмоции, переживания, мысли. Эпический — многообразно проявляет свой характер, втягиваясь в события и по своей воле, и помимо нее, по воле обстоятельств. Герой драмы отличается от того и другого. Его замыслы, побуждения, переживания должны выражаться в действиях и поступках. Но поступки эти связаны лишь с волей героя, а не с какими-либо сторонними обстоятельствами.
И если действие вообще, говорит Гегель, способно наиболее полно, до глубочайших основ раскрыть человека, то лучше всего с этой задачей справляется действие драматическое, ибо оно — результат борьбы между людьми. Так у Гегеля действие и борьба становятся синонимами, и на первое место в его теории драмы выдвигается понятие борьбы, вовсе отсутствовавшее у Аристотеля. При этом оказывается излишним страдание — одно из ключевых понятий «Поэтики». К изображению борьбы, ее нарастания и ее разрешения и сводится, утверждает Гегель, драматическое действие. Этапы борьбы и составляют его этапы.
Изображаемые драмой индивидуальные действия походят на действия реальных людей, втянутых в противопоставляющую их и связывающую друг с другом борьбу только до Известного предела. В драме индивидуальные действия приобретают особую направленность и в своей совокупности образуют целостную структуру. Она призвана обнажить некие закономерности, господствующие в отношениях между реальными индивидами, между личностью и обществом, между частными интересами и требованиями субстанции, между свободой и необходимостью. От глаз эмпирического субъекта эти закономерности скрыты, он их не постигает, не переживает и не осмысляет. Но там, где обычный взгляд видит господство мрака, случайности и хаоса, драма раскрывает осуществление разумных начал, достигая этого благодаря особой своей структуре.
Общее ее действие Гегель понимает как некую цепь индивидуальных действий и противодействий, акций и реакций, в которых выражают себя противоположные цели. Продвигает действие вперед именно эта борьба целей, заканчивающаяся катастрофой и примирением. «Собственно драматический процесс есть постоянное движение вперед к конечной катастрофе», — говорит Гегель[138]. Но он же дает и другой ответ. Предельно выявляя и обостряя конфликт в катастрофе, драма одновременно разрешает борьбу через примирение противоборствующих сил. Итак, борьба, катастрофа и примирение — решающие компоненты драматического действия, составляющие его специфику, отличающие его от действия, изображаемого лирикой и эпосом.
Что такое, с точки зрения Гегеля, катастрофа? Гибель индивидуальности в процессе борьбы ради утверждения правоты своей цели. Но не только в этом смысл катастрофы. Она у Гегеля имеет и другой, столь же важный аспект. Катастрофа утверждает не только правоту героя, не только величие цели, ради которой тот отдал жизнь, — она же обнажает и «снимает» ограниченность, односторонность каждой из сил, участвовавших в борьбе.
Иные из интерпретаторов Гегеля, соблазняясь его трактовкой конфликта как борьбы направленных друг против друга акций и реакций, действий и противодействий, вместе с тем отвергают его мысль о конечном примирении враждовавших сил как единственно закономерном решении конфликта. Они считают такое разрешение никак не соответствующим ни потребностям нашей художественной практики, ни нашим теоретическим представлениям.
Так, например, автор одной из работ, ссылаясь на «плодотворные» мысли Гегеля о драматическом конфликте, вместе с тем заявляет: «В противоположность гегелевскому пониманию разрешения драматических конфликтов путем их примирения, их нейтрализации, логически вытекающим из идеалистической системы Гегеля, марксистско-ленинская эстетика исходит из того, что противоречия разрешаются лишь через борьбу нового со старым, что в этой борьбе неизбежна конечная гибель всего старого, отжившего, реакционного и торжество нового, прогрессивного. Действительный художник-реалист не может строить развязку, финал произведения как примирение сталкивающихся по ходу действия характеров, как нейтрализацию конфликта»[139]. Но отказавшись от примирения, надо бы отказаться и от смысла гегелевской трактовки борьбы, предшествующей примирению, ибо тут одно с другим связано органически. Самый характер ведущейся борьбы предусматривает примирение, непременно ведет к нему.
Ни о какой бы то ни было «нейтрализации» конфликтов у Гегеля речи нет и быть не может. Если мы вдумаемся в ход его мыслей и поймем, каковы с его точки зрения «силы действия», проявляющие себя в борющихся друг с другом характерах, мы убедимся в том, насколько глубоким и последовательным является гегелевское толкование драматического конфликта и драматической катастрофы. В отличие от некоторых своих будущих интерпретаторов Гегель вовсе не рассматривает происходящую в драме борьбу как столкновение таких абсолютно полярных сил, как «прекрасное» и «безобразное», «положительное» и «отрицательное», «старое» и новое», «доброе» и «злое». Поэтому речь, разумеется, не идет у Гегеля о «примирении» подобного рода противоположных сил.
Каждая втянутая в конфликт индивидуальность воплощает в своих действиях лишь одну какую-то сторону субстанции, одно из ее начал. В ходе драматической борьбы индивидуальность выявляет всю значительность, присущую той субстанциальной силе, которую она своими действиями отстаивает; вместе с тем в ее поступках обнажается и определенная ограниченность, ибо за этими поступками ведь стоит не вся субстанция в ее целостности, а какая-то одна из сторон, на которые она раскололась.
Когда Гегель говорит об одностороннем пафосе героя, об объективно противоречивом содержании поступков как следствии этой односторонности, он не думает осуждать героя ни за одержимость пафосом, ни за противоречивость достигаемых им результатов. Не осуждение, а восхищение вызывало это у Регеля.
Если многие характерные для XIX века рассуждения о героях Шекспира сводились к морализированию: не надо слишком любить, слишком ревновать, чрезмерно отдаваться честолюбию или тщеславию, ибо все это кончается плохо, — то Гегелю подобное дешевое благоразумие было совершенно чуждо. Он, напротив, превыше всего ставил целеустремленность, готовность героев жертвовать собой ради высокого принципа, ибо только это, с его точки зрения, и придает их существованию подлинный смысл.
Когда катастрофически обнаруживаются ограниченность, односторонность каждой из борющихся сил, это ведет, по мысли Гегеля, к их примирению. Оно необходимо, ибо катастрофа обнажает не только враждебность борющихся сил, но и их взаимосвязанность. Начинается все со взаимного отрицания. Но в ходе действия и в его итоге борющиеся силы предстают перед нами как дополняющие и даже утверждающие друг друга. Именно поэтому все действие и завершается «позитивным примирением».
Дело в том, что речь ведь идет не о примирении в эмпирическом, элементарном смысле слова. Исчерпавшие себя в борьбе, изнемогшие, погибающие герои не имеют никаких возможностей подать друг другу руки, а пока они живы, они никогда не станут этим заниматься. Тут имеется в виду другое. Речь у Гегеля идет о таком «примирении», благодаря которому расколотая, раздираемая противоречиями субстанция восстанавливает свою целостность.
Но и «восстановление» тут относительное. В итоге борьбы субстанция вовсе не возвращается к первоначальному исходному своему состоянию. Будь это так, борьба была бы бесплодной. Она плодотворна, поскольку благодаря ей рождается новая ситуация, в которой затем тоже возникнет борьба новых противоречий.
В соответствии с гегелевской концепцией неправомерно требовать от подлинной драмы изображения борьбы «положительного» с «отрицательным» или «нового» со «старым» и победы положительного и нового над отрицательным и старым. Такую развязку Гегель считал плоской и бессмысленной: для него конфликт плодотворен только в том случае, когда каждая из втянутых в него сил по-своему содержательна. Трудный, мучительный процесс вырастания нового — это процесс отрицания и преодоления в «старом» всего в нем отжившего и одновременно сохранения и развития того, что было в нем рационального, содержательного, субстанциального. Только так, по мысли Гегеля, новое и может появиться. Больше ему неоткуда взяться.
Борющиеся в драме силы, сталкивающиеся в ней цели Гегель увидел как объективно противоречивые, хотя сами действующие лица понятия об этой противоречивости не имеют. Они до предела одержимы своим пафосом, своими стремлениями, являясь в этом смысле фигурами цельными. Но то, что сами герои либо вследствие своей односторонности, либо вследствие своей гибели не успевают сделать, предстоит осознать и осмыслить зрителю.
Именно его драма побуждает постигнуть обоснованность борьбы, которую вела каждая из сторон. Вникая в значение и одержанных ими побед, и поражений, нанесенных ими друг другу, зритель осознает, что в такого рода разрешении драматической борьбы нет места ни победителям, ни побежденным, нет попрания одного пафоса другим.
Душа зрителя, потрясенная участью погибших героев трагедии, вместе с тем удовлетворена и успокоена сутью происходящего, состоящей в том, что над каждой из борющихся сил, стремившихся отрицать и подавить другую, утвердив только себя, одерживает победу сила, возвышающаяся над ними — и не формально, а содержательно их превосходящая.
Содержательный смысл самой драматической структуры — прежде всего структуры трагедии — в том и состоит, что, увлекая нас перипетиями борьбы, остротой отношений, складывающихся между персонажами, динамикой переходов начальной ситуации в коллизию, конфликт, катастрофу и примирение, драма вовлекает нас в процесс решения сложнейших противоречий бытия.
Трактуя так смысл движения действия в трагедии и завершающих его катастрофы и примирения, Гегель показывает, что по самой своей структуре драма предназначена выявлять несовпадение целей индивидов с результатами их действий. При этом выявляется сложная диалектика свободы и необходимости в деятельности человека и в историческом процессе. Драматическая борьба, перерастая в конфликт, катастрофу и примирение, именно таким путем раскрывает диалектику свободы и необходимости, самый процесс рождения необходимости из свободы. Структура драмы призвана показать, как через действия людей, руководствующихся своей волей, своим разумом, своим пафосом, драматически и даже трагически прокладывает себе дорогу необходимость.
Хотя герои трагедии, казалось бы, действуют подобно реальным людям, ее структура вовсе не воспроизводит хода реальной жизни, представляющей собой хаос действий и противодействий, сплетение страстей и нагромождение поступков. Нет, структура трагедии с ее непременными «частями» — ситуацией, коллизией и конфликтом, с ее борьбой, непременно разрешающейся Катастрофой-примирением, воплощает не эмпирический ход жизни, а то, что Гегель называл «хитростью истории». Все движение действия в драме подчинено выявлению этого таинственного, для отдельного лица непредвидимого, но в целом мудрого ее хода.
Когда Гегель писал о «хитрости истории», приобщиться к которой человек, правда, может не только через искусство драмы, но с еще большим успехом через философию (в особенности — через гегелевскую), он в идеалистической, мистифицированной форме выразил мысль, получившую в марксизме материалистическое истолкование. «История, — писал Ф. Энгельс, — делается таким образом, что конечный результат всегда получается от столкновений множества отдельных воль». В истории «имеется бесконечное множество перекрещивающихся сил, бесконечная группа параллелограммов сил, и из этого перекрещивания выходит один общий результат — историческое событие… Ведь то, чего хочет один, встречает препятствие со стороны всякого другого, и в конечном результате появляется нечто такое, чего никто не хотел»[140].
Если в истории событие является результатом столкновения множества сил, если сознанию единичного человека воспринять это трудно, да, пожалуй, и невозможно; если обыденному сознанию столь же трудно соотнести эти сложные столкновения с неким определенным разумным результатом, то, по мысли Гегеля, искусство драмы призвано к выполнению именно подобных задач. Энгельс говорит: в результате получается нечто, чего не хотел никто. Идеалист Гегель формулировал это по-своему: драма показывает, как получается нечто, чего хотел хитрый мировой разум.
Возвращаясь к вопросу, поднятому Атанасом Натевым, можно сказать: когда Гегель говорит о сущности и назначении драмы, он при этом одновременно выясняет, каково ее строение, как складываются драматические структуры. Для Гегеля эти вопросы друг от друга неотделимы.
Глава VI
«Лекции по эстетике» Гегеля. Герой античной трагедии как воплощение субстанционального принципа, конфликт как столкновение двух правд («Антигона» Софокла). Развитие образов в «Антигоне», «Филоктете» Софокла, «Хоэфорах» Эсхила. Динамика целей и средств в «Ифигении в Авлиде» Еврипида.
Обосновывая свое понимание смысла драматической борьбы и соответствующей ему художественной структуры, Гегель обращается прежде всего к античной трагедии, и в особенности к «Антигоне» Софокла — этому абсолютному для него образцу трагедии.
Поскольку античный мир еще не был «готовым миром», это открывало перед поэтами возможность изображать человека, поступающего в соответствии со своими страстями, характером и волей. Проявляя свободную «самостоятельность», он, однако, осуществлял при этом требования права, справедливости и нравственности. Тут ведь индивидуальные склонности и влечения совпадали с тем, что нужно было мировому разуму. Поэтому в греческой трагедии борьба людей — всегда конфликт между разными принципами, содержательными, но односторонними.
И в «Антигоне» Гегель обнаруживает такой конфликт. С его точки зрения, Софокл не отдает предпочтения ни Антигоне, ни Креонту. Царь вовсе не тиран, он тоже воплощает нравственное начало. Если каждый из героев «осуществляет и имеет своим содержанием лишь одну из нравственных сил», смысл торжествующей в трагедии вечной справедливости состоит в том, что обе силы «оказываются неправыми, ибо каждая — односторонняя, но тем самым также обе правы»[141]. Говоря об эсхиловских «Эвменидах», Гегель делает замечание, очень важное для его теории драматического конфликта, характера и поступка: «Один и тот же акт (Ореста. — Б. К.) выступает как злодеяние и в то же время как совершенная, существенная необходимость»[142].
Этому аспекту гегелевской мысли об объективно противоречивом содержании драматического поступка в нашей литературе не всегда уделялось должное внимание: когда драматургический конфликт сводят к борьбе абсолютно полярных сил, то чаще всего вынуждены игнорировать противоречивую природу драматического поступка.
По Гегелю, сам герой не только не осознает противоречивости своих целей, но делать этого не может и не должен. Такая точка зрения, не до конца справедливая по отношению к герою античной трагедии, мешала Гегелю верно оценить поведение многих героев послеантичной драматургии.
Гегелевская трактовка конфликта «Антигоны» как борьбы двух правд вызвала много возражений. В большинстве случаев они сводятся к тому, что «ничто не способно больше исказить наше суждение об «Антигоне», чем взгляд на них как на конфликт принципов». Тут — «не соревнование принципов, а конфликт живых существ, конфликт личностей»[143]. Здесь герои находятся не во власти «идеологии», а во «власти страстей»[144].
Такого рода суждения, как нам кажется, беднее гегелевских и суживают наши представления о содержании «Антигоны» и о смысле драматургического конфликта вообще. Суть-то в том, что Гегель самую страсть рассматривал исторически. Для него эмоции и страсти, движущие людьми, не вневременны, ибо голосом страсти всегда говорит мировой дух на определенной стадии своего развития. Поэтому для Гегеля страсть неотделима от нравственного принципа, воплощаемого героем, а принцип этот неотделим от страсти, бушующей в его душе.
Антигегелевские трактовки «Антигоны» часто основываются на том, что выражение определенного нравственного принципа находят только в действиях героини. Автор одной из новейших работ В. Ярхо видит в Креонте всего лишь тирана и к тому же недалекого. А раз это так, то Гегель неправ и в «Антигоне» нет конфликта между двумя принципами — государственным и божественным законами. Конфликт там иной: между естественным, божественным и потому подлинно государственным законом, во имя которого действует Антигона, и произволом Креонта. Крах Креонта свидетельствует о полной и абсолютной несостоятельности его позиции — такова точка зрения В. Ярхо на смысл и исход конфликта[145].
Но ведь для афинянина сороковых годов V века до н. э., а тем более для такого афинянина, как Софокл, не мог не возникать вопрос о соотношении между законом древним, «божественным», и законом новым, государственным. Ведь на глазах афинян государственные законы претерпевали весьма существенные изменения.
И если Креонт впервые предстает перед нами как страж интересов государства, с монологом, исполненным сугубо патриотического понимания своего гражданского долга, то у нас нет оснований не верить в искренность и значительность пафоса, воодушевляющего его. В. Ярхо же не верит Креонту и даже его первому монологу, ибо тот, «как это постепенно выясняется, в искаженном свете видит обязанности царя и ошибается в определении границы своих возможностей»[146]. Но разве дело в том, что нечто всего лишь «выясняется»? В Креонте происходят реальные изменения. Трагедия показывает меняющегося человека, а не готового тирана, до поры до времени скрывающегося под маской ревнителя государственных интересов.
Сопоставляя позицию Гегеля с позициями его критиков, можно выявить не только слабые, но и сильные стороны в его подходе к «Антигоне» и к античной трагедии вообще. Конечно же, в «Антигоне», как и в любой античной трагедии, за каждым значительным героем стоит некая правда. Даже, скажем, еврипидовский Язон вовсе не является насквозь «отрицательным» персонажем, борющимся с «положительной» Медеей.
Иногда приходится читать работы, где в Медее видят жертву (?) несправедливого строя жизни. Между тем у Еврипида в «Медее» ведь тоже конфликт двух правд, двух пониманий жизни, даже двух различных человеческих культур. Медея — варварка. Язон — цивилизованный грек. У каждого из них свои, по-своему оправдываемые позиции, представления и запросы. Мир Медеи, волшебницы и преступницы, — поэтичен. Но и ее волшебство, и ее необузданность, и ее поэзия явно отжили свой век. Во всяком случае, все это неуместно в прозаическом мире того города, где они теперь обитают и верным сыном которого по духу является Язон. И когда он, взывая к благоразумию Медеи, говорит о том, что озабочен будущим детей и думает о том, как их пристроить, то нисколько не лжет и не лукавит. Но Медея-то понять его правды не может, ибо она вообще иначе думает о жизни и хочет от нее совсем не того, чего хотят Язон и все его окружение.
Если, стало быть, мысль Гегеля о двух правдах в определенной мере справедлива даже по отношению к Еврипиду, то в еще большей мере она верна, когда речь идет о Софокле и особенно об «Антигоне».
Но вдумываясь в «Антигону» или «Филоктета» того же Софокла, в еврипидовскую «Ифигению в Авлиде», убеждаешься в том, что, справедливо усматривая в герое античной трагедии воплощение некоего принципа, Гегель трактовал вопрос несколько фаталистически. Как увидим, принцип не есть нечто раз и навсегда данное — даже заданное — герою. В трагедии мы часто видим поиски принципа, самое его рождение (например, в «Ифигении в Авлиде»), видим мы и его перерождение.
По отношению к «Антигоне» позиции Гегеля и его противников нередко совпадают в одном очень существенном пункте: образы Креонта, да и Антигоны они воспринимают как статические, неизменно верные одной цели. Каких-либо перемен, происходящих в Креонте, Гегель увидеть не мог, ибо подходил к нему как к герою, от начала до конца воодушевленному единым пафосом государственных интересов. Столь же последовательно одержимой своим единым пафосом представала перед Гегелем и Антигона. Здесь, как и в любой другой трагедии, Гегель всегда видел источник драматического движения в борьбе противостоящих друг другу персонажей, их неизменных «пафосов», их содержательных целей.
Но в античной трагедии (разумеется, в иной мере, в иной форме, чем в шекспировской и более поздней драме) драматизм порождался еще и тем, что, воздействуя друг на друга, герои сами при этом менялись. Эти изменения, да еще вторгавшиеся со стороны неожиданные обстоятельства углубляли коллизию, открывали новые ее слои и аспекты.
Креонт — вовсе не тиран. Креонт — только тиран. Каждая из этих противоположных оценок игнорирует динамику образа. Безраздельная преданность отчизне — не только главная тема первого монолога Креонта, но и его искренняя, принципиальная позиция. Однако в процессе стремительно развивающегося действия в Креонте происходят перемены, достаточно резко обозначенные.
Из стража интересов государства он, встретив неповиновение, превращается в упрямого блюстителя закона. От эписодия к эписодию в установках Креонта происходят для него самого незаметные, но для Антигоны, Гемона, зрителя весьма существенные сдвиги. Любое сопротивление своей воле он все более решительно готов воспринять как нечто недопустимое и противозаконное. В третьем эписодии, в сцене с Гемоном, Креонт уже не обинуясь заявляет: «Государство — собственность царей».
Антигона, а затем и Гемон отваживаются ему перечить. И тогда Креонт из человека, не только отождествлявшего свои интересы с государственными, но ставившего именно последние превыше всего, превращается в правителя, для которого превыше всего его самолюбие, его воля, его властолюбие. Теперь он всюду готов видеть угрозу своему престолу. Он становится столь болезненно подозрительным, что даже робкую Йемену способен счесть заговорщицей.
Тиресий в пятом, именно лишь в пятом эписодии называет Креонта тираном. Не потому ли лишь теперь звучит роковое слово, что появляется Тиресий, которому позволено говорить то, о чем другие смеют только думать? Нет, дело не только в этом. Сказать ранее такое слово — значило бы совершить несправедливость, ибо Креонт его еще не заслуживал. Даже в третьем эписодии хор, вообще-то относящийся к Креонту достаточно сдержанно, все же реагирует на его первую речь в споре с Гемоном словами:
Коль в заблужденье нас не вводит возраст, Нам кажется, ты говоришь умно.Хор даже называет речи Креонта и Гемона равно прекрасными. Сам же Гемон в процессе спора, когда Креонт, все более впадая в высокомерие, требует уже подчинения не закону, а правителю, в конце концов называет поведение отца и глупым и сумасбродным. Эти слова Гемона готовят нас к тому, что скажет Тиресий в пятом эписодии. Так, сдвиги в Креонте, выражающие перерождение его пафоса, отмечают Гемон и Тиресий.
Гегель заявление Тиресия попросту игнорирует. Для него существует только Креонт из первого эписодия, и хотя уже там дают себя знать его тиранические замашки, Гегель их не замечает — ведь герой трагедии должен на протяжении всего действия жить одним пафосом и быть обуреваем единой содержательной целью.
Образ Антигоны тоже не исчерпывается лишь тем, что видит в нем Гегель. И тут опять же сказывается ограниченность его трактовки пафоса и характера драматического героя.
Если происходящие в Креонте изменения выражаются в его акциях, направленных против других лиц — Антигоны, Исмены, Гемона, то по-иному дело обстоит с Антигоной. Как можно судить по образу Антигоны, перемены в герое не всегда ведут к тому, что он в соответствии с ними обязательно что-либо предпринимает, дабы изменить свое положение. Видимо, одно дело — состояние героя, другое — его положение, его место в ситуации. Наличная ситуация может с виду остаться неизменной. Но выражая себя в ней по-новому, герой способен тем самым необычайно углубить ее смысл.
В Антигоне важны не только ее акции, но и ее состояния, весьма противоречивые, и переходы из одного состояния в другое. Чаще всего, говоря об Антигоне, отмечают жажду жизни, пробуждающуюся в ней тогда, когда она направляется в пещеру. Между тем динамика желаний и чувств Антигоны этим не исчерпывается. В прологе и первых эписодиях она как будто вся устремлена к тому, чтобы похоронить брата и выполнить божественный закон. Но это только так кажется. Она ведь удручена и подавлена участью своего отца Эдипа, участью братьев, тяготеющим над их домом проклятьем. Она думает о смерти как избавлении от страданий. «Мне сладко умереть, исполнив долг», — говорит она Йемене еще в прологе. Там же, в ответ на нежелание Исмены браться за безнадежное дело, она произносит:
Ты ненавистна мне с такою речью, И мертвому ты станешь ненавистной. Оставь меня одну с моим безумством Снести тот ужас: все не так ужасно, Как смертью недостойной умереть.Не только идеей исполнения долга живет, как видим, Антигона, но и идеей достойной смерти. Она стремится к смерти, жаждет ее — тема эта звучит и во втором эписодии, когда в споре с Креонтом она мотивирует свой поступок, между прочим, и следующим образом:
…знала, что умру И без приказа твоего, не так ли? До срока умереть сочту я благом. Тому, чья жизнь проходит в вечном горе, Не прибыльна ли смерть?И снова, в том же эписодии, на этот раз уже к Йемене обращены слова:
Но ты предпочитаешь жизнь, я — смерть.Смерти Антигона ждет как блага. С точки зрения элементарной логики и бытового правдоподобия эти настойчивые слова о смерти в устах Антигоны не очень уместны, ибо ведь у нее есть жених, прекрасный и благородный Гемон. Приближающееся замужество противоречит словам о жизни, проходящей в вечном горе, от которого может избавить только смерть. Но в трагедии Софокла господствует не элементарная, а своя художественная логика, характерная для определенного — именно античного — эстетического сознания[147].
Да, Антигона собирается замуж, но все время говорит о смерти, хотя, как она об этом скажет позднее, замужество для нее дело нешуточное, полное высокого смысла. Но вот предпочитавшая жизни смерть Антигона движется к героической гибели. И именно в тот момент, когда смерть уже неминуема, в ней прорываются страстная любовь к жизни, жажда замужества и материнства.
Не стихает жестокая буря в душе Этой девы — бушуют порывы!Так откликается хор на предсмертный плач Антигоны. Да, бушуют порывы, тут целая буря. Тут «воления». Тут сложные действенные состояния. Но все это не получает прямого выражения в каких-либо новых поступках. В связи с бушующими в ней порывами Антигона ничего не предпринимает. Буря не ведет к каким-то акциям. Порывы сами и есть акции. Но такого рода акции Гегель ведь не очень ценил, ему нужны были не порывы, а поступки — «осуществленная воля». Когда Антигона умирает, то тем самым осуществляется воля и Креонта, и самой Антигоны. Но гибель во имя долга имела бы тут совсем иной смысл, если бы Антигона шла к пещере в первоначальном своем состоянии, когда смерть вообще была ей милее жизни. Теперь, когда, напротив, жизнь ей стала желаннее смерти, все происходящее наполняется особым трагическим смыслом.
Оказывается, драматическое содержание «Антигоны» не укладывается в границы, предлагаемые Гегелем. Оно шире, многообразнее и богаче того, что заключают в себе «акции» и «реакции», когда под ними понимают только «осуществленную волю».
Если мы обратимся к софокловскому же «Филоктету», окажется, что он еще больше, чем «Антигона», написан «не по Гегелю», хотя и к этой трагедии философ неоднократно обращался, обосновывая свое понимание принципов драматической поэзии.
В самом Филоктете Гегель обнаруживает и превыше всего ценит твердость, которая «полна содержания и нравственно оправданного пафоса»[148]. Но действительно ли Филоктет столь тверд? Упорствуя в своем решении не отправляться в лагерь греков вместе с Одиссеем, он в итоге поступает прямо противоположным образом. Трактуя этот поворот действия в «Филоктете» как «внешний и неорганичный», Гегель все же признает, что тут имеет место не простое повиновение Филоктета приказанию Геркулеса, то есть силе, вторгающейся извне. Новое решение Филоктета, признает Гегель, «достаточно мотивировано и отвечает нашему ожиданию»[149].
Как же так: поворот одновременно и «неорганичен» и «мотивирован»? Дело, разумеется, в том, что драматург задумал образ героя, который меняет свои решения, но нисколько не теряет при этом своего характера, не превращается по этой причине в пассивное, % безвольное орудие внешних (божественных) сил. Гегель почувствовал, насколько у софокловского героя это изменение пафоса оправданно. Вместе с тем он не мог забыть и о своей установке: пафос меняться не должен.
Интерес Софокла к трагическому герою, круто меняющему свое поведение, еще более ясно выражен в образе Неоптолема. О нем, видимо, по этой причине Гегель предпочитает вообще не говорить.
Между тем, хотя трагедия и названа по имени Филоктета, ее подлинный герой — юноша Неоптолем[150]. Он, сын погибшего Ахилла, жаждет прославиться, разрушив наконец Трою. Но для этого надо завладеть чудодейственным луком Филоктета, доставшимся тому от самого Геракла. Заполучить лук трудно, и коварнейший Одиссей уговаривает честнейшего Неоптолема пойти на обман и даже на коварство. Неоптолем действительно одержим пафосом разрушения Трои, однако Одиссею приходится затратить много усилий и софизмов, прежде чем тот соглашается последовать предложенным ему путем.
Решись! вновь станем честными… потом… Забудь же стыд… — всего на день один. Доверься мне… а после почитайся Весь век благочестивейшим из смертных! —так убеждает Неоптолема Одиссей. Но можно ли сегодня пойти на заведомую подлость, чтобы завтра на всю жизнь превратиться (или прослыть) благочестивейшим человеком? Именно это и должен для себя решить Неоптолем.
Гегель пренебрежительно не замечает Неоптолема, перед которым встают не менее, а гораздо более острые нравственные проблемы, чем перед Филоктетом. Образ Неоптолема необычайно интересен и драматичен. То, что Одиссей хотел бы превратить в само собой разумеющуюся и не требующую больших раздумий акцию, для Неоптолема становится трудным вопросом. Он даже готов в порыве честолюбия завладеть луком открыто, силой, но не обманом и предательством. Идейный спор между Неоптолемом и Одиссеем нарастает: зрелый муж убеждает юношу, для которого «ложь — позор», будто это вовсе не так. Слова могут расходиться с делом, думать надо не о средствах, а о цели — вот чему учит опытный Одиссей незрелого Неоптолема.
Так, задолго до Канта и Шиллера, возникает в античной трагедии их проблематика. Многоопытный Одиссей доказывает, что цель оправдывает средства. Можно другого человека, Филоктета, превратить в средство достижения высокой цели — победы над Троей. Даже убивать его впрямую нет надобности, можно не брать на душу такого греха. Достаточно отнять у него лук, которым он, правда, кормится. Неоптолем смутно ощущает во всех этих рассуждениях нечто неладное. Его нравственное чувство противится всему этому. Наступает, однако, момент, когда он поддается внушениям Одиссея и принимает трудно доставшееся ему решение:
За дело же! И пусть умолкнет совесть!Но когда лук им уже похищен, Неоптолем вновь начинает сомневаться в правомерности своего поступка. Возникает та самая внутренняя борьба, которую Гегель был готов называть «галиматьей». Софокл дает этапы этой борьбы: смущенье переходит в страдание и мучение. Кончается же все раскаянием: Неоптолем во всем признается Филоктету, хотя лука еще не решил вернуть. Тут появляется Одиссей и вступает в страстный спор с Филоктетом. У каждого из спорящих — свои аргументы. Неоптолем внимает обоим. Одиссей, ссылаясь на волю богов, требует, чтобы Филоктет отправился под Трою вместе со своим чудодейственным луком. Филоктет же не согласен помогать людям, которые, когда выяснилось, что он неизлечимо болен, безжалостно, бесчеловечно выбросили его на необитаемый остров.
Мучимый раскаянием Неоптолем уходит вместе с Одиссеем. Следует сцена спора между Филоктетом и хором — как бы продолжение спора, начатого между ним и Одиссеем. Хор убеждает страдальца покинуть остров: под Троей его ждет исцеление от раны. Филоктет, однако, неумолим. Тогда возвращается Неоптолем. «Спеша исправить сделанное зло», он готов вернуть лук законному владельцу. Одиссей, стремясь предотвратить это, не скупится ни на доводы, ни на угрозы.
Одиссей
Что ты намерен сделать?.. Страшно мне…Неоптолем
Он дал мне лук… И вот намерен я…Одиссей
О Зевс! Что говоришь? Уж не вернуть ли?Неоптолем
Я взял его обманом, не по праву.Спор обостряется и выявляет твердость новой позиции Неоптолема, которая, если вдуматься, внутренне связана с прежней. Он следует велениям совести, он не желает поступиться нравственностью во имя «выгоды», к чему его уже склонил было Одиссей. И когда тот, убедившись в непреклонности Неоптолема, восклицает: «Твои слова и действия — безумны», — сын Ахилла парирует этот возглас словами: «Но честны, — честность выше, чем расчет». Теперь Неоптолем, выйдя из-под власти Одиссея, готов схватиться за меч и побуждает того уйти несолоно хлебавши.
Софокл показал тут и последний этап внутренней борьбы: проходя путь от смущенья к раскаянью, Неоптолем кончает тем, что, «переменив решение», возвращает Филоктету его оружие. Борьба тут сугубо внутренняя: никакие силы извне ее не стимулируют. Вернув лук, Неоптолем не только очищается от лжи и грязи, не просто возвращается в прежнее, исходное свое состояние. Это уже и другой человек.
Теперь уже он находит веские слова убеждения, стремясь склонить Филоктета поехать с ними добровольно. Его доводы основательны и мудры. Когда же Филоктет и этим доводам не внемлет, Неоптолем изъявляет благородную готовность отвезти калеку на родину, хотя это может навлечь беды на самого Неоптолема и его родной город. Вот тогда-то, когда Неоптолем вообще отказывается от своих честолюбивых замыслов и озабочен лишь тем, как выполнить данное Филоктету обещание и доставить его в родной дом, появляется Геракл и побуждает Филоктета и Неоптолема отправиться под Трою.
Казалось бы, Филоктет всего только подчиняется Гераклу. Тут как будто имеет место не самостоятельное решение, а всего лишь выполнение требования бывшего владельца лука, которому Филоктет «не покорствовать не смеет». И все же здесь именно решение, поступок, внутренне подготовленный.
Подготовлены к нему и мы, ибо воспринимаем Геракла как силу, не столько приказующую и давящую, сколько помогающую Филоктету окончательно преодолеть в себе то, что уже не соответствовало новой ситуации и превращало его из волевого человека в упрямца. Геракл как бы только довершает начатое Неоптолемом. Продолжай Филоктет держаться за старое, упорствуй он и далее — это было бы уже безосновательно и внутренне неоправданно. Продолжай Филоктет тешить свою старую обиду, характер превратился бы из великого в ничтожный. Вопреки Гегелю, именно перемена решения спасла Филоктета от этого и оказалась условием сохранения величия характера. Гегель прямо признать этого не захотел, но косвенно с этим полусогласился, не осудив Филоктета за то, что тот отказался от своей непреклонности.
Новое решение Филоктета, говорил Гегель, достаточно мотивировано, мы ожидаем такого решения. В общей форме это верно. Но если бы философ взялся выяснить причины, по которым мы ожидаем именно такого исхода, он увидел бы рядом с Филоктетом Неоптолема, всмотрелся бы в него и задумался бы над противоречивыми его поступками, над их мотивами.
Когда видишь их обоих рядом, обнаруживаются интереснейшие особенности в структуре и содержании трагедии. Становится ясно, что перемена решения у Филоктета подготовлена не только разумными доводами Неоптолема и Геракла, не только открывающейся перед ним благоприятной перспективой под Троей. Обнаружилось бы, что Филоктет тут как бы следует за Неоптолемом.
Тот ведь уже успел ранее Филоктета переменить одно решение, давшееся ему очень нелегко, на другое, давшееся ему с еще большим трудом — ценой отказа от честолюбивых замыслов и надежд. В Неоптолеме — образе для античной драматургии новаторском — Софоклу была важна внутренняя борьба, взвешивание мотивов, способность, несмотря ни на что, внять велениям сердца и совести. Филоктет, на чьих глазах происходит эта борьба, как бы становится не только ее свидетелем, но и соучастником. Свое новое решение Неоптолем принимает на глазах Филоктета, делая это подчеркнуто резко. Тем самым он побуждает и Филоктета круто изменить свою позицию.
Так в структуре трагедии оказываются два поворота. Они соотносятся и связаны друг с другом как результаты изменения позиций обоими героями. Каждая из этих перемен отнюдь не свидетельствует о слабости характера. Напротив, она становится выражением силы, а в случае с Неоптолемом — возмужания и нравственного роста. Пафос борьбы, столкновений, противодействий подчиняется тут пафосу преодоления. Тут два героя — каждый по-своему, побуждаемые друг другом, преодолевают в себе то, что могло бы только умалить, принизить, вовсе извратить их человеческое достоинство. Драматизм «Филоктета» порождается, таким образом, не столько борьбой героев, верных своим неизменным целям, сколько их способностью отказаться от устаревших или неизменных целей и средств во имя целей новых.
Не только в «Филоктете», но и в иных античных трагедиях герои, вопреки представлению Гегеля, не всегда движимы единым и всепоглощающим пафосом. Колебаниями, неуверенностью, то есть трудными поисками решений в проблемных, противоречивых ситуациях, характеризуются, например, образы Ореста у Эсхила, Ифигении Авлидской у Еврипида.
Орест в «Хоэфорах» является как будто с вполне готовым решением, с приказанием, исходящим от Аполлона. Но что же все-таки представляют собой «Хоэфоры»? Ведь на исполнение акции — самого убийства Эгиста и Клитемнестры — уходит несколько мгновений сценического времени (к тому же встречи Ореста с Эгистом мы вообще не видим, мы только слышим предсмертный крик последнего). Все действие в «Хоэфорах» отдано изображению двух важнейших стадий из тех трех, что у Эсхила входят в структуру драматического поступка, предстающего как процесс, требующий времени и во времени длящийся.
Главное для Эсхила, как и для Софокла и Еврипида, — не самая акция, а предшествующая ей стадия принятия решения и следующая за ней стадия узнавания его неожиданных последствий, когда страдания героя, уже начавшиеся ранее, приобретают наибольшую силу и глубину.
Орест прибыл с приказом, который нельзя не выполнить: ослушайся он Аполлона, его будут жестоко преследовать эринии.
Он приказал мне, не боясь опасности, Идти на все. Чудовищными муками, Такими, от которых стынет в жилах кровь, Грозил мне, коль я убийц родителя Не накажу и смертью не взыщу за смерть.Казалось бы, чего тут раздумывать, надо действовать. Но Орест, этот первый Гамлет в мировой драматургии, медлит. И Эсхил его не торопит. Ведь еще до появления Ореста Электра задает хору невольниц, как и она, пышущих ненавистью к Эгисту и Клитемнестре, очень трудный вопрос:
Кого мне звать — судью или карателя?Хору явно нужен мститель, для Электры же тут сложная проблема. Одержимая злобой, ненавистью, она все же хотела бы глубже представлять себе смысл и цель действий, к которым она вскоре станет призывать своего брата.
А тому, оказывается, мало одного приказа Аполлона-Локсия. Поэтому, как уже говорилось ранее, сцены плача хора и Электры над гробом Агамемнона приобретают здесь особое значение. Все, что вспоминают Электра и хор о зверском убийстве Агамемнона, все эти подробности, одна другой страшнее, призваны убедить Ореста и нас в оправданности, необходимости поступка, совершить который Оресту приказал Аполлон.
И Орест, и мы поддаемся, не можем не поддаться воздействию плача. В этом коренное, принципиальное отличие отношений между Электрой и Орестом в «Хоэфорах» от отношений между Неоптолемом и Филоктетом в трагедии Софокла. Там Неоптолем убеждает и словом и делом, однако Филоктет все же следует этим убеждениям только после санкции Геракла. Здесь божественная санкция имеется с самого начала, но ее мало. Нужны еще и доводы — разумные и эмоциональные. И только тогда, когда этих доводов достаточно, Орест может действовать:
Все к одному ведет, все на одном сошлось — И Локсия приказ, и по отцу тоска, И эта нищета, нужда проклятая, И то, что наши доблестные граждане, Сумевшие твердыню Клиона взять, Двум женщинам сегодня подчиняются: Он сердцем не мужчина — скоро все поймут.Однако, когда, убив Эгиста, Орест готов свершить суд над матерью, между ними возникает спор. Тут происходит та самая борьба разных правд, что вполне закономерно искал в трагедии Гегель. Оба они — Орест и Клитемнестра — оправдывают свои позиции. Но мы-то знаем, что вещие сны мучают царицу, вовсе не столь уверенную в своей правоте, как она это показывает.
А Орест? Вполне ли уверен, хотя совершает оба убийства? Оказывается, и он не был до конца уверен, ибо действовал, следуя велениям одного субстанциального, нравственного начала, ущемляя и нарушая права другого. Тут, в «Орестее», интересно и то, чему Гегель не придавал и не мог придавать значения. В отличие от «Антигоны», где каждый из героев вполне уверен в себе и где их поступки противоречивы лишь объективно, в «Хоэфорах» эта противоречивость начинает становиться предметом переживания и даже осознавания для самого индивидуума, их совершающего.
Если с виду неколебимую, твердейшую, демоническую Клитем- % нестру тревожат и ужасают сновидения, то Орест своей неуверенности не скрывает. До совершения акции он колебался. Не успел он покончить с делом, как появляются эринии — те самые, которые стали бы его преследовать, если бы он от дела уклонился. Теперь они его преследуют за то, что он не уклонился. Хор наивно полагает, будто бедам в доме наступил конец:
Радость пускай прогремит! Миновали печальные дни.Этим простодушным надеждам хора Эсхил с самого же начала «Орестеи» противопоставляет атмосферу тревоги, разрешающейся первой катастрофой в «Агамемноне». Не приносят избавления от тревог и события «Хоэфор». Для Ореста печальные дни вовсе не миновали. Они вновь наступили. Им одержана гибельная победа. Когда он это осознает, хор в утешение ему заявляет: «Без вины человеку прожить не дано». Слабое утешение: Ореста продолжает терзать сознание вины. Если эсхиловская Клитемнестра в «Агамемноне» поражала нас своей одержимостью, своим пафосом и своей силой, то в «Хоэфорах» она уже лишена драматургом абсолютной уверенности в себе. Рядом же с ней Эсхилом тут поставлен Орест, ищущий, именно ищущий правды, а не заведомо уверенный в своей правоте. И эта погруженность в проблему вовсе не принижает его фигуру и не мельчит ее, а придает ей драматическую глубину.
В еще большей мере, чем Эсхил и Софокл, такими характерами и соответствующими им коллизиями захвачен Еврипид. Его «Ифигения в Авлиде» в этом смысле примечательна в высшей степени. Исходная ситуация там, как известно, такова: по пути в Трою греческие войска застряли в Авлидском порту — попутного ветра нет и не будет, покуда Агамемнон не принесет в жертву Артемиде свою дочь. Царь, как он о том сам сообщает в прологе, вопреки своей воле, под сильным нажимом Менелая, крайне заинтересованного в походе на Трою, принял условия Артемиды. Обманным путем, якобы для того, чтобы отдать ее в жены Ахиллу, Агамемнон вызвал дочь в Авлиду. Но затем он передумал и отказался от «позорного решения».
Однако письмо в Микены, отменяющее ранее посланный Ифи- гении вызов, перехватил Менелай. Младший брат набрасывается на старшего с упреками и бранью. Не жалея черных красок, Менелай рисует Агамемнона карьеристом, льстившим народу, покуда ему это было нужно, а затем забывшим про народ и друзей, способствовавших его успеху. А в трудный момент, когда надолго застрявшие в Авлиде войска возроптали, Агамемнон и вовсе потерял присутствие духа. По словам Менелая, его старший брат буквально ожил, узнав, что от него требуется всего лишь пожертвовать дочерью, и легко согласился пойти на такую сделку:
Сам, ничем не принуждаем, написал, чтоб Тиндарида Ифигению прислала — мол, невесту для Пелида.Теперь же Агамемнон позорно и предательски меняет решение. Расплачиваться же за это его малодушие, недостойное государственного мужа, должна Эллада — ее войска, полные благородной воли к победе над варварами. В ситуации, так обрисованной Мене- лаем, царь предстает весьма отталкивающей личностью.
Но аргументы Менелая разлетаются в прах, когда Агамемнон в свою очередь обнажает убожество его представлений о жизни и людях.
В гордом брате жажда славы раздражает Менелая: Он бывает счастлив, только жен красивых обнимая; Доблесть он считает шуткой, разум, честь — ему забава. О спартанец, пошлость вкуса обличает низость нрава…Как видим, Агамемнон не только защищается, но и нападает. И Менелай сразу же предстает перед нами человеком, погрязшим в своих весьма низменных заботах. Ничего предосудительного нет в отказе от ранее принятого ошибочного решения. Желание сохранить жизнь дочери Агамемнон мотивирует достойным образом:
На меня не полагайся… Не зарежу голубицы, И тебе я — не помощник в исправлении блудницы, Чтобы мужа утешала, оставляя мне на долю Над пролитой детской кровью дни и ночи плакать вволю.Агамемнон тоже, как видим, не избегает сильных слов и резких определений. Высказав свою точку зрения, каждый из братьев остается при своем. Спор этот, несомненно, является предельно острым и беспощадным. И однако, не только это, не накал страстей делает его спором драматическим в подлинном смысле слова.
Первая и только на поверхностный взгляд самая острая часть сцены Агамемнон — Менелай строится на том, что каждый из спорящих не способен внимать другому. Исчерпав все свои доводы и ничего не добившись, каждый из них готов отказаться от дальнейшей полемики.
Все сказал тебе, Атрид, я речью краткой и прямою. Вразумил — тебе же лучше. Нет — и сам дела устрою, —заявляет Агамемнон. В свою очередь и Менелай, поняв, что новые усилия с его стороны ни к чему не приведут, приходит к аналогичному решению:
Ступай, предатель братний… Я ныне Пособия придумаю, друзей Найду иных.Менелай хочет одного, Агамемнон — прямо противоположного. Каждый в своих хотениях неумолим: когда сталкиваются неуступчивые и язвительные герои, столь упорно не желающие пойти друг другу навстречу, то, казалось бы, — такое столкновение «действия» с «противодействием» и должно нести в себе большой заряд драматизма.
Однако дальнейшее течение этой же сцены ведет нас к иному, более глубокому пониманию дела и к иным представлениям о природе драмы и драматического действия. Бесплодное противостояние братьев обрывается неожиданным обстоятельством, оно придает действию новое направление и сообщает ему более глубокий драматизм.
Когда братья уже готовы разойтись, им мешает это сделать вестник: оказывается, Ифигения вместе со своей матерью Клитемнестрой и братом Орестом уже прибыли в Авлиду, уже успели своим появлением всполошить ахейское войско и возбудить в нем толки, предположения и ожидания.
Сообщение вестника меняет ситуацию коренным образом. Неуступчивый и непреклонный Агамемнон сразу же превращается в человека, подавленного неотвратимой бедой. Он очень отчетливо представляет себе и рисует Менелаю картину своей предстоящей встречи с женой, дочерью и сыном, а затем и картину неизбежной гибели Ифигении. Из его уст вырывается проклятье соблазнителю Парису и распутнице Елене. Но и с Менелаем происходит неожиданная перемена, он произносит вовсе неожиданные слова:
Дай руку мне, и помиримся, брат.Он, Менелай, отступает, уступает, отказывается от своих требований, недавно столь агрессивных. Однако теперь и Агамемнон, протягивая руку, делает еще более неожиданное заявление:
Бери, твоя победа, я ж — несчастен.Вот с этого момента действие приобретает подлинно драматическое напряжение. Если перемена в позиции Менелая вызвана пробудившимся в нем состраданием к Агамемнону, то последний изменил свою позицию отнюдь не под воздействием младшего брата, а под напором обстоятельств, неотвратимость которых он успел осознать.
Менелай, однако, продолжает теперь с новой настойчивостью отстаивать свою новую позицию. Если поверить Менелаю, Эллада вовсе не так уж нуждается в смерти Ифигении, как он это запальчиво утверждал совсем недавно. Оказывается, он тогда заботился не об интересах Эллады, а о своих личных.
О смерти Ифигении для выгод Моих прошу не помышлять.Еще недавно видевший в отказе Агамемнона от прежнего решения нечто постыдное и недопустимое, Менелай теперь не находит ничего плохого в перемене, произошедшей в нем самом:
Перебороть в горниле состраданья И вылиться в другую форму — мне Не стыдно, Агамемнон, нет, нисколько! О! Я во зле не так закостенел, Чтоб надо мной права утратил разум.С не меньшей запальчивостью, чем ранее, но с гораздо большей человечностью опровергает он теперь свои прежние доводы. Пересмотр, переосмысление, переоценка героем своих взглядов и своего поведения — один из неиссякаемых источников драматизма, к нему обращались и обращаются самые разные и самые друг на друга не похожие драматурги: Эсхил и Софокл, Шекспир и Шиллер, Ибсен и Чехов, Вишневский и Брехт.
Как ни вразумлял Агамемнон своего брата в начале сцены, это ни к чему не приводило. Но в новой ситуации, глядя на вконец подавленного, исторгающего слезы Агамемнона, представляя себе, как ничего не подозревающую Ифигению ведут на заклание, — Менелай круто меняет свою позицию.
Теперь все, казалось бы, складывается к лучшему для Агамемнона и Ифигении. Но это только так кажется, ибо дело уже совсем не в Менелае. Слова Агамемнона «твоя победа» вовсе не покрывают сложности ситуации. На деле же и Агамемнон, и Ифигения побеждены обстоятельствами. Представляя себе все возможные последствия появления Ифигении в Авлиде, царь понимает, что бессмысленно пытаться спасти ее от смерти:
Мне больше нет возврата, и ножа От дочери я отвратить не в силах.Менелаю дело представляется не столь безвыходным. Вполне наивно он спрашивает:
Что говоришь? Да кто ж велит тебе Убийцей быть тобою порожденной?Раз он, Менелай, не велит, то вполне возможно, так ему кажется, все уладить. Войско повелит, войско потребует, — поясняет Агамемнон.
Еще недавно упрекавший Агамемнона в неблагодарности к народу, Менелай заявляет:
Ты чересчур, Атрид, боишься черни.Дело, однако, не только в «черни», но и в жреце, знающем о требовании Артемиды, и в лукаво честолюбивом Одиссее. Тот непременно встанет во главе войска и прорвется к Ифигении по трупам ее защитников. Все это с беспощадной трезвостью Агамемнон объясняет недальновидному брату.
Когда братья враждовали и «противодействовали», ситуация обострялась тем, что они не давали друг другу спуску. Еврипид прекращает ссору в момент, когда она уже начинает топтаться на месте. Во второй половине сцены братья сдают свои позиции и как бы движутся навстречу друг другу.
Какая из этих двух частей более драматична? Первая, заполненная бранью, оскорблениями, угрозами братьев, неумолимо и твердо стоящих каждый на своем, или вторая? Неподвижный, ограниченный Менелай, до того всецело занятый собою и своей Еленой, оказывается способным понять чужую ситуацию и почувствовать чужое горе. Перед нами предстает новый Менелай. И это не принижает его, а только возвышает в наших глазах. Подлинно драматической сцена становится тогда, когда братья перестают упрямо противодействовать друг другу, когда происходит перемена в позициях братьев и в отношениях между ними.
С первым эписодием в этом смысле координируется четвертый, решающий, кульминационный. Тут все в еще большей мере зиждется не столько на борьбе и столкновении интересов, стремлений, воль, сколько опять же на переменах, происходящих в действующих лицах и в направлении их воль. Тут предстают перед нами новый Агамемнон и новая Ифигения — не те, которых мы знали ранее.
В первом эписодии, осознав безвыходность ситуации, Агамемнон и не подумал отказаться от разработанного ранее способа действий, согласно которому ни Ифигения, ни сверх ожидания появившаяся в Авлиде Клитемнестра не должны знать правды. К жертвеннику дочь будет доставлена обманным путем. Агамемнон будет лгать и жене, и дочери. Но события опять оборачиваются против царя. Клитемнестра, а затем и Ифигения, как ни скрывает этого от них Агамемнон, случайно узнают о готовящейся акции. Снова он перед лицом неожиданных последствий своих поступков.
Первая неожиданность — перехват Менелаем «предательского» письма, как и вторая — появление Ифигении вместе с Клитемнестрой, нисколько не побуждали Агамемнона отказаться от способов, от средств, с помощью которых он намерен был действовать. Но в четвертом эписодии Агамемнон оказывается в новой ситуации, возникновения которой он во что бы то ни стало хотел избежать. Такова, видимо, одна из особенностей драматического действия, отличающая его от иных видов действования, что оно ставит героя в непредвиденные, вовсе неожиданные условия и тем самым побуждает его ко все новым решениям, к выявлению скрытых в нем духовных возможностей. В драме новая ситуация побуждает героя, если он к этому способен, к новому взгляду на проблему, к творческому поиску ее нового решения. При этом герой открывает и себе и другим новые, никому не ведомые стороны своего «я». Герой возвышается над самим собой.
Когда Агамемнон — теперь уже не Менелаю, а жене и дочери — вынужден раскрыть истину, то, казалось бы, он всего лишь будет повторять аргументы, уже ранее высказанные Менелаю. Еще раз скажет про войско, томящееся от безделия и «палимое безумной страстью» к вторжению в Трою, про коварного Одиссея и т. д. Но нет, Агамемнон говорит совсем по-иному и даже совсем об ином.
Его теперешняя речь — реакция на возмущенную тираду жены, на трогательную мольбу самой дочери — ее он ведь особенно понимает и любит. Однако теперь у Агамемнона не только прежние, но и совсем новые аргументы, ибо он по-другому осмысляет, осознает, «узнает» знакомую ситуацию, вскрывая таящиеся в ней противоречия. «Исход решен», — заявляет Агамемнон Клитемнестре и Ифигении. Дело теперь вовсе не в Елене и в Менелае, как думает
Клитемнестра. И не об отцовских чувствах, к которым взывает Ифигения, теперь идет речь.
…Не Менелая волю, Как раб, творю… Эллада мне велит Тебя убить… ей смерть твоя угодна, Хочу ли я, иль нет, ей все равно: О, мы с тобой ничто перед Элладой, Но если кровь, вся наша кровь, дитя, Нужна ее свободе, чтобы варвар В ней не царил и не бесчестил жен, Атрид и дочь Атрида не откажут.Атрид Агамемнон и его дочь Ифигения поставлены перед выбором, перед необходимостью решения, от которого зависят не только их судьбы, но и судьба Эллады. Назвать принимаемое ими решение свободным невозможно. Оно во многом принудительно. Но в нем — и это главное — должен проявить себя и элемент свободы.
«Исход решен», — говорит Агамемнон. Это так и не так. Все еще должно быть решено самой Ифигенией. Исход определяется не только обстоятельствами, но он еще должен быть определен волей Агамемнона и его дочери. «Атрид и дочь Атрида не откажут». Значит, они могли бы и отказать, могли бы попытаться спасти Ифигению, хотя шансов на спасение мало.
Теперь Агамемнон не хочет тащить свою дочь к жертвеннику насильно. «Не Менелая волю, как раб, творю». Отвергая мысль о рабском выполнении желаний Менелая (от которых тот к тому же, как известно, успел отказаться), Агамемнон теперь отвергает и мысль о принудительном выполнении велений богини Артемиды.
Если бы Агамемнон по-прежнему хотел доставить Ифигению к жертвеннику обманным путем, то это с его стороны было бы не более чем подчинением силе необходимости, то есть действием, недостойным грека и сближающим его с варварами. Однако смысл похода на Трою, как его теперь Агамемнон объясняет и себе, и жене, и дочери, — не в том, чтобы вернуть Елену. Цель похода иная — цивилизованная, свободная Эллада должна навсегда пресечь возможность каких-либо посягательств на нее со стороны варварской Трои.
Меняется цель, меняются и побудительные мотивы героев, к ней устремленных. Поэтому теперь решение Агамемнона пожертвовать дочерью уже становится выражением его воли. Этого же ждет теперь Агамемнон и от Ифигении: ее поступок должен стать не только действием по принуждению, но и в какой-то мере результатом свободного волеизъявления. Пусть Ифигения пойдет к жертвеннику не потому лишь, что это нужно ему или Артемиде. Это должно стать нужным, необходимым ей самой. И тогда она в своем поступке выразит себя как подлинная гречанка, способная думать об Элладе.
Чтобы захотеть пойти к жертвеннику, Ифигении надо стать другим человеком — уже не тем жизнелюбивым подростком, чьи представления и желания ограничены привязанностью к отцу и надеждами на счастливое замужество. Ей предстоит от многого отказаться, но и многое понять — явить себе и миру новую Ифигению. Сумеет или не сумеет она это сделать, зависит от ее внутренних ресурсов, от потенциальных сил духа, которые либо в ней таятся, либо отсутствуют.
Еврипид строит действие так, что решение Ифигении не становится прямым следствием обращений, призывов и настояний отца. Нет, снова в ход событий вмешивается суровая, жестокая и «слепая» необходимость. К Ифигении является Ахилл, на помощь которого они с Клитемнестрой рассчитывали. Он верен своим обещаниям: покуда жив, будет защищать девушку от войска, готового вот-вот сюда нагрянуть во главе с Одиссеем. Но сможет ли он отстоять Ифигению? Скорее всего, нет.
Тогда-то у Ифигении созревает решение. Она не желает и не будет пользоваться благородной готовностью Ахилла к самопожертвованию, которое никому пользы не принесет. Однако готовность Ахилла к самопожертвованию — важный момент в развитии действия. Решение Ахилла как бы предваряет и стимулирует решение Ифигении. А она, казалось бы, и «беззащитна», и «бессильна». Но это так только кажется. В ней обнаруживаются силы, побуждающие ее пойти на самопожертвование и тем самым открыть путь к победе греков над варварами-троянцами. Она способна свободно подарить себя отчизне — «без веревок и без жалоб» пойдет она под нож.
Вот это «без веревок и без жалоб» — самое тут главное. Аристотель видел в Ифигении Авлидской пример характера непоследовательного, ибо «горюющая Ифигения нисколько не похожа на ту, которая является впоследствии» (глава 15).
Но в таком случае и Агамемнон — пример характера непоследовательного. Атрид, обманывающий жену и дочь, готовый хитростью притащить свою дочь к жертвеннику, нисколько не похож на того Агамемнона, каким он является впоследствии, когда он все открывает Ифигении и ждет от нее самостоятельно принятого решения. Примером характера непоследовательного в таком случае является здесь и Менелай. Разве, когда он сострадает Агамемнону и упрашивает его не жертвовать своей дочерью, это тот же Менелай, каким он был в начале первого эписодия, когда он не мог думать ни о чем ином, кроме своей Елены?
Если, как считал Аристотель, характер — это «определенное», то есть неизменное «направление воли», то про Менелая можно сказать, что направление его воли круто меняется. Он готов забыть одну % цель во имя другой, прямо противоположной. Что же касается Агамемнона, то направление его воли в первом эписодии меняется прямо противоположным образом, когда он как будто возвращается к своей первоначальной цели — пожертвовать дочерью. На деле же тут нет возвращения к прежней цели. Ведь в процессе развития действия он самую цель начинает понимать по-иному. А когда он отказывается от недостойных средств ее достижения, он тем самым облагораживает самую цель. Такова тут диалектика целей и средств во всей ей присущей драматической глубине.
Не менее значительны перемены в Ифигении. Первоначально она была вся сосредоточена на естественном желании выйти замуж. Кончает же тем, что идет на героический поступок и делает это не только в силу необходимости, а в порядке свободного волеизъявления.
Как видим, в «Ифигении в Авлиде» Еврипид представляет нам своего рода диалектику целей. Они тут у каждого из героев — Менелая, Агамемнона, Ифигении — драматически меняются, преобразуются и углубляются.
Поэтому тут действию сообщает драматизм «творческий» элемент в поступках героев, связанный с этой диалектикой. Разумеется, ни в античной, да и ни в какой иной трагедии герои не руководствуются лишь свободной волей. На героев всегда так или иначе давит необходимость. Но она не только давит. Она же и побуждает людей к ответному на нее давлению. Побуждаемые необходимостью, стимулируемые друг другом, герои вносят в жизнь нечто от себя. В трагедии Еврипида герои, проявляя «творческое», свободное начало, все трое — каждый в меру своих потенциальных возможностей — становятся иными людьми, не теми, что были прежде.
Поэтому и последствия действий этих персонажей, в особенности Агамемнона и Ифигении, лишь кажутся выполнением того, что от них требовали божественные силы, иначе говоря — господствующая в мире необходимость. Она как будто бы восторжествовала. Герои как будто действовали с ней заодно. Суть, однако, в том, что необходимость приобретает определенный смысл в зависимости от того, какие именно люди и каким именно образом действуют с ней заодно.
Еврипидовские герои не в силах «опрокинуть» обстоятельства, поступать вопреки им, то есть опровергнуть необходимый ход вещей. Шальная мысль не считаться с ними могла зародиться только у экспансивного и недалекого Менелая, до того требовавшего беспрекословного им подчинения. Агамемнон и Ифигения по-иному относятся к требованиям необходимости. Но когда они вносят в осуществление этих требований свою энергию, свои чувства, свою мысль, свое понимание человеческого назначения, тогда преображается лицо самой необходимости. Своими решениями и поступками герои ее очеловечивают, что с особой силой сказывается и в финале трагедии.
Вдумаемся в итоги коллизии. Что требовалось от Агамемнона? Пожертвовать дочерью. Он вначале и пытается выполнить это требование высших сил, да еще прибегая при этом к обману. Как завершается дело? Совсем по-другому. Ифигения сама идет на самопожертвование — осознанно, убежденно, героически. Тут главное именно в том, как рождаются эта сила духа и этот героизм в человеке.
К сожалению, когда не вникают в драматическое движение этой трагедии, в ее структуру, это приводит к совсем иному толкованию и всего ее смысла, и отдельных ее образов, и их соотношения.
В своей трехтомной «Греческой цивилизации» Андрэ Боннар, стремясь охарактеризовать историю, внутренний смысл и непреходящее значение этой цивилизации, выбирает, между прочим, именно «Ифигению в Авлиде» как явление показательное для определенного этапа в развитии античного художественного сознания.
В чем же А. Боннар видит своеобразие этого этапа? Если у Эсхила и Софокла «трагическое угрожало герою извне», то, в отличие от них, Еврипид, по мысли А. Боннара, ищет трагическое в глубинах нашего сердца. Это, разумеется, не совсем так: и у Эсхила, и у Софокла трагическое, обрушиваясь на человека по преимуществу извне, все же прорастает и в нем самом. С другой стороны, в «Ифигении в Авлиде» Еврипид придает огромное значение тому трагическому, которое обрушивается на человека извне. Далее А. Боннар, игнорируя движение образов трагедии, их становление, в результате которого каждый возвышается над самим собой, видит в них «внутренне раздвоенных», «путаных», «неустойчивых» людей, из-за своего безволия оказывающихся в полной власти «различных случайностей». Люди, подобно Менелаю «кидающиеся из одной крайности в другую», говорит Боннар, являются «лучшими орудиями слепой судьбы». Но дело не только в Менелае — внутренняя раздвоенность, неустойчивость всех главных действующих лиц приводит к тому, что они не сумели объединить свои усилия, создать «общий фронт» и спасти Ифигению, в смерти которой не было никакой необходимости[151].
Рассуждать так можно, если вообще игнорировать важнейшую для греческой трагедии (и драмы вообще) диалектику свободы и необходимости. Ни у Еврипида, ни у кого-либо другого трагического поэта мы не найдем произведения, в котором вообще отрицалась бы всякая власть необходимости над человеком.
А. Боннар хотел бы обосновать высказанную им точку зрения ссылкой на композицию трагедии. Ее главная особенность будто бы в том, что «всякий раз, как только одно из действующих лиц выполняло свое назначение… появляется другое действующее лицо, всегда воодушевленное вполне естественным и вполне обоснованным чувством, причем это лицо дает действию и нашей эмоции обратное направление». Действие, следуя столь «зигзагообразной линии», приводит, таким образом, к смерти Ифигении. Смысл этого построения, по Боннару, в том, чтобы показать, как действует Нечто, играющее нами и носящее странное имя — Рок.
Но ведь действие у Еврипида развивается вовсе не по принципу «туда» и «обратно», который якобы соответствует раздвоенности, неустройству персонажей, не способных к целенаправленным и целесообразным поступкам. Нет, в еврипидовской пьесе все происходит по-другому. Действующие лица тут меняются. Это их движение связано с развитием коллизии. Углубляя ее, действующие лица, напротив, освобождаются от раздвоенности и обретают устойчивость. В результате Агамемнон и Ифигения воодушевляются высоким принципом. Но принцип этот здесь не задан герою, а рождается в нем, когда противоречивая ситуация побуждает его к самовыражению.
По мысли А. Боннара, Еврипид как поэт упадка видит «красоту Космоса» в сочетании с «ужасами нашего существования». Нет, Космос у Еврипида вовсе не столь уж абсолютно «красив». Ведь и жестокая Артемида, требующая крови Ифигении, тоже воплощение Космоса. Что в ней красивого? Вместе с тем голоса Космоса звучат не только «по ту сторону трагедии», за пределами ее фабулы, как кажется Боннару, а и в действиях героев. В их способности отказываться от старых решений и принимать новые Еврипид видит проявление не слабостей, а сил человеческих. И композиция трагедии, единство ее действия основаны совсем не на однообразно повторяющихся колебаниях неустойчивых людей, а на единстве углубляющейся проблемы, на своеобразной цепной реакции духовных усилий, совершаемых героями в процессе решения проблемы. Возрастающая способность людей менять себя и ситуацию в целом и создает здесь атмосферу напряженного драматизма. При этом люди не только очеловечиваются сами. Они способны очеловечить самую необходимость, облагородить, насколько это в их возможностях, и Космос — даже такую его кровожадную силу, как богиня Артемида.
Об этом — развязка трагедии. Ифигению не притащили к жертвеннику, она пришла туда сама. Но вместо нее закланной и истекающей кровью оказалась гордая лань. Тут дан естественный для драматического действия исход как совокупный результат многих усилий. Пересекающиеся, разнонаправленные, противоположные, но и взаимосвязанные, они в итоге дают результат, не совпадающий с первоначальными стремлениями кого-либо одного из участников трагедии, включая и богов. В последний момент намерения и действия Ифигении сплелись с намерениями и действиями Артемиды. И подобно тому, как Агамемнон воздействовал на свою дочь, сама Ифигения «воздействовала» на неумолимую Артемиду, тоже подвергшуюся своего рода очищению. Ифигения исчезла, но сожженной оказалась не она — огонь пожрал горную лань. Артемида и приняла жертву и отринула ее.
Глава VII
«Лекции по эстетике» Гегеля. Пафос как движущая сила драматической борьбы. Перипетия в трагической фабуле: «Царь Эдип», «Электра», «Гамлет», «Горе от ума», «Три сестры», «Вишневый сад», «Оптимистическая трагедия», «В добрый час», «Прошлым летом в Чулимске».
В «Поэтике» пафос понимался как потрясение-страдание, вызванное поворотом в судьбе героя. В гегелевских «Лекциях по эстетике» пафос из следствия превратился в причину, в движущую силу драматической борьбы. И для Гегеля такое понимание пафоса было вполне закономерно. Поскольку развитию мирового духа и его целям Гегель придавал большее значение, чем всем страданиям, испытываемым человечеством, он и в драматическом действии превыше всего ценил результат борьбы, а не страдания, переживаемые героями в ее процессе. Поэтому Гегель и не считал сцены или моменты страданий определяющими в структуре действия.
Кроме пафоса, Аристотель называл еще два необходимых элемента трагической фабулы: перипетию и узнавание. Перипетия оказалась Гегелю вовсе не нужной. Разумеется, слово это он употребляет, но совсем не в том смысле и значении, какое ему придавал Аристотель. У того перипетия — момент ключевой. Ею он обозначал особого рода повороты в развитии действия, стимулируемые случайным стечением обстоятельств, играющим огромную роль в развитии драматической фабулы.
Все три для Аристотеля необычайно важные «части» трагической фабулы — перипетия, узнавание и страдание — были в гегелевской теории драмы заменены, так сказать, поглощены катастрофой. И это для теории оказалось, поскольку к катастрофе было привлечено особое внимание, очень существенным завоеванием. Однако в результате подобной «замены» некоторые ключевые, поворотные моменты драматической структуры, предшествующие катастрофе и готовящие ее, были незаслуженно обесценены.
Когда Аристотель говорил о перипетии, он связывал ее со случайностью, вторгающейся в ход действия извне. С его точки зрения, без такого рода случайностей, без непредвиденного стечения событий трагическая фабула существовать не может. Аристотель считал, что в фабуле необходим элемент «неожиданности», которую вносит в нее случай — то есть то, что могло бы быть, но могло бы и не быть.
Не снижал ли тем самым Аристотель глубины и значительности содержания драматической фабулы? Отнюдь нет. Дело в том, что в различных сферах жизни случайность играет различную роль. Так, скажем, в хорошо продуманные трудовые процессы вторжение случайности нежелательно. Из работы железнодорожного либо воздушного транспорта случайность должна быть исключена как чреватая отрицательными последствиями.
Но для иных сфер жизни случайность — не помеха, а условие их полноценного развития. Если мы обратимся, например, к сфере любви и интимно-личных отношений, то тут случайность оказывается и желательной, и неизбежной, и необходимой. То, что человеческие пути случайно пересекаются, способствует разнообразию связей, контактов, взаимодействий в междучеловеческих отношениях, придает им все новые и неповторимые краски. Вспомним, что в соответствии с правдой жизни Ромео встретился с Джульеттой случайно — только потому, что кому-то из его друзей вздумалось отправиться на бал, куда они не были, да и никак не могли быть званы. Случайность, таким образом, может оказывать на жизнь многообразное воздействие, начиная с разрушительного и кончая в высшей степени плодотворным.
Если в реальной действительности случайность имеет огромное значение для человеческих судеб, то искусство возлагает на нее особую миссию. Драматическая фабула ставит героев в такие ситуации, когда на их судьбы огромное влияние оказывает случай.
Драма испытывает своих героев. В течение нескольких часов драматического времени она проводит их через испытания такой силы и глубины, какие не всякому реальному человеку дано узнать за всю свою жизнь. И тут огромная роль выпадает на долю случайности. Часто именно она ставит героя драмы в неожиданную ситуацию, требующую решений, действий, мобилизации всего его внутреннего потенциала.
Разумеется, драматургия, в зависимости от сложности и масштаба задач, ее увлекающих, пользуется случайностью по-разному. Фигаро у Бомарше в самых неожиданных обстоятельствах проявляет находчивость, упорство, жизнелюбие и другие прекрасные свои качества. Скриб строит фабулы своих пьес сплошь на игре случайностей. Тому или иному герою удается их «оседлать» в зависимости от своей изобретательности, от искусства интриги, которым он владеет, подчиняя ему весь ход жизни вообще.
Многообразно проявление случайности в подлинно высокой драматургии. Вот несколько примеров. В тот самый момент, когда Эдип ведет свое трагическое дознание, умирает старик Полиб, царствовавший в Коринфе. Он мог бы умереть несколькими днями ранее либо позднее. Тут явно случайное стечение обстоятельств. Но Софокл прибегает к этой случайности (как и к ряду других), ибо благодаря ей Эдипу предстоит пройти через самое большое нравственное испытание.
Именно тогда, когда Катерина из «Грозы» мучительно переживает все свершившееся, начинают греметь громы и сверкать молнии. Грозы этой могло бы вообще не быть. Она вторгается в ход событий как случайность. И сама по себе она, разумеется, никакого значения не имеет. Обретает же огромное значение потому именно, что вызывает мощную реакцию Катерины. Так из события случайного гроза превращается в драматически необходимое.
Пожар, на фоне которого происходит все третье действие «Трех сестер», — событие вполне случайное. Его могло бы и не быть. Он нисколько не связан с взаимоотношениями действующих лиц. Но это привходящее со стороны обстоятельство становится одним из источников особого напряжения, возникающего между действующими лицами в эту ночь. Возьмем еще один пример из той же пьесы. Появление Вершинина в доме Прозоровых — вполне случайно. Но то, что Маша, собиравшаяся было уйти, послушав Вершинина, снимает шляпу и решает остаться — это уже не случайность.
В драме случайное и необходимое особым образом сплетаются и переходят друг в друга. В разных типах драматического действия, в разных драматических структурах случайность занимает то более, то менее значительное место и каждый раз по-своему себя проявляет. В античной трагедии роль случайности и ее последствий весьма весома. Тот момент, когда случайность проявляет себя с наибольшей силой, Аристотель называл «перипетией» и очень высоко ее ценил. Гегель же к перипетии остался равнодушен, значения ей не придавал, и это связано с его отношением к случайности и трактовкой ее роли в человеческой истории и в искусстве. Гегель справедливо отказался рассматривать мир и человеческую историю как царство случайности, как царство произвола. Историю Гегель увидел как закономерный процесс, в котором случайность — форма проявления необходимости. Между тем драма часто имеет дело со случайностью иного рода. Речь тут идет о такой случайности, которая не является формой существования необходимости и чье вторжение в ход событий оказывает на саму необходимость свое решительное воздействие — нередко роковое.
Аристотель, говоря о перипетии, имел в виду некое событие, которого могло бы и не быть (потому оно и случайно), вторгающееся со стороны, извне в отношения между героями и накладывающее на их судьбы неизгладимую печать. Вот этого-то — власти случайного события над ходом вещей — Гегель вообще не признавал. Что же касается драмы, то здесь, с точки зрения Гегеля, власть события, да к тому же случайного, над человеком вообще исключалась. Тут властвуют люди, ибо «в строгом смысле слова» драма изображает «поступки как действие воли»[152]. Между тем драма ведь изображает не только поступки, но и противоречивые намерения, а также и обстоятельства, зачастую случайные, и показывает, как все это во взаимопереплетении ведет к некоему необходимому, необратимому результату.
Высокие трагические характеры героев греческих авторов, писал Гегель, очищены от «случайных черт непосредственной индивидуальности» и тем самым уподобляются скульптурным образам тех же греков[153]. Допустим даже, что Гегель прав и характеры в греческой трагедии впрямь скульптурны, очищены от «случайности», «индивидуальных» черт и воплощают каждый лишь некое всеобщее начало. Но ведь в трагедии скульптуры вынуждены двигаться и потому начинают жить по законам драмы. Там они обособлены, здесь они общаются, сталкиваются, изменяются. Самый процесс их взаимодействия невозможен без элементов случайности. В какой-то мере она проявляет себя в поступках действующих лиц, ибо в каждом из них есть нечто индивидуально-случайное. В еще большей степени — во вторгающихся со стороны обстоятельствах и событиях, в их неожиданном стечении. Что же касается драмы более поздних эпох, то тут персонажей уже никак не уподобишь скульптурным изображениям, лишенным «случайных черт непосредственной индивидуальности». Тут в ходе действия, в развитии конфликта индивидуально-неповторимые черты персонажей приобретают огромное значение. Гегель не мог этого не видеть, но принять этого не желал.
Ведь отношение философа к случайности в драме связано с его же отношением к свободе и субъективности драматического героя. Гегель очень ценил в личности ее «своеобразное достояние». И все же неповторимое достояние человеческой личности для философа в конечном счете оказывалось моментом преходящим. Главный и непреходящий смысл человеческой личности Гегель видел в том, что она — хочет того или не хочет — воплощает в себе всеобщее, субстанциальное начало и во имя этого всеобщего начала отрешается от своей «самости».
В итоге Гегель, обращаясь к драматической структуре, нередко проходил мимо тех поворотных в ней моментов, где сопрягаются «самость» человека со случайностью, возникающей благодаря неожиданному стечению обстоятельств и требующей от героя ответственных решений.
Когда в «Лекциях по эстетике» возникает вопрос о месте случайности в произведениях искусства и литературы, дело ограничивается заявлениями о том, что она «запутывает» ход событий и вносит в него «замешательство». Гегель по-иному и не может рассуждать. Он не может воздать должное роли случайности в драматическом действии, ибо — с его точки зрения — драма имеет дело не со случайным, единичным и преходящим, а с закономерным, всеобщим, с проявлением разумно-субстанциальных сил.
Интересно в этой связи вспомнить мысль Пушкина, которого и как мыслителя, и как художника волновал тот же вопрос о соотношении необходимости, случайности и свободы. «Не говорите: иначе нельзя было быть. Коли было бы это правда, то историк был бы астрономом и события жизни человечества были бы предсказаны в календарях, как и затмения солнечные. Но провидение не алгебра. Ум человеческий… видит общий ход вещей и может выводить из % оного глубокие предположения, часто оправданные временем, но невозможно ему предвидеть случая — мощного, мгновенного орудия провидения… Никто не предсказал ни Наполеона, ни Полиньяка»[154]. У Гегеля в роли «провидения» выступает мировой дух. Если пушкинское «провидение» имеет на вооружении такое «мощное» орудие, как случай, проявляющий себя, между прочим, и в своеобразии характера исторической личности, в ее неповторимой «самости», то гегелевскому духу это противопоказано, ибо подрывало бы самые основы его существования.
Поэтому и ход жизни, и развитие драматического действия приобретали в интерпретации Гегеля фаталистически-мистический характер, хотя философ всячески стремился избежать этого.
Против такого понимания истории возражал К. Маркс, когда писал о событиях Парижской коммуны: «История имела бы очень мистический характер, если бы «случайности» не играли никакой роли. Эти случайности входят, конечно, и сами составной частью в общий ход развития, уравновешиваясь другими случайностями. Но ускорение и замедление в сильной степени зависят от этих «случайностей», среди которых фигурирует и такой «случай», как характер людей, стоящих во главе движения»[155]. Далее К. Маркс тут же говорит о другом решающем «случае» для судеб Коммуны — о присутствии пруссаков у стен Парижа. К. Маркс, как видим, воздает должное и «субъективной» случайности — особым обстоятельствам, в которых им пришлось действовать. Исход дела, по мысли Маркса, во многом определялся сопряжением этих обоих видов случайности.
В истории, как видим, случай — «мощное» орудие, способное существенно воздействовать на ее развитие. В еще большей мере это относится к искусству драмы, имеющей дело не с историей, а с отдельными ее «звеньями» и определенными ее сферами, предстающими здесь в специфическом художественном преломлении.
Это именно почувствовал, понял и в соответствии со своим общим миропониманием выразил Аристотель, говоря о перипетии, о стечении обстоятельств, о неожиданностях, играющих важную роль в трагической фабуле.
Определение перипетии в «Поэтике» не отличается абсолютной ясностью и дает повод к разным толкованиям. «Перипетия, как сказано (где и что было сказано — неизвестно, в дошедшем до нас тексте место, на которое ссылается Аристотель, отсутствует. — Б. К.), есть перемена событий к противоположному, притом, как мы говорим, по законам вероятности или необходимости. Так, в «Эдипе» [вестник], пришедший чтобы обрадовать Эдипа и освободить его от страха перед матерью, объявив ему, кто он был, достиг противоположного, и в «Линкее» — одного ведут на смерть, а Данай идет за ним, чтобы убить его, но вследствие событий (подчеркнуто мною. — Б. К.) последнему пришлось умереть, а первый спасся»[156].
В «Эдипе» вестник является тогда, когда действие уже достигло высокого напряжения. Вызван старик пастух, свидетель убийства Лая. Но до прибытия пастуха имеет место сцена, с точки зрения Аристотеля — перипетийная. Вестник из Коринфа сообщает о неожиданном событии, чрезвычайно важном для Эдипа, Иокасты и всех Фив, еще более важном, чем думает сам вестник.
Надо прежде всего отметить, что Аристотель (или тот, кто его записывал) неточно излагает мотивы и цели, с которыми вестник прибыл в Фивы. Неточность эта имела далеко идущие последствия и привела к тому, что мысль философа о сущности перипетии оказалась затемненной.
Вестник является совсем не для того, чтобы «обрадовать Эдипа и освободить его от страха перед матерью, объявив ему, кто он был». Он приходит с вполне определенной, но совсем иной целью: сообщить о смерти Полиба и позвать Эдипа на царство в Коринф. Желание освободить Эдипа от страха перед матерью возникает у вестника уже по ходу действия, когда он узнает, почему именно тот все же продолжает бояться Коринфа, где еще жива Меропа, жена Полиба, которую Эдип считал своей матерью.
Как же складывается перипетия? Играют ли в ней решающую роль намерения вестника? Отнюдь нет! Он только извещает о событиях, одно из которых совершилось недавно, а другое — давно. Перипетия, поворот определяются не столько намеренными поступками вестника, сколько фактами, обстоятельствами, событиями, о которых вестник всего лишь информирует. Когда толкуешь перипетию подобно В. Волькенштейну и Ф. Лукасу[157], то приходится считать, что перипетию переживает вестник: именно у него результаты действия расходятся с намерениями. Но ведь мы не сомневаемся в том, что перипетия обрушивается прежде всего на Эдипа, а не на вестника, хотя можно себе представить, насколько и тот в итоге был потрясен результатом своих сообщений.
Более близко к ситуации, взятой Аристотелем как пример перипетии, толкует ее Г. Фрейтаг в своей «Технике драмы» (1863). Вот его формулировка. «Перипетией называется у греков трагический момент, который толкает волю героя и тем самым действие по направлению, весьма отличающемуся от первоначального, при помощи внезапного вторжения некоего события, хотя и ошеломляющего, но обоснованного завязкой действия»[158]. Судя по этому определению, перипетия — результат не чьих-либо намерений, осознанных или неосознанных. Фрейтаг говорит о стороннем обстоятельстве как ее причине. В «Царе Эдипе» таким обстоятельством оказалась смерть Полиба, совпавшая по времени с моментом, когда Эдип в своих поисках преступника уже мог подозревать убийцу Лая в себе самом. Однако у Г. Фрейтага имеется и другое определение перипетии, предвосхищавшее трактовку В. Волькенштейна и Ф. Лукаса. В «Технике драмы» перипетия отождествляется, с «трагическим моментом», а таковым для Г. Фрейтага был момент, когда герой оказывается в непредвиденном, неожиданном положении, в которое он поставил себя собственными поступками. Момент, когда действия героя оборачиваются против него» (подчеркнуто мною. — Б. К.)[159]. В XI главе «Поэтики» Аристотель ведет речь прежде всего не о действиях героя, а именно об обстоятельстве, неожиданно обрушившемся на его голову, об «ошеломившем» его событии, последовавших за ним разъяснениях.
Но неслучайным является и тот факт, что для ряда исследователей «подлинная перипетия — перипетия в строгом смысле — возникает тогда, когда неожиданный поворот события подготовлен именно активностью действующего лица» (подчеркнуто мною. — Б. К.)[160].
Итак, Фрейтаг отождествил перипетию с «трагическим моментом». Другие авторы, двигаясь в том же направлении, все настойчивее говорили о ней как о повороте, наступающем благодаря и вследствие активности героя.
Поверив В. Волькенштейну и Ф. Лукасу, мы вправе спросить, кто же именно в ситуации, на которую ссылается Аристотель, «совершил действия с целью получить определенный результат»? Эдип? Иокаста? Нет, они вестника даже и не вызывали. Его появление для них полная неожиданность. Еще большая и подлинно решающая для них неожиданность — смерть Полиба. Уж она-то никак не является результатом действий Эдипа и Иокасты, да еще рассчитанных на определенный результат. Тут единственным лицом, совершившим действие с целью получить некий результат, может быть сочтен лишь вестник. Он, разумеется, тоже переживает в итоге своего рода перипетию, не идущую, однако, ни в какое сравнение с переворотом в судьбе Эдипа, ускоренным смертью Полиба.
В «Эдипе» сцена, которую имеет в виду Аристотель, называя ее перипетийной, становится неожиданным и самым трудным испытанием для героя. Выслушав коринфского вестника, Иокаста умоляет Эдипа прекратить расследование. Получив отказ, она удаляется, чтобы, как вскоре становится известным, удавить себя. Эдип же находит в себе силы, преодолев роковой рубеж, довести расследование до конца, найти преступника и спасти свой город.
Вдумаемся в слова Аристотеля про перипетию в недошедшем до нас «Линкее». Герою, который вел другого на смерть, «пришлось умереть». По какой причине? Аристотель заявляет определенно: «вследствие событий». Говоря о стечении обстоятельств, о неожиданностях, о перипетиях, Аристотель вовсе не рассматривает их изолированно от активности героев и их поступков. Ему важно, как именно реагируют герои на роковые неожиданности, что именно они при этом предпринимают, обнажая свой характер с наибольшей глубиной.
Наше толкование перипетии, на которую указывает Аристотель, как связанной прежде всего с неким сторонним обстоятельством, вовсе не исключает того, что в «Царе Эдипе» и других пьесах мирового репертуара не имеет значения перипетия того рода, который имеют в виду В. Волькенштейн и Ф. Лукас. В «Царе Эдипе» перипетия, указанная Аристотелем, имеет место в третьем эписодии. Во втором Софокл дает перипетию такого рода, какую приемлют исследователи, которых мы называли выше. Тут к Эдипу, возмущенному, но и смущенному словами Тиресия, что убийца Лая именно он, обращается со словами, призванными его успокоить, Иокаста. «Из людей никто не овладел искусством прорицанья». Затем она подтверждает свою мысль «доводами» о том, что Лай погиб не от руки сына, а убит разбойниками. Своими доводами Иокаста достигает цели, противоположной ее намерениям: вселяет в душу Эдипа тревогу и страх, ибо побуждает его вспомнить, как «на перекрестке трех дорог» он в свое время убил старика.
Разумеется, можно и весь сюжет «Царя Эдипа» рассматривать как осуществление перипетии в том смысле, который вкладывают в это понятие В. Волькенштейн и Ф. Лукас* решив не возвращаться в Коринф, Эдип всеми своими действиями добился того, чего он хотел избежать.
Исходя из всего сказанного выше, мы имеем возможность заново всмотреться в структуры как античной, так и более поздней драматургии с тем, чтобы понять содержательную функцию перипетии и связанных с ней узнавания, страдания и очищения.
Показательна в этом смысле перипетия «Электры» Софокла. Ситуация, ей предшествующая, такова. Электра не может более сдерживать себя, «в доме видя зло», воплощенное в преступной матери и ее «светлейшем супруге», который «весь разврат, весь подлость». В свою очередь Клитемнестра и Эгист уже готовы навсегда пресечь бесконечные укоры и стоны Электры, заточив ее в темницу. Напряжение в доме нарастает — царице во сне явился Агамемнон, убитый ею и Эгистом.
Давно сложившаяся в доме внутренне противоречивая исходная ситуация обостряется именно этим зловещим сном Клитемнестры: он — решающее событие, во многом определяющее ход всего последующего действия. Но в отношения между Клитемнестрой и Электрой вторгается «со стороны» еще одно событие, подлинно перипетийное, не только ведущее к катастрофе, но придающее убийству Клитемнестры и Эгиста высокий смысл свершившегося правосудия.
Если Электра никак не может примириться ни со своей долей, ни со «злом» и «развратом», царящими в доме, то Хрисофемида призывает сестру к благоразумию и покорности, словом, призывает подчиниться силе необходимости. В момент, когда мать и непокорная дочь ожесточенно спорят, когда одна пытается оправдать совершенное ею убийство мужа, а другая решительно отвергает все оправдания и открыто говорит о жажде мести за убитого отца, в этот самый момент наступает перипетия.
Эсхил в «Агамемноне» показывает нам Клитемнестру, готовящуюся убить и убивающую мужа. Софокла интересует Клитемнестра, уже очень давно совершившая свое преступление. Может быть, она раскаивается или способна к раскаянью? Может быть, давность совершенного ею преступления вообще освобождает ее от ответственности, суда и кары?
Эсхил в «Орестее» показывает нам сначала Клитемнестру, убивающую своего мужа. После этого вполне естественным является приход Ореста, которому, однако, свершение мести за отца дается нелегко.
Здесь, у Софокла, Клитемнестра не убивает, а в споре с Электрой лишь вспоминает. Она как бы не действует, а повествует. Но повествование это движет и наполняет происходящее волнующим драматизмом. «Защищая свое мужеубийство, она как бы вновь совершает его перед нашими глазами», — говорит Ф. Зелинский о софокловской героине[161].
Своим «повествованием» Клитемнестра подтверждает в глазах Электры и зрителя свою виновность: она преступна — не только прежняя Клитемнестра, но и сегодняшняя, ведущая ожесточенный спор с дочерью. Та, не обинуясь, называет рассказ матери «гнусным» и «лживым»:
Не справедливость правила тобою, А негодяй, с которым ты живешь!Электра тут же напоминает матери про существование Ореста, этого возможного мстителя, влачащего дни где-то в изгнании, но на возвращение которого она надеется. Это напоминание, да и все «бесчестье» вызывают со стороны Клитемнестры суровые угрозы Электре. Вместе с тем слова Электры усиливают страх, вызванный в Клитемнестре вещим сном, дважды ей приснившимся. Царица обращается к Фебу с мольбой отогнать, снять с нее этот страх и обратить зло, которое сулит ей сон, на ее врагов.
Вот тогда-то во втором эписодии и появляется у дома неизвестный человек с неожиданным, ошеломляющим обеих героинь сообщением о гибели Ореста. Сообщение это ложно. К нему прибегают, чтобы усыпить бдительность царицы и Эгиста. В большом, красочном, богатом достоверными подробностями монологе описывается гибель Ореста и сожжение его трупа.
…Тело мощное — горсть пепла! — в урне Сюда несут фокейские послы, Чтобы в земле родимой успокоить.По-разному реагируют на известие мать и сестра. Клитемнестру оно действительно освобождает от страха, в то время как Электру оно повергает в глубокое отчаяние. Для Клитемнестры смерть Ореста — «спасительное горе». Впрочем, о горе она говорит скорее для приличия, не в силах, да и не считая нужным скрыть радость свою. Ведь страшили ее не столько Электра, сколько именно Орест.
Отныне я избавлена от страха Пред ним… и ею. ……………………. ………………Сегодня День проведем мы без ее угроз.Известие о смерти Ореста становится перипетией = испытанием для обеих героинь. Если Клитемнестра торжествует, то Электра, поверженная, в рыданьях прощается с надеждами на месть за отца и на избавленье от постылого рабского существования.
Перипетия побуждает каждую из героинь раскрыть себя до конца, проявить свою истинную природу. До этого эпизода еще можно сомневаться в том, насколько права Электра, бросая в лицо матери свои беспощадные обвинения и угрозы. Ведь один из выпадов Электры против матери хор комментирует весьма осуждающей репликой:
Смотри: она от гнева задохнется! Не думает уже, права иль нет.Не пристрастна ли к матери эта Электра в своем неутолимом гневе, со своими неумеренными требованиями? Наши сомнения окончательно разрешаются перипетией. В момент, когда мы видим Клитемнестру, испытывающую торжество при известии о смерти сына, драматург открывает нам возможность заглянуть в самую глубину ее души, понять, на что она еще способна в будущем. Вместе с тем перипетия стимулирует и Электру, побуждает ее раскрыть себя до последних глубин. Известие о смерти брата повергает ее в такое отчаяние, когда, казалось бы, больше и жить нет смысла. Она желает иссохнуть за порогом дома, ибо теперь ей «смерть — отрада», а «жизнь — мука».
Но это лишь ее первая реакция. Ей только на мгновение показалось, что «жить нет сил». Силы Электры возрождаются, ибо она одержима высокой целью, стремление к которой вызывает новый прилив духовной активности и энергии. Поэтому в следующем эписодии — в сцене новой встречи сестер — Электра предстает в новом облике.
Перед нами все та же, что была в первых эписодиях трагедии, но вместе с тем новая Электра — теперь она не только негодующая и обличающая, но и преисполненная отваги — патетической воли. Сестре Хрисофемиде, склоняющей голову перед могуществом обстоятельств и всегда готовой к ним приспособиться, она противопоставляет свою непримиримость, готовность к действию, даже если в результате ее ждет поражение.
Ранее она казалась матери неумеренной в своих претензиях и притязаниях, теперь она кажется Хрисофемиде неумеренной и в своей жажде справедливости, и в своей неженской отваге. Ведь случившаяся беда побуждает Электру взвалить на свои плечи миссию Ореста. Убив Эгиста, она не только вернет себе свободу, но и покончит со злом, царящим в доме.
Третий эписодий трагедии является центральным, кульминационным, ибо именно теперь Электра принимает то решение, к которому она ранее еще была неспособна. Как видим, цели Электры меняются, развиваются и усложняются. Тут имеет место своеобразная «диалектика целей» в действиях героя (этой теме посвящен особый раздел нашей работы).
В «Электре» на наших глазах совершается именно выбор пути, принятие решения, стимулируемые перипетийным событием. Жестокое обстоятельство — смерть Ореста — побуждает Электру к действиям, которые она ранее считала для себя непосильными.
Четвертый эписодий трагедии являет собой продолжение перипетии. После того как Электра узнала о смерти брата и приняла свое решение действовать самостоятельно, ей вручают урну с прахом якобы погибшего Ореста. Сообщение вестника как бы продолжается, но оно уже подтверждается предметно.
Почему Софокл считает нужным показать, как реагируют на сообщение вестника и Клитемнестра, и Электра, а с урной дает встретиться одной лишь Электре?
Клитемнестра уже исчерпывающим образом раскрыла себя. О ней мы уже узнали все, и незачем заставлять ее проходить через испытание урной. Электру же урна с прахом брата побуждает раскрыться новыми сторонами своего характера. Мы уже видели Электру в состоянии нарастающей решимости и непреклонности. Теперь мы видим Электру любящую и скорбящую по брату. Она даже может показаться неумеренной в любви и скорби, как позднее, узнав живого брата, она покажется Наставнику неумеренной в радости. Но это — все тот же характер, неумеренность — вот мера для нее и людей ей подобных.
Перипетийный эпизод с урной — сцена «патоса». Это — бурная реакция на поворотное событие, страстное изъявление чувств, выражение великого страдания, в которое герой ввергнут не своими действиями, а ходом событий.
В своей книге «Динамика драмы» Б. Беккерман, несколько искусственно разделяя поступки драматического персонажа на «активные» и «реактивные», относит плач Электры к числу последних[162]. Но ведь в перипетийных сценах Электра не только переживает происшедшее, но и накапливает энергию, воодушевляется пафосом, устремленным к будущему, к действиям, которые должны в результате перипетии последовать и непременно последуют. Диалектика драматического поступка сказывается в том, что он не может быть ни чисто «активным», ни чисто «реактивным». В нем всегда в той или иной мере содержится и то и другое.
Если судить о характере Электры исходя из нашего толкования идей «Поэтики», то здесь перед нами героиня, чья воля устремлена в одном направлении: против Клитемнестры и Эгиста. Вместе с тем это направление воли усложняется, когда благодаря перипетии Электра решает взвалить на свои плечи миссию Ореста. Направленность воли Электры не исключает динамизма, связанного с расширением масштабов ее переживаний и притязаний. Клитемнестра и Хрисофемида на ее фоне выглядят статичными, неспособными никуда сдвинуться с позиций, раз навсегда ими занятых.
Наиболее полно это своеобразие характера Электры выявляется благодаря перипетийной сцене, в которой действие как бы перестает двигаться вперед, как бы приостанавливается. Плач Электры — выражение действенного состояния, не ускоряющего, а как бы замедляющего развитие коллизии. Но, замедляя, плач этот углубляет смысл происходящего, придает ему новые измерения, готовит действенную развязку. И потому, несмотря на замедление и даже благодаря ему, драматизм происходящего не снижается, а, напротив, возрастает.
Монолог-плач Электры становится выражением и пафоса в гегелевском смысле слова, то есть тут рождается мощная энергия, которая будет двигать действие вперед. Тут раскрывается и вся глубина горя Электры и одновременно весь диапазон таящихся в ней сил и возможностей. Тут не просто мощный поток страданий, а эмоциональное обоснование и выражение убеждений героини, тех стремлений и целей, которые она вскоре перед собой поставит. Цели эти предельно жестоки, но благодаря плачу предстают как единственно в сложившейся ситуации возможные, необходимые, справедливые.
Если первые эписодии могли давать повод видеть в Электре непреклонную фанатичку, чуждую человеческим чувствам, то благодаря перипетии она предстает как наиболее человечный герой среди всех персонажей трагедии. Тем значительнее ее требования и ее решения, тем они обоснованнее. Поэтому развязка — убийство Клитемнестры и Эгиста — наступает в «Электре» не как акт мести, а как акт правосудия. Совершается оно раскрывшим себя перед Электрой Орестом не просто с участием Электры, а под ее духовным водительством. Необходимые для этого силы Электра обретает в перипетий- ных сценах, реагируя на вторгшееся со стороны событие и переживая его со всей доступной ей глубиной.
Есть нечто сходное в главных перипетиях «Царя Эдипа» и «Электры». В обеих трагедиях испытанием возможностей героев служит сообщение о смерти. Правда, в «Электре» это ложное сообщение. Оно могло бы ввергнуть Электру в отчаяние, могло бы полностью подавить ее энергию. Однако страшное известие вызывает в героине не только отчаяние, но и решимость, стимулируемую еще и бесстыдной реакцией матери на смерть сына. Нечто подобное происходит и в «Царе Эдипе»: известие о смерти Полиба, как и сообщение о Меропе, подавляет волю к сопротивлению у Иокасты; Эдип же не теряет присутствия духа, не прекращает расследования. Сообщение вестника вызывает в нем прилив новой энергии — он продолжает поиск истины, уже предчувствуя, насколько трагической она будет для него.
Разумеется, в пору, когда человеческий характер стал главным источником движения драматического действия, аристотелевская перипетия, основанная на вторжении в действие стороннего, случайного обстоятельства, играет меньшую роль, чем в античной трагедии. Все большее значение приобретает перипетия, вызванная активностью героя, чьи действия оборачиваются против него. И все же, видоизменяясь, перипетия, связанная с вторжением в ход действия случайности событий «со стороны», сохраняет свое значение в разных драматических структурах. Прежде всего — в шекспировской.
К числу наиболее примечательных в мировой драматической литературе относится перипетия «Гамлета». После встречи с Призраком принц, обуреваемый страстным стремлением действовать, по существу беспомощен. У него даже нет никакой возможности убедиться в том, насколько все им услышанное является истиной.
Он может только негодовать и мучиться, и тут на помощь Гамлету приходит случай. Судьба забрасывает в Эльсинор (правда, уже не впервой) бродячих актеров. Они и становятся «носителями» перипетии. Эпизодические персонажи, актеры, сыграв свои роли — в прямом и иносказательном смыслах этих слов, — затем из трагедии уходят. С их помощью Гамлет устраивает свою «мышеловку», сам убеждается % в виновности Клавдия, изобличает короля перед лицом Горацио, да и всего двора.
Своеобразие этой шекспировской перипетии в том, что случайные силы тут не просто воздействуют на уже развивающиеся взаимоотношения персонажей. Тут со стороны вторгается не некий уже совершившийся факт, но некое событие, тут со стороны вступают в действие новые силы. Актеры, разумеется, сами того не предполагая, способствуют развитию одной из главных тем трагедии еще до того момента, когда у Гамлета созревает план «мышеловки». В своем трактате о Шекспире В. Гюго говорит о параллельных линиях в «Гамлете»[163]. По мысли П. Громова, монолог Первого актера о Пирре, Приаме и Гекубе вводит в трагедию еще один вариант сюжета, связанного с историей сыновней мести за убитого отца. Рядом с Фор- тинбрасом, Гамлетом и Лаэртом, в сходном с ними положении предстает еще и потерявший отца свирепый Пирр, который обрушивает свой разящий меч на старика Приама. Слезы Первого актера не только побуждают Гамлета к решительности, они же еще и заставляют принца глубоко задуматься.
Принцу предстоит действовать подобно тому, как действовал Пирр. Но страдания Гекубы, столь ярко переданные актером, — ведь «это как бы прообраз тех страданий, на которые обречены многие герои трагедии в результате свершения единичной мести»[164].
Таким образом, перипетийная сила — актеры — не только помогает Гамлету, давая ему в руки средства для обличения Клавдия. Эта сила одновременно углубляет весь ход трагедии и усложняет положение принца. Перипетия, в которую включается и сцена «мышеловки», становится испытанием, через которое проходят, каждый по-своему, оба антагониста — и Клавдий, и Гамлет. Случайные силы тут не только направляются волей Гамлета, но, в свою очередь, воздействуют и на него, активизируя и усложняя его переживания и мысль.
Не всегда Шекспир прибегает к такого рода сложно построенным перипетиям. Нередко, напротив, он пользуется перипетией чисто, так сказать, «технической». Таково, например, случайное обстоятельство, препятствующее Ромео получить послание Лоренцо, отосланное ему из Вероны в Мантую. Это — чисто «техническая» перипетия, ускоряющая наступление приближающейся трагической развязки, и потому Шекспир, естественно, не тратит сил на ее разработку. Важно лишь, что нечто, некая случайность воспрепятствовала получению письма Лоренцо. Однако, несмотря на то что решительно не имеет значения, какое именно препятствие оказалось в этот момент на пути Лоренцо, Ромео и Джульетты, оно ставит героев перед лицом последнего из выпадающих на их долю испытаний.
Шекспир чувствовал драматическую силу случайностей и неожиданностей. И не был стеснен правилами, которые ограничивали бы его возможности в обращении к ним. Французских классиков очень в этом смысле стесняло соблюдение трех единств. Однако в «Сиде» Корнель строит перипетию, основанную на вторжении в ход действия обстоятельства извне, со стороны. Ее образует неожиданное нападение мавров, появляющихся именно в тот момент, когда конфликт между Родриго и Хименой приобретает наибольшую остроту и в то же время заводит их обоих в тупик. Когда Родриго благодаря победе над маврами становится Сидом, это уже открывает перед героями какие-то новые горизонты, какую-то возможность выйти из создавшегося тупика.
Драматургия XIX–XX веков часто прибегает к перипетии, в основе которой — вторжение случайности в ход событий, в развивающиеся отношения между персонажами. Дело, разумеется, в том, как по-разному она используется и осмысливается. Одно назначение она приобретает в той драматургии, где главное — острота положений и занимательность интриги. Совсем иной смысл случайность приобретает, когда неожиданные повороты действия ведут к постижению глубоких противоречий жизни. Весьма показательны в этом отношении перипетии в грибоедовском «Горе от ума» и гоголевском «Ревизоре»[165].
Как известно, сразу же после появления «Горя от ума» начался и по сей день продолжается спор о том, насколько комедия эта удовлетворяет требованиям драматургии и драматической техники. Так,
П. Катенин находил в комедии «дарования более, нежели искусства», поскольку сцены в ней «связаны произвольно»[166]. Надеждин в 1831 году, как бы повторяя Катенина, писал: «Взаимная связь и последовательность сцен, их составляющих, отличается совершенною Произвольностью, даже иногда резкою неестественностью, нарушающей все приличия драматической истины»[167]. Впрямь ли сцены в комедии связаны произвольно? Действительно ли в ней «нет целого», как считал В. Г. Белинский, ценивший «Горе от ума» за «ряд отдельных картин и самобытных характеров, не составляющих, однако, согласованного художественного единства»[168]. Понадобились Десятилетия для того, чтобы в кажущемся «произволе» была выявлена своя закономерность.
Лишь в 1877 году И. А. Гончаров в статье «Мильон терзаний» Впервые раскрыл «драматический интерес комедии», показал то «движение, которое идет через всю пьесу, как невидимая, но живая Нить, связывающая все части и лица комедии между собою»[169].
И. А. Гончаров, между прочим, обратил внимание на то, что в развитии действия комедии большую роль играет падение Молчали- на с лошади, на вытекающие отсюда последствия. Если Н. И. Надеждин считал совершенно невозможным объяснить, «как и для чего припутана ко второму акту сцена падения с лошади Молчалина», то И. А. Гончаров усмотрел здесь «главный пункт» действия: «Обморок Софьи при падении с лошади Молчалина, ее участие к нему, так неосторожно высказавшееся, новые сарказмы Чацкого на Молчалина — все это усложнило действие и образовало тут главный пункт, который назывался в старых пиитиках завязкою. Тут сосредоточился драматический интерес»[170].
Этот главный «пункт» есть не что иное, как перипетия в аристотелевском смысле слова. Софья, находящаяся в комнате вместе со Скалозубом, Чацким и Лизой, потрясена до обморока ошеломляющим событием, случившимся во дворе: Молчалин с лошади свалился. Казалось бы: пустяки какие! Нет, оказывается, не пустяки, а событие,
решительно влияющее на все развитие комедийного действия и скрепляющее его воедино.
И. А. Гончаров обратил внимание лишь на одну сторону дела — он увидел в сценах, связанных с обмороком, источник тех усложнений действия, которые вели к нарастанию мучительных волнений и подозрений Чацкого. Но понять все последствия падения Молчали на с лошади и вызванного этим обморока Софьи можно отойдя от общепринятой точки зрения, связывающей логику развития действия «Горя от ума» с характером, состояниями и поведением одного лишь Чацкого[171].
Перипетийная сцена и другие, с ней связанные, позволяют понять, насколько логика движения действия в комедии определяется позицией Софьи и стоящего за ней Молчалина.
Все дело в реакциях Софьи, Лизы и Молчалина на обморок, на перепалку Софьи с Чацким, который ушел, унеся в сердце обиду и какие-то ревнивые подозрения. Лиза не одобряет ни обморока, ни поведения Софьи после него. А та считает, что вела себя весьма сдержанно. «Нет, Софья Павловна, вы слишком откровенны», — пытается отрезвить ее Молчалин. Однако Софья неспособна к сдержанности и в возбуждении готова даже вообще предать свою любовь гласности.
Больше всего Молчалин опасается именно этого. Он делает еще одно заявление. Оно тем более отрезвляюще, что проникнуто как будто бы вполне разумной заботой о судьбе их любви:
Не повредила бы нам откровенность эта.Молчалин говорит «нам», Софья же думает только о нем, о своем возлюбленном, и задает свой совсем наивный, бестолковый вопрос о том, не угрожает ли Молчалину дуэль. Тот внятно разъясняет:
Ах! злые языки страшнее пистолета.Вот эта поразительная по своей значимости реплика Молчалина чревата последствиями, не менее важными для дальнейшего развития действия, чем возникшие в связи с обмороком подозрения Чацкого. Конечно, и до этого момента Софья относилась к Чацкому без былой приязни, однако прямых поводов для враждебности у нее еще не имелось. Теперь Молчалин решительно настраивает ее против Чацкого: надо, чтобы в нем Софья видела врага. И добивается своего.
Когда Лиза тут же советует своей барышне отправиться в кабинет к батюшке и там непринужденным разговором рассеять сомнения Чацкого, Молчалин, целуя Софье руку, произносит психологически очень вескую фразу:
Я вам советовать не смею.Он именно советует — и словами и поцелуем руки, но делает это с присущим ему подобострастием и пониманием своей власти над Софьей. Внимая его совету, она, однако, признается:
Боюсь, что выдержать притворства не сумею.Сумеете! — вероятно, думает Молчалин, глядя ей вслед. Он уже хорошо чувствует силу той власти, что забрал над ней, над ее сознанием и поведением. А Софья, — это показывает дальнейший ход событий, — усваивает уроки Молчалина не только усердно, но, как сказали бы мы теперь, творчески: в третьем действии она «выдерживает» гораздо большее «притворство», объявляя Чацкого сумасшедшим.
Так Молчалин выступает в зловещей роли будущих ее акций. Ведь, по существу, в 11-м явлении второго действия уже звучит первая клевета на Чацкого, исходящая из уст Молчалина. Он не только запугивает Софью мнимой опасностью. Своими словами о страшной силе злоязычия он роняет в ее сознание некую идею на будущее. Пройдет немного времени, и Софья эту идею успешно реализует. И тогда станет вполне очевидным, что не только Чацкий со своей любовью и своим гражданским пафосом движет действие, но что не менее активно делают это Софья и скрытый за ней Молчалин.
В перипетии, в совокупности сцен, с ней связанных (явления 7—14 второго действия) и завершающих завязку комедии, контрастно обнажаются пылкое благородство Чацкого и коварство Молчалина, вооружившего Софью оружием, к которому она столь неоправданно и безжалостно вскоре прибегла. Черты коварства и злости, прорвавшиеся здесь в Молчалине, создают очень важный психологический контраст с предупредительностью, обходительностью и угодливостью, которые он обдуманно и намеренно демонстрирует. Софья же предстает здесь не только влюбленной в Молчалина, она уже становится послушной исполнительницей его воли, его желаний. Именно в перипетии туго завязывается узел интриги, содержащий в себе черты не только любовной, «частной», по выражению И. А. Гончарова, комедии, но и «общей битвы» с Чацким, черты комедии общественной. В битве, стимулируемой Молчалиным, на стороне фамусовской Москвы наиболее активно выступает Софья.
Грибоедов говорил, что в его комедии события «мелкие» органически связаны с «важными». Падение Молчалина с лошади относится к «мелким». Но оно стало перипетийным и приводит к событию «важному» — к роковой сплетне в третьем действии. Герои как бы проходят испытание «случайностью», побуждающей каждого проявить свой характер, свои убеждения, страсти и намерения. Все, что они делают после падения Молчалина с лошади и обморока Софьи, становится реакцией на перипетию, ее следствием и развитием.
Какие метаморфозы не претерпевала бы перипетия в драме нового времени, все же в ней сказываются некоторые первородные черты, отличавшие ее еще в драматургии античной. Сошлемся еще на несколько показательных примеров. Сначала на чеховские «Три сестры» и «Вишневый сад», а затем на «Оптимистическую трагедию» Вс. Вишневского.
Все третье, кульминационное действие «Трех сестер» происходит на фоне пожара. Пожар этот прямо не затрагивает ни Прозоровых, ни большинства других персонажей пьесы. Но вне атмосферы ночного пожара нам не были бы до конца понятны все поступки, совершаемые ими той ночью: ни хамство Наташи, ни отчаяние Чебутыкина, ни рыдания Ирины, ни признания Маши, которую сестры напрасно пытаются остановить, ни навязчивые утверждения Андрея, что Наташа — прекрасный, превосходный, честный, прямой и благородный человек, ни его же заявления: «Не верьте, не верьте мне».
В «Трех сестрах» пожар стимулирует сдвиг в душевных состояниях героев, способствует предельному обнажению скрытых пластов и противоречий их внутренней жизни.
Про Наташу, со свечой пересекающую сцену, Маша заявляет: «Она ходит так, как будто она подожгла». Да, Наташа и впрямь поджигает, поджигает чуждый ей мир Прозоровых. Город переживает пожар — всеобщее бедствие. А в доме, казалось бы им не затронутом, свое всеобщее бедствие, которому, в отличие от затухающего пожара, не видно конца. Как известно, Чехова чрезвычайно волновало то, как будет изображен на мхатовской сцене пожар, и в этом не было никакой наивности и никакого чудачества, ибо он остро чувствовал, насколько пожар в городе соотносится с «пожаром» в доме Прозоровых.
Но Чехову в «Трех сестрах» мало одной перипетии. Уход бригады составляет вторую, которая перерастает в катастрофу для Маши, навсегда теряющей Вершинина, и для Ирины, навсегда теряющей Тузенбаха. Перипетии, силы судьбы вторгаются в жизнь сестер, действуя заодно с Наташей, Соленым, Чебутыкиным, выступающими как ее орудия. Вполне закономерно, что перипетия ведет тут к страданию. Оно становится предметом сдержанного, но напряженного осмысления. Ирина: «Придет время, все узнают, зачем все это, для чего эти страдания…» Ольга: «Но страдания наши перейдут в радость для тех, кто будет жить после нас…» «Еще немного, и мы узнаем, % зачем мы живем, зачем страдаем». У Маши же, с ее страстной натурой, страдание вырывается наружу с бурной силой. Но сестры пытаются ответить на перипетии и катастрофы не только страданием, а и утверждением жизни: «пока надо жить… надо работать, только работать!»
В «Вишневом саде» тоже две перипетии, но они обе сосредоточены во втором действии и следуют одна за другой.
Разумеется, ничего ошеломляющего и потрясающего не происходит. Первым вторжением со стороны тут является всего лишь отдаленный, точно с неба, звук лопнувшей струны, замирающий, печальный. Затем вторгается со стороны же некий безыменный Прохожий в белой потасканной фуражке и слегка пьяный.
Но эти два вторжения имеют в ходе чеховского действия не меньшее значение, чем вторжение мавров в «Сиде», чем появление двух пленных офицеров в «Оптимистической трагедии».
В «Вишневом саде» каждое лицо, начиная с Шарлотты, Епихо- дова и Дуняши, проходит перед нами со своей драмой. Шарлотта с детства обречена на одиночество в этом мире, куда она «заброшена» родителями, о которых она «ничего не знает», как «ничего не знает» и о себе. Ее судьба с детства — быть клоуном на «представлении», смысла которого она не понимает и не поймет[172].
Епиходов обречен на безответную любовь к Дуняше — к нему тоже «судьба относится без сожаления, как буря к небольшому кораблю». Но и к Дуняше, «страстно полюбившей» лакея Яшу, судьба тоже немилостива. Из этих четырех персонажей Чехов отказывает в драме и драматизме только Яше — тупому и самодовольному хаму. Затем Раневская, Гаев, Лопахин, а несколько позднее Фирс, Аня и Трофимов — тоже появляются со своими драмами, в ходе действия открывая их друг другу.
Тут почти нет борьбы акций и реакций, тут особое, основанное не на прямых причинно-следственных связях, сцепление драм.
Кроме Епиходова, страдающего оттого, что Авдотья Федоровна, как он ее называет, вся поглощена образованным Яшей (и потому тот для Епиходова является чуть ли не персонификацией судьбы), никто из остальных лиц не мог бы определить, а тем более назвать конкретных «виновников» своей драмы. Здесь в роли судьбы выступает ход русской общественной жизни, вытеснение дворянского, помещичьего класса буржуазией. При этом особая миссия выпадает на долю интеллигенции — к ней Чехов относится в высокой степени уважительно, в той же степени строго и требовательно. Судьба тут предстает как очень запутанное, противоречивое отражение исторических закономерностей в человеческих характерах и взаимоотношениях.
И вот сцепление драм, очень сложных по своему происхождению и не менее сложно выражаемых, Чехов во втором действии прерывает сначала звуком лопнувшей струны, а затем появлением Прохожего. Случайные эти «события» вторгаются в ход действия, сообщая ему важное эмоционально-смысловое содержание. Перед нами перипетии, оказывающие не прямое, а своего рода опосредованное воздействие на персонажей и ход событий. В особенности это относится к эпизоду с Прохожим.
Обратимся, однако, сначала к сцене, прерываемой замирающим звуком лопнувшей струны. Когда и зачем вторгается он в ход действия? Какие это имеет последствия?
Лопахин требует от Раневской и Гаева решений, действий, акций: отдайте вишневый сад и землю в аренду под дачи, денег тогда будет сколько угодно, «и вы тогда спасены». Реакция Раневской на требование Лопахина — отрицательная. Так и не согласившись отдать сад и землю в аренду, Раневская и Гаев вовсе теряют и то и другое. Казалось бы, уж лучше принять предложение Лопахина, чем вовсе лишиться имения. Неужели, однако, Чехов хочет нас взволновать тем, что Раневской и Гаеву не хватает элементарного здравого смысла? Действительно ли они, Раневская и Гаев и весь их дом, могут предложенным Лопахиным способом добиться подлинного спасения и решения своих проблем?
Раневская, болезненно поглощенная своими воспоминаниями, мыслями, грехами, своей неспособностью справиться с преследующими ее проблемами, говорит об этом с какой-то жалкой, казалось бы, неуместной и вместе с тем трогательной откровенностью. Очень важно для понимания структуры всего действия и перипетийного эпизода с доносящимся издалека печальным звуком струны то, что монолог о грехах своих, о бессердечном своем любовнике, о России, в которую ее потянуло, Раневская заканчивает словами: «Словно где-то музыка».
Раневская прислушивается вслед за ней прислушивается и Ло- пахин, но он не слышит ничего Так и остается неясным, впрямь ли до Раневской доносились звуки «знаменитого еврейского оркестра» или это ей только казалось, а может быть, ей даже и не казалось, а только хотелось их услышать.
Тема музыки вошла во второе действие еще ранее вместе с Епихо- довым, игравшим на гитаре, которую он предпочитает называть мандолиной. Теперь ее вводит снова Раневская, ожидающая музыки — не епиходовской, а какой-то иной, и очень нуждающаяся в ней. Но музыка не приходит. Она ведь вовсе ушла из жизни, и вернуть ее не в силах ни Раневская, ни Лопахин.
И тут меняется ход действия. Ранее «наступал» Лопахин, требовавший от Раневской принять его предложение, от чего она уклоняется. Она отказалась сдать свой сад под дачи, ибо «это так пошло», ибо это все равно не может стать решением ее реальных проблем. Теперь, после того как музыка так и не пришла, в «наступление» переходит Раневская: «Как вы все серо живете». Если Лопахин знает, что нужно делать Раневской, то она, в свою очередь, столь же хорошо знает, что следует делать ему: «Жениться вам нужно, мой друг». Лопахин соглашается с этим, он «не прочь», но тоже, как известно, в итоге уклоняется от решения.
После Лопахина Раневская, не остывая, снова «атакует»: «Как ты постарел, Фирс». А тот, в свою очередь, живет своей драмой и имеет ей свое объяснение. Этим объяснением он как бы и некстати, но по-своему точно отвечает на нападение Раневской. Вся неразбериха, считает Фирс, началась с «воли», с крестьянской реформы. До нее был порядок: «Мужики при господах, господа при мужиках», а теперь все перевернулось, смешалось: «теперь все вразброд, не поймешь ничего». Здесь Фирс развивает мотив Шарлотты, мотив Раневской: ведь они тоже, по существу, жаловались, что все идет вразброд, и ничего не поймешь и ничего не переделаешь.
Так личные драмы чеховских героев возводятся Фирсом, именно нисколько об этом не подозревающим Фирсом, к одной великой драме русской жизни 1861–1905 годов, без решения которой никакие подлинные решения драм индивидуальных невозможны. Впрямую об этом в пьесе не говорится, да и никто из действующих лиц этого и не понимает. Тут художественная идея выражена образной структурой, соотношением, развитием, казалось бы, только узколичных, индивидуально-человеческих мотивов, тем, драм.
Поэтому есть своя внутренняя последовательность в том, что появившийся Трофимов опять же переводит разговор, в котором он ранее не участвовал, на новый уровень. Трофимов, толкуя о своем, вместе с тем развивает сверхтему всей сцены. До прихода Ани и Трофимова разговор вился вокруг проблем Шарлотты, Епиходова, Дуняши, Раневской и Гаева, Лопахина. Фирс своими ответами на нападения Раневской возвел все к тому, что русская жизнь в целом после реформы пошла «вразброд». Внешне несвязанные, как бы мало соотносящиеся мысли и высказывания разных персонажей внутренне примыкают друг к другу. А рассуждения Трофимова о задачах, стоящих перед русской интеллигенцией, перед Россией и человечеством, его гражданское негодование — все это не только органически входит в контекст сцены, но ведет к нарастанию ее эмоционального и интеллектуального напряжения.
Вот тогда-то, когда все сидят глубоко задумавшись, возникшую напряженную тишину пронзает звук лопнувшей струны. Трезвомыслящий Лопахин утверждает, что это где-нибудь далеко в шахте сорвалась бадья. А может быть, это и не бадья, а птица — цапля или филин, — говорят Фирс и Трофимов.
Реакция на звук, казалось бы, чрезмерна, слишком значительна. Но если понять, насколько этот звук не то лопнувшей струны, не то сорвавшейся бадьи связан со всем предшествующим ходом действия, выяснится его символический смысл. Фирс, со свойственным ему старческим простодушием, выговаривает то, о чем думают и что чувствуют другие.
«Любовь Андреевна (вздрагивает). Неприятно почему-то.
Пауза.
Фирс. Перед несчастьем то же было: и сова кричала, и самовар гудел бесперечь.
Гаев. Перед каким несчастьем?
Фирс. Перед волей.
Пауза.
Любовь Андреевна. Знаете, друзья, пойдемте, уже вечереет. (Ане.) У тебя на глазах слезы… Что ты, девочка? (Обнимает ее.)
Аня. Это так, мама. Ничего».
Фирс снова возвращается к волнующей его теме «воли», прямо называя ее «несчастьем». Так звук лопнувшей струны, вызвавший слезы на глазах Ани, становится очень значимым, поворотным событием в структуре сцены. Раневская ждет музыки, той музыки, что уходит из жизни, а продажей имения все равно не вернешь. Звук лопнувшей струны предвещает многое: он отнимает надежды — на помощь какой-то ярославской тетушки и какого-то генерала, — которыми недавно еще легкомысленно тешили себя Гаев и Раневская. Он лишает надежд и на более сокровенные и значимые жизненные ценности.
Вслед за этим событием наступает новое. Одна перипетия непосредственно переходит в другую. Впечатление от звука сорвавшейся бадьи еще не прошло (вовсе пройти оно вообще не может), еще даже не улеглось — как появляется Прохожий.
Его первый вопрос вполне невинен: как пройти на станцию? Получив разъяснение, он, однако, этим не удовлетворяется. Его, по существу, единственная реплика оказывается завершением сцены, в которой он не участвовал. Она становится в подлинном смысле слова репликой, то есть входит в диалог, начавшийся до его появления.
«Прохожий. Чувствительно вам благодарен. (Кашлянув.) Погода превосходная… (Декламирует.) Брат мой, страдающий брат… выдь на Волгу, чей стон… (Варе.) Мадемуазель, позвольте голодному россиянину копеек тридцать…
Варя испугалась, вскрикивает.
Лопахин (сердито). Всякому безобразию есть свое приличие!
Любовь Андреевна (оторопев). Возьмите… вот вам. (Ищет в портмоне.) Серебра нет… Все равно, вот вам золотой…
Прохожий. Чувствительно вам благодарен! (Уходит.)
Смех».
Первое вторжение стороннего обстоятельства в ход действия вызвало грусть и слезы. Второе — смех. Но не только смех, а раздражение испуганной Вари: «Ах, мамочка, дома людям есть нечего, а вы ему золотой». Та, однако, сколько ее не отрезвляй, все равно будет поступать подобным образом, ибо ее милая непрактичность связана с неискоренимой барской привычкой «жить на чужой счет», как весьма точно об этом говорит Петя Трофимов.
Оба перипетийных события не ведут здесь к переменам в судьбах. Но первое побуждает действующих лиц понять или, по крайней мере, глубоко почувствовать свою ситуацию во всей ее неразрешимости. Второе событие становится своего рода новым «испытанием» Раневской с ее готовностью швырять деньгами, которых у нее нет, с ее неспособностью включиться в реальную, прозаическую, немузыкальную ситуацию. Но оно же — появление Прохожего — становится своего рода испытанием надежд и мечтаний, воодушевляющих
Петю, Аню, Лопахина, Гаева. Прохожий ведь не только Некрасова смешивает с Надсоном, но равным образом принижает всю ситуацию, в которую погружены действующие лица.
Все то, о чем они говорили и еще больше думали, чем говорили, до появления Прохожего, в его устах превращается в общее место, приобретает банальное и даже пошлое выражение. Декларируемые им высокие слова и одновременно готовность «голодного россиянина» удовлетвориться тридцатью копейками — это как бы ответ Прохожего на рассуждения Гаева, Трофимова и Лопахина о жизни, какой она должна быть, и о гордом великане, каким должно быть человеку. Поэтому тут и реакция — смех — обращена не только к Прохожему, но и к самим смеющимся, ибо в каждом из них при всем благородстве их порывов и мечтаний таится нечто и от Прохожего.
Таким образом, художественно фиксируется несоответствие между стремлениями персонажей и их бессилием; между субъективной потребностью в коренных жизненных сдвигах, мучительно ощущаемой каждым из них, и объективными, властвующими над ними обстоятельствами. Поэтому и смех тут гротескный — с комком в горле.
Как видим, чеховская перипетия органична для всей поэтики его пьес с их полускрытыми и скрытыми коллизиями — личными и общественными, с косвенными, опосредованными формами, в которых тут происходит взаимодействие персонажей.
Несмотря на огромное влияние Чехова на драматургию XX века, ход истории, в особенности Октябрьской революции, победа социализма — все это явилось благоприятной почвой для развития в советской драматургии иных, «нечеховских» типов драмы. И тут обнаруживается, что в структуре героической драмы, посвященной изображению острых социально-психологических, идейных, политических конфликтов, решение которых определяется прежде всего активностью, энергией и решительностью их участников, все же в ряде случаев перипетийное обстоятельство играет очень важную роль. Но перипетийное обстоятельство обретает при этом иное содержание и иные функции, побуждая персонажей к активному историческому действию.
Обратимся к одному лишь примеру.
Работая над «Оптимистической трагедией», Вс. Вишневский пришел к мысли, что новую форму драмы надо искать не простыми «бросками» вперед, а путем «изучения огромного материала, который дает нам прошлое». На драматурга, по его признанию, «со всех сторон давил натуралистический материал непосредственных впечатлений». Спасением от натурализма оказалось «прикосновение к классике». Он «читал греческую классику» и «сознательно всемерно уходил от бытового натуралистического зажима, для того чтобы прийти к чистоте, к суровости классической темы». Уроки греческой классики оказались для Вс. Вишневского весьма плодотворными.
Автор «Первой конной» и «Последнего решительного» в процессе работы над «Оптимистической трагедией^, как это нередко бывало в истории искусства с подлинными новаторами, ощутил свои связи с большой художественной традицией (если сами новаторы так и не успевают увидеть эти связи, их позднее обнаруживают исследователи, читатели, слушатели, зрители).
Задавшись стремлением «овладеть старой формой» и написать «цельную вещь», «как умели делать старые драматурги», Вс. Вишневский вдумывался в их «приемы» и, естественно, понял, какие возможности таятся в таком «приеме», как перипетия. В «Оптимистической трагедии» она предстает в классически ясной, четко выраженной форме, что в современной драматургии встречается не столь уж часто. Тут перерастание перипетии в кульминацию являет собой замечательный образец драматической композиции[173]. Перипетия здесь становится поворотным моментом в развитии действия, необычайно углубляя проблематику всей вещи.
Комиссар готовится к решающей схватке с Вожаком и мобилизует все наличные силы. Составляя план предстоящей борьбы, она готовит Старого матроса — «будешь говорить перед полком», готовит Вайнонена — он «следующий будет говорить». А начать бой с Вожаком на глазах полка она собирается сама. Со своей стороны, вполне подготовлен к схватке и Вожак. Но все происходит не совсем так, как предполагала Комиссар, и совсем не так, как хотел Вожак, спокойно и нагло ожидавший оглашения приказа о расстреле Командира. В ход действия вторгается перипетия.
В полном смысле слова чрезвычайное, перипетийное событие наступает в момент, когда действующие лица ждут совсем иных событий. Не просто ждут, а активно, деятельно их готовят.
Потрясающее само по себе, событие это оказывает огромное воздействие на весь ход драмы, оно как бы подводит итог всему предшествующему и во многом предопределяет дальнейшее развитие судеб участников развернувшегося конфликта.
Ситуация уже до крайности обострена, но она осложняется вступлением «со стороны» новой силы — двух бывших офицеров, возвращающихся в Россию из плена и схваченных матросами.
Представ перед Вожаком, именно эти офицеры (сами того, разумеется, не предполагая) начинают ту битву, к которой столь обдуманно готовилась Комиссар.
На вопрос Вожака: «Кто вы?» — старший из офицеров отвечает: «Человек». Сиплый его опровергает: «Скажите — смертный!» Как и для Вожака, для Сиплого человеческая жизнь не обладает никакой ценностью. Для них обоих важна только человеческая способность умирать, да еще другая — убивать. В окружающих людях они соответственно этому культивируют именно эти способности — разрушительные, а не созидательные.
Отношение матросской массы к «офицерью» откровенно неприязненное. Нет как будто никаких различий в отношении к офицерам со стороны Вожака и со стороны матросов. Вожак играет на этих чувствах, не учитывая, однако, того, что масса способна меняться, ибо несет в себе разнообразные и противоречивые устремления. Вожак во что бы то ни стало хочет заглушить, подавить, уничтожить одни потенции — те, которые могли бы обернуться против него и Сиплого. Он непрерывно возбуждает темные, а не здоровые эмоции массы, обращаясь не к ее разуму, а к ее предрассудкам.
Стремясь преподать матросам своеобразный урок политической грамоты и подвести под свою жестокость идейную базу, Вожак и Сиплый вступают с офицерами в дискуссию о задачах революции, грозящих ей опасностях и путях их предотвращения. Но именно эта дискуссия, а затем приказ Вожака расстрелять офицеров приводят к роковому для Вожака сдвигу в сознании массы.
Поразительные, пронзительные слова произносит Первый офицер. «Я думал, что наша русская революция будет светлой, человеколюбивой… Здесь, в нашей России, куда мы наконец вернулись, сверкнул первый проблеск человечности… Да? Человечности…» Вожак его грубо обрывает: «А я забыл это слово… И ты забудь!» Но вопреки ожиданиям Вожака матросы-то этого слова не забыли. В их сознании зреет мысль о зиждительных, а не только разрушительных целях революционной борьбы.
Только что угрожающе надвигавшиеся на офицеров, ибо они еще не различали в них людей, матросы резко меняют свое отношение к окопникам, желающим понять сущность советской власти.
Все происходит неожиданно и вместе с тем закономерно. Подспудный процесс в сознании полка, который стимулировала Комиссар всей своей деятельностью, теперь завершается так, что матросы наконец-то отделяют себя от Вожака.
Перемену своего отношения к офицерам полк выражает несколькими возгласами недоумения и прямого неодобрения приказа о расстреле пленных. «За что же их?» — спрашивает Старый матрос. «Не трогать их» — звучит чей-то, чей неизвестно, голос из толпы. И наконец, своеобразно выражая изменившееся состояние массы, Алексей заявляет, указывая на Первого офицера: «Мне нравится этот человек!»
Очень это важная, ключевая реплика. Многое, очень многое она выражает: не только мне, нам всем нравится этот человек и вконец разонравился ты, бывший Вожак, и мы наконец смеем тебе сказать об этом прямо. Таков второй план этой реплики, но Вожак пытается им пренебречь. По его указанию пленных уводят на расстрел.
Перипетийная сцена способствует обнажению резких, коренных отличий между Вожаком и матросами, хотя им это было не так просто понять. Ведь Вожак отбывал каторгу «по аграрным делам», и матросы это знают. Он и теперь щеголяет революционной фразой, играя на скопившейся в матросах ненависти к эксплуататорскому строю жизни. Но Вожак живет одной только ненавистью, только слепой мстительностью — и распространяет ее на всех, кого ему хочется считать врагом. В своем ожесточении он начисто утратил способность отличать добро от зла, морально оправдываемые действия от аморальных. Масса матросская этой способности все же не утратила. Но, вызывая смутные протесты со стороны матросов, Вожак быстро и умело их глушил.
Теперь же перед фактом кричащей несправедливости, о которой Первый офицер перед лицом полка безбоязненно говорит Вожаку, матросы наконец осознают, насколько их действия противоречат их глубинной тяге к созиданию. Недовольство Вожаком, поступающим и вопреки нравственным критериям, и вопреки интересам революционной целесообразности, недовольство, подспудно таившееся, уже обнаруживает себя в готовности к решительным акциям.
Они не являются стремительным ответом на акции Вожака. Перед нами сцена трудного выбора пути, мучительного осмысления ситуации и, позволим себе сказать, рождения свободной революционной воли в матросах. Перипетийная сцена с убеждающей наглядностью выявляет «диалектику целей» в поведении главного действующего лица трагедии — матросской массы.
В тот самый момент, когда полк проявляет свое неодобрение приказа о расстреле офицеров, появляется Комиссар, Вожак требует от нее еще и приказа о расстреле Командира. Ему нужен еще один расстрел, ему все время нужны расстрелы… Но Алексей перебивает Вожака своим вопросом: «Видала?» Комиссару сообщают о готовящейся расправе, и тут Алексей произносит слова — в сущности переломные, поворотные, глубоко выражающие то самое движение масс, что Вишневскому прежде всего хотелось и понять и изобразить в своей трагедии. Комиссар готовилась убеждать, настаивать и требовать, но она оказывается в новой для себя ситуации, возникшей благодаря перипетии. Не она требует, а от нее требуют.
«Комиссар называется!» — кричит Алексей. Многое, очень многое содержит в себе эта укоряющая и требовательная реплика. В самой требовательности тут уже выражено резко изменившееся отношение матросов к Комиссару. Давно ли ей угрожал Полуголый матрос? Давно ли вся матросская масса с трудом мирилась с ее присутствием?
А теперь именно к Комиссару обращаются за поддержкой, теперь к ней обращены упрек и требование проявить всю комиссарскую власть. Значит, правду Комиссара — правду партии, от имени которой действует Комиссар, — уже признают, и признают не формально: в ней нуждаются; ее хотят противопоставить злобной силе Вожака, от которого именно в эти минуты полк наконец отворачивается, чтобы в последующие минуты исторгнуть его из своей среды, из своей души.
Полемизируя с идеалистическими, кантовским в особенности, представлениями о свободе и свободе воли как силах, абсолютно полярных силе необходимости, Л. Фейербах говорил о движении к свободе через необходимость, через ее преодоление и развитие. Если Кант видел проявление свободы в способности действовать, не считаясь с прошлым, и начинать независимый от предшествующего совершенно «новый ряд» поступков, то Фейербах подходил к делу по-иному. В пределах своего созерцательного материализма он рассматривал различные формы необходимости и различные формы свободы, с ней связанные. Так, он рассматривает прошлое как необходимость, от которой зависит настоящее. Властвуя над нами, прошлое нам же и подвластно, оно может быть преодолено нашей «самодеятельностью», считал Фейербах. В таком случае свобода «состоит не в возможности начать, а в способности кончить»[174].
Перипетийная сцена «Оптимистической трагедии» и показывает нам такого рода соотношение необходимости и свободы, когда последняя проявляется в «способности кончить». Идя вслед за Вожаком, подчиняясь ему (поскольку многое до поры до времени связывает матросов с Вожаком внутренне), полк в определенный момент обретает способность покончить не только с Вожаком, но и с тем, что их — матросов и Вожака — сближало. Это выражается в волевых * актах Алексея, Старого матроса и, наконец, всего полка.
Происходит нечто в высшей степени значительное. Способность покончить с прошлым позволяет матросам начать «новый ряд» поступков. Полк оказывается способным принимать решения, начинает управлять собой, а потому — и ходом событий. Матросы требуют от Комиссара претворения своей воли — отменить расстрел офицеров. И когда в ответ на это требование Комиссар кричит: «Остановить!» — она повинуется импульсам, идущим от полка, повинуется его голосу.
Иногда в сцене, идущей вслед за расстрелом офицеров, видят «поединок» между Комиссаром и Вожаком[175]. Так ли это? Поединок ведь вспыхнул ранее — между Вожаком и Первым офицером. С появлением Комиссара сцена вовсе перестает быть «поединком», ибо тут уже идет столкновение между Комиссаром, Алексеем, Вайноне- ном, всем полком и Вожаком, с которым полк порывает, от которого в ходе действия отрекается даже Сиплый.
Решающий сдвиг в полку начинается в отсутствие Комиссара, и стимулируют его силы, вторгшиеся в действие извне. Роль Комиссара в происходящих событиях тем самым никак не умаляется. Тут развитие действия отражает реальную диалектику революционной борьбы. В перипетийной сцене полк, двигаясь прочь от Вожака, в какой-то момент даже опережает надежды и намерения Комиссара. Происходит столь важный для драмы процесс взаимодействия втянутых в коллизию сил. Тут друг на друга воздействуют передовое сознание эпохи, представленное Комиссаром, и идущие ему навстречу потребности, искания и чаяния народных масс.
Драматургия XX века нередко обращается к «внесценической» перипетии, оказывающей, как ей это в принципе положено, существенное влияние на ход действия, на поведение и судьбы его участников. В. Розов создает в пьесе «В добрый час» именно такого рода перипетию. Отправившись сдавать экзамены в Баумановское, Андрей Аверин не стал этого делать. Произошло же там, как он рассказывает Алексею, нечто весьма перипетийное, если подходить к событию с понятиями теории драмы. У всех ожидавших экзамена глаза были «беспокойные», но особенно Андрея задела некая худенькая девчонка: «прижала к себе книжки и что-то шепчет, не поймешь — не то зубрит, не то молится…». Именно в этот момент Андрей особенно остро почувствовал, насколько он равнодушен к этому институту и решил не становиться этой девочке «поперек дороги». Так некая, оставшаяся для нас безымянной, девочка сыграла переломную роль в судьбе героя, побудив его искать в жизни свою «точку», свое призвание. Если ситуация с худенькой девочкой стимулировала нравственное освобождение, побудила [Андрея] решительно отказаться от навязываемых ему форм поведения, то для его мамы, Анастасии Ефремовны, все, что произошло в училище, обернулось своего рода катастрофой, которую ни драматург, ни мы не принимаем всерьез.
У В. Розова весь перипетийный эпизод происходит за сценой. Несколько по-иному строит одну из своих перипетийных сцен А. Вампилов. Герой пьесы «Прошлым летом в Чулимске» следователь Шаманов, не дождавшись машины, — сам звонит в милицию. Обращаясь по телефону к некоему Комарову с вопросом о машине, он узнает, что его вызывают к начальнику. «Общественность встревожена» тем, что он ночует не там, где следует. Шаманов не может высказать Комарову всего своего возмущения вторжением «общественности» в его личную жизнь, ибо рядом девушка и «наш разговор ее смущает». Однако именно после этого разговора Шаманов всматривается в Валентину: «Послушай… Оказывается, ты красивая девушка… Не понимаю, как я этого раньше не замечал…» Неизвестный нам Комаров и еще более неизвестный нам «начальник», сами того, разумеется, не предполагая, повернули все действие пьесы в новом направлении: у Шаманова пробуждается интерес к Валентине, и, сам того не желая, он побуждает ее признаться ему в любви. Так «общественное мнение», от имени которого говорит невидимый нами Комаров, стимулирует резкий поворот в отношениях между Шамановым и Валентиной. Этим, в свою очередь, стимулирует наступление одной из кульминационных сцен пьесы: Шаманов — Пашка, в результате которой главный герой окончательно перестает «шутить» с жизнью, побуждая его в конце концов выйти из состояния социальной и моральной пассивности.
Как видим, перипетия живуча. Во все новых, меняющихся условиях она сохраняет свое назначение в структуре драмы. В «Эдипе» перипетия стимулировала энергию героя и ускоряла самый темп действия. В «Электре», напротив, перипетия как бы замедляет, тормозит его ход, но опять же чрезвычайно углубляет при этом проблематику трагедии. У Шекспира, Корнеля, у других драматургов нового времени и нашего века функция перипетии, ее роль и смысл каждый раз тесно связаны с общей художественной концепцией произведения, с его конфликтом, проблематикой и поэтикой.
Разительно отличаются друг от друга перипетии «Трех сестер», «Вишневого сада» и «Оптимистической трагедии», пьес В. Розова и А. Вампилова — это обусловлено своеобразием коллизий и жанровой спецификой каждой из них. Пройдя испытание перипетией, герои раскрывают свои потенциальные возможности. Непременно связанная с узнаванием, с осмыслением происходящего, с его переоценкой, перипетия ведет к сдвигам в ситуации и характерах героев, к углублению драматического конфликта.
Глава VIII
«Лекции по эстетике» Гегеля. Роль «индивидуального» в характерах Шекспира, «обращение» и «узнавание», «Гамлет» и деятельный герой. Становление героя как источник драматизма в «Ромео и Джульетте». Драматическая активность и динамика драматических отношений.
Обращаясь к Шекспиру, Гегель с его огромным чувством истории вовсе не собирался судить о нем по законам античной драмы. «Ромео и Джульетту», «Макбета», «Гамлета», «Короля Лира» Гегель хотел понять, исходя из своеобразия их содержания и построения, из особого «типа действия», связанного с эпохой, в которую творил Шекспир.
Насколько это, однако, ему удавалось?
Часто отмечается тот факт, что Гегель почитал Шекспира. Дело, однако, в том, куда вело это почитание. Шекспир, по свидетельствам современников, Гегеля и отпугивал. К. Гильберт и Г. Кун в своей «Истории эстетики» приводят рассказ о том, как «однажды слушая Тика, читающего «Отелло», Гегель воскликнул: «Какие внутренние противоречия испытывал, должно быть, этот Шекспир, если он изображает жизненные явления подобным образом». Отпугивал его Шекспир не случайно. По мнению вышеупомянутых авторов, определяя тип шекспировского трагического героя как «личность самозамурованную в самой себе», не способную участвовать во всеобщем бытии и потому лишенную подлинно человеческой значительности, Гегель оказался «не в состоянии по-настоящему понять величайшего драматического гения современной эпохи»[176].
В этом упреке есть своя правда. Гегель действительно считал наиболее существенной в герое его способность пожертвовать своей энергией ради целей всеобщего бытия. Поглощенность бытием индивидуальным являлась для него условием принижающим, а не возвеличивающим личность.
Но, к счастью, обращаясь непосредственно к творениям шекспировского гения, Гегель, как увидим, не всегда строго придерживался своих общих принципов. В шекспировском герое, даже одержимом своей субъективностью, он обнаруживал своеобразное величие, особенно ценя те моменты, когда герой этот находит в себе могучую силу, позволяющую ему подняться над самим собой и посмотреть на себя со стороны. Именно эта способность, с точки зрения Гегеля, выгоднейшим образом отличает шекспировского героя от персонажей французской классической трагедии и немецкой романтической драмы.
Самые разумные, глубокие мысли философа относятся к тем шекспировским ситуациям и лицам, в которых он может обнаружить наибольшее соответствие своим представлениям о пафосе, характере, цели и катастрофе. Ближе всего поэтому Гегелю оказался «Макбет».
Говоря о гегелевской трактовке «Макбета» и других трагедий Шекспира, напомним, что, по его мысли, искусство нового времени в отличие от искусства античного действительно изображает человека, сосредоточенного на самом себе. Оно и впрямь имеет дело с характером, «замкнутым в своем мире, со своими частными свойствами и целями»[177]. Для Гегеля это означает приближение упадка искусства, чье истинное призвание — в образной форме раскрывать единство частного и общего. Поэтому в новейшее время, когда искусство углубляется в изображение частной жизни и ему все труднее найти это единство, оно должно предоставить философии своими средствами выявлять чрезвычайно усложнившуюся взаимосвязь индивидуального и всеобщего.
Однако мысли Гегеля о Шекспире не сводятся всего лишь к конкретизации этих общих положений. Гегель нередко то от них отходит, а то и углубляет. К этому еще побуждают и диалектический метод, пересиливающий его же схемы, и присущее ему художественное чутье, и самые произведения искусств, в схемы не укладывающиеся.
В героях Шекспира Гегель видит индивидуальности, отпавшие от всеобщей субстанции. Однако и опираясь только на себя, они все же обнаруживают при этом самостоятельность, полную значимости. В чем же истоки этого? По Гегелю, «напряженная», «беспощадная» твердость, «односторонность», «отсутствие рефлексии», «непоколебимая последовательность» в осуществлении своих целей — все это придает существенный интерес героям Шекспира, вызывает наше удивление и даже восхищение[178].
Сближаясь с героями античной трагедии в неколебимости и последовательном движении к цели, шекспировские герои вместе с тем коренным образом отличаются от них. Характер в античной трагедии «не развивается», он в своих действиях «остается до конца тем, чем был вначале». У Шекспира же развитие действия есть также и «развитие индивида в его субъективной внутренней жизни, а не только внешнее движение событий»[179].
По мысли Гегеля, герои античной трагедии воодушевлены субстанциальным пафосом. Этот пафос всегда себе равен. Герои Шекспира одержимы пафосом субъективным. Это «становящийся» и исчерпывающий себя пафос. Шекспир дает нам «внутреннее становление, развертывание самого характера в его бурном устремлении, одичании, крушении или изнеможении»[180]. Макбет для Гегеля — пример такого становления, ведущего к одичанию души и ее гибели. Крушение свое Макбет сам готовил, ибо, осуществляя свою цель и преодолевая все мешавшее движению к ней, все более впадал во зло.
Герои Шекспира «легко скатываются ко злу» — иначе и быть не может, ибо они погружены в свои субъективные, личные, частные цели. А всякое обособление уже само по себе, с точки зрения Гегеля, есть движение ко злу.
Во многом, если не в главном, гегелевское понимание Шекспира связано с тем, как философ трактовал проблему зла и добра. Гегель и к ней подходил диалектически. Для него ни добро, ни зло не были внеисторическими, оторванными друг от друга категориями. В отличие от Руссо он не считал человека добрым изначально, но отвергал и мысль Канта о зле, заложенном в человеке изначально же.
Проблему добра и зла Гегель решал в свете своих общих представлений о противоречивом развитии исторической жизни человечества. Разумная идея, идеи свободы и добра как ее проявления могут быть воплощены только через индивидуальные человеческие поступки. Иного пути у разумной идеи нет. Но субъективная воля человека, сосредоточенная на достижении личных интересов, ведет ко злу. Добро и зло, говорил Гегель, имеют единый источник — волю, которая «в своем понятии столь же добра, как и зла»[181].
Видя добро и зло как единство противоположностей, Гегель считал противоречие между ними стимулом развития. То есть Гегель видит в зле не нечто лишь отрицательное, но и плодотворное[182]. Однако поступки драматического героя, в которых Гегель видит проявление его субъективности, его личного интереса, философ все-таки толкует только как «зло», поскольку этими поступками герой противопоставляет себя ходу вещей, в основе своей разумному и необходимому.
К счастью, герой, впадающий в плен своей субъективности, в определенный момент оказывается способным признать ничтожность своих субъективных устремлений и того «зла», которое им двигало. Когда герой отрешается от своей «самости», от своей «злой» субъективности, происходит «сокрушение жестокого сердца и его возвышение до всеобщности»[183].
В «Лекциях по эстетике» Гегель даже приходит к выводу, что изображение зла вообще не может явиться задачей искусства. Великие поэты и художники античности, если верить Гегелю, потому и не показывают нам злобы и низости (Гегель забывает, таким образом, про эсхиловскую Клитемнестру — воплощение не только величия, но и злобы, про эсхиловского же Эгиста — воплощение низости, и многих других героев античной трагедии). Зло как таковое, утверждает Гегель, всегда отвратительно, и Шекспир изображает его именно в его отвратительности[184]. Естественно, что в конкретных разборах и оценках трагедий Шекспира и лиц, в них действующих, проявляется это гегелевское отношение ко злу.
Если структура античной трагедии была призвана воплотить борьбу индивидуумов, в которой проявляет себя «хитрость истории», то такую же задачу должна бы выполнять и структура трагедии шекспировской. Но там, в античной трагедии, хитростью этой определялось направление борьбы, завершавшейся катастрофой и «объективным примирением» равно значительных и равно ограниченных сил.
Тщетно было бы искать у Шекспира такого рода примирение, — говорит Гегель. И верно: чьи позиции в «Макбете» или в «Ричарде III» могут быть «объективно примирены как внутренне дополняющие друг друга? Тут в целях героев нет ничего субстанциального в гегелевском понимании. Ввиду «случайности того, что герои ставят своей целью», Гегель в пьесах Шекспира находит иную форму «примирения»: здесь примиряются не враждующие друг с другом герои, а происходит своеобразное «примирение» героя с самим собой. Осознав тщету своих действий, герой «примиряется» при этом с ходом жизни.
Поэтому в шекспировском действии Гегель выделяет момент, которого не было в структуре античной трагедии: это тот, связанный, разумеется, с катастрофой момент, когда не только мы, зрители, но и самые герои осознают «ограниченность своей субъективности». Хорошо зная, насколько Гегеля в драматическом герое привлекают неколебимость и отсутствие рефлексии, мы с некоторым удивлением читаем про глубину и богатство духа шекспировских героев, проявляющегося в рефлексии, которая возвышает их «над тем, чем они являются по своему состоянию и своим определенным целям»[185].
Правда, в заслугу героям ставится рефлектирование, наступающее лишь в заключительной стадии действия, оно-то и ведет их к своеобразному «примирению». Герой по-прежнему как бы и не отказывается от своей цели, остается в ней тверд, но одновременно «возвышается над своей страстью и ее судьбой»[186]. В финальных монологах и Макбет, и кардинал Вулси, и Клеопатра находят в себе силы «смотреть на себя со стороны, созерцать себя как другой, чужой образ»[187].
Это особенно отличает шекспировских героев от персонажей французской трагедии. При ближайшем рассмотрении те оказываются для Гегеля только «напыщенными злыми тварями», которым «хватает ума лишь для оправдания себя всякими софизмами».
У Шекспира же мы не находим «ни оправдания, ни осуждения, а лишь размышление о всеобщей судьбе, необходимость которой индивиды принимают без жалоб и без раскаяния».
В этом отношении Гегель готов шекспировского героя поставить выше античного. Он считает очищение, которого в эсхиловских «Эвменидах» добивается для Ореста Аполлон, скорее внешним, чем внутренним. Новое время родило более «высокое представление о примирении». Мы хотим, чтобы во внутреннем мире человека произошел «переворот», произошло «обращение», чтобы человек внутренне освободился от своей односторонности.
Гегелевское «обращение» генетически связано с аристотелевским узнаванием. Как мы уже говорили, если не упрощать мысль Аристотеля о связанном с перипетией узнавании, то оно окажется моментом осознавания, проникновения героя в суть вещей. «Обращение» у Гегеля и составляет такой именно момент проникновения героя в суть происходящего, когда, подведя итоги, он выносит своего рода приговор себе, своим антагонистам, миру в целом.
К сожалению, эта глубокая мысль о катастрофе, ведущей к «обращению», к перевороту во внутреннем мире героя, недостаточно «освоена» теорией драмы. Между тем она имеет отношение не к одному лишь Шекспиру. Ведь не только в «Отелло», «Макбете», «Короле Лире», но и в «Разбойниках», «Кукольном доме», «Привидениях», в «Егоре Булычеве», «Оптимистической трагедии», «Смерти коммивояжера» главным итогом действия вовсе не является победа какой-либо одной из борющихся сторон. Тут имеют место именно «перевороты» в сознании Карла и Франца Мооров, Норы и фру Алвинг, Егора Булычова, Вилли Ломена, в сознании матросского полка у Вишневского.
К таким внутренним переворотам и «обращениям», разным по своему смыслу, ведут своих героев драматурги XIX века — рядом с Ибсеном — А. Н. Островский, в чьих пьесах именно эти переживаемые его героями перевороты являются вместе с тем особенно драматическими моментами нравственных коллизий (вспомним Самсона Силыча Большова, Ларису Огудалову, других героев Островского, чьи жизненные катастрофы выражают себя крутыми переворотами — прозрениями)[188].
Глубина, острота, смелость гегелевской мысли сказываются в том, что он не усматривает в «обращениях» шекспировских героев ни самооправдания, ни самоосуждения, ни раскаяния в совершенном. Но имеет ли здесь место «примирение», которое хотелось бы увидеть Гегелю? Вот замечательные слова Макбета:
Конец, конец, огарок догорел! Жизнь — только тень, она — актер на сцене. Сыграл свой час, побегал, пошумел — И был таков. Жизнь — сказка в пересказе Глупца. Она полна трескучих слов И ничего не значит.Разве здесь речь идет о примирении Макбета с необходимостью, разве он ее «принимает»? Нет, тут скорее самая необходимость предстает лишенной смысла. Гегель ссылается и на заключительные слова Вулси из «Генриха VIII»:
Прощай же, мой ничтожным ставший жребий! Вот участь человека! Он сегодня Распустит нежные листки надежд, А завтра весь украсится цветами, Но через день уже мороз нагрянет, И в час, когда уверен наш счастливец, Что наступил расцвет его величья, Мороз погложет корни, и падет Он так же, как и я.В этом «объективировании и высказывании своих чувств через сравнения» Гегель обнаруживает спокойствие и выдержку Вулси, его «успокоение в скорби и гибели». Заключительный монолог Клеопатры Гегель тоже трактует как выражение мягкого успокоения.
Иначе Гегель и поступать не может. Ведь с его точки зрения искусство, изображая дисгармонию бытия, делает это только для того, чтобы тут же обнаружить в нем гармонию. В «обращении» Гегель очень хотел бы все-таки увидеть «отрешение» героя от своей ничтожной «самости», полный отказ от своих притязаний, признание своей неправоты и правоты попирающего его объективного хода вещей.
Но у Шекспира этот, Гегелем точно обозначенный, элемент структуры его трагедий имеет иную содержательную функцию. В отличие от Гегеля, Шекспир решительно не верил в то, что раздирающие людей противоречия разрешимы в условиях антагонистического строя жизни.
В тех своих монологах, которые действительно выражают собой потрясения и обращения, происходящие в их сознании и их душах, шекспировские герои вовсе не противопоставляют учиненному ими «произволу» мировой порядок как проявление разумной необходимости. И Макбет, совершающий преступления, и Гамлет, борющийся с преступлениями, нисколько не гегельянцы, а и в побеждающем их объективном ходе вещей не обнаруживают разумных закономерностей.
Когда Кант видел не только отсутствие гармонии, но даже пропасть между требованиями морали и ходом реальной жизни, в этом проявлялись не только его заблуждения, но и Понимание антагонистической природы буржуазного общества. Оспаривая кантовскую точку зрения, Гегель, по существу, впадал в противоположную крайность и настаивал на том, что «должное» вполне может стать «сущим», «разумное» — действительным.
Поэтому в колебаниях, мучениях, связанных с трудностью выбора пути, — во всем этом Гегель видел не муки «доброй», а происки «злой» воли, увертки, помогающие уклониться от исполнения должного. Но эти антикантовские рассуждения оказываются направленными и против Шекспира, чего Гегель, вероятно, не предполагал.
Ведь Гегель исходил из того, что в обыкновенной, частной жизни не столь уж затруднительно выбрать между добром и злом. А когда видят подлинную моральность в колебаниях и сомнениях, то это «скорее следует приписать злой воле, которая ищет лазеек для уклонения от своих обязанностей, знать которые ведь вовсе нетрудно»[189]. Мы помним гегелевское: «великие характеры не выбирают», ибо они изначально постигают свой пафос. Но и не великим характерам, как видим, хотя и по другим причинам, тоже нечего себя мучить: обычные, житейские ситуации не так сложны, чтобы и тут были оправданы колебания, сомнения, пересмотры и переоценки линий поведения. В них разобраться легко, надо только захотеть.
А Гамлет, хотя и захотел, да у него что-то не выходит. В его поступках, как увидим, «добро» переходит в «зло». Если уже для героев античной трагедии «должное» является не само собой разумеющейся истиной, а проблемой, то еще более трудноразрешимой она становится для героев Шекспира. Поэтому они — даже Макбет — отказываются от своих решений, вновь к ним возвращаются, меняют их[190].
Если поступки античных героев объективно противоречивы, но субъективно это ими осознается не всегда и не в полной мере, то у Шекспира герои осознают противоречивость своих намерений и целей с огромной силой и болью. Отсюда их колебания, сомнения и раздумья. Поэтому они в одних случаях действуют ради вполне осознанных определенных целей, в других во имя не столь определенных. При этом намерения и цели, очень сложные изначально, к тому же претерпевают радикальные изменения. Гегель эту сложность соотношений между намерениями и целями, эту динамику стремлений, отличающую поведение шекспировских героев, нередко вовсе игнорирует, стремясь все свести к некоей единой цели, доминирующей в поведении каждого из них.
Понимая, что в шекспировской трагедии личность героя и разнообразнейшие мотивы ее духовной жизни играют гораздо более существенную роль, чем в античной, Гегель, однако, часто подходит с одними и теми же критериями к шекспировскому, эсхиловскому и софокловскому характерам. Ведь правомерность «рефлексии», ведущей к внутреннему перевороту, к «обращению» в Макбете или Клеопатре, Гегель признает все-таки вопреки своей схеме. В принципе же он противник рефлексии и внутренней противоречивости героя. Поборник цельности, он стремится обнаружить ее и там, где этого нет и в помине.
Говоря о «Макбете», в особенности о финале трагедии, Гегель отступает от своих схем; обращаясь к «Гамлету», он оказывается не в силах сделать это. Где, с точки зрения Гегеля, источник коллизии, переживаемой Гамлетом, в чем ее существо? Поскольку за Клавдием нет никакой правды, нет ничего, что «поистине заслуживало бы уважения», Гамлету в его борьбе не предстоит каким-либо образом нарушать и оскорблять нравственность. Этим шекспировский герой отличается от эсхиловского Ореста, чей акт мести соответствовал одним нравственным нормам, но вместе с тем нарушал другие. В поведении Гамлета Гегель никакого нарушения норм не обнаруживает. А раз это так, раз тут нет борьбы двух правд, то источник коллизии всего лишь в том, что «благородная душа» Гамлета «не создана для энергичной деятельности». Поэтому тот и мечется между правильным решением и неудачными попытками его осуществления. Объясняя трагедию Гамлета тем лишь, что тому не удалось осуществить свои решения, Гегель проходит мимо сложных шекспировских коллизий. Внутренние причины «колебаний» Гамлета относительно принимаемых им решений Гегеля не интересуют. Да колебаний и не должно быть, ежели, как считает Гегель, герою не приходится нарушать нравственность.
Поэтому одни замечания философа о датском принце поражают своей глубиной, другие же вызывают наше недоумение. Гегель говорит о тонком чутье Гамлета, о его принципиальной неспособности включать себя в современные отношения. О том, что «на заднем плане души Гамлета с самого начала стоит смерть» и «его уже почти съедает внутренняя усталость, прежде чем смерть приходит к нему извне». Но при этом Гегель говорит о Гамлете и совсем другое: тот «не разбирается в том, что его окружает», «находится в состоянии бездеятельности», когда надо действовать, ему «трудно решиться выйти из своей внутренней гармонии»[191].
Но о какой «внутренней гармонии» может идти речь, если на заднем плане души смерть стоит с самого начала? Ведь Гамлет не хочет включить себя в современные отношения потому именно, что начинает слишком хорошо в них разбираться. Говорить, будто Гамлет находится «в состоянии бездеятельности», можно лишь понимая деятельность как «осуществленную волю», как «акции» и «реакции». Если бы о Гамлете писал Кант, он бы увидел тут не «состояния бездеятельности», а, напротив, был бы в восторге от «медлительности» принца и нашел бы в его терзаниях бездну активности. Для Гегеля же Гамлет элементарно медлителен, а когда начинает действовать, то делает это «опрометчиво», о чем будто бы свидетельствует убийство Полония.
Принца датского философ желал бы отождествить с излюбленным своим типом трагического героя. Об этом можно судить по следующему категорическому заявлению: «Гамлет сомневается не в том, что ему нужно делать, а в том, как ему это выполнить»[192]. Если бы это было так! Но в трагедии вообще, и особенно в «Гамлете», «что» и «как» нераздельны, составляя для героя проблему именно в этой нераздельности. Будь Гамлет с начала и до конца одержим единым пафосом и единой определенной целью, его бы и впрямь можно было ставить в один ряд с Орестом из софокловой «Электры» или Макбетом, несмотря даже на то, что в отличие от названных героев он не обладает силами и средствами, необходимыми для выполнения цели.
Тогда датский принц отличался бы от нужного Гегелю типа героя всего лишь недостатком энергии и упорства. Все дело, однако, в том, что Гамлет — драматический герой совсем иного рода. Он не уверен именно в том, что надо делать. Он не уверен и в своих решениях, и в способе их осуществления. Начинаются его сомнения до появления Призрака, а встреча с ним не снимает сомнений. Думать, будто после нее Гамлет всецело живет целью, Призраком запрограммированной, значит упрощать и его образ, и смысл всей трагедии. Призрак сформулировал свои требования.
Цели, сознании Гамлета
Отмсти за подлое убийство… ……………………………. Однако, как бы ни сложилась месть, Не оскверняй души, и умышленьем Не посягай на мать. На то ей бог И совести глубокие уколы. …………………………….. Прощай, прощай и помни обо мне.Все как будто ясно. Задачи определены. Но как цели, поставленные Призраком, трансформируются в сознании Гамлета? Вспомним последние его слова в конце первого действия:
Ни слова боле! Пала связь времен! Зачем же я связать ее рожден? (Перевод А. Кронеберга) Век расшатался — и скверней всего, Что я рожден восстановить его! (Перевод М. Лозинского) Разлажен жизни ход, и в этот ад Закинут я, чтоб все пошло на лад. (Перевод Б. Пастернака)поставленные перед ним Призраком, видоизменяются в Гамлета до неузнаваемости. М. Морозов перевел слова
The time is of joint; О cursed spite That ever I was born to set it right! —так: «Век вывихнут. О, проклятое несчастье, что я родился на свет, чтобы вправить его»[193].
Что тут перед нами? Всего лишь одна из бесчисленных шекспировских поэтических фигур? В статье «Метафоры Шекспира как выражение характеров действующих лиц» М. Морозов приходит к выводу, что Гамлет избегает «возвышенно-поэтических сравнений и метафор». В речах принца преобладают прозаические конкретно-вещественные, иногда грубые образы. Гамлету чужда модная в эпоху Шекспира выспренность речи. Он не говорит: «какое чудо природы человек» или «какое удивительное творение человек», как у нас обычно переводят, но «какое изделие (или произведение) человек!» Лишь в редкие минуты мысль Гамлета обретает возвышенно-патетическую форму выражения[194].
Нет сомнения: в конце первого действия Гамлет переживает именно такую минуту. И все же слова о «вывихнутом веке» и о необходимости его «вправить» нельзя счесть только метафорой. Нельзя их принимать и за художественный «троп», с помощью которого Гамлет скрывает свои истинные намерения от Горацио, Марцелла. Толковать эти речи Гамлета столь ограничительно значило бы не почувствовать здесь дерзновенных его притязаний. Задача отмстить за подлое убийство перерастает в сознании Гамлета в еще одну, притом грандиозную: «наладить ход» этой адовой расшатавшейся жизни.
Мы еще неоднократно будем возвращаться к особенности драматического поступка, о которой позволяет говорить сцена Призрак — Гамлет. Ведь поступок драматического персонажа обращен не на вещь, не на предмет, и его объектом всегда является другой персонаж со своим характером, со своей ситуацией. Отсюда могут проистекать драматические «расхождения» и противоречия между намерениями взаимодействующих персонажей, вполне как будто понимающих друг друга. Расхождения между требованиями Призрака и их трактовкой Гамлетом в конце первого действия очевидны. Но начинается все ранее, уже в момент ухода Призрака, после его слов: «Прощай, прощай и помни обо мне!»
Выполнение требований Призрака стало для Гамлета, так может показаться, единственной и всепоглощающей задачей:
…Помнить о тебе?.. …лишь твоим единственным веленьем Весь том, всю книгу мозга испишу…Однако негодование тут же уводит принца к раздумьям об окружающих его людях:
О женщина злодейка! О подлец!.. Где грифель мой, я это запишу, Что можно улыбаться, улыбаться И быть мерзавцем…Опять же имеет смысл процитировать перевод М. Морозова: «…твой приказ будет жить один в книге моего мозга, не смешанный с более низкими предметами… Надо записать, что можно улыбаться и быть подлецом…»[195].
Как видим, только об отце помнить клянется Гамлет, жить только исполнением его приказа. Этим и ничем иным. Но вдумавшись в ответ Гамлета, в то, как он построен, понимаешь, что, хочет и сознает это Гамлет или нет, приказ отца не будет «жить один в книге его мозга». Призрак еще не успел удалиться, а потрясенный им Гамлет тут же пускается в размышления, которые, конечно, могут его увести и будут уводить от поставленной перед ним конкретной цели. Но таков Гамлет — иначе он не может.
Казалось бы, запись Гамлета относится только к Клавдию. Но для него вопрос об «улыбке» и скрытом за ней «подлеце» уже касается не одного лишь Клавдия и перерастает в тотальную проблему. Вся Дания, весь ход жизни, все ее устройство ставят, уже ранее ставили Гамлета перед ней. Встреча с Призраком только обострила ее до крайности.
Вопрос о разрыве между видимостью и реальностью, о внешней благопристойности и внутренней порочности сплетается для Гамлета с более трудным: о противоречии между человеческими возможностями и тем, как они реализуются. Уже в первом действии Гамлет с его тонкой душевной организацией, с его острым, бескомпромиссным умом, с его понятиями о человеческом предназначении оказывается перед тугим клубком проблем.
Его гамлетизм начинается до встречи с Призраком. Монолог — «О, если бы этот грузный куль мог испариться, сгинуть, стать росою!» — ведь это первый вариант монолога «Быть или не быть…». Еще до ужаснувшей его встречи Гамлет уже весь в сомнениях. Его одолевают мысли о самоубийстве, желание оставить этот ничтожный, плоский, бесчеловечный мир, лишенный памяти, сегодня с готовностью забывающий о том, что было вчера. Но одновременно он сомневается и в праве человека уходить из жизни самовольно. С самого же начала Гамлет не одержим единым пафосом. Он сразу же предстает человеком, которого мучают проблемы.
Таким он и остается до конца: сложность, запутанность и масштабы проблем, стоящих перед ним, лишь возрастают. Он сам их и усложняет, ибо примитивные решения его удовлетворить не могут. Однако справиться со своими грандиозными задачами, не упуская при этом задач, поставленных перед ним Призраком, он не в силах.
Гегель видит в Гамлете человека, знающего, что ему надо делать. Нет, он скорее человек, пытающийся узнать, а не знающий. Нельзя считать его героем единой цели, не достигающим ее по слабости натуры, по недостатку сил. Ведь цель, поставленную Призраком, Гамлет в итоге не только выполняет, но и «перевыполняет». Однако этим-то он и ставит себя в трагически-безвыходную ситуацию.
Гегелевское представление о Гамлете как о человеке единой и определенной цели имеет своих сторонников и в наши дни. Один из них пишет: «неправы те, кто пытается приписать пьесе идею недостаточности мести»[196]. Но если идея мести «достаточна» для Гамлета и для Шекспира, почему бы встрече Гамлета с Призраком не состояться в начале первого действия, до того, как Гамлет уже успел впасть в свою меланхолию и рефлексию? В том-то и дело, что идею мести Призрак внушает человеку, который уже смотрит с отвращением вокруг, а затем совершает роковые поступки, в какой-то мере уподобляющие его людям, ему противостоящим.
Гегель, по существу, тоже воспринимает «Гамлета» как трагедию мести и борьбы за престол. Ведь Гегелю в драматическом конфликте нужна прежде всего борьба за определенные цели. У Гамлета же — их сплетение. Одна, поставленная Призраком, и впрямь отличается полной определенностью. Другая, или другие, возникающие у самого Гамлета, углубляют коллизию именно своей «неопределенностью», иначе говоря — своей противоречивостью, сложностью, проблематичностью. Гамлет противопоставлен Клавдию, Лаэрту, Фортинбрасу, всегда знающим, чего они хотят, и даже умеющим это «сформулировать».
Такого рода соотношение фигур весьма характерно не только для «Гамлета», но вообще для драматургии нового времени. В произведениях драматической литературы разных эпох и разных художественных направлений героям, знающим, что им подлежит делать, противостоят герои узнавающие. Кабаниха, подобно Полонию, знает, как ей надобно поступать. Катерина же не знает, ищет, выбирает, раскаивается. Цели у Наташи Прозоровой по-своему столь же определенные, как и цели Клавдия, Гильденстерна и Розенкранца. Однако надежды трех сестер, странным образом связанные с Москвой, по-своему столь неопределенны и столь же значительны, как и надежды Гамлета вправить вывихнутый век.
Трагедия Гамлета связана с тем именно, что он не только узна- вающий, но так до конца и не узнающий, что ему надо делать. Отвергая изжившие себя нормы и формы междучеловеческих отношений, посягая на них во имя справедливости, Гамлет, поскольку и в его поведении проявляют себя противоречия между целями, средствами и результатами, сам оказывается в положении человека, попирающего требования нравственности и справедливости.
Покуда он противостоит одному лишь Клавдию, правда на его стороне. Но Гегель проходит мимо того обстоятельства, что структуры античной и шекспировской трагедии отличаются друг от друга коренным образом. В софокловой «Антигоне» исходная ситуация Антигона — Креонт от эписодия к эписодию все более обостряется. В «Гамлете» же перед нами не только обострение борьбы между двумя антагонистами. Тут исходная ситуация претерпевает радикальное, катастрофическое усложнение в момент, когда Гамлет убивает Полония.
В процессе движения к своей справедливой цели, достижение которой, как считает Гегель, нисколько не связано с нарушением нравственности, Гамлет совершает по отношению к Офелии и Лаэрту не меньшую несправедливость, чем Клавдий учинил по отношению к нему. Кем является Клавдий для Гамлета, тем принц становится для Офелии и Лаэрта[197]. Двигаясь к осуществлению справедливой конкретной цели — к мести — Гамлет роковым образом усугубляет вывихнутость века, который он был намерен вправить. Стремясь утвердить добро, Гамлет сам совершает зло, а его агрессивная, пытливая мысль, его бдительная, неусыпная совесть не могут пройти мимо всего этого.
Так трагедия датского принца являет нам диалектику целей и их катастрофическое усложнение. Она являет нам противоречивые результаты поступков, совершаемых героем и становящихся для него источником страдания и осмысления. Это накладывает свой отпечаток на самую структуру действия в шекспировской трагедии.
Для Гегеля основным структурным элементом была, как мы знаем, катастрофа. Можно даже сказать, что весь смысл трагического действия он видел в катастрофе, к которой оно ведет.
Но если перед нами не движение к единой цели, а диалектика целей, то каждое потрясение, связанное с «провалом» в осуществлении намерений, каждое осознание героем неожиданности и противоречивости достигнутых им результатов может, стать своего рода катастрофой — пусть «малой» по сравнению с «большой» — центральной, решающей, конечной, закрывающей возможность возникновения у героя новых стремлений. Видел ли Гегель в драматургическом действии эти критические повороты, эти малые катастрофы?
В статье «Гегель о драматическом конфликте» Б. Райх в общем справедливо замечает, что греческая и французская классическая трагедия придерживалась в построении конфликта принципа единого «кризиса», подтверждением чему являются «Антигона» Софокла, «Федра» Расина. У Шекспира исследователь видит иные «установки» и обоснованно ссылается при этом на «Короля Лира».
Напрасно, однако, Б. Райх полагает, будто Гегель рассматривал действие у Шекспира как единство, которое «соединяет в своем движении несколько кризисов и конфликтов»[198]. Нет, Гегель проницательно выделил в структуре шекспировской трагедии момент «обращения», связав его с итоговой катастрофой. Что же касается цепи кризисов и катастроф, своего рода цепной их реакции, то Гегель прошел мимо этого и в «Гамлете», и в «Короле Лире».
Беглые замечания философа о «Лире» вообще поражают читателя тем, насколько они бьют мимо цели. Шекспир изображает зло во всей его отвратительности, например, в «Короле Лире», — говорит Гегель, развивая свою мысль следующим образом: «Старик Лир разделяет королевство между своими дочерьми и при этом настолько глуп, что доверяет лживым, льстивым речам двух дочерей и отвергает ничего не говорящую Корделию. Это просто глупо и безумно». Дальнейший же ход событий доводит Лира «до действительного сумасшествия»[199].
В другом месте про Лира же: «первоначальная блажь старика в шекспировском Лире доводит до сумасшествия»[200]. Эти оценки для
Гегеля вполне естественны, ибо становление шекспировского героя он понимает как развитие и выявление того, что «само по себе изначально было заложено в характере»[201]. Весь путь Лира сводится Гегелем к движению от глупости и блажи к сумасшествию. Пропадают диалектика целей, катастрофы и прозрения Лира, благодаря которым он вырастает в могучую трагическую фигуру. Гегель отказывает ему даже в «обращении», которое переживают Макбет, Отелло, Клеопатра.
В трагедиях Шекспира диалектика целей и связанная с этим диалектика кризисов в героях и в отношениях между ними принимает разные формы. Но увидеть все это можно, перестав отождествлять драматизм с одной лишь борьбой и прямыми противодействиями. Гегель говорил: «цель и содержание действия драматичны лишь постольку, поскольку благодаря своей определенности цель эта… в других индивидах вызывает иные, противоположные цели и страсти»[202]. Всегда ли драматизм действия, драматизм поступка связан с тем, что он вызывает в ответ противоположный по цели и по содержанию поступок? Подтверждается ли практикой драматургии гегелевское отождествление борьбы, конфликта и драматизма?
В поисках ответа на эти вопросы имеет смысл обратиться к «Ромео и Джульетте» и гегелевской трактовке ее конфликта. Он вовсе не собирается все сводить к вражде между Монтекки и Капулетти: «ссора между двумя семействами, лежащая за пределами целей и судеб влюбленных, остается почвой действия, но не собственно основным моментом[203]. Самая же коллизия здесь, по мысли Гегеля, заключается в том, что, «нарушая» сложившуюся между их семьями ситуацию, герои «впадают в коллизию благодаря заранее известному им разладу»[204].
В любви Ромео и Джульетты, если взять ее «саму по себе, нет никакого нарушения», — говорит Гегель[205]. Драматична ли, однако, история этой любви? А если — да, то сводится ли все дело к тому, что герои — во враждебном окружении и нарушают ситуацию, сложившуюся между семьями?
Обратимся к одной из сцен трагедии — ночной встрече в саду дома Капулетти. Джульетта на балконе, Ромео — в саду. Третье лицо — Кормилица — не показывается. Она дает о себе знать только голосом, дважды врываясь в решающие моменты любовного объяснения.
В чем истоки драматизма этой сцены?
Начинается все с двух поступков, совершаемых Ромео и Джульеттой почти одновременно, но независимо друг от друга. Он пробирается в сад Капулетти (скорее всего, перемахнув через высокую ограду). Она же — выходит на балкон своего дома.
Чем движим Ромео? Каково его состояние? Какие у него могут быть при этом — осознанные или неосознанные — цели? На что он может надеяться? Чего может хотеть? Приблизиться к дому, увидеть в каком-то из окон силуэт Джульетты, подышать воздухом сада, где она бывает. На большее он не рассчитывает и даже вряд ли способен мечтать о чем-либо ином. Когда, вопреки ожиданиям, он видит Джульетту на балконе, а затем и слышит ее речи, его первоначальные желания, конечно же, претерпевают перемену, теперь он уже хотел бы другого:
О, если бы я был ее перчаткой, Чтобы коснуться мне ее щеки!Таков предел его мечтаний в эти первые минуты. Но уходит он из сада женихом, которому через несколько часов предстоит известить свою невесту, где и как совершится их бракосочетание.
Чем движима Джульетта, появляясь на балконе? Менее всего она надеется увидеть в своем саду Ромео. У нее и мысли нет о чем-либо подобном. Ей надобно остаться с этой сразившей ее любовью, со своим желанием узнать, любима ли она, со своей готовностью ради любви забыть о том, что она — Капулетти, а он — Монтекки. И тайну сердца своего она высказывает под покровом ночи, уверенная, что ее никто услышать не может. Но возвращается она в дом невестой Ромео, невестой нетерпеливой, готовой всю жизнь сложить к его ногам, жаждущей пойти под венец хоть завтра.
Разумеется, их признания и объяснения, решения, которые они принимают, — все это происходит в обстановке, чреватой опасностью для обоих, в особенности — для Ромео. Ему несдобровать, попадись он в руки отцу Джульетты, а тем более — Тибальду. Джульетта нисколько не преувеличивает, когда говорит:
Смерть ждет тебя, когда хоть кто-нибудь Тебя здесь встретит из моих родных.Первые слова Джульетты в этой сцене: «О горе мне!» вызваны именно тем, что она полюбила человека из дома Монтекки. Обстоятельства, угрожающие любви Ромео и Джульетты, пока что вторгаются в их объяснение голосом Кормилицы. Но и герои и зрители предчувствуют, что обстоятельства могут вторгнуться в эту любовь самым бессмысленным и жестоким образом. К такому вторжению мы подготовлены событиями первого действия: ожесточенной дракой слуг, поведением Тибальда, жаждавшего схватиться с «мерзким негодяем» — Ромео.
В литературе об этой трагедии, да и в сценических ее трактовках решающее значение нередко придается именно этим обстоятельствам, которые враждебны героям и ведут их к гибели. Именно здесь принято видеть истоки драматизма, нарастающего затем с каждым действием трагедии. «Влюбленные оказываются бессильными перед судьбой, как бессильна перед ней ученость отца Лаврентия. Это — не мистический рок, но судьба в смысле суммы окружающих человека обстоятельств, из которых человек произвольно вырваться не может», — писал несколько десятилетий тому назад исследователь Шекспира[206]. Трагический исход коллизии в этой и ей подобных трактовках объясняется силой обстоятельств, «окружающих» героев. Сами же герои предстают в таком случае как «бессильные» жертвы этих обстоятельств.
В одной из новейших работ — Л. Пинского — такая «социологизация» сюжета, такое перенесение акцента (вопреки Шекспиру!) с Ромео и Джульетты на «Монтекки и Капулетти» отвергается как огрубляющая тему и обедняющая ренессансный колорит «вечных образов» трагедии[207].
Разумеется, обстоятельства имеют огромное значение для сцены у балкона. И все же истоки ее драматизма — не столько в борьбе героев с этими обстоятельствами. В большой мере герои тут сами, своими порывами, решениями и действиями эту драматическую ситуацию создают.
Отношения между Ромео и Джульеттой стремительно претерпевают ряд разительных перемен. Итог этих перемен настолько неожидан для обоих, что, предскажи кто-нибудь все это еще полчаса назад, им обоим все показалось бы невероятным. Они не только не представляли себе такой разворот событий, но не были к нему готовы внутренне. Предложи им кто-нибудь сразу же после их первого объяснения на балу стать мужем и женой, они вряд ли согласились бы на это.
Дело, видимо, в том, что перемены в отношениях здесь связаны со столь же стремительными изменениями в самих людях. Чем же определяется этот процесс драматических перемен и как он протекает? Конечно, Джульетта — с самого начала Джульетта, а не Розалинда. Конечно, Ромео с самого начала Ромео, а не Парис. Но, обладая каждый своим характером, они не только «проявляют» его. Тут происходит становление характеров. Однако гегелевское понимание «становления» как развертывания неких изначально присущих герою качеств не подойдет к Ромео и Джульетте. Ведь, связывая «сумасшествие» Лира с его изначальной «глупостью», Гегель тоже как бы имел в виду «становление». Но такое становление было бы лишено подлинного драматизма. У Шекспира же — становление всегда содержательно и одновременно исполнено драматизма. Об этом поражающе наглядно говорит нам и сцена у балкона.
Когда, попав в сад, Ромео про себя, совсем тихо отвечает на говорящий взор Джульетты, даже и это он готов счесть дерзостью со своей стороны. Ведь еще неясно, обращен ли этот взор именно к нему. Но вот Джульетта размыкает уста — и снова неожиданность: она думает именно о нем — ради него готова перестать быть Капулетти, готова отдать себя именно ему. И тогда в ответ звучат его столь же решительные слова, обращенные уже прямо к ней. Весомость слов тут подкрепляется пренебрежением к смертельной опасности, осознаваемой обоими.
Напряжение тут нарастает благодаря активности героев, чьи порывы ведут ко все более решительному сближению. Оно происходит не постепенно, а через сдвиги, рывки. Тут можно различить «кванты» действия, «толкающего» героев навстречу друг другу. Начнем с того, что с первого же момента каждый из них сталкивается с неожиданностью. Ромео не только дышит воздухом Джульетты, но вопреки ожиданиям видит и даже слышит ее. Джульетта же, обращаясь к Ромео воображаемому, оказывается услышанной Ромео реальным, Джульетта нисколько не отрекается от слов, невольно им подслушанных. Реакция Ромео на ее слова пробуждает в Джульетте чувства еще более сильные, побуждает ее к словам еще более безоглядным, чем ранее сказанные. Она почти не дает Ромео отвечать, она прерывает его попытки сказать про свою любовь. И однако все, что Ромео хочет, он успевает сказать, а Джульетта успевает услышать, воспринять и ответить. Каждой своей репликой она переводит объяснение на новый, более страстный и более высокий уровень.
Тут перед нами процесс взаимовоздействия персонажей: каждый шаг, каждый порыв, каждое признание Ромео превышает ожидания Джульетты, а ее действия, ее оценки ситуации, ее хотения и ее решения в еще большей мере превышают ожидания Ромео. Суть именно в эскалации, в динамике хотений и стремлений, которыми они стимулируют друг друга.
В этом процессе взаимовоздействия существеннейшую роль играют моменты узнавания, своеобразные критические точки. Это маленькие катастрофы, но с содержанием, противоположным тому, которое принято вкладывать в понятия «кризис» и «катастрофа». Аристотель, как мы знаем, придавал «анагнорзису», сценам узнавания в драматургической фабуле, огромное значение. Когда Гегель говорил о моментах «обращения» в шекспировских трагедиях, речь ведь тоже, по существу, шла об особого рода узнаваниях-осознаваниях, связанных с сокрушительной катастрофой, переживаемой героем. Как можно судить по «Ромео и Джульетте», в драме нового времени узнавание связано не только с решающей, последней катастрофой. Теперь оно неотделимо от каждого более или менее значительного сдвига во взаимоотношениях между действующими лицами, в их судьбах.
У Шекспира «узнавание» часто становится осознаванием, осмыслением или стремительным, интуитивным постижением того, что произошло. Оно может выделиться и составить отдельный структурный момент в индивидуальном действии, но может быть абсолютно слитым с драматической акцией. Так, например, в «Гамлете», «Макбете», «Отелло», «Короле Лире» целые сцены являются, по сути, сценами узнавания-осознавания, за которыми следует решение. В сцене с Эмилией Отелло узнает истину про Дездемону, постигает смысл происшедшего — роль Яго и свою роль в трагическом ходе событий, и принимает свои последние решения.
В «Ромео и Джульетте» узнавание Джульеттой про смерть Тибальда и Меркуцио, про изгнание Ромео разрастается в большую сцену осознавания, завершающегося в итоге решением, к которому героиня идет через мучительные колебания, через внутреннюю борьбу. Тут у Джульетты свое «быть или не быть». В подобных ситуациях напряженного выбора, взвешивания мотивов, движения к решению Джульетта оказывается снова и снова: когда ее отец из лучших намерений приходит к своим тупым решениям выдать ее за Париса и к тому же без промедлений; перед принятием снотворного напитка и, наконец, после пробуждения в склепе.
У Ромео тоже свои «быть или не быть». В дуэли с Тибальдом, от которой он не смог удержать себя, он вовсе не проявляет своих изначальных стремлений. Тут потрясающее узнавание про гибель друга, вспышка чувств, этим вызванных, и роковая акция Ромео как бы слиты воедино.
Узнавания и акции в сцене в саду тоже таковы. Стремительные, они не выделены, не вычленены и сращены друг с другом. Но бурный темп, в котором совершаются узнавания, не уменьшает их стимулирующей значимости для каждого из поступков Ромео и Джульетты, для развития всей сцены в целом. Тут происходит взаимное узнавание любви и характеров, способных на такую любовь, способных выдержать ее нарастающее напряжение.
И вот тогда, когда успевают состояться эти разнообразные узнавания и герои не только получили ответы на мучившие их вопросы, но и неожиданным образом раскрылись и друг для друга, и для самих себя, наступает очень важный поворотный момент в развитии действия. Джульетте их ночной сговор начинает казаться чересчур стремительным:
Он слишком скор, внезапен, необдуман — Как молния, что исчезает раньше, Чем скажем мы: «Вот молния…»Она считает вполне уместным и даже необходимым закончить свидание. Ведь надо дать «ростку любви» расцвесть. Ромео тоже вполне готов уйти, требуя лишь еще одной любовной клятвы.
Эта готовность героев расстаться — важнейший момент в структуре сцены, в ее динамике, связанной с диалектикой чувств и целей, у них возникающих. Вся сцена в саду — не только объяснение в любви, но и целая история любви со всеми этапами, присущими такой истории. Вслед за признаниями, вслед за потрясениями, ими испытанными, герои ощущают потребность в «приостановке», дабы «прийти в себя», осмыслить и пережить случившееся.
Кстати, этот момент расставания делит сцену ровно на две половины. Но поскольку перед нами не повествование, не роман, не повесть, а драма — к тому же по-шекспировски стремительная, — для длительного расставания нет времени. Оно сокращено до паузы, до нескольких мгновений, после чего начинается новая, качественно иная стадия взаимоотношений между героями, которым крик Кормилицы напомнил, что пора расстаться.
Вот эта приостановка действия, за которой следует переход отношений между героями на качественно иной уровень, — одна из характернейших черт поэтики драмы. Когда отношения между людьми — не обязательно враждебные — стремительно приобретают новые измерения, новую глубину или новое направление, когда при этом герои переходят из одного состояния в другое, то есть когда процесс общения ведет к сдвигам в людях и к преображению жизненных ситуаций, к их резкому обновлению, именно это, а не борьба между персонажами, придает общению волнующий драматизм.
Джульетта, вот-вот желавшая расстаться с Ромео, на голос Кормилицы реагирует вовсе неожиданно — прежде всего для самой себя:
…В доме шум! Прости, мой друг, — Кормилица, иду! Прекрасный мой Монтекки, будь мне верен. Но подожди немного, — я вернусь.И когда она выходит снова, то уже с новой мыслью и неожиданным решением. Не только у той, впервые вышедшей на балкон Джульетты ни такой мысли, ни тем более решения не было и не могло быть. Но их не было еще и несколько минут назад, когда она готова была считать сегодняшнее свидание исчерпанным и прощалась с любимым. Наступает новый — критический поворот в отношениях, в ходе действия. Теперь нет нужды останавливаться на свершившемся.
Три слова, мой Ромео, и тогда уж Простимся. Если искренне ты любишь И думаешь о браке — завтра утром Ты с посланной моею дай мне знать, Где и когда обряд свершить ты хочешь, — И я сложу всю жизнь к твоим ногам И за тобой пойду на край вселенной…Снова перед нами проявляется (в специфической для шекспировского театра форме) то, что мы называем диалектикой целей в индивидуальном драматическом действии. Поступки Ромео и Джульетты заводят их «далее» первоначальных целей — осознанных или неосознанных, которыми они жили. Такова природа драматической активности и динамики драматических отношений.
Ромео нужна была всего лишь еще одна любовная клятва и ничего более. Джульетта же после короткой передышки возвращается из дому совсем не с клятвами. Желание расстаться надолго тут же оборачивается у нее решением уйти ненадолго. Затем — решение вовсе неожиданное — немедленно стать женой Ромео. Новая цель связана с состоянием, в котором жила Джульетта, когда в первый раз вышла на балкон, но и как бесконечно далека Джульетта от этого состояния. Начинала она сцену словами «О, горе мне». Завершает ее требованием: «Дай мне знать, где и когда свершить обряд ты хочешь» и готовностью «заласкать» своего милого. Вот этим бурным перерастанием одних побуждений в другие, этой их диалектикой и порождается драматизм действий героев и всей сцены в целом.
Здесь, как и в ряде других случаев, Шекспир прибегает к излюбленному им способу фиксирования происходящих в героях перемен. Тут очень выразительны два разных желания Ромео, о которых тот говорит с присущей шекспировскому герою выразительностью. Сначала, как мы помним, Ромео хотел бы стать перчаткой, чтобы коснуться щеки Джульетты. Новое его желание уже звучит совсем по-иному. Оно стимулировано Джульеттой.
В третий раз выходя на балкон, она вводит в объяснение тему сокола:
…Если б мне Сокольничего голос, что С снова Мне сокола-красавца приманить!Минуту спустя она уже согласна отпустить Ромео не далее, чем отпускают птицу, привязанную ниточкой. Подхватывая тему, Ромео заявляет:
Хотел бы я твоею птицей быть.Джульетта хотела бы того же. И птицу эту «заласкала б до смерти». Как видим, путь, пройденный героями, начавшись с весьма неопределенных, смутных стремлений, ведет их к весьма определенным и точно обозначаемым целям.
До встречи герои не знали и друг друга, и самих себя. Более того: благодаря встрече каждый становится самим собой. Побуждаемые друг другом, Ромео и Джульетта все более выявляют свои потенциальные возможности, обретают свою подлинную сущность, творят ее, творят себя, свои отношения, всю ситуацию. Они не проявляют любовь, а творят ее. И здесь присущий поступкам героев элемент самовыражения и самосозидания предстает как одно из решающих отличий драматического действия от простого действования.
Динамизм сцены у балкона — плод не просто «мастерства» Шекспира и знания им законов сцены. Само мастерство тут своеобразно и исторично. Гегель не находил «никакого нарушения» в любви Ромео и Джульетты, если взять ее «саму по себе». Нет, тут есть нарушение, но оно не сводится лишь к тому, что герои пренебрегают семейной враждой. Драматическое движение сцены связано с особым строем чувств человека эпохи Возрождения. Ромео и Джульетта обнаруживают в себе этот новый строй и отстаивают его. Отношения между Ромео и Розалиндой не могли быть так показаны, ибо они являли собой своего рода пародию на изжившее себя поклонение воздыхающего рыцаря недоступной прекрасной даме. Джульетта и Ромео отвергают такого рода любовь. Динамика сцены у балкона, ее меняющаяся и углубляющаяся напряженность основаны на том, что Джульетта и Ромео нарушают сложившиеся и устаревшие каноны и совместно творят отношения нового типа; они безбоязненно движутся навстречу друг другу, давая при этом волю обуревающим их чувствам. Герои не желают ни подавлять эти чувства, ни стыдиться их, ибо осознают присущую им высокую человеческую значимость.
К фигуре Джульетты Гегель в своих «Лекциях» возвращается несколько раз. Вспоминая исполнение этой роли одной берлинской актрисой и воздавая должное созданному ею живому и полнокровному образу, Гегель, однако, противопоставляет этому исполнению свое понимание. Суть в том, думает Гегель, как вдруг «развивается все величие этой души», как обнаруживается «целостность характера». При этом Джульетта «предстает непосредственным… созданием одного интереса» (подчеркнуто Гегелем. — Б. К.)[208].
В Гамлете Гегель обнаруживал «целостный» характер, поскольку тот якобы жил одним интересом, одной целью. У Джульетты тоже «целостный» характер, она тоже живет одним «интересом». К ней критерии Гегеля более применимы, чем к Гамлету, она действительно вся уходит в свою любовь. Однако, как мы видели, и у нее свои всё новые «быть или не быть», связанные с необходимостью творчески выражать себя во всё новых ситуациях. Гегель же этого видеть не пожелал, исходя из своей мысли, что искусству и драме надлежит интересоваться характером лишь как «прочным внутри себя единством»[209].
Подобное понимание драматического характера и хода драматической борьбы, с таким характером связанной, привело к тому, что гегелевские трактовки Шекспира оказались во многих отношениях весьма ограниченными и спорными. Что же касается драматургии его современников — немецких романтиков, — то она вовсе не соответствовала гегелевским критериям и требованиям, а потому вызывала с его стороны пренебрежительно-отрицательное отношение, с чем мы тоже согласиться не можем.
…Гегель придавал огромное значение иронии истории. В определенном смысле его эстетическая концепция и теория драмы тоже стали жертвой такой иронии.
Его глубочайшие открытия в этой области оплодотворили науку о драме. Но ирония истории проявилась в том, что в искусстве XIX–XX веков все большее и большее место стал занимать характер, который для Гегеля являл зрелище распада и разрушения. Естественно, что и конфликты в литературе и в драме XIX–XX веков, и структура действия претерпевали соответствующие изменения. Герои Толстого и Достоевского, Чехова и Горького, Ибсена, Брехта и многих других великих писателей и драматургов недавнего прошлого и сегодняшнего дня не предстают перед нами людьми, преданными единой, раз навсегда заданной неизменной цели. Та «диалектика души», та противоречивость индивидуальности, которую Чернышевский первым обнаружил у Толстого, один из своих источников имеет в отвергнутом Гегелем искусстве немецких романтиков. Но одновременно эта диалектика связана с гегелевским пониманием роли необходимости в историческом процессе, той необходимости, чью власть признавать романтики не хотели.
Вместе с тем ирония истории проявилась по отношению к гегелевской теории еще и в другом отношении. Представление о конфликте как борьбе акций и реакций, как столкновении действий и противодействий рядом теоретиков все более упрощалось и лишалось присущего ему глубокого смысла. Не только многие интерпретаторы Гегеля, но и драматурги середины XIX века — особенно мастера так называемой «хорошо скроенной пьесы» — были в этом повинны. Гегель видел творческий смысл драматической борьбы, возникающего из нее конфликта и завершающей ее катастрофы в том, что она ведется ради высоких целей и связана со сложнейшими вопросами бытия. В западной — особенно французской — драматургии середины XIX века борьба горела вокруг низменных прозаических целей, никакого касательства к коренным вопросам бытия не имеющих.
Наряду с этим гегелевская теория драмы получила и дальнейшее глубокое развитие — прежде всего в России. Здесь его идеи были бурно восприняты, но радикально переосмыслены. В соответствии с социальными процессами, характерными для России тридцатых— сороковых годов XIX века, с развитием русской общественной мысли той поры революционно-демократическая критика, и прежде всего В. Г. Белинский, восприняв все то позитивное, что могла им дать гегелевская теория драмы, вместе с тем подошли к ней со всей присущей им смелостью критических и теоретических суждений. Вслед за Гегелем, развивая его идеи и полемизируя с ними, именно В. Г. Белинский стал не только провозвестником, но и одним из родоначальников тех новых представлений о сущности и формах проявления драматического, которые мы наследуем и развиваем сегодня. Но об этом — в следующем выпуске нашего пособия.
ДРАМА И ДЕЙСТВИЕ. Лекции по теории драмы. Выпуск 2 (1994)
ЧАСТЬ ПЕРВАЯ
«Борьба героя с самим собою», «сшибка», свободная воля (В. Г. Белинский)
Основу науки о драме в России заложил В. Г. Белинский (1811–1848)[210]. Его взгляды многие десятилетия оказывали огромное действие на эстетическую мысль в России. В его статьях, посвященных литературе и театру, в работе «Разделение поэзии на роды и виды» мы находим глубокое толкование природы драматургии — наивысшего, с его точки зрения, вида поэзии.
Говоря о развитии философско-эстетических взглядов Белинского, не без основания подчеркивают влияние, оказанное на него корифеями немецкой философии рубежа XVIII–XIX веков. При этом называют Канта, Шиллера, Фихте, Шеллинга и особенно Гегеля. Но, как отмечает один полузабытый исследователь, Белинский, переживая чужие идеи, «делал их своими, накладывая на них печать своей личности, своей непримиримой обиды за рабство людей, за насилие над ними. Статьи Белинского положили начало русской теории драмы». Соглашаясь с этим утверждением Д. Тальникова, следует, однако, оспорить его заявление о том, что суждения русского критика составляют до конца продуманную систему, которую можно назвать его «драматургическим кодексом»[211]. Белинский не создал вполне «согласованную» во всех «частях» теорию драмы: его взгляды формировались в процессе повседневной и бурной критической деятельности и стремительно углублялись. Все же в этих взглядах можно выявить некие доминирующие идеи, свидетельствующие о чуткости критика к особенностям драматургической поэзии и о фило- софско-эстетическом их толковании.
Белинский — теоретик драмы и театра непрерывно уточнял и даже резко менял свои взгляды. Решающее^значении в их становлении имело активнейшее, глубоко заинтересованное участие в русском литературном процессе, истолкование Гоголя и Пушкина, Грибоедова и Лермонтова, Герцена, Тургенева и Достоевского и вместе с тем всей «текущей» литературы.
Белинский осмысливал опыт немецкой идеалистической философии творчески, испытывая при этом огромную тревогу за ход современной русской жизни и ощущая ответственность за человека и его место в историческом процессе. Как справедливо пишет В. Зеньковский, в первой знаменитой статье критика «Литературные мечтания» (1834) наличествует «своеобразная переработка шеллинговской натурфилософии с преимущественным ударением на человеке, на его внутреннем мире, на «нравственной жизни вечной идеи» (в человеке) и той борьбе добра и зла, которая заполняет жизнь отдельного человека и человечества в целом». Зеньковский видит в этой статье, доныне пленяющей непосредственностью и горячим лиризмом, «программу эстетического гуманизма»[212].
Этот гуманизм оказался сильным противоядием в той духовной драме, которую пережил критик в пору увлечения «антигуманистическими» идеями Гегеля. Для нас наибольший интерес представляют статьи Белинского «Гамлет. Драма Шекспира. Мочалов в роли Гамлета» (1838), «Горе от ума» (1840), «Разделение поэзии на роды и виды» (1841). Разумеется, в этих статьях ощущается влияние Гегеля. Отношение Белинского к взглядам немецкого философа на драматургию было сложным. Это сказалось в разном толковании ими проблемы «субъективности» в художественном творчестве. Субъективность творца, по Гегелю, должна быть растворена в предмете изображения. С нами, полагал Гегель, должен «говорить» этот предмет, а художнику не следует доводить до вашего сведения свое восприятие жизни, свое видение мира. Полемизируя с романтиками, придававшими первостепенное значение личности художника,
Гегель видит в ней всего лишь послушный «орган» Идеи, Мирового духа.
Белинский, даже находясь под сильнейшим влиянием гегелевских идей, все же миссию художника толкует то по Гегелю, то не соглашаясь с ним. Так, он говорит о поэте как о «тайнике» природы, употребляя это слово в смысле — наперсник, доверенный. Но в той же статье о художнике сказано: «Он не раб ее (действительности. — Б. К.), а творец, и не она водит его рукою, но он вносит в нее свои идеалы и по ним преображает ее»[213].
Своеобразный парадокс работ Белинского, посвященных драматургии и театру и написанных им в годы его «гегельянства», заключается в том, что в этих работах на первом плане — проблема неповторимой личности и ее внутренние коллизии, в то время как для Гегеля на первом месте все же не человек, а человечество.
Уже в «Литературных мечтаниях» речь идет о том, что «драма представляет человека в его вечной борьбе со своим я». В письме М. Бакунину от 12–24 октября 1838 года читаем: «Я признаю личную, самостоятельную свободу, но признаю и высшую волю. Коллизия есть результат враждебного столкновения этих двух воль. Поэтому — все бывает и будет так, как бывает и будет»[214]. Тут критик применительно к себе своеобразно толкует понятие гегелевской теории драмы — «коллизия», он констатирует ее неразрешимость. Личная самостоятельная свобода, которой обладает человек, может не принимать того, что диктует ей воля высшая, но вступать в активные враждебные отношения с ней Белинский считает недопустимым. В своей знаменитой статье о «Гамлете» коллизия принца датского в общем воспринимается критиком в том же духе, что и его личная коллизия, о которой идет речь в письме к Бакунину.
Шекспировский принц, по Белинскому, тоже переживает в своей душе своего рода столкновение двух внутренних воль. Влияние Гегеля сказывается здесь в том, что, по Белинскому, Гамлет с высшей волей не враждует, хотя он то и дело вступает в острейшие столкновения с Клавдием, Гертрудой, Полонием, Гильденстерном, Розенкранцем, Лаэртом. Как бы соглашаясь с мыслью Гёте, что коллизия души Гамлета заключается в «сознании долга при слабости воли», критик ищет объяснение самой этой слабости: она вызвана тем состоянием, в которое его ввергает встреча с Эльсинором. Виттенбергский студент оказывается лицом к лицу с отвращающей его действительностью. И проявляет он нерешительность по той причине, что, увидев зло во всей его ужасной наготе, он постигает «несообразность действительности с его идеалом жизни». Этой несообразностью Гамлет подавлен. Человек от природы сильный, энергичный, пылкий, принц как бы теряет волю, ибо не видит смысла в «восстании» против «расстроенного», не поддающегося «исправлению» века.
По мысли Белинского, в те самые минуты, когда Гамлет готов вступить и даже вступает в борьбу со злом, его тут же одолевают сомнения, нерешительность и слабость, ибо на «каменную почву» воздействовать невозможно.
В начале пятого действия Гамлет окончательно освобождается от терзающего его «внутреннего раздора», он «уныл, грустен, как человек, без интереса предпринявший важную борьбу и представляющий ее роковое и неизбежное для себя окончание». Этим предчувствием неминуемого поражения Гамлет, по Белинскому, живет изначально, но наиболее явно оно овладевает им к финалу, когда он с особой отчетливостью осознает, что в мире господствуют высшие силы, которым человеку предстоит лишь подчиниться.
Означает ли это, что Гамлет примиряется с окружающим его злом как с «необходимостью»? Белинский своим анализом трагедии стремится доказать: принц — личность непримиримая. Тень гегелевской мысли о примирении с «разумной действительностью» витает над рассуждениями критика, но он не отдается ее власти, чувствуя и понимая, насколько трагедия Шекспира противоречит этой идее. Если Гамлет в итоге отказывается от борьбы, то не потому, что ему не хватает силы воли. Враждебный ему мир чрезмерно могущественен, с ним в одиночку не совладать. Принц, по мысли Белинского, гибнет не примиренным, а подавленным той действительностью, в которой начисто, отсутствует какая бы то ни было разумность. По мере развития действия нарастающее зло вызывает в Гамлете нарастающее же неприятие. Но принц, полагает Белинский, признавая господство в мире беспощадной необходимости, становится в позицию «героического стоицизма», как об этом говорит Г. А. Соловьев[215].
Свой подход к коллизии в душе Гамлета критик подтверждает анализом гениального исполнения роли принца Мочаловым. Белинского восхищала игра актера в момент, когда Клавдий себя разоблачает вскриком: «Огня! Огня!». Убедившись в том, что Клавдий — убийца его отца, Мочалов — Гамлет «львиным прыжком… перелетает на середину сцены и, затопавши ногами и замахавши руками, оглашает театр взрывом адского хота». Удовлетворение достигнутым успехом Мочалов — Гамлет выражал «с бесконечной страстью». Но вот в других спектаклях Мочалов в этой ситуации не взрывался в могучем негодовании. Артист не топал ногами, не хохотал, он только смотрел вслед королю «с безумно дикою улыбкой». Тут Мочалов играл Гамлета, «не торжествующего от своего открытия, а подавленного его тяжестью». Критик называет эту новую трактовку Мочаловым состояния Гамлета «чудом». Белинский, как видим, восторгался тем, что актер не привержен однозначному толкованию пьесы, понимает, насколько сложна ее проблематика, и находит возможным по-разному сценически интерпретировать ключевые ее ситуации.
Как же Белинский толкует в этой статье гегелевское понятие коллизии? Это внутренняя борьба, терзающая душу Гамлета, она ввергает его в отчаяние, а затем и в скорбь по поводу мироустройства, но не побуждает к «восстанию», к отрицанию. Коллизия, оказывается, удручает и подавляет принца, но не стимулирует его к активной и бескомпромиссной борьбе с Клавдием и его окружением. Гамлет негодует, возмущается — и только. Это, разумеется, шло в русле размышлений Белинского о неразрешимости не только общей коллизии трагедии, но и личной, внутренней коллизии Гамлета.
Как понимает коллизию Гегель? Для него на первом плане не внутренняя борьба в душе героя, а столкновение противоборствующих сил. Белинский же и позднее продолжает понимать коллизию как душевную борьбу. В «Разделении поэзии на роды и виды» критик настаивает на высказанной раннее мысли: «сущность содержания и развития этой трагедии (речь идет о «Гамлете». — Б. К.) заключается во внутренней борьбе ее героя с самим собою. Вне этой борьбы «Гамлет» не имеет для нас никакого даже побочного интереса»[216]. Не только в «Гамлете», но и в «Макбете» и «Отелло» трагическую коллизию составляет борьба героя с самим собою.
Основываясь на таких высказываниях Белинского, А. Аникст делает весьма категорический вывод, будто для нашего критика «поприщем драмы является душа человека»[217]. Между тем Белинский сам ощущал уязвимость, неполноту такого толкования коллизии и «поприща» драматургии.
Стремясь понять саму «сущность» (а не внешние формы драматургии), критик наряду с понятием коллизии (в которой он первоначально склонен был видеть враждебное столкновение свободной воли личности с волей высшей) настойчиво пытается определить, что такое «драматизм», присущий, с его точки зрения, не только драме, но и роману. М. Я. Поляков справедливо полагает, что Белинский ощущал различное функциональное назначение драматизма в романе и драме[218]. В чем, однако, состоит это различие?
Разумеется, романный драматизм проявляет себя в событиях уже совершившихся, в то время как драматизм, условно говоря, «сценический» насыщает действие, происходящее на наших глазах, и вызывает наше непосредственное, напряженное, нарастающее возбуждение. Но это вещи очевидные. Поляков же находит у Белинского мысль о том, что сценический драматизм ведет ко все большему «прояснению» характеров сталкивающихся героев.
Остается, однако, нерешенным вопрос о том, что же движет противоборствующими героями? Где Белинский видит источник энергии, направляемой персонажами друг на друга? Одно из объяснений Белинского: истинный «драматизм, как поэтический элемент жизни, заключается в столкновении и сшибке (коллизии) противоположно и враждебно направленных друг против друга идей, которые проявляются как страсть, как пафос»[219]. Здесь речь идет уже не о «коллизии в душе героя», а о противоборстве враждебных идей.
В таком толковании коллизии сказывается влияние Гегеля. Именно он находил в драматургии борьбу не личностей с их реальными страстями, а борьбу страстей «очищенных», преобразованных духом. То есть, по существу, Гегель все сводил к борьбе идей. Но такое противопоставление борьбы «личностей» борьбе «идей» спорно. Ведь в подлинной драматургии (даже в античной, на которую ориентировался Гегель) идеи «личностны», неотделимы от специфических эмоций и переживаний героя. Та самая Софоклова Антигона (чей образ Гегель ценил превыше всего) содрогается от эмоций и страстей. Недаром хор говорил о ней:
Не стихает жестокая буря в душе Этой девы — бушуют порывы.В свое время исследователям Белинского было трудно выявить в его рассуждениях самую ценную для нас мысль о свободном волеизъявлении как истоке драматической коллизии и сценического драматизма. Исследователи (в частности Поляков) ориентировались лишь на те высказывания критика, где он настаивает на социально-исторической природе характеров, изображенных художником.'
К счастью, великий критик не ограничивался этой верной мыслью о зависимости человека (и героя драматургии) от обстоятельств, от законов общественной жизни и т. д. Если бы Белинский видел лишь эту сторону дела, он тем самым закрывал бы себе возможность приблизиться к пониманию сущности драматизма и порождаемых им коллизий.
Прежде чем привести ключевые для нас высказывания Белинского, где речь идет о «сущности» драматизма и его истоках, вспомним слова из письма к Бакунину о присущей человеку самостоятельной, свободной воле. Несколько лет спустя критик решается высказать эту мысль в теоретической статье «Разделение поэзии на роды и виды».
Здесь «коллизия» толкуется как «сшибка», столкновение между «естественным влечением сердца героя и его понятием о долге, которые не зависят от его воли». То есть в герое сталкиваются «естественные влечения», противоречащие чувству долга. А далее читаем: «разрешение этого противоречия зависит «единственно от свободной воли героя»».
Так Белинский подходит к одной из фундаментальных проблем теории драмы. Речь идет об активно проявляемой героем «свободной воле». Герой отстаивает свою позицию, свои стремления, проявляет свои эмоции, страсти, но все это возможно благодаря тому, что он обладает свободной волей, а драматическая ситуация стимулирует ее проявление.
Уточняя свою мысль, Белинский противопоставляет то, что он называет «властью события», то есть властью обстоятельств, их стечению, той «власти», которой обладает свободная воля человека. Ход событий «становит героя на распутьи и приводит его к необходимости избрать один из двух совершенно противоположных друг другу путей для выхода из борьбы с самим собою; но решение в выборе пути зависит от героя драмы, а не от события»[220]. Так Белинский вводит в свою теорию драмы, наряду со «свободной волей», другое ключевое понятие — «выбор».
Разумеется, выдвигая на первый план выбор, основанный на свободном волеизъявлении, Белинский не думает, будто воля вполне и абсолютно свободна. Конкретные анализы (того же «Гамлета» и других произведений драматургии) позволяют нам понять мысль критика более адекватно реальному положению дел в каждой драматической ситуации, где волеизъявление сопряжено с санкцией «нравственного закона», с реакцией совести, с чувством ответственности за свое деяние.
Стремясь придать своей мысли популярную форму, Белинский говорит о «распутьи», на котором оказывается герой драмы, совершая свой выбор. Дело в том, что «распутье» — понятие растяжимое. Вспомним Витязя на распутье, имеющего возможность раздумывать и взвешивать, прежде чем принять решение в экстремальной ситуации. Положение героя драмы чаще всего иное. В большинстве случаев ему приходится выбирать в условиях дефицита времени, и он не знает, чем чреват тот или иной его выбор. Герою драмы чаще всего не дано долго пребывать на «распутьи» и спокойно обдумывать решение. Так, Самозванец, потрясенный, оскорбленный пренебрежительным, холодным отношением Марины к его любовным признаниям, спонтанно принимает решение нанести этой «деловой женщине» ответную боль, раскрыть истину о себе. И тут же раскаивается в совершенном (по «свободной воле») поступке:
Куда завлек меня порыв досады! С таким трудом устроенное счастье Я, может быть, навеки погубил. Что сделал я, безумец?По-разному преломляется эта присущая герою способность свободного волеизъявления, часто приводя к последствиям, противоречащим его намерениям. Так, Ромео, муж Джульетты, одержимый идеей примирения, оказывается во власти «хода событий», побуждающих его (опять же по «свободной воле») совершить ряд роковых поступков (убийство Тибальда, Париса, исступленные действия в склепе). Тут «выбор пути» не зависит «единственно» от свободной воли, но и от возникающих обстоятельств, часто «искажающих» ее и придающих ей направленность, противоречащую намерениям героя.
В этой связи уместно напомнить слова Л. Н. Толстого, сказанные на ту же тему много лет спустя: «Каковы бы ни были законы, управляющие миром и человечеством, бесконечно малый элемент свободы всегда неотъемлемо принадлежат мне». Пусть наша свобода далеко не безгранична, продолжает Толстой, ограничения лишь «заставляют меня пользоваться каждым элементом свободы»[221]. Тут, видимо, наиболее оптимально определена мера свободы, проявляемой человеком в жизни и, тем более, героем в драматической коллизии. Мысль Белинского этим уточнением не отрицается, но вводится в необходимые рамки.
Сам Белинский ощущал, что свободное волеизъявление героя драмы, о котором он говорит неоднократно, не является «абсолютным». Утверждая: выбор пути зависит «единственно» от героя, критик вместе с тем все же ставил свободное волеизъявление в сложную цепь зависимостей. В сердце драматического героя «есть почва, в которую глубоко вросли корни нравственного закона», пишет он. Когда возникает коллизия между свободным волеизъявлением и нравственным законом, это ведет героя драматургии к «катастрофе», к искуплению своей «тяжкой вины» перед законами бытия, вольно или невольно им нарушаемыми. В «Макбете», полагает Белинский, загадочные предсказания ведьм лишь выражают «мрачный замысел собственной души» героя. «Мы видим Макбета в борьбе с самим собою, в трагической коллизии: он мог победить в себе греховное побуждение и мог последовать ему»[222]. То, что герой последовал влечению «злого начала», это «вина его воли», заглушившей в нем «ропот совести».
Мысли Белинского о нравственном законе и совести, укорененных в сердце героя, о его способности к свободному волеизъявлению, чреватому ответственностью за свои деяния, долгое время «смущали» отечественных исследователей его творчества. Здесь усматривали сугубый идеализм, от которого критику надлежало освободиться, что он позже будто бы и совершил. Между тем Белинский не отказался от этих мыслей. Говоря о значении «сшибки» воль и взаимодействии лиц в драматическом процессе, в принимаемых героем решениях, Белинский их лишь углубляет и уточняет.
В мысли Белинского о совершаемом героем свободном выборе и неизбежной за него «расплате» А. Лаврецкий усмотрел идеалистическое понимание нравственного закона, усвоенное критиком через Гегеля[223]. Я обращаюсь к давним работам (А. Лаврецкого, а далее Н. Гуляева) вынужденно: их ошибочное толкование проблемы «свободного волеизъявления» и «трагической вины» как домыслов идеалистической эстетики и ныне имеет своих последователей, склонных отдавать предпочтение взглядам не Белинского, а Чернышевского.
Эта сторона теории драмы Белинского превратно истолкована не только Лаврецким. Другой автор еще более решительно утверждает, будто великий критик «освобождает человека от «трагической его вины», перекладывая виновность на «социальную действительность»». Не сама личность, а «общество создает трагическую ситуацию, и последняя становится поэтически-трагической только в том случае, когда герой невинен»[224]. Но если Белинский, как мы знаем, связывал поступки драматического героя со свободным волеизъявлением в условиях определенной ситуации, мог ли он считать его лицом «невинным», нисколько не ответственным за свое поведение?
Стремясь превратить Белинского в «материалиста» (соответственно своему пониманию этого мировоззрения), Гуляев настаивает на том, будто «Белинский отмечал, что трагическая ситуация создается не по вине героя, а вопреки его желанию по воле истории»[225]. Однако в сочинениях великого критика не найти такого разграничения воли личности и воли истории, не найти такого понимания драматической и, тем более, трагической ситуации. Неслучайно Гуляев, касаясь этой темы, не дает ни единой ссылки на тексты Белинского.
Истолкователям Белинского было особенно трудно примириться с тем, что тот видел в герое трагедии носителя вины особенного рода — трагической. Лаврецкий вынужден констатировать: в статье «Разделение поэзии на роды и виды» Белинский «еще не отказался от теории трагической вины и ее предпосылки — идеи свободной воли»[226] (курсив мой. — Б. К.). Позднее, утверждает Лаврецкий, критик якобы изменил свою точку зрения. Нет, не изменил он ее и позднее.
Говоря о «свободном волеизъявлении», Белинский видел разнообразные аспекты свободы, проявляемой героями драматургии. Так, не только в трагедии, но и в комедии погруженные в «мелкие страсти и мелкий эгоизм» персонажи тоже проявляют «свободу человеческого духа», но подчиняют ее «призрачным целям»[227]. Тут русский критик решительно расходится с А. Шлегелем, считавшим, что комедия «подчеркивает зависимость человека от его животной природы, подчеркивает в нем отсутствие свободы и самостоятельности», показывая его как «раба чувственности»[228].
Белинский обосновывает поведение героя комедии не одной лишь его чувственной природой, но и свободой и самостоятельностью, т. е. качествами не природными, а вырабатываемыми в социальном, общественном человеке ходом исторического развития. У персонажа комедии, как это неоднократно доказывает Белинский, эти качества направлены к внутренне несостоятельным «мнимым», «призрачным» целям.
В этой связи заслуживает внимания глубокий подход критика к проблеме «порока», нередко выступающего в драматургии как «демоническое». Лессинг, анализируя образ Ричарда III, как мы помним, пытался и в «демоническом» найти разумное[229]. Белинский же и здесь преодолевает просветительскую ограниченность, утверждая, что в «демонах» есть «своя бесконечность, свое величие, потому что всякая бесконечная сила духа, хотя бы проявляющая себя в одном зле, носит на себе характер величия…»[230]. Тут наш критик развивает идеи Шиллера и Шеллинга, признававших зло одним из возможных выражений мощи и свободы человеческого духа. Белинский, по существу, никогда не отделял волю от духа не только в герое трагедии, но и комедии. Он ставил вопрос о разной мере и различном качестве одухотворенности воли в разных жанрах драматургии, об обогащении либо, напротив, деградации духовных потенций героя в конце действия.
Специфически духовные, нравственные силы героя, по мысли Белинского, могут претерпевать решительные перемены под воздействием других лиц и обстоятельств. Критик отказывается от собственной мысли, будто «интерес драмы должен быть сосредоточен на главном лице»[231]. Даже в «Гамлете» «драма заключается не в главном действующем лице, а в игре взаимных отношений и интересов всех лиц драмы, отношений и интересов, вытекающих из их личности»[232]. Это замечание об «игре взаимоотношений» смягчает неоднократно повторяемую критиком мысль о «сшибке» то ли в душе героя, то ли между лицами. Да, разумеется, в драматургии очень важны столкновения. Но взаимоотношениям действующих лиц свойственна и «игра», то есть не все в них сводится к резкому противоборству. В этой связи находится и другая мысль критика: «В истинно художественном произведении всегда видно, как взаимные отношения персонажей действуют на самый их характер…»[233] И «сшибка», и «игра» побуждают нас увидеть в драматическом процессе не только прямые столкновения сил, но и происходящие в них перемены.
Эту чрезвычайно важную для теории драмы мысль Лаврецкий истолковал весьма произвольно: речь идет будто бы лишь о том, что «взаимные отношения людей» составляют общественную среду, определяющую характер каждого из них[234].
Но Белинский далек от того, чтобы считать, будто характер определяется лишь средой. Разумеется, критик видел социальные истоки характера, но в приведенном выше высказывании затрагивается совсем иная сторона проблемы: не о «среде», определяющей характер, а о его подвижности, о его становлении в процессе взаимодействия с другим характером идет здесь речь. Сцена Анна Андреевна — Мария Антоновна с их спором о туалетах «окончательно и резкими чертами обрисовывает сущность, характеры и взаимные отношения матери и дочери», говорит Белинский. Взаимные отношения, их «игра» порождаются характерами, но, в свою очередь, эти отношения воздействуют на характеры, на процесс их формирования.
Подробно анализируя «Ревизора», Белинский сожалеет, что он все же мало сказал о «взаимных отношениях» действующих лиц, об «их взаимнодействии друг на друга»[235]. Термин «взаимнодействие» (Wechselwirkung) восходит к Канту, а применительно к драматургии его транспонировал А. Шлегель. Но Белинский имел в виду не одно лишь взаимовлияние персонажей. Критик этим термином стремился выразить мысль об усиливающемся, раз от разу нарастающем, углубляющемся взаимовоздействии персонажей «Ревизора» в процессе развивающегося комедийного сюжета[236].
При этом Белинский явно отступает от своей ранее высказанной несколько абстрактной мысли, будто «герой эпоса — событие, а драмы — человек». Критик все более приближается к пониманию того, что герои драмы — не обособленные индивиды, а непременно «взаимнодействующие» в определенных обстоятельствах персонажи.
Понятие «взаимнодействие» оказывается для критика более привлекательным, чем «сшибка» — выражение, к которому он прибегал неоднократно. Ведь под «сшибкой» можно понимать лишь противоборство, в процессе которого лица остаются неизменными. Иное дело — «взаимнодействие». Втянутые в драматический процесс, персонажи в какой-то мере друг друга снова и снова «порождают».
Мысль о существовании драматических характеров лишь в ситуациях «взаимнодействия» внутренне полемична по отношению к одной из ошибочных тенденций теории драмы, сводящей задачу драматургии к изображению галереи сформировавшихся характеров. Белинский же обоснованно придает первостепенное значение именно взаимновоздействию, в процессе которого только и происходит становление драматических характеров.
То или иное решение этого вопроса имеет далеко идущие последствия не только для драматургии, но и для сцены. Ведь нередко актеру предлагают играть некий «готовый» статичный характер, упуская из виду, что свойства характера часто «провоцируются» ходом действия, акциями других персонажей, да и его собственной, для него самого неожиданной активностью. Белинский ведет нас к мысли, что каждый драматический характер существует в поле напряжения лишь данной пьесы. Отелло сам по себе, лишенный взаимодействия с Яго или Дездемоной, уже не шекспировский Отелло.
Ревизор, говорит Белинский, порожден больным воображением городничего. Тем самым критик побуждает нас понять, что не только Хлестаков воздействует, но и на самого Хлестакова оказывает «обратное» чувствительное воздействие «больное воображение» Сквозник-Дмухановского и его присных. В общении с городничим и его окружением Хлестаков выражает себя так, как никогда ранее. Уездный город стимулирует мелкого петербургского чиновника, побуждая его в процессе «взаимнодействия» все более активно выражать ту хлестаковщину, на которую он оказался способным. Именно эту хлестаковщину вожделел и воспринимал город. Но не только воспринимал, но и «порождал».
Тут, как это часто бывает в процессе обмена «информацией», в драматургии осуществляется принцип обратной связи. Хлестаков опьяняет, «охлестаковывает» уездный город, но, в свою очередь, и город опьяняет его. Хлестаковщина не только причина ослепления городничего и города, но и порождение страхов и восторгов, выражаемых городничим и его окружением[237].
Касаясь вопроса о различии между спором и драмой, критик, в сущности, дает свое объяснение динамике взаимнодействия и его последствий: «Если, например, двое спорят о каком-нибудь предмете, то тут нет не только драмы, но и драматического элемента». В каких же условиях возникает драма? «…Когда спорящиеся, желая приобресть друг над другом поверхность, стараются затронуть друг в друге какие-нибудь стороны характера или задеть за слабые струны души и когда чрез это в споре высказываются их характеры, а конец спора становит их в новые отношения друг к другу, — это уже своего рода драма»[238].
Элементарный спор, примитивная борьба отличается от драматической тем, что в последней персонажи, задевая чувствительные струны души друг у друга, способствуют возникновению новых отношений между ними, новых и новых ситуаций, оказываясь при этом на новых позициях.
Мировая драматургия неоднократно подтверждала мысли русского критика о решающем значении «взаимнодействия». Джульетта и Ромео в сцене у балкона действительно задевают друг в друге чувствительные стороны души. На протяжении стремительно развивающейся сцены отношения между ними, их намерения и состояния меняются несколько раз, а в ее финале уже складывается новая, неожиданная ситуация. Мог ли предполагать Ромео, пролезая через ограду сада Капулетти, дабы подышать воздухом этого дома, что он не только увидит Джульетту, но и вступит с ней во все нарастающую близость, которая приведет к резким переменам в его состоянии и намерениях? Ведь в финале сцены перед нами предстают новые Ромео и Джульетта, созревшие в процессе взаимнодействия, способные принять решение о брачном союзе.
В определенном смысле предшественником русского критика в постановке этой проблемы был А. Шлегель, заявивший, анализируя природу драматического диалога: «Если один из участников (диалога. — Б. К.) высказывает мысли и мнения, не влияя при этом на своего собеседника, если оба в конце беседы находятся в том же состоянии, что и в начале, то разговор, хотя бы и значительный по содержанию, не вызывает в нас драматического интереса»[239]. Шлегель говорит о взаимном «влиянии», о переменах в «состоянии» участников диалога. Белинский — о чувствительных переменах в характерах действующих лиц, о новых отношениях, к которым ведет взаимовоздействие, то есть о сложных сдвигах, происходящих в напряженном поле драматического общения.
Та структура сцены, о которой говорят А. Шлегель и Белинский, далась драматургии ценой больших усилий. Изучая греческую трагедию и, в частности, стихомифию Эсхила и Софокла, В. Иене приходит к выводу, что первоначально стихомифия часто представляет собой скорее «монтаж» обрывающихся монологов, чем настоящий диалог. Стихомифия может включать в себя ответы на вопросы, спор, мольбу, но не становится ее диалогом. У Софокла стихомифия как обмен монологами уступает место драматическому диалогу. Лишь у Софокла становится возможной ситуация, на протяжении которой отношения двух лиц коренным образом меняются так, что они отступают от своих позиций. Стихомифия уже не ограничивается сообщениями о конкретных событиях, но выявляет внутренние связи между действующими лицами[240].
В «Ифигении Авлидской» Менелай и Агамемнон не только оставляют свои первоначальные позиции, но в итоге «спора» каждый переходит на позиции своего соперника. Здесь коренные изменения в отношениях возникают в пределах не пьесы, а лишь одной сцены, одного эпизода.
Еще в ранней статье, говоря о Мочалове в роли Гамлета, Белинский обращает внимание на «все оттенки, переходы, волнения и колебания души Гамлета»[241]. Динамику жизни героя критик находит в пределах одного монолога, даже одной — более или менее развернутой — реплики. Начав ее в одном состоянии, герой способен завершить ее в другом, новом. Диалектику состояний принца критик связывает с процессами взаимовоздействия, которые происходят в трагедии. В основе этой, отмеченной Белинским динамики лежит, по мысли автора данной работы, «диалектика целей», характеризующая поведение не только Гамлета, но и многих других героев драматургии[242].
Соответственно своему пониманию «взаимнодействия» Белинский толкует и смысл общего хода драмы и ее развязки. Подробно излагая позицию каждого из действующих лиц «Гамлета», критик находит, что каждому из них присущи «субъективность, сосредоточение на личных интересах», пребывание в заколдованном кругу своей личности». Но, нисколько об этом догадываясь, «живя для себя», герои «служат целому драмы». При этом над субъективными целями персонажей одерживает победу жизнь «общая», «мировая»[243]. В такой победе критик видел смысл драматической развязки. Позднее Белинский не настаивает по-гегелевски на том, что «субъективность» побеждается торжествующим всеобщим «благом». Каждое лицо драмы, пишет критик в статье «Горе от ума», «способствуя развитию главной идеи, в то же время есть и само себе цель, живет своею особною жизнью»[244]. Здесь новый оттенок: неповторимая жизнь героя не менее важна в драме, чем та «сверхцель», к которой все лица приходят помимо своей воли.
В «Разделении поэзии…» критик выразит эту мысль по-новому: драма — «отдельный, замкнутый мир, где каждое лицо, стремясь к собственной цели и действуя только для себя, способствует, само того не зная, общему действию пьесы»[245]. Речь здесь идет не о противоречии между целями отдельных лиц и неожиданным, далеко не всегда «благим» результатом, к которому их приводит «общее действие» драмы.
Говоря об игре актера, Белинский находил в ней сопряжение необходимости со свободой. Пьеса и роль для театра — необходимый феномен, но актер обладает свободой (не безграничной, разумеется) сценического воплощения роли. Вспомним еще раз, как Мочалов по-разному толковал поведение Гамлета в сцене «мышеловки».
Обращаясь к структуре «общего действия» драмы, Белинский здесь снова ставит тот же вопрос, но в ином аспекте. Речь, по существу, идет о диалектике свободы и необходимости в драматическом процессе: свободные волеизъявления персонажей (вкупе с обстоятельствами) в итоге порождают определенный, «необходимый» результат, изменению уже не подлежащий. Однако в нем нет торжества некоей «надличной» необходимости. Она — порождение свободы, проявленной персонажем, и входит в ее «состав». Так Белинский как бы позволяет нам утвердиться в глубокой идее Шеллинга, который считал, что в трагедии неожиданный результат активности разных сил не есть абсолютное торжество свободы или необходимости. Налицо их сопряжение.
Жизнь выше искусства
(Н. Чернышевский)
Мысли Белинского о драматической коллизии и свободном волеизъявлении, о расплате трагического героя за свою вину — по сути, весь комплекс представлений великого критика о драматургии — вызвали резкое неприятие и Н. Г. Чернышевского (1828–1896), которого неправомерно называют продолжателем традиций Белинского в сфере эстетики. Такой взгляд нуждается в радикальной коррекции. Особенно это касается толкования Чернышевским трагедии и трагического. Здесь он полемизирует не только с Гегелем и Ф. Т. Фишером (как принято считать), но, по существу, резко расходится и с Белинским, хотя явно, впрямую, и не обнаруживает этого.
Признавая, что Чернышевский мало интересовался драматургией и театром, А. Аникст при этом находит у него «новое понимание трагического», ставит ему в заслугу «разрушение всей умозрительной философии, а заодно и идеалистической эстетики»[246].
Была ли необходимость в таком «разрушении» эстетики Канта, Шеллинга, Гегеля? Сам Чернышевский тоже не без основания был «гегельянцем». Это проявилось, в частности, в том, насколько глубоко и точно он определил главные свойства таланта тогда еще молодого Л. Н. Толстого, разгадав в нем способность раскрывать «диалектику души».
Как теоретик искусства, автор «Эстетических отношений искусства к действительности» (1855) считает предлагаемую им концепцию (и в частности — истолкование вопросов о возвышенном, трагическом и комическом) определенного рода «следствием» опровергаемых им идеалистических взглядов, но в то же время стремится доказать их полную несостоятельность. Насколько убедительна его концепция, насколько она аргументирована анализом произведений тех родов и видов искусства, к которым он подходит со своими теоретическими обобщениями?
В диссертации, в авторецензии на нее Чернышевский признает, что у него почти вовсе отсутствуют не только разборы художественных произведений, но даже беглые ссылки на них. В отличие от гегелевских «Лекций по эстетике», от статей Белинского, где преобладает анализ конкретных явлений искусства, диссертация Чернышевского, к сожалению, предстает плодом «умозрения».
В свое время уже отмечалась «узость» антропологического принципа в философии, лежащего в основе эстетических воззрений молодого Чернышевского. Это препятствовало пониманию им общественной природы человека и противоречивых стимулов его жизнедеятельности.
Свою этику Чернышевский основывал на представлении о потребностях, заложенных в «натуре» человека природой. Этот «натурализм» сказался в его эстетической концепции и лишил его возможности понять специфику искусства с той глубиной, которой отличались эстетические воззрения Гегеля, а в России — Белинского.
Зрелый Чернышевский, анализируя ход истории, придавал особенное значение роли в ней «зла». В письме от 11 апреля 1877 года он высказал на эту тему чрезвычайно глубокие мысли. Говоря об «эффектных проявлениях зла» в действиях выдающихся исторических деятелей Запада и Востока, он связывает их с «обыкновенной деятельностью обыкновенных… недурных людей». Именно их незаметные «слабости и пороки» создают почву для «эффектного» зла. «Основная сила зла», порождаемого «массою недурных людей», полагает Чернышевский, «действительно громадна»[247].
Однако в концепции «Эстетических отношений искусства к действительности» проблема «зла», противоречий, присущих реальному человеку и постигаемых искусством, не получила должного осмысления. «Зло» в этике и эстетике молодого Чернышевского — феномен, чуждый человеку, не имеющий, по существу, отношения к его «натуре», к его «естественным потребностям». Искусство не только не может, но и должно избегать обвинений по адресу человека, поскольку все, что с ним происходит, определяется не им, а обстоятельствами его жизни. Следуя не только Фейербаху, но и просветителям XVIII века, Чернышевский считает определяющим свойством человеческой «натуры» стремление к «выгоде», связанной с «удовольствием». Именно эти побуждения лежат, по его мнению, в основе всех целей и поступков человека, потребности которого в материальной и духовной сферах вообще весьма умеренны.
Такое понимание Чернышевским общественного индивида позволяет ему решительно опровергнуть «идеалистические» воззрения на искусство. Многие проблемы, занимавшие Гегеля и Белинского, теряют для Чернышевского свое значение. Такие вопросы, как «свобода воли» драматического героя и его ответственность за проявленную свободу, остаются вне поля зрения Чернышевского. Как увидим, и Добролюбова. Оба критика, для которых святыней является данная человеку от природы натура, предпочитают говорить не о свободе духа, а о «свободе чувств», о естественных правах личности, о женском «горячем сердце» и т. п.
С этим взглядом на человека, его духовные потребности и возможности связан главнейший тезис эстетики Чернышевского: «прекрасное есть жизнь». Она выше искусства, вопреки мысли Гегеля и Фишера, ставящих искусство выше жизни.
При этом Чернышевский в некоторых существеннейших утверждениях отклонялся и от Фейербаха, которого считал родоначальником новой философии, опровергающей старую, идеалистическую. Так, Фейербах писал: религия — это поэзия, но их отличие в том, что художник «видимость действительности не выдает за действительность», религия же «выдает видимость действительности за действительность»[248]. Мысль Фейербаха, по существу, заключается в том, что искусство создает особую, художественную действительность.
Специфику искусства Фейербах связывал с воображением, фантазией художника, относя его к сфере «вымысла». Фантазия, по мысли Фейербаха, «всемогуща, всеведуща, вездесуща» и удовлетворяет желания человека, создавая образы, «имеющие для человека больше ценности и реального смысла, чем действительность»[249].
Вместе с тем искусство воплощает не нечто потустороннее, а существо человека и чувственный, одухотворенный мир, его окружающий.
Чернышевский же, в отличие от Фейербаха, видел в искусстве прежде всего «воспроизведение», «повторение» жизни и стремился подчинить ей искусство. Сводя его назначение к «копированию» жизни, Чернышевский находил в его «произведениях» (к этому термину как слишком «гордому» Чернышевский относился иронически,
поскольку, употребляя его, мы незакономерно возвышаем труд художника над иными сферами человеческой деятельности) не результат творчества художника, а всего лишь работы его «комбинирующей фантазии». Художник не творит, он лишь «отделяет» в событиях жизни «нужное от ненужного». Называя фантазию художника всего лишь «комбинирующей», Чернышевский тем самым подчеркивает, что она отнюдь не способствует возвышению искусства над жизнью. Ф
Таким пониманием специфики искусства он руководствуется, выступая теоретиком трагедии и трагического, требуя от трагедии «воспроизведения» не частных явлений жизни, а наиболее распространенных. Именно этого будто бы не понимает немецкая эстетика, толкуя проблемы трагического и трагедии. Чернышевский утверждает, будто Гегель и его последователь Ф. Т. Фишер (эстетик, автор шеститомного труда «Эстетика, или Наука о прекрасном» (1846–1858), стремившийся не только следовать великому философу, но и дать самостоятельное решение некоторых проблем, им обойденных) видят в основе трагического проявление необходимости. Именно на Фишера главным образом и нападает Чернышевский, хотя имеет в виду стоящего за ним Гегеля.
Мало того: немецкая эстетика отождествляет «случай» с понятием «судьбы», которая рассматривается ею уже как проявление «необходимости». Судьба, считает Чернышевский, — понятие, вошедшее в сознание «полудикого человека», и ныне оно отвергается современной наукой как несостоятельное. (В наши дни мы можем назвать много сугубо научных исследований, авторы которых продолжают пользоваться этим понятием[250].) Когда Пушкин видел назначение трагедии в изображении «судьбы человеческой, судьбы народной», он, разумеется, исходил из того смысла, который это понятие получило в искусстве, а не в обыденном или научном сознании.
Чернышевский доказывает «ненаучность» понятия «судьба», утверждая, будто донаучное сознание превратило «случай», уничтожающий человеческие расчеты, в неотвратимую «судьбу», искажающую реальную картину человеческой жизни «посторонними примесями». По утверждению Чернышевского, «Поэтика» Аристотеля «не содержит этого понятия». Это не так: в современных переводах «Поэтики» понятие «судьба» встречается дважды, в 10-й и 16-й главах, а в переводе Б. Ордынского, которым пользовался Чернышевский, оно имеется в 16-й главе[251]. Ни Аристотель, ни тем более Гегель не интерпретировали судьбу как фатальный рок[252]. Немецкий философ видел в судьбе индивида сопряжение его (далеко не всегда разумных) целей с разумным, хотя и скрытым от индивида, ходом истории. То есть в судьбе сопрягаются активность человека и сил надличных.
Чернышевский же полагал, что «трагична или не трагична судьба великого человека, зависит от обстоятельств». Участь людей, занимающих незначительное положение в обществе, тоже «зависит не от «расположения судьбы», а опять же от обстоятельств». А если это так, то трагическое «не имеет существенной связи с идеей судьбы или необходимости». В реальной жизни трагическое «большей частью случайно», поскольку искусство — «воспроизведение жизни», а не «творчество», оно тоже должно представлять трагическое как случайное. Если в произведении искусства «трагическое» облечено в «форму необходимости» — это всего лишь следствие «неуместного подчинения поэта понятиям о судьбе»[253].
Белинский был более внимателен к реальным произведениям искусства, поэтому он придерживался и по этому вопросу мнения прямо противоположного. Достаточно часто обращаясь к понятию «судьба», он отдавал себе отчет, что в искусстве и его теории оно возникло закономерно, что речь идет о сопряжении активности действующего лица и воздействующих на него сил «необходимости». Судьба, полагал Белинский, избирает для решения великих нравственных задач благороднейшие сосуды духа, возвышеннейшие личности, героев, которыми держится нравственный мир. Там же, нисколько не задумываясь о степени «научности» понятия, — он пишет: «судьба сторожит человека на всех путях жизни»[254]. Да, «сторожит», но складывается при участии самого человека.
Цитируя Фишера, по мысли которого трагическое основано на столкновении человеческой воли с необходимостью, владычествующей в мире, Чернышевский не видит в этом толковании никакого
смысла. Между тем Фишер, пусть и упрощая Гегеля, ставит сложную проблему соотношения воли и обстоятельств, свободы и необходимости в трагических коллизиях. Сводя трагическое к случайному, Чернышевский не только не решает, но даже и не ставит вопроса о диалектике случайного и необходимого в трагическом. А это — одна из сущностных, онтологических проблем драматургии, в особенности трагедии.
Упрощая смысл действий героя, вовсе игнорируя вопрос о воле, о свободном выборе, им совершаемом, Чернышевский, естественно, не может и не хочет возлагать на него ответственность за его действия и поступки. С этим связано и отрицание Чернышевским понятия «трагической вины». Как известно, Аристотель видел истоки этой вины в совершаемой героем «ошибке». По Гегелю, односторонностью пафоса, владеющего героем, определяется одновременно и его правота, и его вина. Стало быть, в трагической участи, в судьбе героя проявляется не только необходимость, но одновременно свобода и случайность в их диалектическом сопряжении, что не освобождает героя от ответственности за поступок.
Надо сказать, что Фишер упрощает мысль Гегеля о трагической вине героя. Так, эпигон Гегеля ищет вину даже там, где она не имеет места. Он находит ее у каждого гибнущего персонажа. Дездемона чересчур настойчиво заступается за Кассио. Корделия чрезмерно предана правде. Парис в «Ромео и Джульетте» гибнет потому, что добивается брака с девушкой, не заручившись ее согласием. Банко гибнет, так как слишком долго бездействовал, не вступая в борьбу с Ричардом III[255].
Иронизируя над Фишером, по мысли которого герой трагедии «гибнет от того же самого, в чем источник его величия», Чернышевский спрашивает: «Неужели Дездемона была причиной своей гибели?» Тут же дается ответ на этот вопрос: «Всякий видит, что одни гнусные хитрости Яго погубили ее». Это — тот редкий случай, когда Чернышевский стремится подтвердить свои теоретические выкладки, обращаясь к произведению искусства. Но его ответ на вопрос слишком прост. Не одни гнусные хитрости Яго погубили Дездемону, а нравственное падение Отелло, поверившего Яго и принявшего его воззрения на человека. Отелло не ревнив, а доверчив, сказал Пушкин. Разумеется, Отелло и ревнив тоже, но самая его ревность связана с доверчивостью, повлекшей за собой трагическое ослепление. Отелло не нашел в себе сил противостоять Яго и всем его «гнусностям», что свидетельствует о противоречивости сознания и мировосприятия мавра. За его вину расплачивается не только он сам, но и Дездемона. Белинский писал: «Смерть Дездемоны есть следствие ревности Отелло». А тот в своей ревности был и виноват, и не виноват.
Такое соотношение вины и расплаты за нее, когда страдает и невинное лицо, мы встречаем в мировой драматургии неоднократно. По мысли Чернышевского, авторам трактатов по эстетике хочется, «чтобы порок и преступление наказывались на земле». Он упускает из виду, что «авторы трактатов» стремятся объяснить коллизии самой драматургии. Чернышевский же уходит от этой задачи, и когда в двух-трех случаях дает свои толкования произведений искусства, впадает в досадные упрощении.
Фишер ищет различные истоки и формы проявления трагического. Одним из них он считает Зло. Он даже готов говорить не только о природном Зле, заключенном в человеке, но и о «духовном» Зле, о «величии Зла», которое находит свое воплощение в герое драматургии, хотя и ищет некие остатки человечности даже в Макбете и Ричарде III.
Чернышевский над этой проблемой вовсе не задумывается. Своих же мыслей, высказанных двадцать лет спустя в письме из Вилюйска от 11 апреля 1877 года, — о зле, непрестанно творимом в ходе истории не только выдающимися, но и обыкновенными людьми, — Чернышевский здесь не только не придерживается, но даже и не предчувствует.
Прекраснодушное представление о человеке позволяет ему утверждать, что если искусство показывает ужасное как «неизбежное» и связанное с характерами людей, то вызывает сомнение справедливость искусства, не следующего за жизнью, которая всегда и во всем выше его. «В самой действительности оно (ужасное. — Б. К.) бывает большею частью вовсе не неизбежно, а чисто случайно»[256]. Чернышевский, как видим, вполне осознанно восстает не столько против научных «трактатов», сколько против произведений искусства, не согласующихся с его представлениями об их проблематике.
В свое время Г. В. Плеханов раскритиковал концепцию трагического, выдвинутую Чернышевским. Хотя Гегель и считал гибель Сократа необходимым условием «примирения кого-то с чем-то» (что было связано с метафизическим элементом в его философии), он понимал трагическое глубже Чернышевского, пишет Плеханов. В судьбе
Сократа Гегель видит драматический и необходимый эпизод в развитии афинского общества, а Чернышевскому судьба эта «представлялась просто-напросто ужасною случайностью»[257].
Эта позиция, полагает Плеханов, — свидетельство нежелания Чернышевского «признать неизбежным, необходимым все то зло и все те человеческие страдания, которые находят свое выражение у Шекспира». Плеханов видит здесь выражение «условного оптимизма», не имеющего никакого отношения к вопросу о трагическом.
Человек полностью детерминирован обстоятельствами
(И. Добролюбов, Д. Писарев)
Мысль Чернышевского о том, что искусство, воспроизводя жизнь, при этом истолковывает ее, служит ее учебником, стала исходной в развитии литературного критика Н. А. Добролюбова (1836–1861). Он считал первостепенной задачей критики разъяснение тех явлений действительности, которые вызвали известное художественное произведение. Добролюбов не ставит искусство выше жизни, но «вечные» законы искусства он попросту отрицает.
В драматургии Островского критик находит коллизии и катастрофы, обусловленные «столкновением двух партий — старших и младших, богатых и бедных, своевольных и безответных». Говоря о темном царстве самодуров, изображенном Островским, Добролюбов констатирует, что тот не показал выхода из этого царства. Критик не винит драматурга, поскольку «литература только воспроизводит жизнь и никогда не дает того, чего нет в действительности»[258]. Как видим, идею «воспроизведения» жизни Добролюбов у Чернышевского позаимствовал и усердно использует.
С этим связано то обстоятельство, что автор статей «Темное царство» (1859) и «Луч света в темном царстве» (1860) не находит смысла в выработанной в течение столетий и тысячелетий поэтике драмы. Критик одобряет Островского, «во многом удалившегося от старой сценической рутины» и пренебрегающего предписаниями устаревших «пиитик».
У Островского Добролюбов находит столкновение «естественных» человеческих стремлений с «грубым произволом». Покорность жертв, их неспособность сопротивляться людям, у которых они находятся в полной семейной и материальной зависимости, свидетельствует, по Добролюбову, о том, что борьба, «требуемая теориею драмы, совершаемая в пьесах Островского не в монологах действующих лиц, а в фактах, господствующих над ними». Значение монологов в пьесах Островского, в особенности в «Грозе», критик явно недооценивает, о чем скажем ниже. Здесь же отметим, что остается неясным, как именно совершается борьба «в фактах», господствующих над героями. Это тем более неясно, что Добролюбов видит у Островского господство впасть имущих над своими жертвами.
Автор «Грозы» создает новый жанр, названный критиком весьма расплывчато (как он сам признает) «пьесами жизни», где на первый план выдвигается «общая, не зависящая ни от кого из действующих лиц, обстановка жизни»[259].
Обе статьи Добролюбова об Островском основаны на просветительском понимании природы человека, его натуры и ее естественных, вполне оправданных потребностях, подавляемых обстоятельствами, «обстановкой» жизни, изображаемой драматургом со всеми ее уродствами.
«Нравственное растление», «бессовестно-неестественные людские отношения», связывающие героев Островского, Добролюбов считает «следствием тяготеющего надо всеми самодурства». Все коллизии, изображенные драматургом, критик считал порождением дошедшей до последних пределов «ненормальности общественных отношений».
С этим связаны несколько неожиданные выводы, вполне, правда, закономерные для просветительского мировоззрения: Добролюбов готов видеть невиновных не только в жертвах, но и в их мучителях. Так, Самсон Силыч Большое — «вовсе не порождение ада, а просто грубое животное, в котором смолоду заглушены все симпатические стороны натуры». Подхалюзин со всеми его преступлениями — тоже «следствие темноты разумения и неразвитости человеческих сторон характера». Последовательно придерживаясь идеи полной детерминированности человеческого поведения, Добролюбов заявляет, что «всякое преступление есть не следствие натуры человека, а следствие ненормального отношения, в какое он поставлен к обществу». Если Чернышевский не признавал никакой вины в героях трагедии, Добролюбов хотел считать невиновными и самодуров, властвующих в «темном царстве».
Просветительская идеализация человеческой «натуры» побуждает Добролюбова усмотреть не только в жертвах, но даже в их угнетателях «стремление… высвободиться из самодурного гнета»[260]. Тут критик, со своей ненавистью к крепостническому строю русской жизни, совершает явную натяжку: самодуры Островского нисколько не страдают от обстоятельств своей жизни и всячески их своим поведением укрепляют.
Критик вступает в явное противоречие с «Грозой», когда умаляет значение в ней монологов и говорит об отсутствии борьбы в этих монологах. Глубокий смысл столь волнующих монологов Добролюбов, следуя своей концепции, попросту обесценивает, хотя они в высшей степени драматичны, рисуя сложные состояния, колебания и сомнения героини. Добролюбов упрекает актрису, играющую роль Катерины, в том, что монологу с ключом она сообщает «слишком много жару и трагичности». Актриса, видимо, стремилась выразить борьбу, совершающуюся в душе Катерины, но, полагает Добролюбов, «борьба, собственно, уже кончена, остается лишь небольшое раздумье…».
Настойчиво преуменьшая роль монологов в «Грозе», Добролюбов стремится показать, будто задача драматургии состоит не в изображении переживаний, из которых рождается поступок (чему придавал столь большое значение Белинский), а в «воспроизведении» борьбы «натуры» героя с обстоятельствами жизни, протеста против них.
Естественно, что критик упрощает сложный образ Катерины, игнорируя волнующие ее внутренние противоречия. У нее ведь возникает сознание творимого ею «греха», который она могла бы и не совершать. Она сама понимает, что живет не одними лишь «натуральными влечениями», к которым сводит все ее поведение Добролюбов. Ю. Чирва видит главный недостаток добролюбовской концепции в «недиалектичном понимании взаимосвязи свободы и необходимости в истории»[261]. Следствием этого была поверхностная, как и у Чернышевского, трактовка проблемы трагического и драматического в искусстве.
Отрицая идеалистическую эстетику, предъявляя искусству сугубо «утилитарные» требования, Д. Писарев (1846–1868) все более погрязает в вульгарном «материализме».
Вступив на путь, проложенный Чернышевским, увлеченный позитивизмом О. Конта и Я. Молешотта с их презрением к «метафизике», Писарев начисто отвергает гегелевские идеи. В «Философии и истории» Гегеля он усмотрел лишь «манию всюду соваться с законами и всюду вносить симметрию»[262]. Если философию Гегеля Писарев считает плодом «умозрения», то его диалектику определяет как «донкихотство». Писарева, естественно, отталкивали «копающиеся» в себе герои Толстого с их диалогами и исповедями, т. е. критик был неспособен оценить мысль Чернышевского о раскрытии «диалектики души» как наиболее важной черты таланта этого писателя.
Вопреки Добролюбову, Писарев видит в Катерине из «Грозы» отнюдь не «светлое явление», ибо в «темном царстве» таковое вообще «не может возникнуть». Позитивист Писарев находит «несоразмерность» между причинами и следствиями в поведении Катерины, вся жизнь которой «состоит из постоянных внутренних противоречий». Принимая только рациональные, «разумные» поступки, Писарев готов считать просто глупостью все противоречащее «здравому смыслу», все неоднозначное, стимулируемое эмоцией, чувством, идеальными устремлениями героя. Отчуждение от диалектической философии приводит Писарева, при всем его таланте и прогрессивно устремленном общественном темпераменте, к отрицанию значительности одного из самых великих образов русской драмы.
Не только поведению «русской Офелии» — Катерины, но и поведению «русского Отелло» — Краснова из драмы Островского «Грех да беда на кого не живет» критик не находит никаких оправданий. Его отталкивает «самая способность страдать». Писарев, естественно, выступает и против идеи «сострадания», вовсе не представляя себе, какое значение драматургия и ее теория придают страданиям героя и состраданию зрителя.
Страстный трагизм «Грозы»
(An. Григорьев)
Идейно-эстетическая позиция Добролюбова и основанные на ней суждения по общим вопросам теории драмы (как и трактовка, в частности, образа Катерины) оспаривались Ап. Григорьевым (1822–1864). С его взглядами на специфику искусства во многом совпадали высказывания Достоевского. Оба они оказывались ближе к Белинскому, чем Чернышевский и Добролюбов.
Ап. Григорьев еще решительнее, чем зрелый Белинский, отвергал гегелевское преклонение перед ходом истории и пренебрежение к ее жертвам. Григорьев оспаривал философию, где «вместо действительной точки опоры — души человеческой — берется точка воображаемая, предполагается чем-то действительным отвлеченный дух человечества», которому «приносятся жертвы неслыханные, незаконные»[263]. Григорьеву близок Кант, чей интерес сосредоточен прежде всего на человеке, его свободе и ответственности.
Свои взгляды на драматургию Островского, которую он считал «новым словом» в искусстве, критик в ходе полемики уточнял, но в основном он сохранял точку зрения, согласно которой содержание пьес Островского несводимо лишь к обличению «темного царства» и самодурства (хотя это и имеет в них место). Островский не сатирик, а художник, увидевший и затронувший разные струны русской жизни, отмирающее и поэтическое в ней.
В своей критической деятельности Ап. Григорьев исходил из мировоззренческого постулата, связанного с немецкой философией: человеку, а тем более — герою литературы, чье сердце «разбито противоречиями действительности», должно быть присуще чувство личной вины и ответственности за несовершенство мира[264].
Григорьев резко отделял свободу от произвола и цинизма, выдаваемых за ее проявления. Трактовка критиком философско-мировоззренческих вопросов сказывалась в конкретных разборах, посвященных русской драматургии, поэзии и прозе. Полемизируя не только с Добролюбовым, но, по существу, и с Чернышевским, он не считал искусство «воспроизведением жизни» и на первое место ставил «миросозерцание», идеалы художника. «Не за предмет (изображения. — Б. К.), а за отношение к предмету должен быть хвалим или порицаем художник». Поэт становится «учителем народа» лишь тогда, когда судит жизнь во имя идеалов народных, присущих самой жизни. С этих позиций Григорьев толковал и смысл протеста, которым полны пьесы Островского. «Протест за новое начало народной жизни, за свободу ума, воли и чувства», протест в иных пьесах драматурга — то «несколько комический», то весьма «симпатичный», наконец «смело выразился «Грозою»», писал Григорьев.
Но протестом не исчерпывается многообразное содержание пьес Островского, в которых речь идет об общечеловеческих ценностях и требованиях нравственности, о трагических противоречиях,
переживаемых героем, в сложных ситуациях эти требования нарушающем. Поэтому критик ценит в Катерине ее «скромную трагическую страсть»; он говорит не только о ее протесте, а о «трагическом положении страстной натуры». В третьем акте «Грозы» Григорьев увидел ночь, «полную обаяния страсти веселой и разгульной и не меньшего обаяния страсти глубокой и трагически-роковой»[265].
К сожалению, Григорьев, говоря в своих статьях о Катерине как лице трагическом, чей образ отличается противоречивой, но органической сложностью, лишь намекал, но не раскрыл обстоятельно, каковы истоки и слагаемые этого трагизма, связанного не только с неприемлемыми для героини обстоятельствами жизни, но и с ее мировосприятием и миросозерцанием. Все же своим толкованием драматургии Островского в целом и образа Катерины в частности Ап. Григорьев опровергал упрощения, содержащиеся в статьях «Темное царство» и «Луч света в темном царстве».
В особенности это касается вопроса о природных, инстинктивных стимулах в поведении Катерины. По Добролюбову, ее «мечты» до замужества — плод воображения «бедной девочки, не получившей широкого теоретического образования», не знающей «всего, что на свете делается», не понимающей хорошенько даже своих потребностей, не способной «дать себе отчета в том, что ей нужно». (Д. Писарев не только недостатком, а полным отсутствием образования объяснял отсутствие «логики» в поведении Катерины.) Ее самоубийство Добролюбов объясняет лишь нежеланием сделаться «беспрекословной угодницей» свекрови и не видит тут решения, основанного на «логически твердых основаниях»[266].
Ап. Григорьев судит о Катерине по-другому, не требуя от нее «образованности», логически обоснованных побуждений и решений, и видит в ее поведении страстный трагизм. Говоря о неспособности Катерины принимать разумные решения, действующей лишь соответственно «натуральным влечениям», Добролюбов обходит существо того процесса выбора, который предстоит ей сделать. Ведь самый выбор здесь не может и не должен быть результатом логических выкладок. На наших глазах Катерина несколько раз, по меньшей мере трижды (в сценах с ключом, покаяния, самоубийства), оказывается в ситуации выбора, и ее монологи — выражение сложных переживаний, сомнений и решений, стимулируемых отнюдь не только влечениями натуры. Нельзя же готовность лишить себя жизни относить в разряд «естественных потребностей человека». У Островского покаяние Катерины, как и решение броситься в Волгу, — плод сплетения психологических, нравственных, религиозных мотивов. Добролюбов же не придает этим мотивам их реального значения, ибо главное для него, как и для Чернышевского, — обстоятельства, губящие человека, абсолютно в своих действиях неповинного.
Драматический (а тем более трагический^ герой принимает свои роковые решения, чаще всего руководствуясь не «логическими» аргументами, а эмоциями, чувствами, страстями, выражающими его мировосприятие в состоянии одержимости или отчаяния. Последний монолог Катерины, полный переживаний и горьких размышлений, вовсе не характеризует ее как человека, не способного к рефлексии и к постижению своей ситуации во всей ее сложности. Важнейшее значение имеет ее признание: «Душу свою я ведь погубила!»
Настаивая на том, что Катерина — тип «страстный» и «трагический», Ап. Григорьев стремился перевести анализ «Грозы» на более высокий уровень, соответствующий драматургии и художественной идее этой пьесы, в которой все происходящее не определяется лишь отношениями «имущественными» (хотя они и имеют здесь, разумеется, большую важность).
Тайна искусства и его законы
(Ф. Достоевский)
Выступая одновременно с Григорьевым против литературно-критической позиции Добролюбова, но при этом и воздавая должное его таланту и его публицистической устремленности, Ф. Достоевский весьма решительно оспаривал один из главнейших тезисов эстетики Чернышевского — Добролюбова. Авторы «Эстетических отношений искусства к действительности» и «Луча света в темном царстве» были единомышленниками, отвергая «рутинные» требования старых «пиитик». Но при этом они ведь — невольно и вольно — отрицали и преемственность в развитии искусства, его проблем и соответствующих им средств художественной выразительности. Против таких взглядов Достоевский решительно возражал.
Он настойчиво отвергает мысль, будто искусство «не имеет законов» и что «им можно помыкать по произволу», а вдохновение художника управляемо согласно «указаниям» со стороны. У искусства, полагает Достоевский, есть своя «органическая жизнь и, следовательно, основные и неизменимые законы для этой жизни»[267]. Тут, естественно, наше сомнение вызовет слово «неизменимые». Разумеется, и Белинский, и Достоевский не отстаивали раз и навсегда сложившиеся окаменевшие эстетические законы-предписания, действующие от века и во все времена. О том, что эти законы обновляются, модифицируются в ходе истории и в процессе развития искусства, они прекрасно знали. Но при этом отстаивали специфическое предназначение искусства, связанного, разумеется, с исторически развивающейся действительностью. Искусство, полагал Достоевский, наследует накапливаемые им традиции, т. е. прежде всего художественную проблематику и выработанные в веках средства ее воплощения. Доказывая, что русская литература «вовсе не такая уж мизерная», называя Пушкина, Гоголя, Островского, Достоевский пишет: «Преемственность мысли видна уже в этих писателях, а мысль эта сильная, всенародная»[268].
Вот эта преемственность, т. е. художественное постижение жизненных проблем и противоречий, в процессе которого каждый творец и опирается на другого, и отталкивается от него, — одна из главных идей эстетики Достоевского. Она имеет прямое отношение и к драматургии, и к ее теории. Так, в одном из писем 1872 года Достоевский, считая почти все попытки инсценировать его романы неудачными, не обвиняет тех, кто брался за это дело. Он видит здесь, сказали бы мы теперь, сложную онтологическую проблему, связанную со спецификой родов и жанров. «Есть какая-то тайна искусства, — пишет Достоевский, — по которой эпическая форма никогда не найдет себе соответствия в драматической». Объясняет он это тем, «что для разных форм искусства существуют и ответственные им ряды поэтических мыслей, так что одна мысль не может никогда быть выражена в другой, не соответствующей ей форме»[269].
Следует отметить, что проблема «поэтической мысли» и «поэтической идеи» была поставлена и глубоко истолкована Кантом. Философ полагает, что если в практической деятельности мы создаем «продукты», то художественная деятельность порождает «произведение», в котором выявляет себя не столько разум человека, сколько его способность к творческому воображению, рождающему поэтическую идею. Она непереводима на язык понятий. Она воплощается лишь в искусстве[270].
Как видим, взгляды Достоевского на специфику искусства близки к кантовским. При этом, отстаивая особую миссию искусства, разнообразие «поэтических мыслей», воплощаемых в его родах и видах, Достоевский, как известно, вовсе не отрывал искусства от действительности. Он настойчиво говорил о «злободневности» своих сюжетов, связанных с событиями и веяниями современности. Но простое «воспроизведение» жизни он отвергал, что отразилось в разных его оценках и отзывах. Так, называя пьесу о Бальзаминове «прелестью», он в то же время в письме к А. Н. Островскому отмечает: лишь Капитан вышел «частнолицый». Он только «верен действительности, и не больше»[271]. Высокое мнение Достоевского основано на том, что в пьесе дана «целая картина» жизни, в художественную концепцию которой не входит Капитан, поскольку в этой фигуре действительность всего лишь воспроизведена, а поэтому она из «картины» выпирает.
В поисках сущности драматического действия
(Н. Щедрин, Д. Аверкиев, А. Скабичевский)
Общественные позиции М. Е. Салтыкова (Н. Щедрина, 1826–1889), с одной стороны, и Ф. Достоевского, Ап. Григорьева, их окружения — с другой, резко расходились. Щедрин полагал, что его взгляды на литературу восходят к Белинскому. Характерно, однако, что в первом из своих обозрений «Петербургские театры» (1863) он отсылает читателя к статьям Ап. Григорьева «Современное состояние русской драматургии и сцены» (1862), называя их «весьма приятными» и находя в них «очень ясное изложение» положения дел на драматической сцене.
Разумеется, Щедрин, оставаясь верным антикрепостническим, освободительным, просветительским идеям Белинского, во второй половине XIX века давал оригинальную трактовку литературного процесса, связанную с новыми явлениями искусства в России и за рубежом. Он выдвинул и собственное понимание задач драматургии — весьма тонкое и сохранившее свое значение по сей день, хотя и сделал это как бы между прочим; те страницы его сочинений, на которые мы здесь обращаем внимание, занимают весьма скромное место в огромном литературном наследстве великого сатирика.
Дело, однако, в том, что, говоря о предназначении драматургии, он предстает как тонкий аналитик, который высказывает, с нашей точки зрения, вполне новаторский взгляд на предмет. Выявляя в своем творчестве «трагическую сторону русской жизни», он высказал весьма важные мысли о принципе изображения этого трагизма в драматургии. Он видит в ней порождение известного жизненного строя, но толкует дело далеко не вульгарно, а исходя из определенного понимания специфики этого искусства. Щедрин беспощадно критикует «наемную» драматургию Ожье и Сарду, угождавшую вкусам самодовольной буржуазии во Франции и за ее пределами. Именуя названных сочинителей «драматургами-паразитами», он уверен, что эта тля «заключает в себе будущую казнь свою». Не менее саркастически и беспощадно он критикует и пьесы Ф. Устрялова, П. Штеллера, Н. Чернявского, Н. Манна и им подобных русских сочинителей той «новой школы», что «поставила целью своих усилий утверждать утвержденное, защищать защищенное и ограждать огражденное».
Но Щедрин, критикуя «драмоделов» и погруженный, казалось бы, в «злобу дня», выходит, однако, за пределы сиюминутных требований и ставит вопросы фундаментальные, касающиеся природы драматического конфликта, его развития и разрешения.
В «сущности» содержания драмы вообще Щедрин видит «протест», возникающий вследствие невыносимого противоречия между требованиями и действиями, которые признаются (вследствие известных условий общественного развития) незаконными в установившейся, торжествующей, но «неразумной» обстановке. Казалось бы, тут Щедрин сближается с идеями Чернышевского и Добролюбова о драматической борьбе между «разумным» человеком и бесчеловечными «неразумными» обстоятельствами.
Вместе с тем глубокий, свободный от догм демократизм побуждает Щедрина по-новому взглянуть на задачи драматургии, сказать новое слово о соотношении в драматическом процессе события и мотивов, его подготовивших, определивших его наступление, ход и исход. Для Щедрина, разумеется, сохраняет свое значение столкновение «естественных» потребностей человека с бесчеловечными обстоятельствами. Однако он говорит о противоречиях иного рода, придавая им первейшее значение. Их истоки — во внутренней жизни человека. С противоречиями первого и второго порядка Щедрин связывает вопрос об идеале.
Речь идет вовсе не об изображении идеальных героев. «Ревизор» Гоголя в этом смысле для Щедрина — неопровержимое доказательство: никто не станет отрицать присутствие идеала в этой комедии, хотя она обошлась без идеального героя. Когда идеал «присутствует»,
это вовсе не приводит к тому, что зритель, выйдя из театра, сразу же начинает «благодетельствовать». Нет, зритель становится чище и нравственнее, ибо не может не делать «посылок от действительности художественной к действительности настоящей».
Художественная действительность должна отвечать определенным требованиям, зависящим от мировосприятия творца. При этом для драматурга один из коренных вопросов — освещение «факта», «события» в жизни его героя. Щедрин ставил «факты» и «события» на второстепенное место.
Этот вопрос — о соотношении «интимной» (выражение Щедрина) и событийной жизни героя — имеет огромное теоретическое значение, побуждая нас не упрощать понятие «драматическое действие» (и тогда, когда речь идет о действиях персонажа, и об общем действии всей пьесы). Пусть, говорит Щедрин, «действительная, настоящая драма и выражается в форме известного события». Суть в тех противоречиях, которые питали драму задолго до события. «Драма есть последнее слово, или, по крайней мере, решительная поворотная точка всякого человеческого существования». Именно всякого. Каждый человек непременно несет в себе свою драму, развязка которой, говорит Щедрин, для иных отзовется совершенной гибелью, для других — равнодушием и апатией, для третьих — принижением и покорностью.
В этих словах наиболее ценной для будущего развития драматургии оказалась мысль о драме, переживаемой каждым человеческим существованием, ведь в последующем развитии драматургии мы находим разнообразное воплощение этой мыли. Вс. Мейерхольд ценил драматургию Чехова потому именно, что у этого драматурга подлинную драму переживает не одно «главное», а «группа лиц»[272]. У каждого из них — своя драма, связанная с общей драмой времени.
Наиболее развернутое выражение своей концепции Щедрин дает в процессе анализа пьесы А. Ф. Писемского «Горькая судьбина». В ней не обнаруживается «ничего похожего на подлинное драматическое движение». Щедрин отвергает мысль о том, что главное в драме — открытая борьба между враждебными силами (мы увидим, что в те же годы иные теоретики именно в открытой борьбе воль усматривали главное условие драматизма).
В пьесе Писемского мужик Ананий, вернувшийся в свою деревню из Питера, в первом же акте узнает от пьяного соседа, что его жена Лизавета прижила ребенка от помещика. Ананий обрушивает на жену поток ругательств, теряя при этом образ человеческий. Мы не увидели (и не видим) того, как завязались отношения между Лизаветой и помещиком Чегловым-Соковиным. Более того, дальнейшее развитие событий позволяет думать, будто вся драма есть не что иное, как дело рук бурмистра Калистрата. Щедрин полагает, что Писемский «взял за исходную точку тот момент, когда основа драмы уже исчерпана».
Зритель хотел бы узнать мотивы, которые породили несчастную страсть Лизаветы (а Писемский дает понять, что дело было в страсти Лизаветы к безвольному пьянице), но ему не удается «набрести на что-нибудь человеческое в ее поведении. Единственным мерилом Лизаветы остаются выражения Анания «шкура ободранная», «псов- на», которыми так перенасыщен уже первый акт.
Лишь в третьем акте, когда Ананий, вне себя от поведения жены, продолжающей встречаться с помещиком, невольно убивает ребенка, критик находит нечто похожее на драматическое движение, поскольку здесь Ананий действует не столь «хладнокровно», как в первом акте. Щедрин одобрительно относится к тому, что в этом акте возникает «разудивительное» положение, когда «человек какою-то сверхъестественною силою устраняется от участия в своей собственной судьбе».
Критик упрекает драматурга в том, что тот не раскрыл мотивов поведения своих героев. При этом речь идет не о том, чтобы герои жили некоей прямолинейной логикой. Нет, Щедрин говорит о «драматическом элементе», который представляет собой «внутреннюю тайную борьбу, предшествующую борьбе явной»[273]. Эта тайная борьба не может быть признана проявлением «человеческого малодушия» или слабости. Такова законная потребность человеческого духа. Говоря о «тайной» борьбе», выявляющейся вовне, Щедрин, по существу, имеет в виду колебания, сомнения, выбор, процесс принятия решения героем. То есть герою должна отводиться не только страдательная роль. Он существо, способное и на внутренние противоречивые реакции, и на ответственные акции.
Естественный ход драмы, по Щедрину, — сплетение «тайной» борьбы с «явной», ведущей к развязке, к «каре» и «посрамлению». То есть, говоря о «каре», Щедрин, в отличие от Чернышевского, имеет в виду «вину» героя и претерпеваемую им за нее расплату.
Художественная действительность не позволяет себе копировать реальную жизнь и изображать ее факты, сколь бы страшны они ни были. От художника требуется многое: способность видеть изображаемый мир в свете того идеала, о котором сказано выше. Но это недостижимо, если упрощать внутренний мир персонажей и превращать их в «носителей ярлыков». В пьесе, где лица вылеплены на % скорую руку, Писемский рисует людей из «простонародья». Пусть это масса темная, но и ее «составляют индивидуумы совсем не низшей и даже не иной породы, нежели та, к которой принадлежим мы сами». Не следует думать, будто «замкнутость и неразвитость» не дают этим людям возможности жить разнообразною и совершенно человеческою жизнью. Писемский этого не понимает. Но игнорируя человеческую индивидуальность с ее внутренней жизнью, основываясь на изображении одних лишь «событий» и обстоятельств, создать подлинно драматическое произведение невозможно — такова мысль Щедрина.
Единственный в России теоретический труд, посвященный драматургии как особому виду искусства поэзии, принадлежит Д. В. Аверкиеву (1836–1905) — драматургу, беллетристу, критику. Его трактат «О драме» первоначально (в 1877–1878 гг.) печатался на журнальных страницах, отдельным изданием вышел в 1893 году. Тогда он выглядел сочинением устаревшим, поскольку автор утверждал, что всего лишь «разъясняет» идеи Аристотеля и Лессинга. Однако некоторые мысли Аверкиева вызывают интерес по сей день.
Полемика Аверкиева направлена как против эпигонов Гегеля, так и против критиков позитивистов, требовавших от драмы изображения героев лишь в процессе их острого противоборства. Весьма отчетливо эта позиция сказалась в статьях П. Д. Боборыкина (1836–1921), активно выступавшего и в иных литературных жанрах. В обширной работе «Островский и его сверстники» (1878) Боборыкин упрекнул критику «последних пятнадцати лет» в том, что она игнорировала «вопрос о драме как самостоятельной форме творчества». Боборыкин обращается к ряду проблем теории драмы, отвергая взгляды Белинского за их близость к Гегелю. Не соглашается он и с Добролюбовым и его высказываниями о «пьесах жизни». Драма должна быть драмой и обращаться к изображению «деятельной стороны человеческой души», порождающей «акты воли», говорил Боборыкин. Он понимал действие как напряженную борьбу между персонажами, волевыми и предприимчивыми. Второстепенные лица в пьесах Островского, толкущиеся вокруг да около и в борьбе не участвующие, казались ему вовсе не нужными. Да и главных лиц в пьесах этого драматурга Боборыкин упрекает за то, что они не обладают сильными характерами и целеустремленной волей[274]. Боборыкин явно ориентируется на современную ему французскую драматургию, на хорошо скроенную пьесу интриги, на идеи Шопенгауэра о господствующей в мир агрессивной воле.
По-иному в том же 1878 году толкует эти проблемы Аверкиев. Он весьма обоснованно отвергает теоретические построения, основанные на кратких ссылках, на беглых упоминаниях тех или иных произведений и сцен. Художественные «законы» можно выводить на основе подробных анализов пьес, рассмотренных «с разных сторон». У нас в этом плане предшественником Аверкиева был Белинский, автор статьи «Горе от ума», содержащей тончайший анализ «Ревизора».
Если для Лессинга «Поэтика» Аристотеля была «непогрешима» (хотя на деле немецкий исследователь то и дело отступал от нее), то для Аверкиева столь же непогрешим и сам Лессинг. Оба будто бы приходили к «одним и тем же выводам». Аверкиев усиленно пытается доказать недоказуемое: ведь Стагирит имел дело с трагедией, уже достигшей высочайшего расцвета в V веке до н. э., а Лессинг в XVIII веке был весь устремлен к обоснованию необходимости появления нового, «среднего» жанра — драмы. Аверкиев этого как будто не видит вовсе. Он вообще приемлет только два жанра драматургии: трагедию и комедию, а в существование особого жанра «драмы» не хочет верить. Тут сказывается присущий ему консерватизм мышления. Читая трактат, видишь, что Аверкиев прекрасно осведомлен о современной драматургии, русской и западной (особенно ему претит французская «хорошо сделанная пьеса», в чем он совпадает со своим идейным противником Салтыковым-Щедриным), знаком с современными теоретиками драмы.
Демонстративно преклоняясь перед Аристотелем и Лессингом, Аверкиев проявляет не только присущий ему идейный консерватизм. Тут скрыто неприятие упрощенных представлений о природе драматургии, приобретающих популярность во второй половине XIX века.
Нам представляется особенно ценным, что Аверкиев видит в «Поэтике» Аристотеля сочинение, вовсе не исчерпывающееся «технической стороной дела», т. е. разговором о том, как строить трагедию (а именно так многие воспринимают сочинение Аристотеля и поныне), но выявляет самую ее «сущность», ее предназначение.
Форма же, о которой говорит Аристотель, не есть некий футляр. Все ее особенности выражают эту сущность, утверждает Аверкиев.
Такой подход к «Поэтике», в которой он видит не свод правил, а осмысление природы трагического искусства, определяется авер- киевским толкованием аристотелевского «подражания» (мимезиса). Греки, утверждает автор трактата «О драме»», видели в художнике присущую ему способность творческого воображения и воспринимали его как творца. Поэтому, когда Аристотель говорит о подражании, он видит в искусстве не воспроизведение жизни (как толковал дело Чернышевский), а сотворение некоего хорошо выстроенного образного мира отношений между воображаемыми лицами.
В чем, по Аверкиеву, Стагирит усматривает предназначение трагедии? Она изображает людские действия «драматично». И в трагедии, и в эпосе «драматизм» возникает тогда, когда нам показывают надвигающееся на героя разрушительное зло, вызывающее его страдание и сострадание слушателя (в эпосе) или зрителя (в трагедии). Аверкиев ищет в трагедии изображения страдающего героя. Нечувствительность к страданиям, притупленность или закаленность чувств, пишет Аверкиев вслед за Лессингом, не суть человеческие достоинства. «Изображение страданий есть одно из могущественных средств, ведущих к изображению человеческой личности в действии», ибо человека мы узнаем «особенно по тому, как он переносит страдания и всякие испытания…»[275]. Тут уместно напомнить, сколь насмешливо относился к страданию Писарев.
Специфику драматизма, присущего трагедии, Аристотель, по мысли Аверкиева, находит в том, что в трагедии страдание показано в действии, «воочию», во-первых, и в становлении — во-вторых. Оно происходит на наших глазах и потому вызывает сострадание во многом более сильное, чем страдание, уже ставшее прошлым (как в эпосе). К этой теме, к вопросу о страдании, показываемом «не вдали, а близко», страдании, непрерывно становящемся, Аверкиев возвращается неоднократно, ибо именно в «близости» страдания и в его нарастании он усматривает специфику действия в трагедии. Но этим и ограничивается аверкиевское понимание специфики трагического действия, ибо он в этом вопросе ориентируется лишь на 6-ю главу «Поэтики».
Между тем все другие ее главы, касающиеся построения (и стало быть, сущности) трагедии, внутренне связаны; они не только дополняют, но и углубляют друг друга. Аверкиев же, говоря о сущности трагического страдания, не связывает его происхождение с иными соответствующими мыслями Стагирита. Аверкиев отрицает связь мифа, фабулы, трагедии с ее сущностью. Аристотель же в мифе, в фабуле находит истоки того своеобразного страдания, что претерпевает герой, вызывая в зрителе сострадание-очищение. Как известно, Аристотель называет три «составляющие» («части») фабулы: перипетию (перелом в ходе действия), узнавание и страстное страдание. Именно этот перелом, вызванный неожиданным результатом действий героя либо вторжением в ход действия катастрофического обстоятельства, или воли надличных (божественных, чаще всего темных) сил, вызывает ошеломляющее, потрясающее узнавание-сострадание героя.
Аверкиев же полагает, что фабула имеет второстепенное значение в течении и результатах трагического действия. Ни перелом, ни узнавание «не связаны с сущностью трагедии», утверждает он весьма настойчиво. Но тогда остается непонятным, чем же именно порождается не простое, а трагическое страдание.
Точку зрения Аверкиева, недооценивающего сопряжение в фабуле активности героев с активностью надличных сил, можно объяснить лишь тем, что он относит к «второстепенным» слагаемым трагического действия обстоятельства борьбы, «нередко в наше время выдаваемые за главные и определяющие драматическую форму произведения». Здесь явно сказывается несогласие с идущим от Гегеля, однако упрощенным во второй половине века пониманием коллизии как борьбы сугубо полярных, взаимоисключающих, внутренне не связанных сил и бездуховных «воль» (именно «борьбы воль» не находил у А. Н. Островского Боборыкин).
В итоге Аверкиев, стремясь определить, какими именно силами определяется сущность трагических страданий, остается при мнении, что им надлежит быть «разрушительными» и нарастающими, находящимися в движении от настоящего к будущему, а не пребывающими в прошлом. Мысль Аверкиева о «воочию» становящемся страдании неопровержима, но при этом обходится вопрос о «причинах», порождающих это динамичное страдание. Аристотель же видит эти причины именно в перипетийности, в неожиданных, катастрофических сдвигах, ломающих ход действия и вызывающих бурную реакцию героев, чему Аверкиев не придает должного значения.
Автор трактата уделяет много места изложению аристотелевского представления о характере. Но наиболее интересным оказывается не это изложение, а мысли самого Аверкиева. Оказывается, искусство слова способно изображать человека в трех аспектах. Художник имеет возможность изображать «типы», в которых преобладают внешне-характерные черты людей определенного круга (социального, профессионального и т. п.) и соответствующий этому кругу внутренний мир. От него отличается лицо, в котором явственно проявляется свойственное лишь ему определенное направление воли. Его мы называем характером, говорит Аверкиев, повторяя здесь Аристотеля. Но не то дополняя Стагирита, не то оспаривая Шопенгауэра (о взглядах которого говорится во II части дайной работы), Аверкиев заявляет: «Драматический писатель сделает ошибку против своего искусства, устремив все усилия на то, чтобы особенно отчетливо нарисовать проявления воли того или иного лица». По существу, Аверкиев тут возражает против сведения драматического характера к властвующей в нем воле.
Но человек в драматургии предстает не только как тип и характер. Проявляя чутье к тому, что искусство слова, в частности драматургия, изображает персонажей, в которых воля не является изначально доминирующей чертой, а связана с разнообразными чувствами и стремлениями, с глубокой духовной либо душевной жизнью, Аверкиев называет такого рода фигуры личностями. В этой своей классификации Аверкиев явно выходит за пределы того, что сказано на данную тему в «Поэтике».
С этой же классификацией — тип, характер, личность — связан и новый оттенок в понимании действия, который мы находим у Аверкиева. Трагический поэт, полагает он, отнюдь не всегда стремится к изображению действий-поступков, совершаемых лицом. Так, для Аверкиева одним из самых драматических моментов «Орлеанской девственницы» Шиллера является тот, когда Иоанна, полюбив врага Лионеля, ропщет против небесных сил. Этот напряженный ропот, говорит Аверкиев, — «действие, хотя оно не выражается никаким внешним поступком»[276]. Такое весьма нестандартное представление о драматическом действии, несомненно, обогащает теорию драмы и сохраняет свое значение и поныне.
Оказывается, действие не следует отождествлять с поступком. Это во-первых. А во-вторых, следуя сущности своего искусства, драматургу надлежит стремиться к изображению не столько «типов» и даже «характеров», сколько «личностей», чья активность не ограничивается диктатами воли, а стимулируется «действиями внутренними, деяниями душевными», неожиданным стечением обстоятельств, и не обязательно выражается в поступках.
Столь же интересны теоретические «отступления» Аверкиева от «Поэтики» и «Гамбургской драматургии» на страницах, посвященных комедии и комическому. Анализируя комедии Шекспира, Гоголя, Мольера и других авторов, Аверкиев приходит к выводу о трех видах очищающего смеха. Первый род комедии возбуждает «честный смех» (выражение Гоголя) над людьми порочными, пошлыми, над «недостатками», от которых мы не можем считать самих себя вполне застрахованными. Второй вызывает «веселый» смех, когда изображает мнимые страдания. Третий род возбуждает сочувственный смех. Тут герои могут быть выше нас по уму или душевным качествам (Чацкий), но сами ставят себя в смешное положение «через свою непомерную горячность».
Трактат Аверкиева казался современникам сплошь устаревшим. Рецензенты справедливо упрекали его в неисторическом подходе к идеям Аристотеля и Лессинга, в неоправданном преклонении перед ними. Аверкиеву противопоставляли идеи Г. Фрейтага, Шопенгауэра, чье понимание трагического «лучше отвечает» современной мысли. Но рецензенты не удосужились заметить, что, считая себя старовером, Аверкиев к этой старой вере сделал ценные дополнения.
С разных идейных позиций демократ Салтыков-Щедрин и консерватор Аверкиев, каждый по-своему, стремились понять, каковы «составляющие» процесса действия в драме и в чем его предназначение. Хотя Аверкиев не обосновывает свои идеи практикой современной ему русской драматургии, его понимание драматизма во многом порождено творчеством Островского, в центре которого всегда лицо страдающее. Как справедливо говорит А. Аникст, теория Аверкиева связана с «новым типом драмы, рождавшимся в ту пору в России и на Западе»[277]. Ориентируясь, на первый взгляд, только на прошлое — на Аристотеля, Лессинга и Шиллера, Аверкиев в какой-то мере отразил в своей книге новые тенденции, проступившие в драматургии рубежа XIX–XX веков.
Сдвиги в драматургии и ее теории, новое понимание действия нашли свое выражение в появившейся в 1893 году отнюдь не новаторской, на первый взгляд, «Истории новейшей русской литературы» А. Скабичевского (1838–1910). Сопоставляя драматургию Островского с современной ему западной, Скабичевский стремится обосновать свое предпочтение пьес русского драматурга соображениями и выводами, касающимися особенностей их поэтики. Островский не прибегает к хитросплетениям интриги и строит свои пьесы на простых сюжетах. «В иной пьесе словно совсем нет никакого действия»[278]. Но в «будничных» сценах Островский «вдруг и незаметно» развертывает «потрясающие драмы». Так историк тонко улавливает зарождение в творчестве Островского тенденций, сказавшихся наиболее явственно на рубеже XIX–XX столетий в так называемой «новой драме».
Для 1893 года наблюдения и выводы Скабичевского воистину поразительны. Об отсутствии «действия» в иных пьесах Островского критик говорит не в осуждение, а, напротив, в похвалу. Сталкиваясь с новой драматургической образностью, критик (опять же не в осуждение) пишет: «Точно как будто автор только всего и сделал, что сломал стену и предоставил нам смотреть, что делается в чужой квартире» (курсив мой. — Б. К.). Это сказано за пять лет до создания МХТ, до того, как стала складываться эстетика этого театра, за три года до написания «Чайки».
Поэтику драмы нового типа Скабичевский связывает с задачей, которую она себе ставит: не отделять непроходимою стеной контрасты жизни, как это делала старинная сцена, но раскрывать «радужную игру жизни во всех прихотливых комбинациях ее бесконечно сложных элементов». Разумеется, к изображению контрастов аттестует Скабичевский. Гротескно проникающие друг в друга, а не отделенные непроходимой стеной контрасты жизни считал главным предметом драматургии В. Гюго, автор предисловия к «Кромвелю» и ряда пьес, построенных именно на этом принципе.
Скабичевский больше констатирует новые факты в развитии драматургии, чем объясняет их генезис. Все же он стремится связать специфику действия в пьесах Островского с определенной — пусть и не очень глубоко понятой — философией: «жизнерадостностью», которой проникнуты его пьесы несмотря «на все невзгоды и ужасы, какие творятся в жизни».
Симптоматичны наблюдения и суждения Скабичевского о «занавесе, падающем во многих пьесах Островского не в самый роковой и потрясающий момент», как это обыкновенно бывает у других драматургов, а немного спустя, «во время обыденной сцены, чуть что ни на полуслове какого-нибудь действующего лица…»[279].
Пусть это наблюдение и не соответствует финалам Островского («Бесприданницы», например, завершающейся весьма «эффектно»).
Но знаменательно, что, высказывая свои истины, Скабичевский опровергает принципы, «отстаиваемые Боборыкиным и его единомышленниками», согласно которым действие в драме от начала до конца должно представлять собой ожесточенную борьбу между волевыми лицами, обуянными противоположными целями: на острые акции отвечающими еще более острыми реакциями.
В рассуждениях Скабичевского оказалось нечто «пророческое»: несколько «стилизованно» воспринимая построение пьес Островского и одобряя его, критик предвосхищает появление таких произведений, как «Дядя Ваня» и «Вишневый сад», где после катастрофических третьих актов идут «обыденные» четвертые.
В русской критике явно назревала потребность переосмыслить «застывшие» положения и понятия теории драмы, привести ее в соответствие с практикой драматургии рубежа XIX–XX веков.
О противоборстве тенденций и даже разброде в науке и драме, наступившем в конце XIX века, свидетельствует тот факт, что в пору появления книги Скабичевского журналы «Артист», а затем «Дневник артиста» (1891–1894) публикуют перевод глав книги Г. Фрейтага «Техника драмы», написанной в 1863 году и представляющей собой попытку создать нормативную теорию драмы, основанную на представлении о разумности и незыблемости буржуазной государственности, о чем подробнее — во второй части данного выпуска «Лекций».
Этот интерес к незыблемой «технике» в ту пору, когда на сцену начала проникать так называемая «новая драма», когда рождался чеховский театр, где эта «техника» решительно трансформировалась, — факт весьма показательный и по-своему вписывающийся в нарисованную выше картину подходов к драматургии и суждений о ее предназначении в России и, как увидим, на Западе.
ЧАСТЬ ВТОРАЯ
Интеллектуальная воля (Г. В. Ф. Гегель)
В этом разделе работы, рассматривая по преимуществу истолкование проблемы действия в зарубежной теории драмы, автор уделяет значительное внимание вопросу о воле; философы и теоретики
драматургии XIX века часто придавали ей решающую роль в драматическом процессе. Дж. Г. Лоусон категорично заявляет: «Закон трагического конфликта», сформулированный Гегелем и развитый Брюнетьером, выдвигает в качестве основной движущей силу волю»[280].
«Зрелища воли, стремящейся к цели» — вот чего требовал Ф. Брюнетьер от драматургии и театра. В воле Брюнетьер и его последователи были готовы видеть квинтэссенцию личности. Но Лоусон неоправданно ищет отождествления личности и воли в гегелевской философии. Скорее в брюнетьеровской концепции сказались взгляды Шопенгауэра и социал-дарвинизм.
Поэтому особый интерес для нас представляет понимание воли Гегелем: Шопенгауэр, Кьеркегор, Ницше противопоставляют гегелевскому собственное понимание воли, рассматривая именно ее, а не Дух, движущей силой мироустройства. Гегель считал волю одной из главных составляющих человеческого и, тем более, драматического поступка: «Действие есть исполненная воля»[281]. Все происходящее в драме проистекает «не из внешних обстоятельств, а из внутренней воли», — настаивал философ, преуменьшая в высказываниях подобного рода значение «внешних обстоятельств», роль которых он в других случаях оценивал достаточно высоко. Различая три этапа в развитии воли (изначально она инстинктивно-природная, затем перерастает в произвол, чтобы наконец стать свободной), философ усматривал существенное различие, но и столь же существенную связь между интеллектом (der Intelligenz), который берет мир таким, каков он есть, и волей, стремящейся немедля «сделать мир тем, чем он должен быть».
По мысли Гегеля, в человеке побудительный мотив «после присоединения к нему воли» перерастает в действие. Здесь напрашивается аналогия с «Поэтикой», где Аристотель связывает характер (как определенное направление воли) с мыслью. В отличие от животного, действующего инстинктивно, но обладающего волей, человек, считал Гегель, проявляет ее благодаря интеллекту. Лишенная интеллекта, не основанная на мышлении и духе, она ведет к «отрицательной свободе», к беспорядку и произволу, хотя, согласно обычным представлениям, именно произвол и считается свободой. Подлинно свободная воля — «мыслящий интеллект»[282]. Гегель, разумеется, впадал в односторонность, не принимая в расчет значения эмоции, чувства, страсти в волевом усилии.
Утверждая в «Философии истории», что наши намерения и цели могут осуществиться лишь с помощью воли, Гегель видел суть дела прежде всего в содержании этих намерений и целей[283]. Если они сугубо субъективны, удовлетворяя природные вожделения и страсти, частные интересы обособленного, эгоистического индивида, если воля свободна только «для себя», то она, с точки зрения философа, всего лишь произвол, то есть проявление «несвободы»[284]. Животное, влекомое к действию инстинктом, лишено воли, а человек, подчиняясь бездуховной воле, хуже животного, ибо творит произвол. Лишь тогда, когда в действительность вступает дух, воплощаясь в реальной жизни, «в наличном бытии», воля становится свободной.
По Гегелю, индивид, проявляя свободную волю, в итоге преследует не «своекорыстные», а «всеобщие интересы», т. е. становится органом воли «всеобщей»[285]. Делая «все, что ты хочешь», ты тем самым действуешь как своевольный субъект, проявляя не духовную волю, а произвол. Желая разумного, я поступаю «не как обособленный индивидуум» и в нравственном поступке «выдвигаю не себя, а суть»[286].
Гегель вводит понятие «решающей воли». Как известно, Кант высоко ставит человеческое достоинство, неотъемлемые права индивидуума, который способен в практической жизни соответственно требованиям разума проявлять свободную волю во имя достижения нравственной нормы. С действием, совершенным по своей воле, Кант связывал ответственность за содеянное. Но кантовский нравственный человек скорее отвращался от поступка, поскольку в реальной жизни результат чаще всего не соответствовал намерению. Гегель же полагал, что воля, которая ничего не решает, не есть действительная воля. «Лишь благодаря решению человек вступает в действительность, как бы тяжело ему ни было».
Наиболее приемлемы для Гегеля те действующие лица драматургии, которые благодаря интеллекту берут мир таким, как он есть, и вместе с тем стремятся сделать его тем, чем он должен быть, — соответственно требованиям Мирового Духа. Необходимая для этого разумная воля, по Гегелю, представляет собой очищенные, одухотворенные страсти, составляющие ту движущую персонажами силу, которую философ именует «пафосом».
Для Гегеля человек — не «собственное создание» (как полагал Ф. Шиллер), а существо, формируемое историей, процессом самореализации Абсолютного духа. Ставя достаточно высоко активность субъекта, способствующего воплощению задач Мирового разума, Гегель все же в итоге подчинял индивида обществу, а всякую попытку этого индивида вступить в «неразумное» противоборство с общественным устройством, по существу, считал незакономерной. Такой индивид, когда его изображает драматургия, всегда приходит, по мысли Гегеля, в финале к осознанию недопустимости своего «отпадения» от требования мировой идеи.
В любом «отпадении» человека от «всеобщего» Гегель видел явление преходящее. Он верил в способность индивида преодолеть свое обособление. Несколько десятилетий спустя именно «обособленный» человек становится наиболее приемлемым существом для таких философов, как Шопенгауэр, Кьеркегор или Ницше, хотя они предъявляют совсем разные, даже противоположные требования к «отчужденному» индивиду.
Связывая волю с интеллектом, Гегель, по существу, признавал лишь «разумную» волю. Сталкиваясь с такими шекспировскими фигурами, как Макбет и Ричард III, проявляющими волю неразумную, творящими произвол, Гегель признает, что их намерения и цели не связаны «с каким-нибудь всеобщим пафосом»; они не могут «найти себе оправдания в чем-либо субстанциональном» и, опираясь на свою природу, «действуют лишь для собственного удовлетворения». Но ведь такого рода персонажи нас тоже привлекают. По Гегелю, этим лицам придает «существенный интерес» их «беспощадная твердость», лишенная, однако, «нравственно оправданного пафоса». Потому эти персонажи «легко скатываются к злу»[287].
Но об этих же шекспировских фигурах, живущих, по словам Гегеля, не субстанциональным пафосом, а «формальными» страстями, присущими «обособленному индивидууму, философ отзывается и по-другому, признавая, что Шекспир пробуждает наш интерес «к преступникам и к самым пошлым и плоским оборванцам и шутам». Чем ближе драматург подходит «к крайностям зла и тупости», тем более поэтически он «разрабатывает» свои фигуры. Придавая им «одухотворенность и фантазию», он «делает их свободными художниками — творцами самих себя благодаря образу, в котором они могут объективно разглядывать себя в теоретическом созерцании как произведение искусства»[288].
Объяснение это весьма сложное, но Гегель здесь явно отступает от позиции, согласно которой исторически и художественно оправданы лишь носители «разумной воли». Оказывается, что и произвол может быть связан с одухотворенностью и фантазией.
Комментируя эту мысль философа, А. Аникст полагает, будто интерес, вызываемый у нас образами шекспировских «злодеев», качественно отличается от нравственного интереса, возбуждаемого героями античной трагедии: «здесь действуют не столько нравственные основы искусства, сколько его чисто художественные моменты»[289]. Говоря о Шекспире, одухотворяющем своих преступников, Гегель сам приближается и нас приближает к пониманию духовной мощи, заложенной в этих лицах. Аникст же, по существу, разделяет весьма распространенную мысль, будто в «демонических» персонажах нас привлекает не то, что они собой представляют, а лишь насколько мастерски они изображены художником.
Доверься мы этим рассуждениям, нам пришлось бы признать, будто искусство то сохраняет свои «нравственные основы», то способно обходиться без них, приводя в действие лишь «художественные моменты». Но такое деление на «основы» и «моменты» ведет нас к устаревшим представлениям, будто в одних случаях искусство привлекает нас своим содержанием, а в других — искусным, но голым формотворчеством. Эти представления решительно опровергнуты немецкой классической философией, прежде всего Гегелем, обосновавшим свою мысль о диалектическом единстве формы и содержания в искусстве.
Утверждение Гегеля о Шекспире, одухотворяющем свои «демонические» фигуры, нельзя понимать так, будто драматург мастерски навязывает этим лицам нечто внутренне им чуждое, философ здесь отступает от своей классификации, от своего разделения воли на одухотворенную и неодухотворенную. Фигуры Ричарда III и Макбета побуждают Гегеля признать, что и «злая» воля стимулируется не одними лишь низменными, эгоистическими инстинктами. Духовная свобода, как оказывается, далеко не всегда ведет человека к поступкам разумным и нравственным.
По Гегелю, каждый значительный герой драматургии одухотворен своим пафосом, то есть страстной идеей, приобретающей волевой характер. Идея требует своего осуществления в процессе противоборства с другой идеей. Каждая из них оправдана историческим развитием, и в процессе их столкновения выявляется как обоснованность, так и односторонность каждой из них. В этом, по Гегелю, состоит специфика драматического общения.
Проблема общения: «я» и «ты»
(Л. Фейербах)
А. Я. Куклин в статье «Искусство и общение в учении Гегеля» утверждает: «Во всей философии Гегеля категория общения не находит себе места». Более того, этой категории «нет приюта во всей философской мысли XVIII–XIX веков, всецело занятой проблемой единичного субъекта» (курсив мой. — Б. К.).
Все же Куклин посвящает свою статью именно выявлению проблемы общения у Гегеля, хотя «сделать это нелегко», ибо у этого философа «единственным субъектом является Дух». Куклин находит у Гегеля духовное тождество «я» — «ты» — «мы». Именно тождество. Автор упускает из виду, что Дух в процессе развития и инобытия «субъективируется», раскрывает свои противоречия, благодаря которым и возможно развитие. Если «я» равно «ты», а тем более «мы», если между ними отсутствует противоречие, то какое при таком тождестве возможно общение? Куклин утверждает: «Гегелевский Дух не знает абсолютно чувственного, «тварного» воплощения. А раз это так, то гегелевский человек никогда не принадлежит себе»[290]. Это не совсем так. Гегелевский человек в определенной мере все же принадлежит себе как некое духовное существо, как носитель идеи.
Это становится особенно ясно, когда философ анализирует драматургию и ее конфликты. Герои эти одержимы, по Гегелю, каждый своим пафосом, который противостоит пафосу другого лица. Каждого из них индивидуализирует именно идея, которой он предан и которую во что бы то ни стало отстаивает в борьбе с носителем иной идеи. Именно на этой почве и происходит между ними общение-противоборство, как это имеет место в коллизии, связывающей Антигону, отстаивающую неписаный закон, с Креонтом, блюдущим идею государственности. За каждым из них стоит своя субстанциальная правда.
Это — не абсолютная правда. И Антигона, и Креонт по-своему и правы и виновны одновременно. Разумеется, гегелевский человек прежде всего существо духовное, а не телесно-чувственное. И общение-противоборство происходит в сфере нравственно-духовной, идейной.
Если для Гегеля человек неотделим от всего человечества и даже «поглощается» им, то, по Фейербаху, конкретный индивид нуждается, прежде всего, в другом конкретном человеке и непосредственно связан с ним. Полемизируя с Гегелем, Л. Фейербах (1804–1872) выдвигает на первый план иной тип междучеловеческого общения (что опять-таки опровергает мысль Куклина, будто вся философия XVIII–XIX веков всецело занята проблемой единичного субъекта). Отказываясь от гегелевской «интеллектуализации» человека, Фейербах на первый план выдвигает субъекта «телесного», чувственного и окружающий его чувственный же мир. Правда, отстаивая природное, а не божественное происхождение человека, философ при этом рассматривает его как существо внеисторическое, внесоциальное.
Для нас, однако, важно, что, по Фейербаху, «я», эмпирический человек, обладая самоценным статусом, принадлежа себе, нуждается в «ты». Они друг без друга существовать не могут. Фейербах высоко оценивает реальное междучеловеческое общение и видит в нем движущую силу жизни.
Оспаривая Гегеля, Фейербах увидел в человеке воплощение не объективного, а именно субъективного духа. Вместе с тем он резко отвергает восприятие индивида как изначально и навсегда обособленного от другого лица. Отказываясь от представления об индивиде как воплощении безличного Мирового духа, он не разделяет гегелевской веры в то, что свое «отчуждение» индивид преодолевает, растворяясь во «всеобщем», даже современном государственном устройстве.
Для таких разных оппонентов Гегеля, как Фейербах и Ницше, самое страшное «холодное чудовище» в современном мире — это именно государство, обезличивающее человека.
Фейербах исповедовал своего рода культ человека как существа, чье стремление к счастью стимулирует его волю, в основе которой осознание нравственного долга перед другим индивидом.
Немецкая классическая философия, пишет М. Каган в книге «Мир общения», имела дело либо с интерсубъективной концепцией человека «вообще», то есть абстрактным человеческим сознанием, либо с солипсическим сведением человека к индивидуальному «я». Поэтому проблема междусубъективной связи в этой философии «сводилась к познавательному отношению субъекта к объекту (как, например, у Гегеля)».
Однако, продолжает Каган, в мировоззрении романтиков проблема общения занимала все большее место. Так, К. В. Ф. Зольгер в трактате «Эрвин. Четыре диалога о прекрасном и искусстве» (1815) пишет: «Самая прекрасная философия возникает в общении». На этот раз имеется в виду не абстрагированный индивидуум, а реальный человек, общающийся с ему подобным. В философии Ф. Шлейермахера Каган тоже обнаруживает мысль об «общении индивидов как единственном способе связи уникальных существ».
Но подлинно глубокую разработку проблемы междучеловеческого общения начал Л. Фейербах. Он отвергал философию, сосредоточенную на одном абстрактном «я», и придавал первейшее значение взаимозависимости «я» и «ты». Правда, по Кагану, идея «единства «я» и «ты»» еще не стала у Фейербаха концепцией человеческого общения, ибо он видел в общении не проявление человеческой деятельности, а лишь «природную общность людей». Слово Gemeinschaft, стоящее в оригинальном тексте Фейербаха, означает не «общение», а «общность», то есть «некое свойство, объединяющее самих людей, а не их действия»[291], полагает Каган.
Допустим, что здесь речь идет лишь об «общности». Но в «Основных положениях философии будущего» Фейербах, исходя из того, что реальный человек есть не только мыслящее, но и чувствующее существо («прежняя философия» знала лишь мыслящие сущности), полагает, что «только чувственность разрешает тайну взаимодействия»[292]. Здесь, разумеется, философ преувеличивает значение чувственности в ущерб духовности; но важно то, что речь идет о «взаимодействии», то есть об общении. Более того: по Фейербаху, обособленный от другого чувственно-духовный индивидуум не способен познать то, что доступно людям в совокупности. Лишь совместно они могут достигать знания о мире и о себе. Но дело не только в знании. Реальные люди, говорит Фейербах, лишь сообща совершают то, что не дано сделать человеку в одиночку.
Фейербах полемизирует с Гегелем, который «отнимает» у человека его деятельную сущность и превращает его в некое абстрактно мыслящее существо. Реально человек обладает не только духом, но и телом, не только мыслью, но и чувством. Мышление не является самостоятельной сферой жизни, оно реализуется в процессе реального существования человека и взаимодействия с другими людьми.
«Прежняя философия» отмежевывалась от чувственности. Но «только благодаря чувству Я есть Я». В итоге взаимодействие «я» с «ты» является для Фейербаха выражением реального междучеловеческого взаимодействия-общения.
Так Фейербах приходит к своей замечательной формулировке: «отдельный человек, как нечто обособленное, не заключает человеческой сущности в себе ни как в существе моральном, ни как в мыслящем. Человеческая сущность налицо только в общении, в единстве человека с человеком, в единстве, опирающемся лишь на реальность различия между Я и Ты».
Пусть у Фейербаха самое общение в итоге принимает религиозную окраску, когда он утверждает: «человек в общении с человеком, единство Я и Ты есть Бог». Для теории драмы важнее всего его вывод: «истинная диалектика не есть монолог одинокого мыслителя с самим собой, это диалог между Я и Ты»[293].
Фейербаху важен лишь один аспект этого диалектического диалога: он должен порождать любовь. Но, говоря о «тайне» диалога между «Я» и «Ты», Фейербах дает нам возможность увидеть и другие аспекты этой потребности людей друг в друге. Ведь общение «Я» и «Ты», по Фейербаху, опирается на реальность их «различия». А оно ведет не к одной лишь любви, о чем мечтал Фейербах, веруя в возможность построения общественных отношений, основанных на одном лишь влечении людей друг к другу.
Плодотворные идеи Фейербаха, в противовес «прежней» философии заменившего категорию «Я» (как субъекта одного лишь познания) категорией общения чувственно-духовных «Я» и «Ты», обогащают наши представления о драматургии и ее теории. Разумеется, драматургия шире, чем Фейербах, понимает диапазон взаимоотношений «я» и «ты» (не отвергая, разумеется, любви как важнейшего их проявления).
В исследовании Кагана один из разделов назван «Виды и разновидности общения». Одну из них он называет: «Общение воображаемых партнеров — художественных персонажей». Развивая эту мысль, мы можем сказать: вид имеет, в свою очередь, свои разновидности. В лирике перед нами общение персонажа с самим собой, с воображаемыми безответными собеседниками, с природными и вещными мирами. В повествовательных жанрах «я» общается не только с «ты», но и с предметным, природным миром (например, «Старик и море» Э. Хемингуэя). В этих жанрах персонажи, сами того не подозревая, общаются с проникающим в их душу повествователем, существование которого остается им неведомым.
Особая разновидность — драматическое общение. Здесь персонажи не столько общаются с вещным и природным миром, сколько устремлены лишь друг к другу, и им от этой «сосредоточенности» некуда деться. Тут они общаются и вольно и невольно, ибо обречены на сложное взаимодействие, включающее в себя со-действие, противо-действие, противо-стояние, любовь и ненависть, симпатии, антипатии, заинтересованность, агрессивность и равнодушие. Ситуации, выявляющие противоборство устремлений и целей, вынуждают их непрестанно и действенно выражать свои меняющиеся отношения друг к другу. Общение здесь приобретает характер непрерывного диалога «Я» с «Ты» в ситуациях обостряющихся противоречий, требующих все нового и нового разрешения.
Непрерывно длящийся диалог составляет один из аспектов драматической образности: ведь в реальной жизни исключено безостановочное говорение, где люди, в отличие от драматических персонажей, пользуются своим правом умолкать и даже подолгу жить в молчании.
В процессе драматического общения приобретает значение не только диалогическое слово, но и его звучание, его интонации, информирующие нас о неких смыслах, сверхнепосредственно в нем выраженных.
На сцене в речевом процессе «предусмотрен» еще и диалог на языке жестов, движений, мимики, многозначительных «разгадывающих», «разгадываемых» и «неразгадываемых» взглядов, озадачивающих пауз и т. д. Но над всеми этими языками доминирует язык слова, которому они «сопутствуют».
Поэтому, как кажется, должно говорить о специфическом драматическом общении, выражающем не только влечение людей друг к другу, не только их взаимодействие и взаимозависимость, что было наиболее важным для Фейербаха, но и о чреватом этой взаимозависимостью противоборстве, порождаемом теми «различиями» индивидов, которым философ придавал существеннейшее значение.
Эту мысль о «единстве», опирающемся на «различие», драматургия воплощает, выявляя коллизии, возникающие между различными и в то же время взаимозависимыми персонажами.
Отметим, однако, что, говоря об общении, благодаря которому человек становится личностью, о единстве и различии между «я» и «ты», Фейербах не видит, что личность и ее взаимоотношения с другими людьми формируются и изменяются в процессе исторического развития. О личности, неотделимой от процесса общественной жизни и его противоречий, всегда знает и никогда не забывает драматургия каждой эпохи.
Господство бессознательной воли?
(А. Шопенгауэр)
Если Ф. Т. Фишер, а позднее Г. Фрейтаг в своей эстетике и теории драмы сглаживали мысль Гегеля о противоречиях, движущих общественное развитие, и пытались идеализировать современные им буржуазные общественные отношения, то философия А. Шопенгауэра, с середины прошлого века оказывавшая все более интенсивное влияние на умы теоретиков и художников, не только не закрывает глаза на мрачные стороны жизни, но признает неизбежность и даже непреодолимость проявившихся в XIX веке социальных и общественных антагонизмов. Это, разумеется, сказалось и во взглядах философа на искусство, особенно на трагедию и музыку.
В своем сочинении «Мир как воля и представление» («Die Welt als Wille und Vorstellung», 1819) Шопенгауэр отказывается «от апологетического приукрашивания действительности»[294]. Об этом пишут А. Банфи, X. Ортега-и-Гассет, другие мыслители нашего времени, считающие, что внимание Шопенгауэра сосредоточено на реальных жизненных противоречиях, обострившихся в XIX веке и принявших катастрофический характер в XX веке. В философии Гегеля, говорит Ортега-и-Гассет, отсутствует подлинная и горькая искренность[295]. Гегеля с его диалектикой, обосновывающей прогрессивное общественное развитие, Шопенгауэр категорически не приемлет. Для этого были объективные основания. По мысли Э. Ю. Соловьева, философии Гегеля присуще «оптимистическое благодушие» по отношению к историческому процессу[296]. Шопенгауэру благодушие чуждо. До недавнего времени, в течение ряда десятилетий, его воспринимали у нас как антигуманиста, человеконенавистника, оклеветавшего современного человека и предрекавшего человечеству одни лишь неминуемые катастрофы. О новой точке зрения на этого философа можно судить по названию одной недавно появившейся о нем статьи: «Пессимистический гуманизм»[297].
Еще в 1961 году А. Ф. Лосев не соглашался с распространенным у нас принижением значения Шопенгауэра, его острого анализа жизни, его неприятия импозантных иллюзий, его тонких ощущений художественных феноменов, что делало его весьма популярным среди нефилософов, деятелей искусства и литературы[298].
Шопенгауэр судит о человеке и его возможностях по-другому. Место кантовского императива, позволяющего человеку проявить свободную добрую волю, место гегелевской Абсолютной идеи у Шопенгауэра заняла Абсолютная воля — слепая, своенравная, бессознательная. Пусть многие человеческие деяния осуществляются с помощью разума — отнюдь не он господствует в мире, полагает Шопенгауэр. В человеке от природы сидит зверь, «в свирепости беспощадности не уступающий тигру или гиене». Звериный эгоизм позволяет человеку с «величайшей легкостью нарушать границы права» и в обыденной жизни, и в истории. «Дьявольский характер» человека, «этот зверь в нас — воля к жизни»[299]. Нашу слепую волю сдерживает не столько разум, сколько страх. Не будь страха, каждый из нас легко превратился бы в убийцу.
Шопенгауэр отказался от гегелевской идеи, согласно которой общественная жизнь представляет собой «планомерный» процесс прогрессивного развития, в ходе которого Мировой дух обретает сменяющие друг друга формы своего «инобытия». Шопенгауэра вообще не интересует история. Отправная точка его мышления не Бог, Дух, Идея, но человек: голодающий, страдающий, исполненный желаний, вожделений, воли — действующий индивид, никогда не достигающий желаемого.
В связи с деятельностью, определяемой первыми потребностями человека, возникают не только явные аффекты и страсти, но и движения его внутренней жизни. Их не учитывает рациональная психология, занимающаяся только человеческим сознанием. Настаивая на том, что нужна новая психология, более объемно охватывающая жизнь и поведение индивида, в том числе интуицию и бессознательное, иррациональное, Шопенгауэр высказал мысли, «анонимно» вошедшие в современность XX века (здесь сыграли огромную роль учения 3. Фрейда, о чем будет сказано ниже).
Что же, по Шопенгауэру, представляет собой человек? Орган всеобщей, господствующей в мире воли, которому надлежит ценой страданий добираться до тайны собственного бытия. Раскрыть присущее ему содержание он может, лишь углубившись в себя и предельно обособившись от другого «я»[300].
Если нами правит слепая, разнузданная, пересиливающая разум воля, то каковы совершаемые нами волевые акты, о которых говорит Шопенгауэр? Насколько они и впрямь «волевые»? Являются ли они исключительно «слепыми» и «дьявольскими»? В чем своеобразие отношений между отчужденными людьми? Что их связывает, несмотря на присущую им эгоистическую волю? Для теории драмы особый интерес представляет решение Шопенгауэром этических проблем, связанное с его онтологией, согласно которой сущность мира обусловлена волей. Но самая воля предстает у него как весьма сложный, противоречивый феномен. Мысль Канта о «совместимости свободы с необходимостью» он считает самым прекрасным и глубокомысленным из того, что дал человечеству этот великий ум, да и вообще человеческий интеллект[301].
Шопенгауэр толкует Канта по-своему. Он ведь отрицает кантовский категорический императив, таящуюся в душе каждого человека веру в общечеловеческий нравственный закон, побуждающий нас к преодолению эгоизма, к проявлению свободы и сопряженной с ней ответственностью. Заложенные в человеке себялюбие и ненависть к другому непреодолимы, полагает Шопенгауэр. Существование нравственного императива недоказуемо, что знал и сам Кант. «Рациональную психологию», согласно которой человек составлен из двух разнородных субстанций: материального тела и нематериальной души, в которой таится «внутреннее судилище», Шопенгауэр отвергает. Эта психология не учитывает, что душевная жизнь включает в себя не только сознание, но и иррациональное. Философ не находит смысла в кантовских и христианских понятиях «человеческое достоинство», «совесть», «свобода воли». Как, однако, все эти отрицания соотносятся с глубинной концепцией Шопенгауэра? Ограничивается ли он лишь отрицаниями?
Оказывается, что, хотя в мире господствует неразумная воля, определяющая необходимость всего течения жизни, все же Шопенгауэр полагает, что она оставляет определенное место и свободной (в определенном смысле разумной) воле, проявляя которую индивид несет ответственность за свои поступки. Более всего поражает иных авторов у Шопенгауэра отрицание свободы воли и парадоксальное утверждение, что человек все же проявляет свободные волевые акты[302]. В его сочинениях немало утверждений о мире, в котором господствует только одна необходимость. Например, мы читаем: «Человеческое поведение совершенно лишено всякой свободы, оно сплошь подчинено необходимости». Личность никогда не свободна, говорит философ. Думать, будто поступки отдельного человека не подчинены необходимости, — заблуждение, настаивает Шопенгауэр. Но делая такие заявления, он стремится опровергнуть поверхностные представления о связях воли со свободой. А что эти связи он признает, явствует из того, что именно мысль Канта о связи свободы с необходимостью он оценивает так высоко.
По существу, Шопенгауэр отрицает лишь веру в абсолютную свободу воли. По его мнению, человек отличается от животного тем, что обладает способностью выбирать, «обдумывать» линию поведения, соответствующую его волевым хотениям. Но при этом имеет место всего лишь «относительная свобода», которую «образованные» люди ошибочно «разумеют под свободой воли», считая ее абсолютной. Она не абсолютна, ибо при «взвешивании мотивов» в процессе их «тягостного конфликта» побеждает сильнейший мотив, определяя волю. «Этот исход называется решением и наступает с полной необходимостью, как результат борьбы»[303]. То есть свобода неотделима как в своих истоках, так и в своих последствиях от необходимости, полагает мыслитель. Идея Шопенгауэра о необходимости как порождении свободы (относительной) и свободы, порождаемой необходимостью, очень важна для теории драмы, она побуждает нас видеть, как в драматическом процессе относительно свободное «взвешивание» (стремительное, спонтанное либо замедленное) мотивов рождает ситуацию, становящуюся необратимой, не-обходимой. Ее нельзя «обойти», ее невозможно игнорировать. Персонажи могут лишь перестраивать ее, опять же проявляя относительную свободу.
Уместно сказать, что тут Шопенгауэр во многом солидаризуется с беспощадно критикуемым им Гегелем. Анализируя ход истории, тот видел, как в результате противоположно направленных действий разных людей неизбежно возникает нечто необходимое — то, чего не хотел никто. В еще более наглядной форме Гегель обнаруживал такое соотношение свободы и необходимости в процессе развития драматического действия.
Не отрицая начисто наличия свободной воли, Шопенгауэр не отрицает и этику, хотя ищет ей свои, некантовские обоснования. Оказывается, что индивид является не только «хищником», которого от убийства себе подобных сдерживает лишь страх.
Философ видит в человеке не только сосуд злобы и неуемных эгоистических, никогда не удовлетворенных желаний. В сочинении «Об основе морали» (1839) он ведет речь о трех импульсах эмпирического характера: эгоизме, злобе и сострадании[304]. Разумеется, человек прежде всего злобный эгоист. Развивая свою этическую систему, уже изложенную ранее в его основном труде, Шопенгауэр и здесь утверждает, что даже в справедливых, казалось бы, поступках можно обнаружить «своекорыстие», эгоистические мотивы. Но «достойно удивления» и составляет «великое таинство этики» наличие человеческих поступков, которые «совершаются всецело и исключительно ради другого». Не перенося себя на место другого, а полностью отождествляясь с ним, «я прямо вместе с ним страдаю при его горе как таковом, чувствую его горе, как только свое», Шопенгауэр ссылается на «повседневный феномен сострадания». Именно оно, а не категорический императив Канта — основа морали. Правда, этот этический феномен не объясним разумом, он «подлежит ведению метафизики».
Впрочем, метафизическое обоснование сострадания не столь уж необходимо, поясняет Шопенгауэр. Ведь для его пробуждения «не нужно никакого абстрактного, а достаточно лишь интуитивного познания, простого восприятия конкретных случаев, на которые оно, сострадание, немедленно реагирует, без дальнейшего посредничества мыслей». Но далее философ находит и метафизическую основу своему «первофеномену» морали — состраданию. Дело, оказывается, в том, что индивидуум отличен от другого лишь как «явление», как «представление». Все индивидуумы — персонификации единой сущности. Сострадающий субъект осознает это, отождествляя себя с другими «я»; сострадая другому, он сострадает себе.
Имеющее моральную ценность, чистое от эгоистических мотивов, сострадание предполагает упразднение границ между «я» и «не-я». Такой процесс разумом не объясним, он мистичен, но «ежедневно происходит на наших глазах»[305].
Страдание и сострадание Шопенгауэр понимает совсем не в аристотелевском смысле. По мысли автора «Поэтики», сострадание ведет к «очищению»: приобщение к чужому страданию действует на зрителя просветляющее, оно порождает особого рода познание-наслаждение, поскольку трагедия обращена к тем сторонам жизни, что постижимы лишь искусством. По Аристотелю, сострадание не отвращает от жизни, но делает ее более глубокой и осмысленной.
Согласно Шопенгауэру, сострадать означает «на бесконечные страдания всего живущего взирать как на собственные и усвоить себе страдания всего мира»[306]. Сострадание — явление не разумно-рациональное, а таинственно-мистичекое.
Вносят ли страдание и сострадание какие-либо изменения в человеческую жизнь и в жизнь героя трагедии? В свое время Лессинг, пусть не без прекраснодушия, полагал, что сострадание способно воспитывать: в расслабленном человеке оно умеряет чрезмерную чувствительность, зато в холодном сердце пробуждает человеколюбие. Шопенгауэр придерживается иной точки зрения: человека с черствым сердцем сострадание неспособно превратить в справедливого, поскольку характер задан человеку изначально и навсегда.
Хотя сам Шопенгауэр в своем главном сочинении ставит раздел, посвященный этике, вслед за разделом об эстетике, нам кажется вполне естественным обратиться к его взглядам на искусство, предварив их кратким изложением его эстетических воззрений. В каждом из искусств, начиная с архитектуры, Шопенгауэр видит определенный этап проявления воли, все углубляющейся. (Тут имеет смысл напомнить о Гегеле, видевшем в каждом из искусств все новое инобытие духа.) Для Шопенгауэра трагедия — вершина, «венец» поэзии («по силе впечатления» и «по трудности выполнения»). Соответственно своей концепции философ видит цель трагедии в изображении страшной стороны жизни: несказанного горя, насмешливого господства случая, гибели невинного. Тем самым трагедия дает нам «знаменательное указание на характер мира и бытия». (Шопенгауэр видит в случайности один из главных источников наших страданий, упуская из виду, что часто она не злое, а благое свойство всего живого.)
В трагедии борьба воли с самим собой, борьба разных воль ведет к страданиям, в которых решающее значение имеют заблуждение и случай, завершающиеся гибелью героя. Благороднейшие фигуры — стойкий принц Кальдерона, Гамлет, Мессинская невеста, Орлеанская дева — умирают, просветленные страданием, отрешаясь от своих целей, от воли к жизни.
Соответственно такому своему пониманию Шопенгауэр трактует трагическое страдание и сострадание. И страдающего героя, и сострадающего зрителя трагедия побуждает понять, насколько тщетны возбуждаемые нашей эмпирической жизнью желания и волевые устремления.
В чем, по Шопенгауэру, смысл трагической катастрофы? Напомним гегелевский на нее взгляд: согласно ему, в процессе катастрофы предельно обнажается та правда, которой одержима каждая из противоборствующих сторон; при этом обнаруживается величие и ограниченность владеющего героем пафоса (как это происходит в «Антигоне» Софокла). По Шопенгауэру, катастрофа тоже предельно обнажает, но совсем иную ситуацию: мы видим во всем их могуществе те ужасные стороны жизни, которые враждебны нашей воле и, побуждая отрекаться от стремления к жизни, увлекают нас «к совершенно иному бытию», разумеется, скрытому, таинственному.
Поэтому Шопенгауэр ставит современную трагедию выше античной. У древних герои обнаруживают покорность перед неминуемой судьбой и непреклонной волей богов, не отрешаясь вовсе от самой жизни. В новой трагедии основное направление — отречение от воли к жизни. «Шекспир выше Софокла», — заявляет Шопенгауэр.
Тут философ явно подчиняет и античную, и новую трагедию некоей схеме. Разве Эдипа можно счесть фигурой, «покоряющейся» судьбе? Ведь он дерзостно вступает с ней в противоборство уже тогда, когда решает не возвращаться из Дельф в Коринф, дабы не сбылись пророчества высших сил. У Софокла судьба Эдипа предстает как осуществление его нравственных волений, сплетенных с волениями высших сил, часто чудовищных.
Но Шопенгауэр упрощает и шекспировского героя: тот ведь, как правило, не принимает наличный строй жизни, вступая с ним в противоборство. Движимый волей к утверждению тех идей и страстей, которыми он одержим, он, подобно Гамлету, с отвергаемым им строем жизни не примиряется.
Интересно суждение Шопенгауэра о поэтической справедливости. Шекспир, по мысли философа, пренебрегает этим требованием. В чем провинились Офелия, Дездемона, Корделия? Тут, да и в других случаях, нечего искать справедливость в самой жизни. Герои трагедии искупают не свои грехи, а первородный грех, т. е. вину самого существования. Эту мысль Шопенгауэр находит в стихах Кольриджа:
Грех первейший человека, Что на свет родился он.В этом вопросе Шопенгауэра тоже можно оспорить. Ведь, согласно развивающемуся действию, в гибели прекрасной венецианки повинен не ее «первородный грех», а злость и ненависть Яго — та злоба человеческого характера, которой Шопенгауэр придает столь страшное значение в междучеловеческих отношениях; повинны доверчивость, ревность и нравственное падение Отелло.
В гибели Корделии сказывается непростительное заблуждение короля Лира, коварные страсти ее сестер и их мужей, которыми они то правят, то им подчиняются. Повинен Эдмунд — воплощение той слепой воли, о которой говорит Шопенгауэр. Виноватых много, и среди гибнущих оказываются невиновные, втянутые в трагическую ситуацию, которая исключает торжество добродетели, подобающее мелодраме. Поэтическая справедливость сказывается в разрешении всей трагической ситуации, влекущей за собой и гибель лиц невинных, но в эту ситуацию включенных, так или иначе ей причастных. Шопенгауэр обходит вопрос о том, что поэтическая справедливость все же торжествует потому именно, что Корделия и Дездемона, несмотря на все претерпеваемые ими страдания, сохраняют верность себе, своим принципам. Поэтому трагедия, вопреки Шопенгауэру, не отвращает нас от жизни. Катастрофа трагическая ужасает, но и очищает, побуждая к более глубокому постижению бытия, чем то, на которое мы способны, оставаясь в пределах обыденности.
Сколь бы высоко ни ставил Шопенгауэр трагедию, превыше всего он ценит музыку. Она «стоит особняком». Если каждое из искусств представляет собой ступени объективации воли, то музыка — не одна из них, а «самая воля», выражающая никаким иным способом не выразимую сущность жизни. В музыке своеобразное сопряжение разных элементов мелодии представляет собой отголосок возникающих у нас все новых желаний. Но здесь наши желания вполне удовлетворяются, чем музыка и «ласкает наше сердце». Когда музыка объединяется со словом (в песне, на драматической сцене), она углубляет слово, придавая ему таинственный смысл, только звуком, мелодией, музыкальной композицией выразимый.
Как было сказано выше, Шопенгауэр «анонимно» повлиял на науку и искусство XIX–XX веков. Позволим себе показать это на явлении, казалось бы от Шопенгауэра очень далеком. Повернув философию от понимания бытия как воплощения разума (Просвещение, Кант) и духа (Гегель), придав центральное значение воле, Шопенгауэр весьма решительно заявил о роли иррациональных сил в мире и человеческой жизни. Он — один из родоначальников того понимания человека, которое в конце XIX, а особенно в нашем веке нашло свое выражение в концепции 3. Фрейда (1856–1939) и его последователей, оказавших в свою очередь серьезнейшее воздействие на искусство, в частности драматургию. Правда, Фрейд лишь в поздние годы жизни прочел Шопенгауэра (и был изумлен, неожиданно для себя встретив многое, сближающее его мысль с идеями этого философа).
По словам М. Г. Ярошевского, «Фрейд открыл, что за покровом сознания скрыт глубинный, «кипящий» пласт не осознаваемых личностью могущественных стремлений, влечений, желаний». Его теория «оказала воздействие на другие науки о человеке <…>, а также на искусство и литературу»[307].
Здесь же Ярошевский отмечает: ряд философов и психологсз задолго до Фрейда знали, что «за порогом сознания теснятся былые впечатления, воспоминания, представления», влияющие на его работу. Знали это и воплощали в своем творчестве немецкие романтики, с которыми философия Шопенгауэра внутренне связана. Противоречивое «сплетение» в человеке сознательного и подсознательного независимо от Фрейда и задолго до него распознал Достоевский. Душевная жизнь его героев характеризуется коллизией между сознанием и глубинными уровнями психической активности, где сплетаются чувство неполноценности, вины, недоверия к разумным стремлениям и т. д.
Личность, по Фрейду, отнюдь не исчерпываясь сознанием, воплощает себя не только в осознаваемых поступках. Ученый говорил о сложной структуре психики, о ее амбивалентности, о динамике внутренней жизни человека, в которой важную роль играет «пред- сознательное», «сверхсознательное», неосознаваемые нами волевые побуждения и влечения. Эти идеи повлияли на искусство, в частности, на Стриндберга, а позднее и на многих других драматургов (Ю. О'Нил, Т. Уильяме, Э. Олби). Разумеется, они видят мир не «по Фрейду», но он несомненно способствовал постижению ими противоречий душевной жизни современного человека, втянутого в социально-психологические отношения, характерные для XX века.
Не осталась чуждой новому пониманию природы душевной жизни человека и драматургия Чехова. Попытка в определенной мере сблизить эту драматургию с долгие годы третировавшимся у нас Фрейдом может показаться чуть ли не кощунством. Речь, однако, идет не о воздействии австрийского ученого, а о возникавшем на рубеже веков понимании человека, которое стимулировалось резкой сменой эпох; о таком понимании, которое генетически во многом восходит к Шопенгауэру.
Наше обращение в данном контексте к Чехову можно обосновать и идеями современной герменевтики, одним из истоков которой является философия Шопенгауэра. Для самого значительного адепта герменевтики Г. Гадамера «понимание» связано с проблемой «пред- понимания», «предвосхищения», «предрассудка». Он реабилитирует понятие «предрассудок», которому в эпоху Просвещения придавали негативный оттенок.
Надо, пишет Гадамер, покончить с восходящей к Просвещению «дискредитацией» пред-рассудка. Философ выявляет таящийся в предрассудке и позитивный смыл, сигнализирующий не о ложном, но об истинном[308].
В свете этих суждений, восходящих к «иррационализму» Шопенгауэра, можно сослаться на ряд ситуаций в «новой драме» рубежа веков, в частности и у Чехова. Ограничиваемся здесь одной, особенно показательной сценой из «Трех сестер». Во втором действии диалог Маши с Вершининым — это две исповеди: Маша не любит своего мужа, Вершинин тяготится своей женой. Когда они прорываются к взаимопониманию, Вершинин признается Маше в любви. Но почему после паузы Маша произносит слова, как будто не имеющие ровно никакого отношения к сказанному Вершининым? В чем тайный смысл следующего обмена репликами?
«Маша. Какой шум в печке. У нас незадолго до смерти отца гудело в трубе. Вот точно так.
Вершинин. Вы с предрассудками?
Маша. Да.
Вершинин. Странно это. (Целует руку.) Вы великолепная, чудная женщина. Великолепная, чудная!..
Маша (тихо смеясь). Когда вы говорите со мной так, то я почему-то смеюсь, хотя мне страшно…»
Вершинин говорит про любовь. Маша — про печку, гудевшую «точно так» незадолго о смерти отца. В чем загадка этого, казалось бы, «неответа»? Вспомним, что вся эта сцена начинается с реплики Маши, где речь идет о смерти отца как переломном моменте в жизни дома. Вспомним затем, как вся пьеса открывается словами Ольги: «Отец умер ровно год назад, как раз в этот день…»
В реплике Маши про печку — ответ и Вершинину, и самой себе. Да, она с пред-рассудками. В ее подсознании наступившее счастливое мгновение ассоциируется с другим, катастрофическим — со смертью отца. У Маши вырываются слова именно об этом. Ей и радостно и страшно. Она переживает самый счастливый момент в своей жизни. Вместе с тем она как бы пред-ощущает катастрофический финал, на который обречена их любовь. Сигналы об этом она получает «сверхразумные», из глубины подсознания — ведь она признает, что «с предрассудками», и вовсе не тяготится этим. Оказывается, иррациональное способно углублять и обогащать нашу душевную жизнь, даже в какие-то моменты формировать ее. На этом именно столь решительно настаивал в свое время Шопенгауэр.
Духовная воля и «истинный» выбор
(С. Кьеркегор)
Столь важная для Шопенгауэра проблема воли получает иное осмысление у его современника С. Кьеркегора (1813–1855). В молодости датский философ испытывал любовь к театру, в особенности к опере. Свою философскую концепцию и понимание человека он во многом обосновывает, обращаясь к таким фигурам, как Антигона, Дон Жуан (в опере Моцарта), Фауст.
В связи с этим важное значение приобретают у него понятия, ключевые для теории драмы: «воля», «выбор», «трагическая вина». Но толкуются они в духе религиозной, христианской направленности его мировоззрения.
Для нашей работы особую ценность имеет его статья «Отражение античной трагедии в современной» (в составе книги «Или — или», 1843), а также более позднее сочинение «Страх и трепет», в котором он возвращается к этой теме.
Есть нечто общее, полагает философ, у древнегреческой и современной трагедии. И все же в самой сущности трагического и в восприятии его зрителем произошли важные изменения. По мысли Кьеркегора, современная трагедия отличается от античной в двух отношениях. Во-первых, в современной на первый план выдвигаются ситуация и характер, в то время как в античной «действие не обусловлено исключительно характером». Поэтому в ней, наряду с диалогом, столь важную роль играет хор, говорящий «о большем», чем может быть «растворено» в личности героя, и монолог здесь как бы дополняет диалог, «содержит то, что не исчерпывается действием и ситуацией».
В трагедии нового времени господствует характер. Герой «действует и гибнет целиком в зависимости лишь от своих собственных поступков». Тут, по мысли Кьеркегора, сказывается недостаток трагедии нашего века. Она сводит трагическое всецело к индивидуальному и субъективному и делает лишь одного героя «ответственным за все». Поэтому он предстает полностью виновным, то есть «злым», но «зло не представляет эстетического интереса»[309].
Кьеркегор видит различие между античной и современной трагедией в разном понимании ими «трагической вины» и того «страха и сострадания», который, согласно Аристотелю, испытывает зритель. «Невинная вина» античного героя, составляющая основу переживаемой им коллизии, определяется тем, что «герой не знает о своей вине до тех пор, пока вдруг не обнаруживаются ее страшные последствия»[310]. Внутренне, субъективно он своей вины не чувствует. Герой современной трагедии не таков. Он знает о своей вине. Он — носитель не только «объективной» вины, как это было в античности, но и вины «субъективной». Поэтому он не жалуется на судьбу, как это делает, например, Эдип. Современный герой, «бессознательно» ощущая себя виноватым, «в самой глубине не сомневается в исполнении рокового приговора».
В зависимости от различного характера трагической вины находится и испытываемое зрителем сострадание. В античной трагедии «скорбь глубже, боль меньше; в современной — сильнее боль, меньше скорбь»[311], соответственно и в зрителе она вызывает не скорбь, а боль.
Понятия «воля», «выбор» и «раскаяние» у Кьеркегора связаны не столько с анализом драматургии, сколько с его представлением о предназначении человеческой личности. В отличие от Шопенгауэра, для которого воля представала как извечно слепая, бесчеловечная разрушительная сила, господствующая в мире и человеке, Кьеркегор рассматривает ее как феномен исторический и духовный. Вслед за Шеллингом он видит в проявлениях воли свободный акт, совершаемый человеком. Поэтому для него и злая воля — следствие свободного выбора, выражение свободной потребности человека именно в сотворении зла.
Сам философ побуждает личность проявить духовную волю не для сотворения «добра» (чего требовал Кант) и не для творения зла, а для того, чтобы таким образом «выбрать себя», осуществить свое предназначение. При этом речь идет об акте сугубо индивидуальном, совершаемом обособившимся субъектом. Кьеркегор не верит в возможность преодоления наступающего взаимоотчуждения между людьми. Условия самоизоляции, полагает он, наиболее благоприятны для углубления индивида «внутрь» и его превращения в подлинную личность.
Гегелевскую диалектику Кьеркегор определяет как «безличную», а свою называет «субъективной», основанной на утверждении глубоко личного, рационально не познаваемого смысла человеческих переживаний, неизбежно порождающих конфликт субъекта с общественной средой и ее догмами. Отдельному индивиду не следует вырываться за пределы «экзистирования», за пределы своего «я». От него требуется, напротив, углубление в себя. Общение с другими не является внутренней потребностью человека, ибо его подлинная жизнь вообще не может стать предметом коммуникации: она невыразима ни действием, ни словом. Лишь в общении с «бесконечным», с Богом личность способна подняться над своей конечностью[312].
Соответственно толкует Кьеркегор и вопрос о «выборе». Возможность выбирать он называет единственным ценным сокровищем, достающимся индивиду. «Выбор высоко подымает душу человека, сообщает ей тихое внутреннее довольство, сознание собственного достоинства, которые никогда не покинут ее всецело». Превыше всего в жизни индивидуума — это минута «истинного выбора». Суть не в том, настаивает Кьеркегор, чтобы «обладать тем или другим значением в свете, но в том, чтобы быть самим собой». По Кьеркегору, «быть собой» означает «стать собой», «выбрать» себя.
Разумеется, ситуация выбора у Кьеркегора отличается от той, к которой, как правило, обращается драматургия. У него речь идет о «выборе» как сугубо индивидуальном творческом акте. Душа кьеркегоровского человека в момент выбора «уединяется от всего мира» % и, созерцая «Вечную Силу, животворящую все и вся», выбирает, «вернее, определяет себя». При этом человек как будто и не изменяется, «не превращается в другое существо», но пробуждается настолько, что способен «определить» себя, сотворить себя, ибо «духовные роды человека зависят от nisus formatives (созидающей попытки) воли, а это — во власти самого человека». Совершая выбор, он способен «осознать свое вечное значение», то есть «заключить вечный союз с вечной силой»[313].
По существу, Кьеркегор через голову Гегеля (готового пожертвовать индивидуумом во имя хода истории) по-своему толкует веру Канта и Шиллера в суверенную человеческую личность и в ее способность к самоусовершенствованию, к утверждению своей самоценности. Но это самоутверждение у Кьеркегора имеет религиозный характер и требует от индивида самоизоляции.
У Шиллера-драматурга самосозидание достигается в процессе взаимодействия и противоборства индивидов. Кьеркегор же ставит во главу угла не процесс, а, напротив, мгновение, одухотворяющий момент выбора, благодаря которому человек возвышается над тем, чем он до этого являлся «непосредственно».
Шопенгауэр не верил в «отдельность» человека, считал ее иллюзией, ибо воля человека — лишь воплощение воли как космического принципа, а человек всего лишь зверь, чью злую волю ход жизни так и не может обуздать. Для Кьеркегора самоценен именно отдельный индивидуум, способный к одухотворению. Воля у Кьеркегора — не слепая, хищная, какой ее видит Шопенгауэр, и не «добрая», какой ее хотел бы видеть Кант, а религиозно устремленная. Вместе с тем — это особенно важно — этический человек Кьеркегора есть антипод позитивистско-прагматически настроенному субъекту, отстраняющему от себя как пустую «метафизику» все проблемы, связанные со сверхчувственной, духовной жизнью человека.
В концепции Кьеркегора, в его толковании «раскаяния» можно усмотреть и своеобразное истолкование проблемы очищения. Оно понимается здесь как готовность личности отвечать не только за свои грехи, но и за греховность мира, как способность личности освобождаться от всего «неличностного», стороннего, мешающего ей обрести свою подлинную экзистенцию в обособленном религиозном существовании.
Открывает ли эта философия возможность для истолкования определенных явлений драматического искусства XIX–XX веков? В. Г. Адмони находит влияние кьеркегоровского идеала личности в образе бескомпромиссного, борющегося за осуществление своего призвания ибсеновского Бранда, уходящего в горы, дабы там найти себя. Заповедь Бранда «все или ничего!» является, полагает Адмони, иносказанием кьеркегоровского требования: «или — или»[314]. А «Пер Гюнт» уже открывает ряд пьес Ибсена, насыщенных резкой критикой современного человека с его безверием, с его готовностью к компромиссу, не способного постичь ту миссию, к которой он предназначен. Драматургия, вопреки Кьеркегору, понимает формирование человека не как мгновенный акт в жизни отчужденного индивида, а как следствие взаимодействия персонажей в драматическом процессе.
Если в «Кукольном доме» Нора ценой страданий как бы находит самое себя, она делает это не «по Кьеркегору», не удаляясь от общественных противоречий, а побуждаемая нарастающим неприятием своего окружения и присущего ему рабского преклонения перед лживыми нормами жизни. В «Привидениях» опять встает кьеркегоровская проблема «подлинного» и «неподлинного» существования человека. Но к радикальному неприятию зла, воплощенного в ее муже, к преодолению собственной покорности существующим отношениям, к освобождению от своей трусости, не позволяющей ей обрести себя, фру Альвинг движима и внутренней потребностью, и ситуациями, в которые она вовлекается, упорно пытаясь покончить с безнравственностью, царящей в ее доме.
Стать собой можно, как бы говорит Ибсен-драматург, не отрешаясь от противоречий жизни, а преодолевая их, освобождаясь от них при этом и «внешне», и «внутренне».
Идейное родство с Кьеркегором сказывается в драматургии XX века, близкой к философии экзистенционализма. Но и тут срабатывают онтологические первоосновы драматургии. В лучших пьесах такого, например, драматурга, как Ануй, понятия «выбор», «ответственность», «самосозидание» наполняются конкретно-историческим содержанием. Казалось бы, Жанна в пьесе «Жаворонок» выбирает себя, «создает себя» во имя спасения Франции именно тогда, когда ею «по-кьеркегоровски» овладевает «божественная сила». Однако спасти свою страну ей удается лишь во взаимодействии с другими людьми, вовлекаемыми ею в тот сложный процесс, благодаря которому осуществляются и ее божественно-человеческое предназначение, и ее гибель.
Власть иррационального инстинкта, воля к жизни
(Ф. Ницше)
Вслед за Шопенгауэром Ф. Ницше (1844–1900) выступает противником гегелевского стремления подчинить личность государству как воплощению всеобщей воли. Именно государство подавляет индивидуальность и иррациональное в человеке. Но не только государство повинно в том, что современный человек обезличен, лицемерен, лжив и труслив. Ницше отвергает современную мораль со всеми ее постулатами. Как и Шопенгауэр, он не верит в существование нравственного законодательства, которому, по Канту, подчинен человек. Вместе с тем он не приемлет и христианскую мораль, побуждающую индивида верить в потусторонний, «идеальный» мир. «Душа», «бессмертная душа», «грех», «свободная воля», «угрызения совести» — все эти и им подобные понятия «выдуманы», дабы «обесценить единственный мир, который существует», опорочить земную реальность[315].
Ницше ставил себе в заслугу критику «лжи тысячелетий», воплотившейся в современных ему философии, науке, искусстве, политике; в современном типе человека. Он призывает всмотреться в ужасную реальность жизни, в кризис, переживаемый его эпохой.
Но он не ограничивается лишь одним отрицанием. Переоценивая все ценности, он стремится быть философом утверждения. «В той мере, в какой выдумали мир идеальный, отняли у реальности ее ценность, ее смысл, ее истинность»[316]. Прежде всего он требует утверждения жизни в самых напряженных, экстатических ее проявлениях. Превыше всего для философа «воля к жизни», которую мораль стремится подавить. Необходимо дать волю инстинктам, эгоизму, отказаться от проповеди лицемерной морали самоотречения.
Предназначение философии — «искание всего странного и загадочного, что до сих пор было гонимо моралью». А человек может «стать самим собою», отказавшись от «императивов» и «поняв» свой инстинкт и следуя ему. Лишь давая волю инстинкту, он может «найти себя» во всей своей неповторимости. Все разговоры о «метафизических потребностях» индивида несостоятельны, ибо главным его стремлением должно стать самоутверждение в земной жизни, а не в «потустороннем» мире.
Индивид может достичь этого лишь обособившись, прежде всего от обезличенной «черни», но и вообще от других людей. Одно из своих главных произведений — «Так сказал Заратустра» — Ницше характеризует как «дифирамб одиночеству». Он иронически говорит про «страдание от одиночества», заявляя: «Я всегда страдал от множества»[317].
Уже в первой его замечательной книге (для теории драмы имеющей значение особое) — «Происхождение трагедии из духа музыки» (1872) — мы находим зародыши тех идей, в которых Ницше позднее все более и более утверждался. Однако тут философ еще не отказывается от поисков «сущности вещей», «бездны» и «изначальной скорби» бытия как подпочвы цивилизации. Здесь еще не отстаивается право человека на неповторимую индивидуальность. Напротив, музыкально-трагическое восприятие мира способствует «уничтожению индивидуума» — его приобщению «вечно творческому» началу бытия.
В «Происхождении трагедии» главный объект критики — не только современный обезличенный трусливый индивидуум, а «тип теоретического человека», родоначальником которого Ницше считает Сократа, а воплощением в современности — ученого, «которому налично существующее доставляет бесконечное удовольствие». Этот ученый самонадеянно полагает, будто «мышление по путеводной нити причинности может проникнуть до глубочайших тайн бытия» и не только познать бытие, но и «исправить его»[318].
Ницше считает современную науку (при всех ее успехах) «заносчивой», неоправданно «оптимистичной», полагающей, что ее возможности неограниченны. Плоды этого оптимизма, полагает Ницше, могут быть ужасны. Культура, построенная на принципе науки, должна погибнуть, поскольку она чревата опасными результатами.
Если в некоторых сочинениях Ницше «второго периода» его развития находят сближение с позитивизмом (что, впрочем, весьма сомнительно), то в «Происхождении трагедии» он предстает как безусловный противник позитивизма с его верой в могущество мышления, разума, науки. Тут он провидит родившееся в XX веке понимание того, что в определенном отношении прогресс науки, % пренебрегающей нравственностью, чреват страшными опасностями для человечества.
«Теоретическому человеку» Ницше противопоставляет в «Происхождении трагедии» индивида, живущего во власти не разума, а инстинктов. Однако это не природные инстинкты (хотя они и «подражают природе»), а проявившие себя в условиях высокой культуры — античной.
А. Банфи пишет: Ницше открыл «позитивную ценность иррационального»[319]. Возможно, что он несколько переоценил значение иррационального, а честь этого открытия разделяет с Шопенгауэром. В «Происхождении трагедии» иррациональный инстинкт предстает как присущее античному мировосприятию хаотически «дионисийское начало», которому противостоит, органически сплетаясь с ним, начало «аполлоновское» (в котором «дионисийское» приобретает индивидуально-образное, гармоническое воплощение). Дионисийское — разрушительное начало, а аполлоновское — упорядочивающее, полагал Ницше.
Если дионисийское начало и «природно», то все же дионисийского грека от дионисийского варвара отделяет пропасть. В античной трагедии происходит своего рода «примирение» между дионисийством и достигшим расцвета началом аполлоновским. Зная и испытывая страхи и ужасы бытия, грек, чтобы жить, заслонял их «лучезарными призраками олимпийцев», богам «ужаса» противопоставлялся аполлоновский инстинкт красоты.
Ницше отвергает идею «первобытного рая», в котором будто бы пребывал «наивный» и «добрый» человек. В «наивном» Гомере уже проявляется высшее действие аполлоновской культуры, ниспровергшей царство титанов, сокрушившей чудовищ. Эта культура породила индивидуальность, которой не мог знать титанически-варварский дионисийский мир.
Одним из результатов борьбы двух принципов эллинской истории и явилась трагедия, родившаяся из трагического хорового злодейства, где главенствовала музыка — наиболее адекватное воплощение дионисийского, жизненно-оргиастического начала, благодаря которому индивидуальность растворяется в «метафизическом» первоначале всего сущего. Ницше, согласно своей концепции, считает наиболее важным в трагедии именно хор, а не сценическое действие. Тут, как и в других случаях, Ницше оспаривал Аристотеля, утверждавшего, что трагедия «нашла себя», свою специфику, отличающую ее от дотеатрального хора, именно в действии.
Ницше оспаривает мнения А. Шлегеля и Шиллера об античном хоре. Шлегель видел в хоре «идеального зрителя» того, что происходит на сцене. Но из публики, из зрителей, заполнявших амфитеатр, никак нельзя «выдеализировать» нечто подобное трагическому хору, утверждает Ницше. Более ценной философ считает мысль Шиллера о хоре как «живой сцене», возводимой трагедией вокруг себя для совершенного самоограждения от действительного мира.
По мысли Ницше, наличие хора означает объявление «войны всякому натурализму в искусстве». Хором начинается действие, и через него говорит «дионисиевская мудрость трагедии». Культурный грек, театральный зритель чувствовал себя далеким от своей отъединенности от другого человека, порождаемой государственным устройством, от пропасти между индивидом и индивидом, уступавшей место могучему чувству единства, «влекущему людей назад, к сердцу природы».
Если трагедия в целом была призвана дать зрителю «метафизическое утешение», веру в несокрушимость могучей жизни, то она порождалась, прежде всего, в живом образе хора. Переживая свои большие и малые страдания, эллин находил в хоре своего рода утешение — хор вечно остается верным себе, верным глубинному музыкальному бытию, сущности жизни.
Мир сценических аполлоновских образов Ницше толкует как своего рода порождение дионисийского хора. Его партии — «материнское лоно» так называемого диалога, сценического мира, всей собственно драмы. Первоначально единственной «реальностью» являлся именно хор, из самого себя рождающий свои видения и говорящий в них всей символикой танца, звука и слова. Сострадая происходящему на сцене, хор выражает это вдохновенными прорицаниями и мудрыми изречениями.
Так Ницше, толкуя значение хора и трагической поэзии, подходит к определению всей «сферы поэзии». Она лежит «не вне мира», как думают иные. Поэзия — «прямая ему противоположность», она должна отбросить от себя «лживые наряды мнимой действительности культурного человека». Искусство врачует: трагедией — от ужасов бытия, а комедией — от мерзости ее абсурдов.
Мысль Ницше о хоре в трагедии как феномене более древнем, более архаическом, чем собственно «действие», находит свое подтверждение и развитие в исследованиях О. М. Фрейденберг. Отмечая, что это основное лицо греческой трагедии со временем деградирует, исследовательница находит, что хоровые песни «отличаются архаикой» не только мысли, но и языка и синтаксиса.
Так, во время столкновения Эдипа с Тиресием хор резонно вставляет несколько понятийных ямбических фраз. Но когда после указанной сцены хор уже не говорит, а поет, «его мысли и язык начинают выражать допонятийные, мифологические обороты». Рассказ о хоровой партии «никогда не передает конкретных событий в отличие, например, от рассказа вестника. Медитации хора «по поводу» событий, развертывающихся на цене, принимают характер полной оторванности от действия. Хор — носитель темы, но не нар- рации, не действия, не сюжета», доказывает Фрейденберг, пристально вглядываясь в строение греческой трагедии и вчитываясь в хоровые партии[320].
По мысли Ницше, хор не только «древнее действия», но «даже важнее» его. С этим невозможно согласиться. Трагедия обрела себя (по Аристотелю: «становилась») тогда именно, когда на первый план вышли действующие лица. Они занимали в ней все более значительное место, увеличивалось и их число. В этом отношении достаточно сопоставить эсхиловских «Прометея» и «Орестею». Трагические фигуры становились носителями нравственной проблематики, они обретали характеры, т. е. оказывались перед необходимостью совершать «выбор», проявлять волю, принимать решения, расплачиваться за содеянное.
Аристотель вполне обоснованно видел в основе действия «характер (т. е. направление воли. — Б. К.) и мысль». Ницше придерживается иного мнения, полагая, что нараставшее значение в ней мысли, сближение с философией трагедию погубило. Такого рода утверждения свидетельствуют о враждебности Ницше не только к разуму, ухитряющемуся оправдать противоречия современной жизни, но и к тому Разуму, что беспощадно их выявляет. Реально, вопреки утверждению Ницше, трагедия и философия в V веке до н. э. взаимно оплодотворяли друг друга (хотя, как полагают иные ученые, философия в итоге «вытеснила» трагедию с занимаемого ею первого плана в жизни и сознании античного грека).
Трагедия, полагает Ницше, была сильна, когда в ней властвовало «бессознательное», а проникновение в нее разума, мысли и тем более рассудка сказалось на ней губительно — о чем свидетельствует драматургия Еврипида (которого Ницше ставит очень низко). В трагедии Еврипида он видит прежде всего пагубное влияние философии Сократа, под действием которой она утрачивает присущую трагедиям Эсхила и Софокла дионисийско-музыкальную стихию. Еврипид, по словам Ницше, донельзя упростил трагедию, пустив на сцену обычных людей. Если ранее сцена отвечала стремлению духа музыки к образно-мифическому воплощению, то теперь она вместо «метафизического утешения» ищет «земного разрешения трагических диссонансов жизни». Еврипид вступает на «натуралистический путь», умаляя и дионисийское, и аполлоновское начала.
В нескольких произведениях Еврипид действительно впустил на сцену «обыденного» человека. Но не в таких трагедиях, как «Медея», «Ипполит» или «Ифигения в Авлиде». Их Ницше не видит: они не укладываются в его толкование предназначения античной трагедии и вообще искусства, интуитивно постигающего трагическую сущность мира.
Говоря о трагедии, Ницше по преимуществу ориентируется на дотеатральное действо, когда «в песне и пляске человек чувствует себя сочленом более высокой общины», чем та, куда он входит в реальной жизни. Но трагедия ведь обогащает пение и пляску действием и диалогом. Здесь на первом плане уже этическая, нравственная проблематика, сближающая драматургию с философией. В ряде исследований раскрыт процесс их взаимовлияния и взаимодействия. Фрейденберг убедительно связала рождение трагедии с процессом обогащения мифологической образности нарративным содержанием, понятийным обобщением — именно это вело к превращению дотеат- рального действа в действие, решающее мировоззренческие проблемы. Русские философы (Н. Бердяев, Г. Шпет) отвергали стремление вернуть искусство к формам прошлого как несостоятельное и даже вредное.
В XX веке Антонен Арто пытался воскресить дионисийский театр, вернуть его к ритуалу, взывающему не к разуму «толпы», а к ее инстинктам. Но усилия Арто освободить театр от диалога не увенчались успехом, ибо на нем основывается драматическое действие.
Отличие драматического процесса от мифологического «сюжета» не только в том, что в диалоге на первом плане нравственная проблематика. Это связано и с новой трактовкой времени и пространства.
Если в мифе события происходят в «циклическом» времени, то в трагедии действие (что особенно подчеркивал Аристотель) имеет начало, середину и конец, приобретает четкие пространственно-временные границы, в пределах которых герой, воплощающий в себе уже не только некое стихийное, но прежде всего этическое начало, противостоит силе, представляющей иное начало — то ли божественное, то ли хтоническое. Мифологические образы в трагедии наполняются своего рода «понятийным» смыслом, а все действие переводится (как, в частности, показывает Фрейденберг) в эти- ко-религиозный и этико-социальный план.
Относясь враждебно к разуму, Ницше не хочет видеть, что рождение трагедии связано с оразумлением и драматизацией мифа, параллельно с которыми шло освобождение философской мысли от религиозно-мифологических представлений (одним из этапов которого было учение Гераклита о Логосе)[321].
Касаясь мысли Ницше о взаимодействии драмы и философии, надо сказать, что оно протекает в истории в высшей степени разнообразно и, как правило, для драматургии и ее теории — весьма плодотворно. Когда позитивизм «упразднил» философию, это сказалось на теории драмы болезненно и даже губительно.
Связь драматургии (а тем более — теории драмы) с философией неоспорима. В ряде случаев драматургия и театр своей проблематикой опережали ее развитие, в других — философская мысль способствовала художественному постижению неких основополагающих проблем драматургии (волновавших ее на протяжении веков и тысячелетий), осмыслению фундаментальных проблем теории драмы.
Вспомним деятельность Г. Лессинга и Д. Дидро — философов и теоретиков, обосновавших закономерность появления нового «среднего» жанра драматургии. Напомним, сколь важны для нас идеи далекого от драматургии Канта о переживаемом личностью конфликте между сущим, недолжным и должным, о способности индивида к свободному волеизъявлению. Сколь важны идеи Шеллинга и Гегеля о диалектике свободы и необходимости в жизни и в драматургии. Выявление этой диалектики — одна из вечных проблем драматургии, которая ищет ей все новые, исторически конкретные, отнюдь не абсолютные образно-поэтические решения. Углубленному пониманию фундаментальных проблем драматургии и ее теории способствовали идеи Фейербаха, Шопенгауэра, Кьеркегора, других философов.
Сам Ницше как философ со своим трагическим мироощущением тоже открыл некие важные особенности драматургии античной эпохи. Но и в современных ему пьесах последних десятилетий XIX века мы находим художественные отклики на отстаиваемые им философские идеи. Ведь та непременная борьба полов, которой придает столь важное значение Ницше, находит свое выражение в пьесах А. Стриндберга.
Лживую, лицемерную буржуазную мораль подвергают обличению одновременно и Ницше, и Ибсен (в «Кукольном доме» и «Привидениях», в других своих пьесах). Правда, как известно, философ высказывался об этом драматурге весьма пренебрежительно. Возможно потому, что не находил в нем того «имморализма», который провозглашал в ряде своих сочинений. Норвежский драматург ведь не отвергал общечеловеческую нравственность, он стремился к ее обновлению и очищению. О взаимопритяжении философии и драматургии — а не о губительном влиянии первой на вторую — высказывает, между прочим, важную для нас мысль В. Жирмунский: ницшевскому обожествлению жизни с ее напряженными переживаниями близок Ибсен в «Гедде Габлер», «Воителях из Гельголанда», «Докторе Штокмане»[322].
От теории к «технике» драмы
(Г. Фрейтаг)
Позитивизм, как известно, отрицал философию с ее поисками «сущности» жизни, поскольку не верил в то, что за явлениями и установленными наукой фактами скрывается еще нечто «метафизическое». Теория драмы, не без воздействия позитивизма, все более решительно порывала с эстетикой, стремившейся понять сущность, онтологию драматургии как рода поэзии, ориентирующегося на театр.
Решительный шаг к позитивистской теории драмы, к систематизации фактов и их описанию совершил Г. Фрейтаг (1810–1895), автор книги «Техника драмы» (1863)[323]. Самое название работы знаменует отход от философской теории и ориентацию на выявление правил построения пьесы. Фрейтаг, анализируя трагедию, предлагает драматургии следовать устойчивой, общепринятой, практически полезной «модели» драматического действия, годной на все времена. Его книга пробрела большую популярность за пределами Германии. Как серьезный труд она была воспринята и в России % задолго до того, как отдельные ее главы опубликовали журналы «Артист» и «Дневник артиста» в 90-х годах прошлого века.
Фрейтаг все же говорит не только о «технике» (т. е. о том, как строить пьесу), но и о проблемах мировоззренческих. Сама предлагаемая им «схема» построения драматического действия подчинена определенному взгляду на человека и мир: предназначение этого рода искусства — утверждать нас в мысли о целесообразности, разумности современного строя жизни, в общем соответствующего идеальным человеческим запросам.
В развивающемся драматическом действии, утверждает Фрейтаг, герой сначала победно вторгается в окружающую жизнь, но уже в кульминации она противодействует герою, чтобы затем в наступающей катастрофе утвердить свою власть над ним.
Годы ученичества Фрейтага, полагал Ф. Меринг, были озарены последним сиянием классической философии, что не позволило ему стать «вполне ремесленником»[324]. Но его мировоззрение эклектично и восходит то к Гегелю, то к Шопенгауэру.
Под влиянием идей Шопенгауэра Фрейтаг связывает построение пьесы с воздействием на ее персонажей «воли», проникающей вглубь души и дающей начало действию. Эта воля, «полная силы чувства и хотения», выражает себя в поступках, ведущих драматический процесс к кульминации, с вершины которой, под напором препятствующего ему мира, герой низвергается к катастрофе.
Как и многие другие авторы, А. Аникст считает «главным вкладом Фрейтага в изучение техники драмы» его «пирамиду структуры действия»[325]. По Фрейтагу, действие, если изобразить его графически, представляет собой две линии: одна идет вверх, другая вниз. Если первая символизирует повышающееся действие, то вторая, смыкаясь с первой в кульминации, идет вниз, к развязке.
Самое представление Фрейтага о «восходящем» и «нисходящем» этапах драматического процесса основано на том, что второй этап, когда герой, будто уже исчерпавший всю свою энергию, терпит поражение и падает под напором противодействующих ему сил, не выдерживает критики. Можно ли назвать все происходящее с Гамлетом после кульминационных сцен его поражением? Фрейтаг не учитывает внутреннего роста героя, знаменующего не нисхождение, а духовное восхождение. Ведь Гамлет первого и последнего действий трагедии — это разные люди: меланхолик превращается в человека острой мысли, познавшего, насколько сложны и непреодолимы противоречия жизни. Пусть царь Эдип терпит «сюжетное» поражение, но разве сопоставимы самоуверенный юноша, покинувший Коринф, с одухотворенным, пережившим нравственное очищение человеком, обрекающим себя на изгнание из Фив?
Идея о «нисхождении» общего действия драмы накладывается Фрейтагом на поведение и судьбу персонажа. Он ценит в нем изначальный «напор воли», во второй половине пьесы иссякающий. Но ведь жизнь героя даже изначально не исчерпывается лишь таким напором, а центральные моменты его жизни вовсе не определяются лишь волевыми импульсами. Если напор честолюбивой и агрессивной воли от начала до конца присущ Ричарду III, то этого нельзя сказать о короле Лире, который в кульминационной сцене (в степи) переживает потрясение, душевный перелом, страдание, ведущее к переосмыслению взглядов на мир и постижению царящей в нем несправедливости. Разумеется, кульминационную сцену в степи никак нельзя счесть переломной от «восхождения» к духовному «нисхождению», хотя Лир и предстает здесь жертвой побеждающих его обстоятельств и человеческого коварства.
В катастрофе Фрейтаг видит всего лишь гибель поверженного героя. Но можно ли в финале «Короля Лира», «Отелло» или «Антония и Клеопатры» видеть только поражение? Да, Отелло закалывает себя, но после «узнавания» того, что благородство, чистота, преданная любовь имеют место в этом мире. Это, разумеется, ведет героя не к «нисхождению», а к духовному «восхождению». А Клеопатра? Да, она погибает, но в заключительном монологе превозносит осознанное ею величие Антония, чья мощная поэтическая фигура несопоставима с прозаическим расчетливым Цезарем.
Фрейтаг говорит о неизбежно возникающей перед драматургом потребности показать предпосылки действия — сложившуюся до начала действия ситуацию. Однако он при этом неправомерно отделяет так называемую «экспозицию» от собственно действия. Реально вся досценическая ситуация (или ситуации) экспонируется не до процесса начавшегося действия, а в его ходе: в завязке, а нередко и на последующих этапах драматического процесса. Так, все пред- действие «Отелло» (связавшая мавра и Дездемону любовь, бегство венецианки из родного дома) органически входит в начавшееся сценическое действие, обостряет и ускоряет ход событий, завершаясь лишь в конце первого акта трагедии.
К. С. Станиславский возражал против стремления отделить «пред- % посылки», «экспозицию» от сценического действия. Однако существование «экспозиции» как самостоятельного этапа, предшествующего собственно действию, было многими принято на веру. Дело доходило до того, что первые два акта «Бесприданницы» иные авторы считали «экспозиционными», лишь предваряющими действие, начинающееся якобы только в третьем акте. Нередко это приводило к тому, что так называемая «экспозиция» представала на сцене неким неизбежным «предварением» дальнейших событий. Реально, разумеется, все досценические события в «Привидениях», и в «Беге», и в иных пьесах экспонируются в ходе действия, обостряя его с самого начала.
Все «вступительные», досценические, экспозиционные ситуации органически включаются в действие и, раскрываясь, все более его обостряют (за исключением тех пьес, где досценический материал излагается в «Прологе», к которому драматургия давно не прибегает; а когда и прибегала — в «Царе Эдипе» или «Ифигении в Авлиде», то никогда не превращала его в осведомительное, информационное, эпическое повествование, а с первых же мгновений все более драматизировала начавшееся представление).
Фрейтаг почти одновременно с В. Гюго (книга которого «Вильям Шекспир» написана в 1864 году) обратил внимание на значение так называемого «параллельного действия», сплетающегося с основным в ходе пьесы. Фрейтаг же положительно оценивал введение параллельного действия лишь в комедии, а в трагедии считал подобное «расширение» чрезмерным, ненужным, ослабляющим впечатление от главного действия. Фрейтаг не учитывал того, что реально эти действия не являются просто параллельными. Они взаимоотражаются, углубляют друг друга, придавая проблематике пьесы объемный, многосторонний характер.
Недооценивая значение параллельных линий, Фрейтаг примитивно толкует и значение параллельных фигур как элементарно контрастных. Так, по его мысли, Софокл в контраст суровым характерам Антигоны и Креонта вводит более мягкий образ Исмены. Но у Софокла Йемена, отвергающая предложение Антигоны похоронить брата, проявляет не мягкость, а послушание: она не считает возможным нарушить приказ царя, хотя речь идет о родном брате, о соблюдении от века принятого обычая. Она предстает не столько «мягкой», сколько покорной конформисткой, неспособной и нежелающей сопротивляться господствующей власти.
Аристотелевский катарсис Фрейтаг толкует как страстное возбуждение зрителя, ощущающего в себе «неограниченную свободу», позволяющую ему подняться над изображаемыми событиями, над их ужасом и болью, испытывая удовлетворение существующей в мире разумной связью явлений. Мы обретаем ощущение, что за всеми страданиями стоит вечный Разум, правящий мирозданием, и слиться с ним, полагает Фрейтаг, наша цель. Он отстаивает драматургию, пусть и выявляющую противоречия между личностью и окружающим ее миром, но признающую правоту этого мира и обоснованность поражения, к которому ведут героя все его действия.
Справедливости ради надо отметить, что идея о «восходящем», а затем «нисходящем» действии пришлась по душе ряду драматургов. А. К. Толстой высоко ценил советы Фрейтага и опирался на них[326]. С Фрейтага начинается увлечение ремесленной стороной процесса создания пьесы, вызвавшее целый поток сочинений такого рода на Западе и в России. О «восходящем» и «нисходящем» действии пишут многие авторы[327]. В этих сочинениях пьеса представала как результат «логического» построения. Это соответствовало одному из главных требований Фрейтага к герою драматургии, в чьих действиях он искал логическую последовательность. Так, в поведении персонажей еврипидовской «Ифигении в Авлиде», переживающих внезапные повороты чувств, он не находил «логики». Фрейтаг, по существу, отрицал значение воображения и интуиции как в работе драматурга, так и в поведении персонажей. Автор «Техники драмы» нисколько не предполагал, что уже драматургия последних десятилетий XIX века, а затем и ХХ-го проявит самое пристальное внимание к поворотам чувств, стремлений и целей своих персонажей; алогическое и нелогическое, сознательное, сверхсознательное и подсознательное предстанут здесь в некоем драматическом сопряжении.
Воздавая должное Фрейтагу, высказавшему ряд полезных соображений относительно построения драмы и взаимоотношения ее отдельных элементов. А. Аникст все же констатирует, что автор «Техники драмы» не связывал выявленные им «отдельные моменты» построения пьес с их концепцией. Пусть «анализ произведений оказался у него приземленным», однако Фрейтаг, тем не менее, «преодолел метафизичность теорий первой половины XIX века» и «поставил драму на твердую почву практики»[328]. Надо, видимо, согласиться с противоположной точкой зрения Лоусона, по мысли которого стремление Фрейтага дать свод «правил» построения % драматического действия оказало «огромное (и вредное) влияние на теорию драматургии»[329]. Заявление Аникста крайне сомнительно: «метафизические» теории, стремясь понять сущность драматургии, ее предназначение, ее фундаментальные задачи, многое открыли и в ее построении. Понятия действия, фабулы, характеров, перипетии, катастрофы были введены в теорию именно так называемыми «метафизиками». Фрейтаг ввел новые понятия — кульминация, трагический момент, — но толковал их позитивистски формально.
Общедоступная теория
(Ф. Брюнетьер)
В драматургии второй половины XIX века, особенно в последней его трети, шли поиски новых форм действия, новых коллизий, новых конфликтов, способных художественно воплотить реальные противоречия и проблемы современной жизни. В России эти поиски дали драматургию А. Н. Островского и А. П. Чехова, на Западе — породили драматургию Г. Ибсена, а несколько позднее — Г. Гаупт- мана, М. Метерлинка, К. Гамсуна, Б. Шоу. Теория, однако, с трудом осмысляла новый опыт. Более того: иные теоретики, оставшиеся глухими к новаторским явлениям драматургии, именно в это время выдвинули крайне упрощенные, догматические положения касательно природы и назначения этого рода искусства.
Показательна в этом смысле работа французского теоретика Ф. Брюнетьера (1849–1906) «Закон театра»[330]. В театре конца XIX века, полагает Брюнетьер, «сила воли слабеет, идет на убыль». Критик стремится восстановить волю в ее незыблемых правах. Он требует возвращения к «зрелищу воли, стремящейся к цели». Именно это всегда было и остается, по его мнению, универсальным законом драматургии и театра.
Для Брюнетьера нет проблемы морального выбора, определяющего направление воли. Он не думает о ценности предмета, которого воля хочет достигнуть. Он не видит в драматургии героев, меняющих направление своей воли.
Брюнетьер не видит различия между вовсе несходными волевыми устремлениями. Он уравнивает желание отомстить за отца (Химена) с желанием добыть соломенную шляпку. Лоусон связывал впрямую Гегеля с Брюнетьером, будто бы вслед за немецким философом выдвигающим в качестве основной движущей силы драматического процесса волю. Лоусон соглашается с Брюнетьером, требовавшим «зрелища воли, стремящейся к цели».
Демонстрируя явную непоследовательность, Лоусон тут же говорит: «Философские воззрения Брюнетьера не оставляют сомнений в том, что он находился под влиянием Шопенгауэра и что его концепция воли в основе своей метафизична»[331]. Мировоззрение Брюнетьера эклектично. С сутью гегелевских взглядов, с его мыслью об интеллектуальной воле оно не имеет ничего общего. Но и Шопенгауэр тоже понят им весьма ограниченно. Ведь, считая волю движущей силой космоса и неотделимого от него человека, этот философ полагал, что чем менее мы упражняем свою волю, тем менее страдаем, и конечной целью должно быть подавление индивидуальной воли[332].
Теория драмы Брюнетьера требует именно «упражнения» воли, ее активизации во что бы то ни стало. Брюнетьер не видит в воле того «зла», того «безумия» и иррациональности, которое усматривает в ней Шопенгауэр. Вся концепция Брюнетьера основана на преклонении перед волей сугубо прагматичной, лишенной какого бы то ни было духовного начала.
Брюнетьер был уверен, что им найдена «теория драматического действия, способная объединить столь разные произведения, как «Сид» и «Федра», «Тартюф» и «Женитьба Фигаро». Эта теория очень «широкая», но по простоте своей доступная малому ребенку, что составляет особенное ее достоинство, поскольку сами по себе «ни искусство, ни наука, ни жизнь не являются сложными, лишь те представления, которые мы создаем о них, сложны»[333] (курсив мой. — Б. К.).
Универсальный принцип, лежащий в основе самых различных явлений драматургии, неизменен, в то время как «все остальное» в драме изменчиво и необязательно. Пусть Корнель в «Сиде», «Горации», «Полиэкте», «Родогуне» «вмещает» своих героев в готовые, придуманные ситуации. Пусть Расин сначала находит характер, а затем уже ищет ситуацию, позволяющую ему проявить себя наилучшим образом, как это сделано в «Андромахе», «Британнике», «Баязете», «Федре». Пусть французы стремятся к соблюдению трех единств, а Шекспир ими пренебрегает. Пусть одни трагики (как автор «Царя Эдипа») не считают возможным смешивать трагическое с комическим, а другие, подобно Шекспиру, позволяют себе делать это.
Во всех этих пьесах, как и в «Селимаре возлюбленном» и «Соломенной шляпке»[334], — в трагедиях, драмах, водевилях — Брюнетьер повсюду обнаруживает соблюдение одного универсального принципа: герои драматургии всегда движимы определенным «хочу». Этим «хочу» они живут, и во имя него они действуют. Без него не существуют и немыслимы ни драма, ни ее герои.
Химена хочет отомстить за своего отца, Арнольф хочет сделать своей женой Агнесу[335], Селимар хочет отделаться от мужей своих умерших любовниц. «Хотение» в концепции Брюнетьера — понятие ключевое, наряду с «волей» и «целью». Трагедия, драма, водевиль показывают нам последовательное направление воли в процессе достижения цели. Суть драматического действия в том, что, стремясь осуществить свою волю, герой встречает препятствия со стороны других воль, со стороны обстоятельств, со стороны случая, а также средств, часто не способствующих, а только затрудняющих движение к цели. Смысл драмы, по Брюнетьеру, в конфликте воль, в их борьбе, разрешающейся победой воли наиболее активной и сильной.
Не следует, говорит Брюнетьер, отождествлять действие с простым движением. «Настоящим действием является только волевое.
Оно сознательно применяет средства для осуществления цели и соразмеряет их с целью»[336]. Вот именно это — действие предприимчивой воли, то и дело соразмеряющей свою энергию с целью, является общим, по Брюнетьеру, законом театра.
Говоря о сложном, противоречивом, диалектическом соотношении «пафосов», движущих героями драмы, Гегель видел, что конечный результат общего действия не совпадает с индивидуальными стремлениями героев. Брюнетьер эту проблему вовсе не видит. По его мысли, результат общего действия драмы вполне соответствует стремлениям наиболее активного из ее персонажей.
Теоретик без особых затруднений выводит из своего «закона» и различие между драматическими жанрами, определяемое характером препятствий, возникающих перед волей героя. В трагедии налицо диспропорция между чрезмерными усилиями воли, применяемыми героем средствами и доступными, легко достижимыми целями, не требующими таких больших усилий, какие совершают персонажи.
Брюнетьер уверен, что его «закон театра» позволяет легко определить, на чем основано не только различие между «видами» драматургии, но и между драмой и романом. Сопоставьте «Жиль Блаза» с «Женитьбой Фигаро», для автора которой роман Лесажа был главным образцом. Жиль Блаз хочет жить приятно, но у него нет плана, нет определенных конкретных хотений, намерений, целей. Фортуна или случай сыплют ему на голову один за другим свои дары. Не он действует, а им действуют. У Фигаро все иначе. Он хочет, у него цель — точная и определенная. Какие бы ему ни встречались препятствия, как бы средства, к которым он прибегает, не оборачивались против него, он «непрестанно хочет того, чего хочет… вот это-то и называется хотеть: ставить себе цель и отдавать ей все свои помыслы и силы». В романе же развитие движется не столько силой хотения, сколько силой обстоятельств и случайностей, слабой энергией весьма неопределенных устремлений персонажа.
Под свое построение Брюнетьер подводит и некий философский фундамент. В драме «герои являются творцами своей судьбы», чего нельзя сказать про роман[337]. Поэтому периоды расцвета драмы в национальных литературах либо совпадают, либо почти совпадают с периодами «взлета воли» в национальной истории. Так было в Древней Греции, в Испании, породившей Лопе де Вегу и Кальдерона, и т. д. «Жиль Блаз» и «Женитьба Фигаро», конечно, принадлежат к одному семейству, однако не случайно между ними пролегает интервал, «отделяющий эпоху упадка воли в период регентства от мощного волевого взлета кануна Революции».
Демонстративно не желая «ударяться в метафизику», Брюнетьер все же приходит к выводу, что драма видит в человеке «повелителя событий», в чьих индивидуальных усилиях проявляет себя «свободная воля». Но избегая «метафизики», не желая заниматься умозрениями, отвергая отвлеченные идеи, стремясь стоять «на почве фактов», Брюнетьер объединяет пьесы разного масштаба.
В едином ряду героев, одержимых своим «хочу», у Брюнетьера стоят Фадинар, изо всех сил добывающий соломенную шляпку для мадам Бопертюи; Фигаро, имеющий вполне определенную цель в борьбе с Альмавивой; Роксана, Федра, Отелло и Гамлет. Правда, в чем же заключается единое «хочу» Отелло и Гамлета, Брюнетьер почему-то не объясняет.
К сожалению, элементарное брюнетьеровское «хочу» вошло в обиход. И в наше время появляются работы, рекомендующие являть прежде всего и главным образом «хотения» персонажей, определяющие происходящую в пьесе «борьбу» за овладение определенным «предметом». Так, П. Ершов, обращаясь к режиссерам и актерам, давая толкование процесса работы режиссера над спектаклем и актера над ролью, исходит из мысли, что «жизнь есть действование, а действование есть борьба». Ершов делает отсюда далеко идущие выводы, своеобразно толкуя при этом и некоторые высказывания К. С. Станиславского. Сводя жизнь к «действованию» и не ставя вопроса о его глубинных мотивах и разнообразных слагаемых, о сложных составляющих этого действования, Ершов называет режиссера «композитором борьбы» на сцене, призванным ставить перед каждым персонажем препятствия, заставляющие его бороться за свою цель. Строить спектакль как борьбу — «это значит — на пути действующего лица к его цели обнаруживать препятствия и побуждать это лицо их преодолевать»[338]. Как видим, тут полное совпадение с Брюнетьером.
Сходные мысли обнаруживает и Дж. Г. Лоусон. В драме, говорит он, «разумная воля людей» должна быть направлена «на достижение какой-то определенной цели»[339]. Различие между Лоусоном и Брюнетьером лишь в том, что французский теоретик говорит скорее об этически-нейтральной воле, а американский — о «разумной». Но разве можно, к примеру, назвать волю Медеи или Яго «разумной»? Ведь воля этих и множества иных персонажей стимулируется страстью, которую нельзя назвать ни «разумной», ни «неразумной». Можно ли цели Отелло или горьковского Луки, володинского Лямина, булгаковского Хлудова относить к «разумным» или «неразумным»?
В основе драмы Лоусон, в духе Брюнетьера, видит «ряд сознательных действий, направленных к определенной цели». В свое время Лессинг в «Лаокооне» высказал схожую мысль, но в набросках второй части «Лаокоона» он от нее отказался, поняв, что это сводит действие драматическое к рационально-целевому. Свою прежнюю формулировку автор «Лаокоона» заменил, говоря о действии в драме как о выражении противоположно направленных целей персонажа. И верно: цель-то у героя, в особенности у персонажа драматургии XIX–XX веков, чаще всего весьма сложная, а нередко она вовсе далека от «определенности».
У Гамлета цель, поставленная перед ним Призраком, «обрастает», усложняется, обогащается другими стремлениями, гораздо более недостижимыми, чем месть Клавдию. А. Аникст полагает, что, когда Гамлет заявляет о том, что он призван восстановить связь времен, он верит, будто для этого достаточно отомстить Клавдию[340]. Реально у шекспировского героя уже в этот момент возникают иные, высокие притязания, до конца не ясные ему самому. Гамлет менее всего живет брюнетьеровским «единым хотением». Ведь веление Призрака «и помышленьем не посягать на мать» Гамлет нарушает в тот самый момент, когда Призрак только-только успел исчезнуть. Гамлет восклицает: «О женщина-злодейка!» — и судьба Гертруды волнует его не менее, чем судьба Клавдия и его собственная.
Брюнетьер, стремясь вслед за Сент-Бёвом и И. Тэном придать строгость науке о литературе, переносил в нее идеи, принципы и методы естествознания (к тому же в позитивистском их осмыслении). Теорию зарождения и гибели литературных жанров, по справедливому замечанию Яна Бора, ему «внушил» Дарвин[341]. В «Законе драмы», как его сформулировал Брюнетьер, — сплав позитивистских, социал-дарвинистских воззрений с шопенгауэровским волюнтаризмом, лишенным здесь, однако, всей зловещей, «темной» окраски и истолкованным в духе позитивистской веры в непрерывный общественный прогресс.
Как известно, позитивизм — реакция на «метафизические» построения немецкой «идеалистической» философии — отказывался от поисков сущности вещей, ибо «мы не знаем ни сущности, ни даже действительного способа возникновения ни одного факта»[342].
Родоначальник позитивизма О. Конт полагал, что на научной, позитивистской стадии человеческое мышление вовсе отказывается от бессмысленного стремления познать сущности, без которых вполне можно обойтись, сосредоточившись на научном изучении лишь мира явлений, доступного чувству и уму.
Руководствуясь «здравой» философией, новое искусство, подобно науке и промышленности, будет подчинять все свои замыслы системе законов реальности. «Здравая философия» должна обогатить не только науку, но и искусство. Конт полагает, что искусству благоприятствуют «устойчивые формы» общественной жизни. В своей эпохе Конт видит наступающее торжество позитивного строя, когда развивающиеся общественные связи станут вместе с тем «глубоко устойчивыми»[343].
Соответственно этой «философии» в общественных отношениях господствует эволюция. Люди «фатально» склонны расходиться в чувствах и интересах, что благоприятствует общественному развитию, но государство способно умерять эти склонности, чем и определяется прогресс. Если диалектика ориентируется на вскрытие противоречий и радикальные преобразования общественной жизни, пишет И. Кон, то «позитивизм, с его преклонением перед «данным», неизбежно становится оправданием того, что уже существует»[344].
Сближаясь с позитивизмом, социал-дарвинизм стремится объяснить социальную эволюцию как продолжение и развитие эволюции биологической. Главную движущую силу общественных конфликтов социал-дарвинизм видел в природных желаниях человека, дополняемых его осознанными целенаправленными действиями, вызванными «борьбой за существование», — она стимулирует эволюцию, но и «умеряет» ее ход, придавая общественной жизни необходимую устойчивость.
Взгляды Ф. Брюнетьера на конфликт в драматургии — не более чем вариация на темы позитивизма и социал-дарвинизма. Цели героя драмы лишаются духовного, «метафизического» содержания и стимулируются чувственными побуждениями и желаниями, «реальными» человеческими потребностями, не ставящими героя перед нравственными проблемами, перед необходимостью выбирать между сущим, недолжным и должным.
Позитивизм относил все не укладывающееся в пределы «здравого смысла» и рассудка к области устаревшей «метафизики». По Брюнетьеру, герою драмы незачем задаваться «нерациональными», сверхрассудочными, «безумными» целями. Драма, если поверить Брюнетьеру, призвана рисовать борьбу людей, одержимых сугубо эгоистическими, мелкими интересами, не имеющими касательства к движению истории и ее противоречиям. Вопрос о душевной, о духовной природе человеческой воли, столь существенный для Гегеля, Брюнетьер игнорирует.
В «Законе драмы» речь идет о сугубо прагматических хотениях персонажа из драмы интриги[345]. Как известно, сей персонаж действительно ставит себе осознанные цели, и когда у него не ладится, он имеет возможность одни средства борьбы заменить другими, более перспективными, и в итоге добивается своего, приспосабливаясь к обстоятельствам и приспосабливая их к себе — как это происходит, скажем, в «Стакане воды» Скриба или в «Соломенной шляпке» Лабиша.
Драма без действия?
(Б. Шоу, Л. Андреев, А. Арчер)
1. Мысль о борьбе примитивно целеустремленных воль как основе действия в конце XIX века никак не соответствовала практике «новой драмы», все более утверждавшейся на театральной сцене.
По существу, именно эту мысль в своей «Квинтэссенции ибсенизма» (1890–1913) оспаривал Б. Шоу. Правда, при этом он разделался не только с волей как движущей силой поведения персонажей, но и умалил, предельно принизил значение действия, которому Аристотель, Лессинг, Гегель, Белинский и другие теоретики придавали первостепенное значение как структурообразующему принципу драматургии.
Г. Ибсен, а затем Г. Гауптман, М. Метерлинк, А. Стриндберг и А. Чехов по-своему поставили теорию драмы перед лицом фактов, казалось бы разрушавших ее традиционные представления о действии, сюжете, диалоге, конфликте.
Шоу, еще в начале этого процесса, попытался, так сказать, «с ходу» разрешить эти проблемы, основываясь на опыте Ибсена. Автор «Кукольного дома», утверждает Шоу, отказался от присущей традиционной драматургии погони за «действием». Шоу придает первостепенное значение тому, что в последнем акте Нора «прерывает свою эмоциональную игру» и обращается к мужу с заявлением: «нам надо сесть и обсудить все, что произошло между нами». В проблемной пьесе Ибсена главным «техническим приемом» стала «дискуссия».
Если здесь она занимала всего десять минут, то в других ибсе- новских пьесах она вышла за пределы финала и, с самого начала сплетаясь с действием, чуть ли не вытеснила его вовсе. Избегая «старых катастрофических развязок елизаветинской трагедии», завершая пьесу дискуссией, Ибсен «покорил Европу и основал новую школу драматического искусства». Отныне сцене не нужны «какие-нибудь дурачества», именуемые «действием»; теперь «пьеса без спора и без предмета спора уже больше не котируется как серьезная драма»[346], писал Шоу, по существу отстаивая появление на сцене «драмы идей» со столкновением мнений и взглядов на жизнь.
Разумеется, выступая противником увлечения «действием», Шоу имел в виду «хорошо скроенную пьесу», о которой он многократно отзывался с презрением, называя ее авторов «беззастенчивыми» дельцами». Однако Шоу оказался прав по отношению к «Кукольному дому» и «Привидениям» — ведь здесь идейная борьба завершается именно катастрофической развязкой: «узнавание» того, что собой реально представляет Хельмер, и нормы, которым он лицемерно следует, побуждают Нору порвать со своим столь любимым домом. Для Хельмера этот уход тоже катастрофичен. В течение всего обостряющегося действия нарастает катастрофа, завершаясь «выяснением отношений» между супругами, после чего Нора «хлопает дверью».
Дискуссия в произведениях «новой драмы» действительно занимает все более важное место, но не отменяет ни действия, ни катастроф. Здесь коллизии порождаются не борьбой воль, а тревожным «обменом» мыслями и переживаниями, дискуссией, связанной с событиями, с переломными моментами в жизни персонажей. А для подлинного выяснения смысла сложившихся отношений и от Норы, и от фру Апьвинг требуется незаурядная интеллектуальная воля.
Ибсеновские герои движутся через душевные испытания к постижениям и решениям, добывая их ценой страдания, подчеркивает В. Г. Адмони в своей книге об этом драматурге. Ибсен действительно возвращает западной драматургии героя интеллектуально-волевого. Ретроспективно-аналитическое построение его пьес, где важное место занимают «узнавания», порождающие эмоциональные потрясения, ведет не только к срыванию личин и фальшивых масок с людей и их отношений, но и к порождению в процессе анализа и самоанализа активного интеллектуального воления.
Шоу писал по преимуществу о «технике», но реально, разумеется, речь шла о вопросах эстетических — о том, что на смену элементарной борьбе воль, порождающей острое, но лишенное глубины действие, драме надлежит изображать борьбу идей, «прояснение» сознания действующих лиц. Но воздавал ли Шоу должное тому, что в «новой драме» сознание проясняется катастрофически?
Шоу недооценивал проблемно-катастрофическое наполнение «новой драмы». Выдвигая на первый план «дискуссию» как структурообразующий принцип драматургии рубежа веков, Шоу-теоретик упустил из виду, что уже в античной трагедии действие неотделимо от «дискуссии» и катастрофы. Ведь завершающая часть знаменитой трилогии Эсхила — «Эвмениды» — представляет собой дискуссию, схватку идей, в которую вовлечены Аполлон и эринии. В «Антигоне» Софокла дискуссия, идейный спор между героиней, Креонтом, Гемоном, на протяжении трагедии все обостряющийся, предстает как противоборство разных ценностных ориентаций и становится структурным стержнем действия. Уже тут «дискуссия» становится одной из разновидностей драматического действия, чреватого катастрофой.
Не так давно, в связи с постановкой «Гедды Габлер» (театр им. Моссовета, 1984) было сделано категорическое, но весьма обоснованное заявление: ««Новая драма» — пьесы-катастрофы»[347]. Стало быть, вопреки утверждениям Шоу, Ибсен вовсе не пренебрегает «всеми старыми приемами», а использует их по-своему. Ни он, ни другие драматурги-новаторы той поры не могли вовсе отказаться от опыта (в частности — «технического»), накопленного драматургией в веках. Они усваивали этот опыт, но распоряжались им в своих видах и целях, стремясь решать коллизии и конфликты своего времени. Ибсен использовал и опыт «хорошо скроенной пьесы», господствовавшей во Франции в XIX веке.
2. К не менее, а может быть, и более озадачивающим выводам, чем Шоу, приходила русская критика, растерянная перед новаторской природой «новой драмы», в особенности чеховской, и одновременно потрясенная ее успехом на сценических подмостках.
Сам Чехов отвергал «консерватизм формы» современной ему репертуарной пьесы с ее «дешевой моралью». Его отвращали «пошлый язык и пошлые, мелкие движения»[348], коими изобиловала драма, заполнявшая сценические подмостки. Он полушутливо радовался, что «инстинктивно» уловил законы сцены. В письме В. Тихонову (1889) он сообщает о своем стремлении, аккуратно посещая театр, «воспитывать себя сценически»[349]. Вместе с тем он все более ощущал, что в своей драматургии порывает с некими устарелыми традициями. Работая над «Чайкой», он признавался: «…страшно вру против условий сцены». В пьесе «мало действия»[350].
Если Чехов ограничивался определением «мало», то критика констатировала полное отсутствие действия в его пьесах. Возникшую проблему глубже других сформулировал в 1911 году С. Волконский, рецензируя премьеру «Живого трупа» на сцене МХТ. Восторгаясь спектаклем, он пишет: «пьесы нет». И в самом деле, спрашивает он, где «драма» в настоящем, классическом смысле слова? «Человек гибнет, но «борьбы» никакой; это не «действие», это долго <…> длящееся «положение», из которого один исход — выстрел». Чрезмерная длительность изображенного «положения» утомительно влияет и на зрителя, и на исполнителей, в особенности на И. Москвина, своей игрой стремящегося динамизировать «отсутствие движения в характере» Феди[351].
Пусть Волконский берет слова «борьба», «действие» и «драма» в кавычки, выражая тем самым определенное сомнение в том, как их толкуют критика и теория. Все же он ставит эти понятия в единый ряд. А отсутствие всех названных особенностей Волконский объясняет тем, что «в калейдоскопе выхваченных из жизни моментов отсутствует «драматическая причинность»». Видимо, в чеховских пьесах критика тоже нашла привычной «драматической причинности». Но у Чехова эта причинность (как и в «Живом трупе») «скрыта». Не уловив этого, критика в большинстве своем констатировала отсутствие в его пьесах действия, связывая это с безволием персонажей — не то упрекая их в этом, не то оправдывая это отсутствие воли.
Наиболее дальновидные критики ассоциировали новаторские особенности драматургии Чехова со специфической проблематикой, порождаемой общественными противоречиями нового века. Так, по мысли М. Неведомского, в пьесах Чехова отразилась эпоха, когда «всюду проникавшая опека правительства душила все зачатки нового». Итогом этого «удушения» предстает внутренняя, психическая и практическая «несостоятельность» лиц, населяющих пьесы Чехова, пребывающих в скудеющих дворянских гнездах. Это «бессилие воли», «отсутствие глубины воли» ведет к непрочности, переменчивости психических состояний»[352]. В неустойчивых состояниях не сразу можно было распознать психологически насыщенную внутреннюю жизнь, непрерывную поисковую активность, присущую каждому персонажу.
Почти одновременно со статьей Неведомского появилась статья Ю. Айхенвальда, констатирующего: в «Вишневом саде» все пассивны, все только страдают, поскольку в пьесе «нет действия, почти нет действующих лиц». Вместе с тем критик увидел здесь «живые, незабываемые лица, живые души, одинокие и печальные». Критик одобряет в Чехове его стремление изображать людей «не делающих»: они «погружены в неделание, ибо не расчищают себе дороги в сутолоке человеческого торжища, они не толкаются».
Обращаясь к вопросу о воле, так или иначе занимавшему науку о драме в течение веков, Айхенвальд обнаруживает, что воля — феномен далеко не однозначный. Критик не упрекает персонажей Чехова в том, что «воля, направленная на внешнее дело, тихо дремлет у них». Зато в их внутреннем мире «не умолкает, не засыпает пытливая мысль и тонкое, нежное чувство». Пусть они «не деятели, но уж во всяком случае они и не дельцы, не практики». Они воплощают в себе «лучшее свойство человечества… — духовную жажду». % За каждым из этих персонажей «виднеется в перспективе внутренняя драма», объединяет их «страдание»[353]. Айхенвальд мог бы сказать, что «неделание», таящее в себе активное неприятие окружающей жизни, тоже представляет собой своего рода действие. А страдание? Не следует ли его считать действием? Мы слишком упрощаем это понятие, толкуя его как «делание», не учитывая того специфического преломления, которое оно, в отличие от действия в реальной жизни, приобретает в драматургии вообще и в разных ее типах — в частности.
В героях чеховских «пьес с настроением» А. Белый обнаруживает «бездны духа»[354]. Сочетая понятную для всех форму с дерзновенной смелостью новатора, Чехов рисует персонажей, которые «чего-то недосказывают» и при всей своей реальности приобретают символический смысл. Чехов скрывает за этими свойствами своих персонажей «переживание», а оно — личное, коллективное — единственная реальность. Эти переживания связаны с нависающим над персонажами Чехова «роком», как это происходит в «Вишневом саде». Белый проницательно толкует этот «рок» как проявление крутых и роковых перемен в русской жизни. Но разве дело в одном лишь «нависающем» роке? Ведь в поведении чеховских персонажей и их меняющихся взаимоотношениях сказывается особого рода активность, определяющая их судьбы не менее, чем роковая общерусская ситуация. Если, по Белому, в чеховских пьесах доминирует дух, то это не пассивный, а активный, ищущий дух. Это дух действующий и общительный, а не погруженный в себя.
Отсутствие действия в пьесах Чехова очень интересно и для своего времени показательно обосновывал Л. Андреев. Он высказывался на эту тему несколько раз, обобщив свои суждения в двух «Письмах о театре», где учтены и новаторские идеи М. Метерлинка, и опыт других создателей «новой драмы».
Л. Андреев полагал, что «нужно сбросить с драмы оковы невольной схоластики и мертвящей догмы»[355]. Перед театром можно ставить любые задачи эстетического, политического и философского характера, но для этого необходимо полностью реформировать драму[356].
Во втором «Письме о театре» (1913) Андреев увидел в пьесах Чехова «эпитафию» целой полосе русской жизни. В «Трех сестрах» эту эпитафию он ощутил в «мощном настроении» этой пьесы, в котором звучит не только «отчаяние», но и тоска по лучшей жизни. В этом отзыве начисто отсутствуют ключевые для теории драмы понятия «борьбы», «свободной воли» (шопенгауэровской «злой воли», брюне- тьеровской «деловой воли»). Нет и гегелевского понятия «определенной цели», воодушевляющей героя и стимулирующей его акции-реакции. Но пресловутое «настроение» — и это весьма существенно — предстает у Андреева как понятие сложное.
Речь идет о настроении «мощном», в котором доминирует «отчаяние». А ведь оно, отчаяние, свидетельствует не о слабости, а о силе чувства. Когда оно еще и связано с «тоской», с надеждой и верой, то оказывается, что «настроение» способно вместить в себя полярные чувства и душевные переживания, определенным образом окрашенные и направленные к осуществлению определенных же стремлений. В первом «Письме о театре» (1911) Андреев поднимает вопрос, столь безапелляционно решенный Шоу: «Нужно ли театру действие в его узаконенной форме поступков и движений по сцене?» Ответ гласит: «В таком действии нет необходимости постольку, поскольку сама жизнь, в ее наиболее драматических и трагических коллизиях, все больше отходит от внешнего действия, все больше уходит в глубину души, в тишину и внешнюю неподвижность интеллектуальных переживаний». Андреев полагает, что драма начинается тогда, когда «в жизни воцаряется бездействие». Ныне она отстает от жизни, ибо «жизнь ушла внутрь, а сцена осталась за порогом»[357].
В свое время «действие и зрелище» породили театр, «ныне они становятся его убийцами». Это чувствует МХТ: каждой новой своей постановкой он «обесценивает действие». Пусть МХТ в этом не всегда последователен, но обновить театр может лишь обновление драмы, которой предстоит стать не драматургией действия, а «психологии и слова». Развиваясь в этом направлении, театр должен следовать роману, сила которого была в «свободе от действия и зрелища»[358].
Как видим, психологию Андреев понимает слишком «обобщенно», не задумываясь отождествляет романную психологию с драматургической. Оспаривая Андреева, следует учесть, что герой романа способен, между прочим, к такому «самонаблюдению», самооценке, самообсуждению, когда все это остается «вещью в себе» и «для себя». Об этих психологических процессах во внутреннем мире романного героя мы узнаем и соучаствуем в них благодаря повествованию, обладающему чудодейственной возможностью их «узнавать» и нам о них «сообщать».
Совсем по-иному психологические процессы «протекают» во внутреннем мире героя драматургии. Здесь внутреннее, скрытое непременно тут же открывается в процессе общения. Здесь «самонаблюдение» неотделимо от пристрастного, агрессивного, доброжелательного или равнодушного «взаимонаблюдения» и взаимновоздействия. Здесь психология порождается и стимулируется активным, вольным либо невольным общением. Здесь психология обнажает себя в диалоге, который представляет собой главную составляющую драматургической образности. Переживания порождаются и тут же открываются самому персонажу и другому лицу одновременно.
Но вернемся к Андрееву. Пусть, говорит он, события в жизни и «не прекратились», но их «драматургическая ценность понизилась». Наряду с «вечными» героями драмы «встал новый герой: интеллект». Если для Шоу важна борьба идей, межличностная дискуссия, то Андрееву нужны психология и интеллект, но вовсе погруженные в себя. Во втором «Письме» Андреев отказывается от определения «театр настроения» и называет его «театр панпсихический», считая, что оно более точно выражает специфику новой драматургии. Следует, наконец, пренебречь требованиями «действия и зрелища» ради изображения современной души, «утонченной и сложной», настаивает Андреев. Надо разрушить Бастилию верности «действию и зрелищу», ибо ее существование чревато гибелью как драматургии, так и публики. Зримое действие, зрелище должны покинуть сцену и поступить в распоряжение кинематографа, где они теперь могут найти себе достойное пристанище.
Что же останется от современного театра, лишившегося действия и зрелища? — спрашивал Андреев в конце первого своего «Письма». Отвечая на этот вопрос во втором, автор ориентируется прежде всего на опыт чеховской драматургии. «Чехов одушевлял все» — людей, пейзаж, стулья, стаканы и квартиры. Вместо «действия и зрелища» в его пьесах на первом месте — «единая душа». Не только люди и вещи — самое время в пьесах Чехова одушевлено: «время есть только мысль и ощущение героев».
До Чехова драматургия тоже обращалась к психологии и душе, но там все же преобладало «действие и зрелище», «игра в прямом и тесном смысле слова». Андреев, естественно, приходит и к отрицанию «игры», а Чехова «не играет». Он делает нечто другое, для чего «мы еще не имеем точного и признанного термина», утверждал Андреев.
Не только романную психологию с драматургической отождествляет Андреев, но и романное слово с драматическим. Такое отождествление опять же неправомерно. В обмене репликами, в процессе говорения персонажи драматургии непрерывно творят и перестраивают складывающиеся ситуации, ибо слово в реплике — слово-действие и слово-воздействие. Диалогическое общение — подлинное, мнимое, гротескное, пародийное — залог того, что, как бы театр ни обновлялся, существуют некие незыблемые закономерности драматургии, проявляющие себя во все времена.
Показательный факт: чеховская драматургия побуждает Ю. Айхен- вальда, А. Белого, J1. Андреева резко порвать с позитивизмом и его представлениями о человеке. В литературе о Чехове обнаруживается возврат к проблемам «метафизическим», к вопросу о «душе» и «духе». Этот процесс в театральной критике в сильной мере отражает процесс развития русской религиозной критики философии на рубеже веков, а затем в первой половине нашего столетия.
Если Андреев связывает обращение Чехова к проблемам «духа» с его отказом от действия, в котором критик видит не более чем «зрелище», то другие критики еще при жизни драматурга находили в его пьесах не только действие, но и катастрофы, которыми оно чревато. «Хорошо сделанная пьеса» вовсе отказывалась от катастрофы, а драматурги рубежа веков создают сугубо действенные «драмы-развязки», представляющие собой «одну только катастрофу», утверждает Е. Аничков, ссылаясь на «Привидения» и другие пьесы Ибсена, на «Микаэля Крамера» Гауптмана, на пьесы Метерлинка.
Подробно критик разбирает с этой точки зрения «На дне» Горького — драму, сконцентрированную на цепи катастроф. Говоря о Чехове, он отметил, что в своем «Дяде Ване» тот позволил себе, доведя дело до катастрофы, «перенести ее из последнего акта в предшествующий». Свободно с ней обращаясь, драматург ее сохраняет. В «Микаэле Крамере» катастрофа тоже перенесена в предпоследний акт, «а в «Fille Elise»[359] катастрофой и начинается собственно драма»[360]. Эти давние, но важные наблюдения последующей критической мыслью не были ни оценены, ни освоены.
3. С прямым опровержением представлений об элементарно-волевой природе действия выступил критик и теоретик В. Арчер в своей работе «Драматическое и недраматическое» (1912), где он стремится учесть опыт «новой драмы». Арчер высказывает ряд ценных соображений, характеризующих динамику действия, толкуя его процесс как цепь кризисов. Он упрекает Брюнетьера в том, что его утверждениям противоречат многие великие пьесы, в то время как огромное число приключенческой беллетристики вполне им соответствует.
Где, спрашивает Арчер, борьба в эсхиловском «Агамемноне»? Борется ли здесь царь впрямую с кем-нибудь? Нет. Переживает ли внутреннюю борьбу сама Клитемнестра? Опять же нет. Борется ли Отелло с Яго? Ведут ли «волевую» борьбу с обстоятельствами Отелло и Дездемона? В «Отелло» волей к достижению цели, полагает Арчер, одержим один лишь Яго.
Разумеется, по отношению к Отелло и Дездемоне Арчер неправ. С Яго они действительно «не борются». Но если тот одержим определенной целью, направленной против конкретных лиц, то ведь Отелло с Дездемоной, в свою очередь, притязают на многое, нарушая принятый в окружающем их мире порядок вещей и пытаясь отстоять иной. По существу, они действуют во имя некоей цели — великой и в наличных обстоятельствах недостижимой, но связывать их поведение всего лишь с проявлениями воли значило бы донельзя упростить художественную концепцию трагедии Шекспира.
Оспаривая мысль Брюнетьера о драматизме, порождаемом борьбой воли с обстоятельствами, Арчер справедливо пишет, что, по Брюнетьеру, драматизм надо искать не в «Гамлете» и «Лире», а в «Робинзоне Крузо».
Поединок воль, соглашается Арчер, может создавать острые ситуации. Но трудно назвать пьесу, построенную только на этом. Даже в тех случаях, когда подобные поединки имеют место, им посвящены отдельные сцены, но не целые пьесы. Мысль Арчера можно подтвердить такими сценами, как Мария — Елизавета в пьесе Шиллера или Марина — Самозванец в «Борисе Годунове». Но в этих же пьесах такого рода эпизоды существуют в контексте иных сцен, отличающихся иными, сложными отношениями действующих лиц, отношениями, не сводимыми к элементарной борьбе.
Арчер ссылается на сцены пира в «Макбете», смерти Клеопатры в пьесе Шекспира, на эпизод перед занавесом в «Школе злословия». Они в высшей степени драматичны, но ведь тут нет никакой борьбы воль. Мы можем в подтверждение этой мысли Арчера сослаться на сцену у балкона в «Ромео и Джульетте», исполненную высокого драматизма, основанного не на борьбе воль, а на устремленности героев друг к другу, на перипетиях, рождаемых нарастающим между ними взаимопритяжением и взаимопониманием.
Не имеет смысла, считает Арчер, рассматривать конфликт как выражение борьбы, основываясь на элементарном представлении о человеке, которому будто бы по натуре свойственно враждовать с себе подобными существами. Наивен и тот «метафизический» аргумент, к которому прибегает Брюнетьер (хотя он и стремился избегать «метафизики»), доказывая, что человеку изначально присуща ницшеанская «воля к власти». Такая «воля» вовсе не является единственным выражением человеческого духа ни в жизни, ни в драматургии, полагает Арчер.
Он отказывается сводить конфликты в драматургии к борьбе воль. И это для теории драмы самое важное во взглядах Арчера. Но он вообще готов счесть ненужным самое понятие «конфликт». Драматическое действие, по его мысли, основано не на конфликте, а на сдвигах и кризисах в отношениях между персонажами. В отличие от повествовательных жанров, где судьбы героев складываются в ходе постепенного развития событий, в драматургии нет этой постепенности: ее вытесняет цепь кризисов-переломов, своеобразных взрывов, более или менее стремительно следующих друг за другом[361].
Однако вопрос о том, чем вызывается эта «цепь кризисов», т. е. как в каждой пьесе преломляется онтологическая сущность драматургии, по каким причинам и ради чего происходят кризисы, Арчер не только оставляет без ответа, но даже и не ставит. Полемизируя с Брюнетьером, Арчер, по существу, принимает идею господства в мире абсолютной необходимости, парализирующей волю[362]. Но, как это обосновывается в наших «Лекциях», драматургия отвергает представление о полной детерминированности Человека обстоятельствами. Она всегда ставит своих героев в ситуации, где им надлежит «выбирать», принимать решения, то есть проявлять свободную волю (разумную — по Канту, интеллектуальную — по Гегелю, иррациональную — по Шопенгауэру и Ницше) и в итоге нести ответственность за свои действия-поступки.
Арчер вообще не верит ни в брюнетьеровский «закон», ни в наличие неких «основных принципов», определяющих существование драматургии, да и других родов искусства. С его точки зрения, «драматическое» — это такое изображение лиц, которое вызывает «интерес» зрителя. Так Арчер предвосхищает тех зарубежных теоретиков драмы второй половины XX века, что поглощены не столько вопросом о специфическом содержании драматургии, сколько ее способностью «дирижировать» чувствами зрителя. В таких работах на первый план выступает проблема восприятия пьесы и спектакля публикой. Вопрос о том, что же представляет собой «дирижирующая» нашими чувствами пьеса и как в ней конкретно-исторически преломляются общие принципы драматургии, отодвигается на второй план, поскольку он трудноразрешим.
Новое в старом
(Ф. Ницше, Т. Манн, Б. Снелл)
Разумеется, разноречивые толки об «отсутствии действия» в западной «новой драме» и в пьесах Чехова, осуждение или одобрение этого обстоятельства вызваны к жизни серьезными причинами. Видимо, опыт этой драматургии потребовал переосмысления самого понятия «драматическое действие» как применительно к энергии, проявляемой персонажем, так и к той, что движет весь драматический процесс. Стимулировать переосмысление этого понятия, ключевого для «Поэтики» Аристотеля, для теории драмы Лессинга, Гегеля,
Белинского, — одна из главных задач данных «Лекций». Стремясь очистить это понятие от упрощающих его наслоений, можно опереться на весьма важные наблюдения и даже выводы, к которым теория драмы по разным причинам не проявляла и по сей день не проявляет должного внимания.
Как справедливо говорит Д. Лихачев, не только культура прошлого влияет на современную культуру, но происходит и «процесс открытия нового в старом»[363]. Это относится и к интересующей нас проблеме. Неожиданное и весьма плодотворное понимание природы драматического действия было в свое время выдвинуто Ницше. Одна из его мыслей помогает рассеять многое в тех недоумениях и недоразумениях, что сказались в критике, столкнувшейся с драматургией Ибсена, Метерлинка, Чехова и других драматургов тех лет. Пусть Ницше с его «волей к жизни» и сыграл определенную роль в создании брюнетьеровской модели драмы как «борьбы воль». Но суждения Ницше по вопросам драматургии противоречивы. Французский теоретик обошел либо вовсе не был знаком с теми наблюдениями и утверждениями Ницше, которые не вписывались в позитивистскую, социал-дарвинистскую теорию драмы.
Как нам известно, предпочтение дионисийского начала античной трагедии было у Ницше связано (разумеется, сложным образом) с его неприятием современного буржуазного общества и его ненавистью к той практической деятельности, в которую с головой погружен современный индивид. «Делячество» (если применить современное слово), всяческая предприимчивость воспринимаются философом как противоречащие глубинным запросам человеческого бытия. В этом отношении Ницше следовал за Шопенгауэром, благодаря которому «европейская философия впервые осознанно поставила под сомнение идеал деятельного и социально-активного индивида»[364].
Отрицая буржуазный практицизм, осуждая гегелевскую веру в «государство», считая его чудовищем, подавляющим личность, Ницше говорил о реальных противоречиях общественной жизни своего времени. В известной мере «проецируя» свое отношение к современности на античную эпоху и античную трагедию, Ницше разглядел и «дионисийское» мировосприятие, родственное ему самому. Оказалось, что «дионисийский человек» относится с отвращением к повседневной действительности, отнюдь не побуждавшей его к действию. В этом смысле, писал Ницше уже в ранней своей книге, дионисийский человек подобен Гамлету: обоим пришлось некогда поистине заглянуть в сущность вещей, они познали, и действовать стало им противно, ибо их поступки ничего не могут изменить в сущности вещей.*
Герой трагедии не жаждет укреплять расшатанный мир, ту жизнь, что вызывает ужас таящимся в ней злом. Познание, говорит Ницше (не рефлексия, а именно познание), «убивает действование». Прозрение страшной истины бытия «перевешивает всякий к поступку побуждающий мотив, как у Гамлета, так и у дионисийского человека». Потому-то в античной трагедии играл важнейшую роль поющий хор — неподвижный и бездействующий, но музыкально постигающий сущностные первоосновы жизни.
В трагедии, сожалеет, как мы знаем, Ницше, главным средством выразительности становятся уже не музыка, а слово, диалог, уступающие ей в глубине постижения сути бытия. Однако в устах ее героев слово менее всего служило тому, что впоследствии стали понимать под действием.
Основу трагического действия составляют те великие риторическо-лирические сцены, где страсть и диалектика главного героя разрастаются в широкий и могучий поток. К пафосу, а не к действию подготовляло все: что не служило этой цели, то считалось негодным»[365]. Эти мысли молодого Ницше позднее высказаны им еще более категорически (правда, мимоходом) в статье, направленной против своего прежнего кумира — Р. Вагнера («Fall Wagner» — «Случай Вагнера»).
Критикуя его в 1886 году за пристрастие к театральщине, к сценам, сшибающим с ног, представляющим собой «действительное actio», философ высказывает мысль, относящуюся уже не только к Вагнеру и его операм. Она имеет более широкое значение. Приведем ее полностью: «Было истинным несчастьем для эстетики, — говорит Ницше, — что слово «драма» всегда переводили словом «действие. Не один Вагнер заблуждался в этом; заблуждаются еще все; даже филологи, которым следовало бы знать это лучше».
Античная драма, настаивает Ницше, имела в виду великие сцены патоса — она исключала именно действие (переносила его за сцену). Слово «драма» дорического происхождения. Оно означает «событие», «историю», оба слова в иератическом смысле. Речь должна идти не о делании, а о совершении: δραν вовсе не значит по-дорически «делать»[366].
Ницше говорит не о гегелевском «пафосе», а об аристотелевском патосе, о δραν, противопоставляя его действию-деланию. Для Ницше важнее кажущееся «бездействие», т. е. моменты переживания героем глубинных противоречий бытия. Ницше нужен не Handel (происшествие, ссора, поступок, цель, торговля), а бурное страдание. Ницше прав: о таком именно действии-страдании говорит Аристотель, называя части, составляющие фабулу: перипетия (перелом), узнавание, страстное страдание[367].
Стремление Ницше вернуть понятию «действие» тот глубокий смысл, который оно имело в античной трагедии, было поддержано спустя два десятилетия Т. Манном в его «Опыте о театре» (1908). Писатель противопоставляет роман как порождение «чистой духовности», воздействующей «вне чувственной сферы», театрально-драматическому искусству, которое «по своей природе обращено к чувствам массы». Тут дают себя знать элитарные тенденции молодого писателя. Разумеется, роман не относится к сфере лишь «чистой духовности», драматическое не ограничивается лишь изображением эмоций и чувств. Вместе с тем Манн по-своему воздает театру должное: являясь «простодушным и в то же время возвышенным развлечением», театр выполняет «высочайшую миссию, обращая бесформенную толпу в народ».
Одной из причин, препятствующих театру выполнять свою миссию, Манн считает «недоразумение» по поводу греческого понятия «драма», ошибочно переводимого словом «действие». Он тоже, вслед за Ницше, выясняет этимологию этих слов. То, что мы в наше время разумеем как «действие», как action, античная драма выносила за пределы сцены, представляя зрителю «патетический диалог, лирическое излияние, действие о чем-то, одним словом — речь», пишет Манн. Он ссылается на Расина и Корнеля, избегающих «действия» в привычном, упрощенном толковании этого понятия, сосредоточенных на анализе переживаний, на монологах героев, связанных с некими досценическими и внесценическими акциями. Ибсен тоже начинал свои пьесы там, «где действие было уже закончено», — говорит Манн, солидаризируясь здесь с Б. Шоу[368]. Нетрудно заметить в этих ссылках и рассуждениях полемические крайности, свойственные как Шоу, так и Ницше и Манну. У Ибсена (как, впрочем, и в «Царе Эдипе») лишь часть событий совершается за сценой, а их % напряженная развязка происходит на наших глазах и обращена не только к анализу совершившегося ранё£, но и к радикальным переменам, переломам во взаимоотношениях и судьбах действующих лиц, происходящих сегодня, в настоящем времени. Здесь кризисы и катастрофы связаны не только с тем, что свершилось в прошлом, но и с тем, что происходит с действующими лицами во времени настоящем, ставящем героев в драматические ситуации выбора и волеизъявления.
Упрекая современную драму в подражании роману приключений, в демонстрации неутомимого действования и, тем самым, в измене своей сущности, Манн был во многом прав. Ход его мыслей часто совпадал с размышлениями и М. Метерлинка, и JT. Андреева, выявивших новые тенденции в театральной практике рубежа веков.
Надо освободить действие от излишней и бесплодной динамики, призывает Манн. Это повлечет за собой не его обеднение, а одухотворение. В этих рассуждениях можно обнаружить зачатки идей, получивших свое развитие в замечательных работах Вяч. Иванова и иных деятелей театра XX века. Говоря о необходимости превратить действие в «действо», требуя возвращения драмы театра к символике, обрядности и ритуалу, Манн перекликается не только с Вяч. Ивановым, но и предвосхищает идеи Антонена Арто и его последователей, хотя те исходили из иных представлений о задачах театра.
Время, разумеется, показало, что современный театр не может, хотя иногда и пытается, вернуться к «действу», к «ритуалу»; ему нужны развивающиеся диалогические отношения между лицами, совместно решающими острейшие проблемы своего существования, стимулирующие их выбор и ответственность за этот выбор. Но требование одухотворить театр остается одним из самых актуальных в наши дни, когда успех часто имеют ремесленные поделки, выдаваемые за драматургию.
Ницше, а затем Т. Манн, в своем стремлении вернуть понятию «действие в драме» его исконный смысл обратились к этимологии этого слова. Через двадцать лет после Манна вопрос об истинном значении «действия» в античной трагедии оказался в центре исследования немецкого филолога Б. Снелла «Эсхил и действие в драме»[369].
К этой работе Снелла привлек наше внимание В. Ярхо. Излагая мнение немецкого ученого, он писал: «У нас принято переводить термин «драма» словом «действие», хотя, если говорить о действии в физическом смысле, то его гораздо больше в одной песне «Илиады», чем во всех трагедиях Эсхила, вместе взятых». Глагол «дран», пишет Ярхо, от которого происходит «драма», обозначает «действие как проблему, охватывает такой отрезок во времени, когда человек решается на действие, выбирает линию поведения и вместе с тем принимает на себя всю ответственность за сделанный выбор». Такое употребление данного глагола соответствует общей направленности аттической трагедии, для которой «центральной становится проблема выбора человеком линии поведения»[370].
Идеи Снелла заслуживают более подробного изложения. Его наблюдения и выводы не только проясняют не всегда ясные формулировки автора «Поэтики», но и развивают мысли Аристотеля в свете опыта, обретенного драматургией нового времени, способствуют выяснению того, что именно Стагирит понимал под действием.
Выявляя проблемные «составляющие», важнейшие элементы эсхиловской трагедии, связанные с ее коллизиями, Снелл побуждает нас обратиться к первоистокам поэзии драматической, к ее изначальной проблематике. Нам в XX веке крайне необходимо ее «осваивать», если мы хотим представить себе заложенные в драматургии возможности, реализация которых началась в античности и продолжается по сей день с большим или меньшим успехом.
Существенный интерес представляет мысль Снелла о том, что обращение античной мысли (Сократ, Платон) к личности человека и к его поведению было подготовлено аттической драмой, в частности Эсхилом[371]. В VI веке, полагает Снелл, античная мысль стремилась понять мир, окружающий человека, а не его самого. Затем поэзия (сначала лирическая, позже драматическая), а вслед за ней и философия обратились к постижению сущности индивида и его места в мире. Исследуя значение, которое приобрело у Эсхила слово «действие», Снелл стремился показать, как оно связано с новым пониманием человека и присущих ему возможностей, раскрывающихся в процессе взаимодействия с окружающим его миром и космосом.
Слово «драма», считает Снелл, первоначально вовсе не имело того специфически «динамического» значения, которое оно обрело впоследствии. Обращение к этимологии, выявление духовного содержания, которое обретали в античности глагол «дран» и понятие «драма», — все это позволило ученому глубоко истолковать проблематику «Орестеи» и истинное значение в Лей понятия «действие». В итоге изучения ряда литературных и исторических данных Снелл приходит к выводу, что слово «драма», ранее связанное с религиозном культом, у Эсхила обретает новый смысл, недооцененный в последующие времена и, тем более, не совпадающий со смыслом, который ему начали придавать в XIX–XX веках.
У Гомера глагол «дран» означает либо «обслуживать, прислуживать, делать то, что обыкновенно делали рабы», либо «хотеть, желать что-нибудь выполнить». Впоследствии, претерпев многие злоключения, слово наполняется новым смыслом, ибо в греческом языке все более определяется противоположность между, с одной стороны, «выполнением некоего задания, полным завершением дела», а с другой — «созерцанием, размышлением над ходом событий».
Глагол «дран» стали относить не к уже законченному действию, не к достигнутой цели, а к действию предстоящему. Эсхил уже различает одни действия, завершающие ход событий, от других — побуждающих героя к собственным решениям, чреватым ответственностью. В «Орестее» глагол «дран» употребляется именно в таком смысле.
Нельзя поэтому, настаивает Снелл, отождествлять данный глагол с немецким глаголом «handeln», употребляемым, когда речь идет о деятельности как цепи поступков. У Эсхила этим глаголом обозначается тот решающий момент, когда герою предстоит самому направлять свою судьбу, преодолевать колебания, принимать решение, связанное с раскрывающимся в мире разладом[372].
Если ранее глагол «действовать» означал «взять что-либо на себя» в смысле практического выполнения некоторого чужого задания, то теперь его смысл углубился: «взять что-либо на себя» стало означать решиться на поступок и принять на себя вину и ответственность за его последствия. Так глагол наполняется новым, конфликтным содержанием: одно дело «прислуживать», «исполнять», «осуществлять нечто заданное», и совсем другое дело — проявлять свою волю, принимать собственное свободное решение, идти к нему, преодолевать колебания, предшествующие поступку. Слово это возникает у Эсхила, когда речь идет о разладе, о конфликте между намерениями действующего лица и предстоящими ему акциями. Таким образом, оно «приобретает духовное содержание», все более связываясь с выполнением какого-то задания.
Греки знали три разновидности действия: во-первых, действие, направленное на предмет; во-вторых, преднамеренный поступок, с помощью которого достигается определенная цель (это понимание действия отражается в этике, требующей ясного, однозначного решения, преследующего практически достижимую цель). Третий смысл понятие обретает в трагедии — смысл весьма объемный, неоднозначный, духовно-проблемный.
Исходя из этих толкований, Снелл выявляет различие между действием в эпосе и трагедии. При этом, естественно, ученый обращается к «Лаокоону» Лессинга, где речь идет о гомеровском эпосе, в котором деятельность преобладает над созерцанием, а действие всегда направлено на практическую цель. Самое важное в эпосе — движение к ее достижению.
В центре внимания трагедии — действие иного рода, внутреннее, связанное с преодолением себя или чего-то в себе, с необходимостью принять решение в ответственный момент. Гомеровскому герою путь указывают высшие силы, и потому он не испытывает внутренних конфликтов; для героя трагедии предстоящее действие становится проблематичным[373].
В эпосе рассудительный, знающий человек всегда поступает благоразумно и тем избегает конфликтов. Он может действовать спонтанно, как гневающийся Ахилл, уже выхватывающий меч, чтобы поразить Агамемнона, но тут же остывающий под воздействием богини Афины. У Гомера Ахилл, по существу, никогда не стоит перед проблемой собственного выбора, обращенного в будущее, ибо для гомеровского героя будущее — это всегда сиюминутные требования настоящего и только.
В поведении Одиссея можно обнаружить зачатки некоего внутреннего разлада. Разгневанный, он не знает, как ему быть: броситься ли на служанок или оставить их еще на одну ночь в объятиях женихов, но он весь в колебаниях лишь до появления Афины. Одиссей в своих мечтаниях остается скорее во власти инстинктов, он еще не вступает в сферу борьбы между свободой и необходимостью, требующей от человека собственного решения.
По-иному обстоит дело у героя трагедии. Он во многом усвоил опыт персонажа античной лирики, активно переживавшего собственные противоречивые чувства и постепенно осознававшего свое «я». Благодаря этому у героя трагедии действие неотделимо от раздумья, колебаний и волеизъявлений. Главное достижение афинской трагедии, по Снеллу, то, что в ней действие героя не предстает пол-% ностью обусловленным какой-либо внешней причиной и связано с его внутренним решением. У Эсхила впервые процесс, называемый 6pav, приобрел смысл «принимать решение».
Отсюда и своеобразие построения трагедии с ее диалогом — один из его истоков Снелл находит в лирике Солона, страдавшего не только от возмущающих его несправедливостей, но и от собственных неудач. Возражая на упреки своих врагов, он вводит их высказывания в свой текст. При этом в лирике Солона уже возникает проблема личной ответственности за содеянное, поэтому тут появляются понятия, ставшие ключевыми для Эсхила: «справедливость», «самоусовершенствование», «свобода» и т. п.
У Эсхила с этими понятиями связано самое «действие» — без них оно здесь теряет свой смысл. Трагический герой, в отличие от лирического у Солона, уже не уверен в своей абсолютной правоте. Перед героем «Орестеи» возникает ситуация проблемная, открывающая ему возможность выбора разных решений. Если герой Гомера имеет дело с безликим «оно», к которому он приспосабливается, если в лирике субъект ее не предстает как некое противоречивое «ты», рассматриваемое поэтом как бы со стороны, то герой драматургии уже воспринимает себя как «я», вынужденное принимать решения в противоречивых ситуациях, порождаемых взаимодействием с другими лицами и присущими им устремлениями. Герой Эсхила стоит в ситуации, где настоящее чревато будущим, а мир уже предъявляет разные требования к человеку, каждое из которых по-своему свято.
В стихах Солона нет со страхом обращенного к самому себе вопроса: «Что я должен делать?». У Эсхила этот вопрос составляет вершину его величайшей трагедии и возникает перед затравленным человеком — Орестом, испытывающим ужас от необходимости самому выбирать свой путь. Тут действие уже предстает в глубоко проблемном аспекте, хотя у героя здесь всего две возможности, каждую из которых отстаивает определенное божество.
Снелл, в отличие от Ницше, видит связь «патетических» сцен с «действованием», к которому автор статьи «Fall Wagner» вообще относится пренебрежительно, поскольку в трагедии он ценит лишь моменты потрясения, наступающие вслед за поступком. Снелл же считает первостепенным процесс или «момент» преодоления героем колебаний и принятия решения в противоречивой ситуации.
Трагедия возникает тогда, когда «воля богов» вызывает у гражданина полиса недоумение, ужас, трепет свой противоречивостью, а часто и загадочной, озадачивающей жестокостью.
Отправляясь от идей Ницше, Т. Манна и Снелла, мы можем глубже представить себе, что же именно имел в виду Аристотель, говоря о действии. Э. Бентли полушутя заметил: что такое «действие», об этом Аристотель «умалчивает»[374]. Нет, не умалчивает, ибо действие он связывает с с перипетией, узнаванием и страданием как следствием выбора героем линии поведения, ведущего к «расплате» за совершенные им «ошибки».
Аристотель видел в действии выражение мысли и характера, который он понимал как определенное направление воли[375]. Оказывается, и мысль, и связанную с ней волю герой трагедии проявляет не только в действии-поступке (происходящем за сценой), но и в момент выбора, в переживаниях-страданиях, в колебаниях и сомнениях, с ним связанных. Вместе с тем Аристотель включает в понятие «действие» и момент свершения акции, направленной против другого лица (хотя эта акция и скрывается за сценой).
В античной трагедии поступок предстает как проблема, требующая решения и принятия ответственности на себя, и как деяние, противоречивость которого обнажается во всей глубине лишь после его свершения. Активность героя и предшествует «акции», и проявляется при ее совершении, и, наконец, выражается в тех патетических переживаниях-страданиях после ее свершения, о которых говорил вслед за Аристотелем Ницше.
Античная трагедия в процессе своего развития обогащала понятие «действие». Эсхиловский Орест, несомненно, «затравлен» еще до появления мстящих эриний, затравлен не только страхом перед ожидающими его последствиями, но противоречиями своего сознания, сомнениями и колебаниями, ибо убийство матери для него поступок уже сам по себе страшный, независимо от возможного возмездия. Все же решение он принимает не единолично: тут, во-первых, важную роль играет требование Аполлона; во-вторых, его стимулирует плач Электры и невольниц, воспроизводящих перед ним душераздирающую сцену убийства отца.
Иная ситуация перед нами а «Царе Эдипе». Здесь играют роковую роль предсказания загадочного оракула. Но, во-первых, это не требования, а предсказания. Во-вторых, дерзостное решение не возвращаться в Коринф Эдип принимает вполне самостоятельно, желая избегнуть того, что предсказывает оракул. Никто со стороны его к этому не побуждает и тем более не принуждает. Тут колебания и сомнения он преодолевает самостоятельно, и выбор совершается им по собственной воле.
В античном типе драматургии — здесь более правы и Снелл, и Ницше — важное значение имеет переживание проблемности действия предстоящего и уже совершенного. В шекспировском типе драмы, богатом действиями-акциями, осмысление противоречивости поступка предстоящего, совершаемого и уже совершенного приобретает еще более важное значение, ибо здесь сюжет связан не с одним, а с целым рядом поступков разных героев, со столкновением разнонаправленных интеллектов и воль персонажей.
Античная эстетика и художественная практика понимают под действием колебания-переживания, предваряющие поступок и сопутствующие ему, а затем им порождаемые, претерпеваемые героем страдания, узнавания-очищения. Драматургия нового времени и наших дней это понимание действия еще более усложняет.
Она сохраняет «память жанра», о которой говорил М. Бахтин, «помнит» свою исконную проблематику, связанную с диалектикой свободного волеизъявления и необходимой, неизбежной ответственностью лица за совершаемый им выбор. «Память» современной драматургии все более обогащается: ей предстоит осваивать и то, как понимали действие Эсхил, Софокл, Еврипид, и то, как его трактовали Шекспир, французские классицисты, Чехов.
В пьесах Чехова «действие» в элементарном смысле слова чаще всего совершается за сценой: мы не видим, как дважды стреляется Константин Треплев; подстреленная чайка падет где-то за сценой. Мы не присутствуем при продаже вишневого сада, при дуэли Тузенбаха с Соленым — она происходит не на глазах зрителя (как в античном театре). А когда мы присутствуем при такого рода акциях, Чехов делает нас свидетелями их неудач (Войниц- кий, стреляющий в Серебрякова). Но дабы признать тот факт, что в пьесах Чехова или в «Живом трупе» развивается острейшее драматическое действие, не следует его сводить (по-брюнетьеровски) лишь к целеустремленному «деланию». Драматическое действие — сложный (и в ходе истории усложняющийся) процесс излучения эмоционально-духовно-волевой энергии героями в проблемных ситуациях, порождаемых их взаимно-действием и взаимнозависимостью.
Наступила, видимо, пора отказаться от упрощенного, редуцированного толкования понятия «действие». Возможно, что слово «драма», употребляемое Аристотелем, стоило бы понимать как «драматическую активность», подразумевая ту разнонаправленную, творчески неуемную (иногда она может казаться «вялотекущей») энергию персонажей, что порождает силовое поле (действенное, пространственное, временное) всего произведения. По-разному предстает эта «драматическая активность» в пьесах Софокла и Шекспира, Ибсена и Чехова, Т. Уильямса и А. Вампилова. Но ею живут произведения, явно насыщенные «действием» и будто бы вовсе его лишенные…[376]
РОЖДЕНИЕ ТРАГЕДИИ: суверенный человек и мировой порядок
Иокаста. Жить следует беспечно — кто как может…
Софокл. «Царь Эдип»1
Свою статью С. С. Аверинцев назвал «К истолкованию символики мифа о Эдипе». Автор нас предупреждает: он не собирается выяснять, что сделал Софокл с мифологической фабулой. Его интересует фабула как «наличная предпосылка символической структуры трагедии»[377].
Обращаясь к широкому кругу античных текстов, которыми он владеет с завидной свободой, исследователь все же неоднократно возвращается именно к тексту Софокла. Трудно, видимо, было без этого обойтись[378]. То для истолкования мифа привлекается текст четвертого стасима трагедии, хотя этот стасим — плод скорее поэтического вымысла, чем воспроизведение мифологических мотивов. То речь заходит о «трагической иронии» диалога зрячего Эдипа со слепым Тиресием, — диалога, разумеется, в мифе отсутствующего. То дается истолкование символики рокового перекрестка, где Эдип встретился с Лаем.
Как известно, пишет Аверинцев, «Эдип убивает отца у скрещения трех дорог». Известно? Но ведь извещают нас об этом именно герои трагедии Софокла — Иокаста и Эдип. Имел ли значение этот перекресток в мифе? Никаких тому свидетельств нам не приводят. Однако соответственно своей концепции, охватывающей не только миф, но, по существу, и многое в фабуле самой софокловой трагедии, Аверинцев выявляет скрытую в перекрестке символику:
«Линия, идущая к идее инцеста; линия, ведущая к идее власти, понятой как эротическое овладение и обладание; линия, ведущая к знанию, понятому опять-таки как нескромное проникновение в сокровенное»[379]. Таково, по Аверинцеву, символическое значение перекрестка трех дорог и в мифе, и у Софокла.
Эту символику Аверинцев связывает с тем, что «для античного восприятия смысловым центром (в судьбе Эдипа. — К.) был именно инцест». Отцеубийство лишь его предпосылка. А «мотив инцеста был символически сопряжен с идеей овладения и обладания узурпированной властью. Но он выявлял связь не только с символикой власти, но и с символикой знания, и притом знания экстраординарного, сокровенного, запретного»[380].
Остается, правда, следующая неясность: ведь софоклов Эдип пошел не по всем трем, а лишь по одной дороге. В Фивах же, согласно Аверинцеву, осуществилось все, что сулили три дороги, вместе взятые.
Вызывает сомнение и мысль, будто «преступление софокловского героя», как и его наказание, «двучленно», «двусоставной[381]. Что такое судьба Эдипа? — на этот вопрос дается ответ, касающийся не столько, как видим, героя мифа, сколько героя трагедии Софокла: эта судьба «слагается из двух моментов — бессознательно совершенного преступления и сознательно принятого наказания». Под двусоставностью преступления нам следует разуметь убийство отца и женитьбу на матери.
Все дело, думается, все-таки в том, что судьба софокловского героя слагается не из двух «моментов». Ведь первоначальный толчок всему дальнейшему действию — не убийство отца, а дерзновенный отказ Эдипа покориться предсказанию дельфийского оракула, стремление во что бы то ни стало избежать его осуществления. Вот где Эдип впервые «преступает», отказываясь следовать идущим свыше предначертаниям. Тут «преступление» осознанное и нравственно оправданное.
Именно эта ситуация, когда герой принимает решение, основанное на вере в свою независимость от каких бы то ни было сторонних сил, в трагедии Софокла — наиважнейшая. Эдип совершает акт самоутверждения, направленный против Судьбы, для которой он — существо безвольное, безличное, заведомо обреченное на деяния, с его точки зрения, безнравственные и преступные.
Именно это решение, протест, скажем даже — сопротивление Эдипа завязывает узел всех дальнейших событий. У Софокла бессознательно совершенным преступлениям предшествует акт сознательный, нравственный, человечный. Да и после убийства, избавляя Фивы от чудовища, он опять же действует не соответственно «программе» оракула, а проявляя свой разум.
Если мы упустим из виду этот выбор, совершенный Эдипом после Дельф, этот решающий, главнейший «момент» в его поведении, определяющий весь дальнейший ход событий, трагедия Софокла может предстать не более чем воспроизведением мифологической фабулы с героем, неспособным на рефлексию и сопротивление. Именно тогда, когда софокловский Эдип решает не возвращаться в Коринф, он совершает ту «ошибку» («амартэма»), которую Аристотель находит в поведении трагического героя. Именно тогда он становится невольным носителем вины, что Гегель считает особенностью героя трагического.
В фабуле трагедии — творении Софокла — нет не только «двусоставного» преступления, но и «двусоставного» наказания. Мысль Аверинцева о «двусоставности» наказания Эдипа (по существу, речь опять идет о герое Софокла), где за самоослеплением следует странничество, будто бы открывающее наконец герою возможность самопознания, тоже не согласуется с фабулой и концепцией «Царя Эдипа».
Странничество, полагает Аверинцев, «понятно само собой и в объяснениях не нуждается: город надо избавить от скверны». А вот выкалывание глаз характеризуется хором в коммосе трагедии как акт сугубо непонятный, и «к нему требуется подобрать проясняющий символический фон»[382]. По Аверинцеву, самоослепление — это суд Эдипа над своим зрением, которое проникало в запретное и не раскрывало необходимого. Но ведь у Софокла герой обретает именно подлинное знание.
Вторым компонентом «двусоставного» наказания Эдипа Аверинцев считает странничество. Однако в «Царе Эдипе» главный герой вовсе не странник. Таковым он становится в «Эдипе в Колоне». Но это ведь произведения на разные темы, имеющие разные фабулы. Одно написано семидесятилетним, другое — девяностолетним драматургом. Во второй трагедии Эдип, ведомый Антигоной странник, не может простить и не прощает Креонту и своим сыновьям того, что был ими изгнан из Фив спустя долгое время после совершенного им самоослепления. Здесь Эдип, после многолетних скитаний, приходит в Колон, где и умирает. В этой трагедии действительно имеет место странничество.
В первой же трагедии Эдип, выколов себе глаза, сам себя тут же и изгоняет из города. В исходной ситуации, складывающейся до начала сценического действия, он изгоняет себя из Коринфа, а в финале — из Фив. В промежутке между этими двумя самоизгнаниями Эдип переживает процесс не мнимого, а подлинного узнавания, стимулируемого и его активностью, и энергией других действующих лиц.
Идея самопознания, которую Аверинцев усматривает и в мифе, и в трагедии, у Софокла вовсе отсутствует, что соответствует «онтологии» драматургии, ее первоосновам, ее концепции бытия как полного коллизий «со-бытия» индивидов. В «Царе Эдипе» (как и вообще в драматургии) открытие и обретение героем своего «я» возможно лишь в процессе общения с другими лицами, живущими каждый своими стремлениями, своей установкой, своей целью, но связанными единой цепью взаимозависимостей и взаимовлияний.
Эдип становится тем, кем он способен и может стать, он познает себя и свое место в мире лишь в процессе чреватого противоречиями и катастрофами общения с другими людьми. Поэтому в «Царе Эдипе» нет не только странничества, но и якобы располагающего к нему самопознания.
На вопрос «кто я?», с которым он пришел в Дельфы, Эдип в процессе развития действия добивается все более глубокого ответа. Он обретает подлинное знание и этим существенно отличается от Тиресия. Старец обладает знанием, оно ему даровано высшими силами одновременно со слепотой. Эдипу знание не даруется, он его завоевывает, он прорывается к нему, к сути, скрытой за видимостью, хотя с каждым новым эписодием ему становится все более очевидным, насколько это отвоеванное им (с помощью то Иокасты, то вестника из Коринфа, то пастуха, доставленного в Фивы из его убежища) знание становится для него «раз-облачительным».
Итак, в «Царе Эдипе» перед нами не самопознание, а прорыв к истине в ходе действия. Движимое рядом лиц, оно побуждает и их, в меру отпущенных им возможностей, осознать диалектически противоречивую связь между мотивами своего поведения в экстремальных ситуациях и объективными последствиями своих поступков.
В общем из суждений Аверинцева можно сделать такой вывод: в поведении героя трагедии Софокла сказываются архаические представления о власти, связанной с запретным обладанием и столь же запретным знанием. Пусть Аверинцев стремится избежать прямых
суждений о «Царе Эдипе» — все же трагедия эта в его работе предстает перед нами во многом не только повторяющей мифологический сюжет. Ведь ключевые моменты в искомой символике мифа Аверинцев все-таки объясняет, основываясь не столько на свидетельствах различных версий мифа и иных источников, сколько на фабуле трагедии Софокла. В итоге создается впечатление, что Софокл скорее следовал мифу, чем полемизировал с ним, что символику «Царя Эдипа» трудно отграничить от символики мифологической.
Иные авторы выражают подобную точку зрения с категорической отчетливостью, не считая нужным прибегать к аргументам. Сошлемся, к примеру, на высказывания Ю. Бородая, правда, сделанные, так сказать, мимоходом, но весьма решительно. Бородая не интересует символика. Он, скорее, ограничивается рассмотрением фабулы «как таковой» и воплощенных в ней общественных противоречий того времени, когда «Царь Эдип» был создан.
По его мысли, великая античная трагедия, и «Царь Эдип» в частности, не ограничивается «чисто отрицательной фиксацией» острейших противоречий, волновавших грека в V веке до новой эры. Трагедия, с точки зрения Бородая, раскрывает позитивный смысл величайших страданий, выпадающих на долю ее героя. К его стремлениям противопоставить себя, свое «я» общественному целому трагедия относится отрицательно. Через страдание герой осознает значение и ценность старых устоев и норм, подчиняясь которым человек полностью оставался общественным, родовым существом.
Поэтому роковые последствия действий героев трагедии, того же софокловского Эдипа, должны были «примирить индивида с его собственной общественной природой, мифологически представленной в виде судьбы». Такой ход мысли естественно завершается выводом, будто «Софокл пытался утверждать то же самое, — что и тот древний миф, который он воспроизвел на сцене», будто драматург «не привнес в древний миф ничего содержательно нового»[383]. В условиях античной демократии с обострявшимися в ней противоречиями Софоклу не оставалось иного выхода, кроме как вернуться к миропониманию, присущему античной мифологии, — к идее единства человека с родом, со всеобщими силами, к идее подчинения человека властвующей над ним судьбе[384].
Исходная посылка рассуждений Бородая весьма сомнительна: впрямь ли Софокл «воспроизводил на сцене древний миф»? Из фиванского цикла мифов черпали свои фабулы и Эсхил, и Софокл, и иные драматурги. Черпали, но не воспроизводили. Мифологические фабулы каждый из них трактовал по-своему, обращаясь к острейшим социальным и мировоззренческим проблемам своего времени. По мысли Бородая, «общественная природа» представлялась индивиду в V веке до н. э. в виде «судьбы», какой ее понимал миф. Но суть дела ведь в том именно, что понятия и о судьбе менялись, поскольку менялись представления о соотношении личности с общественным целым[385]. Наиболее резкий сдвиг в постижении проблемы «индивид — общество — судьба» нашел свое художественное отражение именно в трагедии.
2
Как «коллективный плач» греков по утраченной цельности — той, что отличала человека, еще не выделившегося из общинно-родового коллектива, — толкует античную трагедию Ю. Давыдов (по существу, разделяя при этом точку зрения Бородая). Но, согласно Давыдову, «Царь Эдип» — произведение, не ставившее перед своим зрителем никаких этических проблем.
В трагедии Софокла названный автор находит попытку реставрации былых ценностей. Потребность в реставрации с помощью «чисто эстетической иллюзии» оказалась необходимой, «поскольку трагедия не отражала уже реальной целостности жизни»[386]. В распре со своим временем автор «Царя Эдипа» признает «абсолютную власть отживших традиций, персонифицированных в образе богов Олимпа», и призывает не только к «примирению» с ними, но даже к «покорности» им.
Если речь идет о примирении с определенными традициями, значит, этические вопросы все-таки поставлены. Но Давыдов, по существу, отрицает это, прибегая к целой системе доказательств.
Во-первых, греческой трагедии — это извиняет и Софокла — будто бы не оставалось никакой иной возможности, кроме как «проецировать» на мифологию уже не соответствующую ей действительность. Во-вторых, ее неспособностью постичь противоречия своего времени объясняется «выхолащивание» (!) из греческой трагедии реального содержания: от фактических проблем в ней оставалась лишь их «эстетизированная форма». В подобной форме и «выступил трагический конфликт у Софокла: в нем ухватывалось только самое общее в реальной проблеме, самое отвлеченное и абстрактное: «страх», «страдание», «смерть»»[387].
Вызываемые, как полагал Аристотель, у зрителя «страх» и «сострадание» Давыдов толкует как «специфически эстетические чувства», свободные от этического содержания. Все это построение в целом неубедительно. Ведь содрогание и потрясение зрителя вызывали не только страшные события как таковые, но и нравственная проблематика, с ними связанная.
Некоторое объяснение тому, что одно из величайших художественных творений человеческого гения рассматривается Давыдовым как чисто эстетический феномен, можно найти тут же, на страницах его статьи. Оказывается, наш автор полемизирует с экзистенциалистом К. Ясперсом — тот в своей «порочной» работе об античной трагедии и «Царе Эдипе» («Von der Warheit», 1958) не только верит «эстетизированной форме», в которой у Софокла воплотились мотивы «страха», «страдания», «смерти», но и возводит их «в абсолют», придает им всеобщий, «онтологический» статус.
Давыдов же видит в «Царе Эдипе» отражение не «космических» и «вселенских трагедий» бытия, а «момент в становлении античного сознания», отражавший состояние общества, уже разделенного на борющиеся классы.
Нет никакой беды в стремлении связать появление и проблематику «Царя Эдипа» с определенными конкретно-историческими обстоятельствами общественной жизни. Беда в другом: не Софокл «выхолащивает» в своем произведении реальные нравственно-этические противоречия своего времени. Эту роль берет на себя Давыдов, утверждая, будто Софокл оказался неспособным искать истинный смысл этических проблем, порожденных его временем, поскольку его симпатии принадлежат изжившему себя прошлому.
Действительно ли трагедия Софокла строится на «признании абсолютной власти традиций»?[388] Единственным следствием деяний трагического героя, по Давыдову, становится его гибель, подтверждающая всевластие божественных сил. Но ведь Эдип у Софокла не погибает. Последствия его деяний здесь неоднозначны, сложны, противоречивы. Толкование трагедии, исходящее из представления, что главное в ней — гибель героя, не ново. Оно само имеет давнюю традицию, не ориентированную на пристальный анализ всей динамики трагического процесса. При таком подходе традиционно игнорируются важнейшие узловые моменты в жизни как главного героя «Царя Эдипа», так и его окружения, что ведет к упрощенному толкованию структуры и смысла всего произведения.
Подобно иным своим предшественникам, Давыдов не снисходит до такого занятия, как конкретный анализ, и рассуждает о трагедии «в общем и целом». В пространной работе исследователь не счел нужным хотя бы единожды упомянуть, помимо Эдипа, кого-либо из действующих лиц трагедии, а тем более — задуматься над взаимоотношениями героя с ними.
Может показаться, будто в произведении Софокла взаимодействуют всего лишь две силы: Эдип и боги Олимпа. Будто перед нами мистерия, ритуальное действо с одиноким солистом, а не трагедия со сложной фабулой и динамически усложняющимися коллизиями, где существеннейшее значение приобретает процесс их развертывания, процесс раскрытия характеров (вернее: страстей) действующих лиц, их различных устремлений. А ведь игнорируя все это, нельзя понять и самого софокловского Эдипа.
Статью Давыдова открывают иронические пассажи по поводу «вселенских трагедий», наполняющих атмосферу современной буржуазной культуры. Иронии подвергается тот факт, что «плоский» оптимизм не котируется на «буржуазном рынке идей». Любой персонаж античной трагедии — скажем, царь Эдип — рискует на Западе приобрести поистине «космические» размеры, опять же иронизирует Давыдов. Наш автор ставит себе задачей определить действительные «габариты» такого лица, как Эдип.
Но можно ли их определить, отвлекаясь от конкретного анализа действия, развивающегося в творении Софокла, и обращаясь с произведением драматического поэта как с некоей абстрактной «философемой»?
Давыдов невольно оказывается в плену того самого экзистенциалистского подхода к Софоклу, несостоятельность которого он вознамерился доказать. Разве Софокл реально ставит себе цель вызвать «сострадание» к Эдипу и «страх» за него всего лишь потому, что тот дерзко не внял оракулу из Дельф? Софокл ведь ждал от зрителя сложной реакции, сопрягающей сострадание с восхищением по отношению к герою, осмелившемуся вступить на путь сопротивления чудовищным пророчествам во имя гуманных, благородных целей. В Дельфах Эдип не проявляет ни покорности, ни готовности примириться с прорицанием, противоречащим его человеческому предназначению и требованиям новой, нарождающейся нравственности. Тут — завязка конфликта, и игнорировать ее нравственную природу нет никаких оснований.
Поэтому нельзя согласиться с утверждением Давыдова, будто у Софокла Эдип — лицо «этически нейтральное». Эдип и его притязания — этически нейтральны? Ведь его трагедия связана именно с инициативой, с исканиями в сфере нравственности.
Широкий спектр деяний, совершаемых действующими лицами и внесценическими персонажами «Царя Эдипа», связан именно с нравственной проблематикой, по отношению к которой никто (а тем более — Эдип) не «нейтрален». Нижняя граница моральной безответственности обозначена здесь поступком Лая, решившего во имя самосохранения погубить своего сына.
Ф. Зелинский говорит о ненависти Иокасты к оракулам, отнявшим у нее ребенка, но и о «порочности Лая», которую царица противопоставляет «мудрости и великодушию» нового мужа — Эдипа[389]. Лай стремится избежать не преступления, а, совершая его чужими руками, пытается избежать наказания. На противоположном полюсе — Эдип, чья судьба во многом определяется его отказом после посещения Дельф совершать поступки, с его точки зрения, безнравственные, даже если таково веление судьбы; позднее, уже в Фивах, его поступки диктуются пониманием своей ответственности как за свое будущее, так и за судьбу подвластного ему города.
Эдипа, уже в Дельфах принявшего решение, расходящееся с требованиями безличных, роковых сил, Софокл сталкивает не только с ними, а и с рядом лиц, каждое из которых занимает в фабуле трагедии и ее общей концепции свое важное место. Забывать о них — непростительно, ибо действия каждого соотносятся с поведением главного героя. Почувствовать, осознать и оценить мотивы и общий смысл того, что им совершено, можно лишь в контексте всех акций и реакций действующих в трагедии сил — надличных и вочеловеченных.
Однако, не соглашаясь с представлениями об Эдипе как лице, чьи высокие нравственные притязания Софокл считает бессмысленными, нельзя согласиться и с попытками представить Эдипа героем не трагическим, а идеальным.
3
Обращаясь в нескольких работах к творению Софокла, В. Ярхо анализирует развитие действия, его построение, отдельные его эписодии. Но в этом анализе удивляет прежде всего то, что исследователь отказывается признать значение всех до-сценических событий — тех именно, которые, как известно, завязывают фабулу «Царя Эдипа».
Поэтический замысел Софокла, полагает Ярхо, состоял в изображении человека, преданного одной идее, реализующего свое решение до конца, верного себе во всех проявлениях своего характера, — одним словом, человека, «каким он должен быть», чтобы служить «нормой и идеалом для своих современников».[390]
Сходную мысль об Эдипе высказывает и В. Днепров. Если искусство выполняет две функции — познавательную и нормативно-эстетическую, то, по Днепрову, в античности первая функция уступает место второй, чем и обусловлено появление в ту пору образов идеальных. Мысль о том, что античное искусство не ставило перед собой познавательных целей, противоречит общеизвестным высказываниям Аристотеля о поэтическом мимезисе как особого рода познании, доставляющем нам удовольствие. Обратим здесь внимание лишь на еще одно высказывание Днепрова, которое, видимо, должно подкрепить его точку зрения. «Сравнение трагических героев Софокла с образцами классической скульптуры глубоко верно, — пишет он. — Беломраморные лики героев-победителей по-разному представляют один и тот же образ — идеальный образ человека сильного и доблестного»[391].
Но разве скульптурные лики «героев-победителей» и впрямь были в свое время «беломраморными»? Ведь это время их «выбелило». А главное, основательно ли отождествление трагических героев с образами античной скульптуры, не ставившей своей целью выявление трагических аспектов жизни? Относительно Эдипа мы уверены, говорит Днепров, «в том, что он всегда будет действовать разумно и хорошо»[392]. По Ярхо, Эдип тоже всегда действует подобным образом.
Днепров не считает нужным хоть сколько-нибудь аргументировать свою точку зрения. Ярхо же обосновывает понимание Эдипа как идеального героя анализом трагедии Софокла, но вынужден упрощать ее коллизии. «Легко показать, — пишет Ярхо, — что драматическая ситуация в «Царе Эдипе» не имеет никакого отношения к осуществлению прорицаний, полученных некогда порознь Лайем и Эдипом»[393].
Настораживает уже то, что ситуация названа не трагической, а драматической. Это, как увидим, неспроста. Что же касается «прорицаний», то ведь они-то и побудили Эдипа пуститься в путь по неизвестной дороге, где произошла роковая для него схватка. Да и в Фивы он попадает, «убегая» от полученных им прорицаний, стремясь избежать их осуществления. Важнейшее значение этих прорицаний в сложении трагической ситуации очевидно. Отрицать это можно, пренебрегая фабулой трагедии во имя, так сказать, излюбленной исследователем мысли об «идеальном» Эдипе.
Но Ярхо упорно настаивает на своем: содержанием трагедии является не то, что произошло «задолго до начала действия», «не прошлое, а настоящее, не давно случившееся, а его последствия»[394]. Еще более решительно и менее убедительно звучат следующие заявления: «встреча Эдипа с Лайем находится далеко за пределами пьесы»[395]. А преступления, «по неведению совершенные Эдипом, задолго до начала трагедии, не могут служить действенным средством для организации ее сюжета»[396].
Странное здесь выдвинуто представление о «пределах пьесы», касающееся уже не только произведения Софокла, но и драматургии вообще. Ведь, как правило, в «пределы» любой пьесы включаются, наряду со сценическими, и эпизоды до- и внесценические. Приняв точку зрения Ярхо о «пределах» пьесы, мы должны были бы пренебречь всем случившимся «до начала» шекспировского «Отелло», то есть необычной, необычайной для Венеции любовью, связавшей Дездемону с мавром, к которому она сбежала «до начала» (как его понимает Ярхо) пьесы. Следовало бы в таком случае отсечь предысторию взаимоотношений Ларисы с Паратовым, закончившуюся его бегством из Бряхимова и побудившую Ларису стать невестой Карандышева. Можно ли понять сюжет и поэтическую концепцию «Трех сестер», игнорируя все «до-» и «вне-» сценические события, входящие, разумеется, «в пределы» этой пьесы?
Фабулу «Царя Эдипа» составляет процесс раскрытия и узнавания-осмысления случившегося «задолго» до того, что Ярхо считает «началом» трагедии. Все, включаемое Ярхо «в пределы» пьесы Софокла, есть развязка событий, завязавшихся до начала сценического действия. До-сценические поступки Эдипа определяют не только ход сценического действия, но и его смысл.
Цель, ради которой исследователь призывает нас сосредоточиться лишь на событиях, совершаемых на сцене, проста: оказывается, на глазах зрителя Эдип не делает ничего такого, что может быть вменено ему в вину, а тем более — сочтено виной трагической. На наших глазах Эдип от начала до конца безупречно идеален.
Доказывая это, Ярхо весьма «неадекватно» интерпретирует и содержание тех событий, которые происходят на глазах зрителя.
Прежде всего нас хотят убедить в том, насколько умно, корректно и выдержанно Эдип ведет себя в прологе и первом эписодии. Как «у честного человека и хорошего царя», у него нет секретов от подданных: возвратившемуся из Дельф Креонту он велит огласить волю Аполлона при всех.
Труднее приходится исследователю, когда ему предстоит разобрать эпизоды со старцем Тиресием и Креонтом. По мысли Ярхо, «патриот» Эдип вправе счесть старца «антипатриотом», «негодовать на антипатриотическое поведение Тиресия», поскольку тот уклоняется от ответа на вопрос о том, кем же был убит Лай. «Загадочные намеки» старца, вполне естественно, заставляют патриота Эдипа «выйти из себя».
Но ведь с уст провидца слетают не только намеки. Когда разгневанный Эдип опрометчиво (а по Ярхо — весьма обоснованно) объявляет Тиресия соучастником убийства, тот в ответ напрямик заявляет:
Страны безбожный осквернитель — ты!Как ведет себя после этого Эдип? Если поверить Ярхо, «волнения Эдипа выливаются в страстный, горячий монолог», в котором он обличает честолюбие Тиресия и Креонта. Но зачем смягчать ситуацию? При чем здесь честолюбие? Эдип обвиняет старца и Креонта в стачке с целью сместить его с трона. Какой логике здесь следует Эдип? Разумеется, он в негодовании, даже разъярен. В таком состоянии царь ведет себя с Тиресием, а затем и с Креонтом отнюдь не как «идеальный» герой. Подобно многим простым смертным, в разные времена попадавшим в критическое положение, Эдип ищет и незамедлительно обнаруживает интриганов, «заговорщиков», повинных во всех смертных грехах и несчастьях.
Царь следует здесь логике весьма распространенной и поддается эмоциям отнюдь не высокого уровня. Тут он попадает во власть низменного «здравого смысла», дискредитация которого — одна из художественных задач Софокла. На афинской сцене Эдип стоял на котурнах, драматург же время от времени как бы снимает его с них. Тем самым этическая, философская проблематика трагедии отнюдь не снижалась, а величие Эдипа (не как «идеального», а как трагического героя) лишь раскрывалось во всей его подлинной человечности.
Фигура однозначная, гладко выутюженная могла лишь оттолкнуть от себя зрителя. Софокл же стремился вызвать сострадание к своему герою, к выпавшим на его долю страданиям, истоки которых сложны. Но софокловскому Эдипу — и этому драматург тоже придавал важное значение — ничто человеческое (вспыльчивость, подозрительность, самомнение, гордыня и т. п.) не чуждо. Показывая эти черты норова своего героя, драматург облегчал положение афинского зрителя, помогая ему тем самым приобщиться к сложным онтологическим противоречиям бытия, поставленным в его произведении, к сложным мотивам, движущим его героем «до начала пьесы» и в ходе самого действия.
Впадая в ярость, Эдип хотел бы не просто изгнать «заговорщика» Креонта из Фив — он готов умертвить его:
Эдип
Ты — изменник.Креонт
Затмился, что ли, ум твой?Эдип
Власть — моя!Креонт
Дурная власть — не власть!Последняя реплика Креонта, как и весь «ударный» и беспощадный диалог между ним и Эдипом, несомненно, вызывала живой отклик в зрителях, для которых проблема власти была одной из острейших (см. диалог Платона «Горгий»). Тут мифологический сюжет, как и в других ситуациях пьесы, обретал явное и острое идейно-политическое звучание. Вполне актуальные мотивы и темы, возбуждая гражданские эмоции зрителя, вместе с тем побуждали его приобщиться к главным проблемам, этическо-философским, волновавшим Софокла.
Сцену с Креонтом Ярхо считает первой эмоциональной кульминацией, призванной показать, насколько последователен Эдип, насколько «трудно убедить его отказаться от однажды принятого решения».
Остается неясным: кто убеждал Эдипа отказываться от своего решения? Ни Тиресий, ни Креонт этим не занимались.
Такую попытку предпринимает Иокаста, появляющаяся на сцене уже после ухода Креонта. Но толкование сцены Иокаста — Эдип в работе Ярхо опять же вызывает, по меньшей мере, недоумение. Исследователь справедливо исходит из мысли, что никакое волнение, никакое напряжение чувств зрителя не могут длиться бесконечно. Эмоциям нужна передышка, и Софокл понимал это едва ли не лучше других.
Но вывод делается неожиданный: во втором эписодии у Софокла будто бы «неторопливо и спокойно льется речь не только Иокасты, пытающейся успокоить Эдипа рассказом о недостоверных прорицаниях, но и самого Эдипа, пока он излагает свою историю»[397].
Спокойно? Реально у Софокла все происходит по-иному. Монолог Иокасты, желающей успокоить Эдипа и доказать, насколько недостоверны прорицания, приводит к неожиданному результату. Ее мужу, Лаю, было предсказано погибнуть от руки сына, однако его убили разбойники «на перекрестке трех дорог», сообщает Иокаста. Но это не успокаивает, а, напротив, потрясает Эдипа:
О, как мне слово каждое твое Тревожит душу и смущает сердце!После обмена несколькими репликами с Иокастой следует его новый страдальческий возглас:
О, горе! Вижу, страшные проклятья В неведенье призвал я на себя.Эта сцена — одна из самых великих в мировой драматургии перипетий, меняющих ход действия. Иокаста добивается результата, противоположного ее намерениям: она ввергает Эдипа в смятение, страх и ужас, побудив вспомнить о давнем событии, случившемся «на перекрестке трех дорог», когда он расправился с оскорбившим его человеком и всей его свитой. Реплики Эдипа — это вопли ужаснувшегося человека.
В этот именно момент Эдип начинает осознавать трагизм своей ситуации, допуская, что он — убийца Лая, хотя ему еще предстоит узнать, что он — сын старого человека, насмерть пораженного тогда ударом его дубины.
Эпически спокойный Эдип никак не вмещается в созданную Софоклом коллизию, лишь усиливающую напряжение, возникшее в сцене с Тиресием и Креонтом.
Иокаста всячески торопится разрядить остроту ситуации, сложившейся при столкновении разъяренного Эдипа с ними. Ее речь, конечно, не «льется спокойно». А Эдип в ответ опять-таки не может «спокойно излагать» свою историю. Он в состоянии крайней тревоги; в его возгласах уже звучат страшные предчувствия: «Я ль не изверг?», «Я ль не безбожник?». Если есть родство между убитым им человеком и Лаем, восклицает Эдип, то «кто из смертных теперь меня несчастней, кто в мире ненавистней для богов?»
Да, эмоциям действительно нужен отдых. После взрывных сцен нужны эпизоды иного наполнения, дабы персонажи и зрители оказались способными должным образом реагировать на ожидающие их новые потрясения. Все верно. Но зачем же сверхэмоциональную сцену Иокаста — Эдип, подвергающую героя, да и героиню неожиданному и страшному испытанию, приближающую их к разгадке ужасной загадки, лишать того напряжения, которым она до краев наполнена?
Софокл действительно дает героям и зрителям «передохнуть», но не в той сцене, о которой говорит Ярхо. Необходимую паузу — передышку между эмоционально сверхнасыщенными сценами — все уже получили в партии хора, разделяющей первый и второй эписодии.
Ярхо — в высшей степени компетентный знаток античности. Но, видимо, стремление во что бы то ни стало представить Эдипа «патриотом» и «идеальным» с головы до ног героем привело к тому, что стасим хора остался им «не замеченным».
Между тем эта хоровая партия своеобразна. Ведь, как правило, древнегреческий хор в своих раздумьях уходит («воспаряет») далеко от событий, происходящих на его глазах. Но на этот раз хор размышляет именно о том, чему он стал свидетелем в первом эписодии. Хор озадачен обвинением Тиресия:
Страшным, вправду страшным делом Нас смутил вещатель мудрый. Согласиться я не в силах И не в силах отрицать.Главное, чем хор смущен, он впрямую высказывает:
Ныне против Эдипа Я не вижу улик…Вот этот, ставший главным, вопрос об уликах и возникает в диалоге Иокаста — Эдип. Первой уличает царя именно царица, надеющаяся своими доводами опровергнуть Тиресия. Иокаста советует не верить его прорицаниям, поскольку они вообще не сбываются: это, мол, подтверждается судьбой Лая.
Ее слова о «перекрестке трех дорог», где Лай пал будто бы от рук разбойников, приводят Эдипа в содрогание: они заставляют его вспомнить давно забытый эпизод, когда ему пришлось расправиться с оскорбившими его человеческое достоинство людьми. Тут уже достаточно информации, позволяющей и действующим лицам, и зрителям приблизиться к разгадке страшной загадки и понять, кем именно был убит Лай.
В новом, третьем эписодии (также следующем после партии хора) ужас, охвативший Эдипа, нарастает. Однако Ярхо своей интерпретацией и этого эписодия — с вестником из Коринфа, сообщающим Эдипу, что Полиб и Меропа не его родители, — продолжает ввергать нас в еще большее недоумение.
Аристотель в «Поэтике» именно сцену с вестником считает образцовой перипетией, то есть переломом, «меняющим действие к противоположному». Здесь Эдип переживает новое потрясение-узнавание, приближающее его к непоправимо катастрофическому постижению того, что он не только убийца Лая, но и его сын, что он не только порожден Иокастой, но и стал ее супругом.
Толкуя этот эпизод, Ярхо опять же смягчает его трагический, катастрофический смысл, стремясь придать ему совсем иную, реально ему несвойственную окраску. Диалог с вестником «завершается не взрывом негодования и не возгласом отчаяния», утверждает исследователь, а стремлением «разгадать загадку своего происхождения». Поэтому «Эдип ведет себя так, как это подобает настоящему человеку и идеальному герою — смело, решительно, бескомпромиссно»[398]. В отличие от Иокасты, молниеносно уразумевшей, к чему приведет финал дальнейшего расследования, и пытающейся уговорить Эдипа прекратить дознание, тот продолжает начатое дело.
Если бы он внял совету Иокасты, «он перестал быть идеальным героем Софокла, ибо утратил бы свое основное свойство: идти до конца в осуществлении принятого решения»[399].
Итак, «героическая личность», «настоящий человек», «идеальный герой» — очень уж знакомые нам определения находит исследователь для Эдипа. Но ведь тот — герой трагический. В это понятие мы привыкли вкладывать особое содержание. Имеет ли смысл все переживания Эдипа переводить в чуждый им регистр, а тем самым превращать произведение Софокла из трагедии в сочинение того расплывчатого «жанра», что насаждался у нас в период господства «теории бесконфликтности»?
Реакция Эдипа на сообщение вестника из Коринфа и на уход Иокасты (уже успевшей понять то, чему он еще отказывается верить) исполнена той самой гордыни, что никак не может быть свойственна «идеальному» герою и всегда рассматривалась античностью как состояние, в которое смертному впадать ни в коем случае не следует.
Я — сын Судьбы, дарующей нам благо, И никакой не страшен мне позор! —восклицает Эдип. Он еще надеется на «благо», как в свое время, много лет тому назад, надеялся избежать зла, решив не возвращаться из Дельф в родной Коринф. Тогда, воспротивившись вещанию Аполлона, он ведь тоже проявил, по понятиям, уходящим в глубокую древность, опасную для человека «гордыню».
От предположения, будто он сын благосклонной Судьбы, Эдипу предстоит полностью освободиться в следующем же, четвертом эписодии, когда он, опять же угрожая пытками, заставляет приведенного с гор пастуха рассказать, как он спас младенца, обреченного Лаем на смерть, и передал его коринфскому пастуху. Версия о разбойниках, убивших Лая, оказывается вымыслом того же пастуха, на глазах которого отец был убит именно сыном, Эдипом.
Наступает час расплаты. Поклявшись умертвить преступника, осквернившего Фивы, Эдип избирает наказание более страшное, чем смерть, — выкалывает себе глаза и обрекает на изгнание из города. Этот трагический финал — последнее проявление Эдипом свободной воли.
По Ярхо, во всех четырех эписодиях Эдип ведет себя «в полном соответствии с божественным приказом»[400]. Но о каком «полном соответствии» может идти речь, если дельфийский оракул повелел очистить город от преступника, а Эдип, прежде чем сделать это, себя ослепляет? Да и Иокаста ведь кончает жизнь самоубийством сверх «программы», заданной оракулом.
Видимо, Софокл вовсе не ограничивается изображением лишь того, как сбываются давние предсказания, полученные Лаем и Эдипом, как выполняются требования оракула, изложенные Креонтом по возвращении из Дельф.
Ни фабула «Царя Эдипа», ни поведение главного героя, в чьей судьбе самое существенное значение приобретают решения, им принятые как в Дельфах, так и в процессе дознания, доведенного им до конца в Фивах, не соответствуют полностью предначертанному свыше. Оракул предсказал преступные действия Эдипа. Но повороты в событиях и воззрениях героя, в его новом понимании соотношения личности и миропорядка — все это предсказано не было.
Эдип ищет истину и в Дельфах, и в Фивах; его посягательства, его притязания ставят его в трагическое положение, а Ярхо хотел бы нас уверить, будто он ведет себя как «идеальный герой», как послушный исполнитель «божественных приказов». Ярхо иронизирует над авторами, упорно выискивающими у Эдипа «трагическую вину». Подобного рода вину (вслед за Н. Г. Чернышевским, автором юношеской диссертации «Эстетические отношения искусства к действительности») у нас многие и по сей день считают всего лишь идеалистической выдумкой.
Ярхо готов полупризнать, что в понятии «трагическая вина» есть некий смысл, но применять его к Эдипу не видит никаких оснований. Ведь в трагической вине, пишет Ярхо, «существенную роль играет понимание героем его действий, приводящих в конечном счете к конфликту с объективным состоянием мира, как правильных и даже обязательных». Эдип же «не был поставлен обстоятельствами перед необходимостью нравственного выбора»[401]. Катастрофический эпизод у перекрестка трех дорог Ярхо называет «обычным дорожным происшествием». Убивая Лая и людей из его свиты, Эдип «был вынужден защищаться от нападения». Во всем этом, по Ярхо, нет ничего из ряда вон выходящего. Вполне нормально и то, что человек, воцарившийся в Фивах, которые он спас от чудовища, стал «супругом овдовевшей царицы».
Тут уместно напомнить о той символике, которую усмотрел Аверинцев в ситуации, являющейся для Ярхо всего лишь обычным дорожным происшествием. Разумеется, для софокловского героя это происшествие было в высшей степени многозначительным. Тут нашла свое развитие коллизия, созданная, сотворенная Эдипом в Дельфах, когда он решил не дать осуществиться предсказаниям оракула.
Решение, принятое им самолично, укрепило его веру в свое предназначение и свои возможности. Но только он успел его осуществить, как жизнь ставит его перед новым испытанием. Незнакомцы ведут себя с ним высокомерно, уничижительно. Поэтому катастрофическая стычка у перекрестка — не обычное дорожное происшествие, а новая попытка Эдипа отстоять свое человеческое достоинство. Он, вопреки утверждению Ярхо, был дважды поставлен перед необходимостью нравственного выбора: и в Дельфах, и на перекрестке. Свои действия в обоих случаях он понимал именно как «правильные и даже обязательные» для человека, отстаивающего достоинство своей личности.
Дальнейший ход событий обнаруживает, что в этих своих деяниях, в мотивах, им при этом двигавших, Эдип не был абсолютно прав. Ход событий в процессе поисков преступника все более убеждает его в том, что он переоценил свои возможности, переоценил меру той независимости, которой личность обладает в мире, где силы необходимости претендуют на всевластие. Трагическая вина Эдипа, как оказывается, не есть следствие лишь преступлений, совершаемых им непреднамеренно. Она и в том, что мотивы, им двигавшие в Дельфах, когда он поступал вполне обдуманно, обнаружили таившиеся в них противоречия.
4
Рассматривая «Царя Эдипа» в ряду сюжетно близких ему произведений фольклора, В. Я. Пропп видит и в сказках, и в трагедии наслоение противоречий, порожденных сменявшими друг друга жизненными укладами. В древнейшей основе этого сюжета — убийство царя и воцарение убийцы. Такого рода «старый конфликт», характерный для определенной стадии общественного развития, в дальнейшем «переносится» на новые отношения. «Греция делает из этого трагедию невольного, тягчайшего для грека греха — греха отцеубийства». При этом пророчество об убийстве у Софокла, в отличие от мифа, ничем не мотивируется. «Оно мотивировано ходом истории»[402].
В волшебной сказке предсказание о предстоящей смерти отца от руки сына и его женитьбе на царской вдове обычно дается в полной форме родителям при рождении или даже до рождения ребенка. У Софокла Лай узнает лишь, что будет убит сыном. Все пророчество в целом у Софокла открывается самому юноше Эдипу. Уже это узнавание героем ожидающей его участи придает сюжету «трагическую значительность» — ее нет в сказке, где все происходящее предстает лишь роковой случайностью.
Есть и такие сказки, где герой полностью осведомлен об ожидающих его ужасных злоключениях, но и там трагическая коллизия не возникает, подчеркивает Пропп, ибо герой «не делает никаких попыток избежать своей судьбы, как это делает Эдип, избегающий своих родителей»[403].
В фольклорной легенде герой, узнав о том, что он не родной сын тех, кого считает своими родителями, бежит от своего прошлого, «он просто уходит от позора». У Софокла Эдип, получив пророчество, бежит от своего будущего.[404] «Это — софокловская гениальная, чисто трагическая концепция сюжета». В ней важнейшее значение имеет узнавание героем того, что им совершено. «Процесс осознания этого и есть процесс рождения трагедии»[405]. Если в волшебной сказке путь героя обычно завершается женитьбой и воцарением, то у Софокла вслед за «апофеозом героя» (хор в четвертом стасиме даже называет его «богоравным владыкой») следует его разоблачение, в котором важнейшую роль играет активность самого Эдипа.
Истина здесь раскрывается не сразу, а поэтапно, во все нарастающей глубине. Будь это не так, сюжет опять же утратил бы свое трагическое напряжение и смысл. У Софокла сначала чума, обрушившаяся на Фивы, предстает таинственным, зловещим выражением некоей скверны, происхождение которой требует выяснения. Затем Тиресий против воли открывает истину, но у Эдипа есть основания ему не верить. Затем Иокаста, сама того не подозревая, приближает Эдипа и приближается сама к ее постижению. Дело довершают сообщение вестника из Коринфа и показания пастуха. Полное обретение истины ведет к тому, что Эдип изгоняет себя из города, обрекает себя на одиночество, «остается один с самим собой»[406].
Наиболее важным и примечательным оказывается то значение, которое Пропп придает намерению Эдипа избежать своей судьбы, то есть предназначенного ему будущего. Не менее существенно то, что процесс разоблачения, стимулированный чумой, а затем и заявлением Тиресия, перерастает в саморазоблачение-узнавание Эдипом своей преступности. Узнавание через страдание ведет героя не только к потере царского венца, которым он никогда не злоупотреблял, не только к потере всех близких ему людей, но — и это главное — к ослеплению. А тьма, говорит Пропп, «есть знак и выражение отрешенности от мира»[407].
Это толкование финальной ситуации позволяет нам соотнести ее с той, что возникает в завязке, когда Эдип, решая не возвращаться в Коринф, самонадеянно «отрешается» от мира, полагая, будто его будущее зависит лишь от него самого. Погружая себя в финале во тьму, отрешаясь от всего своего окружения, Эдип тем самым как бы наказывает себя за свое давнее заблуждение. Ходом действия трагедии опровергается самая возможность вполне обособленного, «отрешенного», независимого существования индивида.
5
В работе «Сюжетное время и время экзистенции» Г. Т. Маргвелашвили анализирует трагедию Софокла как произведение, посвященное проблеме познания субъектом скрытой от него истины о собственном бытии. Автор критически рассматривает онтологическую трактовку «Царя Эдипа» М. Хайдеггером. Это именно критический анализ, а не иронически-пренебрежительное обличение якобы заведомо несостоятельной позиции философа-экзистенциалиста.
Для Хайдеггера смысл трагедии Софокла заключается во «вскрытии» Эдипом своего подлинного бытия, в его страстной борьбе за полное самопознание. Немецкий философ рассматривает произведение Софокла «только на онтологическом уровне» и видит в нем отражение доплатоновского, гераклитовского понимания Логоса, противопоставляющего обыденное сознание, которому доступна лишь «видимость» вещей, философии, проникающей в сущность бытия. Основная тема трагедии, по Хайдеггеру, — «обнаружение тайно соприсутствующей в жизни Эдипа-царя истины его бытия как убийцы отца и осквернителя матери»[408].
Хайдеггер находит в «Царе Эдипе» глубочайшее отражение проблемы единства и противоречия между видимостью и бытием, волновавшей древнегреческую мысль. В образе главного героя трагедии Софокла, с точки зрения Хайдеггера, важнее всего не его падение, не его преступления, а движущая им основная страсть, отличавшая человека Древней Греции, — желание вырвать истину своего бытия из состояния «скрытости», в котором она находится.
Достоинство хайдеггеровского подхода к трагедии Софокла Маргвелашвили видит в том, что содержание этого произведения связывается с древнегреческим отношением к видимости и бытию как к первичным противоположностям, из взаимодействия которых рождается истина.
Но такое толкование Маргвелашвили считает все же недостаточно конкретным. С его точки зрения, не следует, как это делает Хайдеггер, исходить из финала трагедии, из результата, к которому приходит Эдип. Важен весь процесс развиваемого Софоклом действия. Надо, полагает Маргвелашвили, найти причину того, что Эдип был ослеплен видимостью. Надо объяснить, благодаря чему он сумел пробиться от нее к сущности, к истине.
У Хайдеггера в итоге получается, что открытие Эдипом истины есть акт самопознания. Маргвелашвили, оспаривая Хайдеггера, придает важнейшее значение возникающему в трагедии Софокла «сюжетному полю». Именно оно играет решающую роль в обретении Эдипом истины. Это «поле» образуется благодаря поступающей к Эдипу информации от других действующих лиц.
Рассматривая главные события в фабуле трагедии, Маргвелашвили связывает катастрофу у «перекрестка трех дорог» с отсутствием должной информации и у Лая, и у Эдипа. Сознание обоих было ограничено «горизонтом» их понимания как конкретной ситуации, так и вообще бытия. Ослепление видимостью есть, стало быть, следствие недостаточной информации, которой владеет обособленная «экзистенция», субъект как таковой.
Эдипу одному, в одиночку, раскрыть свою страшную тайну было невозможно[409]. Но «горизонт» его видения мира все более расширяется благодаря получаемой им информации в процессе его со-бытия с другими лицами, то есть в развитии сюжета. Первым приобщает Эдипа к его тайне Тиресий. Но слепец лишь утверждает, ничего не доказывая. Более конкретную информацию (о со-бытии на «перекрестке трех дорог») дает Иокаста. Но и в ее сообщении еще остаются пробелы. Их заполняют сначала вестник из Коринфа, а затем — пастух, то есть полную информацию Эдип получает в процессе развития сюжета.
Ее накопление происходит поэтапно. Каждый новый этап ведет ко все более радикальному преодолению слепоты, связанной с тем, что поле зрения одной «экзистенции» всегда ограничено. Вырваться из этой ограниченности можно лишь благодаря тому, что Маргвелашвили называет «сюжетным временем», то есть в процессе со-бытия и взаимодействия единичных «экзистенций»[410].
Понятие «сюжетного времени», в течение которого индивиды стимулируют друг друга к расширению «горизонтов» своего видения мира, отсутствует не только у Хайдеггера, но и у экзистенциалистов иного толка, утверждает Маргвелашвили.
Так, по Сартру, «каждая экзистенция есть, по существу, тотальное отрицание (mort) потенциальности другой». Совместное бытие, полагает Сартр, представляет собой лишь взаимоотрицание экзистенций, как вовсе чуждых друг другу миров[411].
Такое понимание человека исключает самую возможность возникновения «сюжетного времени». Дополняя мысль Маргвелашвили, скажем, что важнейший принцип драматургии — конфликтное общение ее персонажей, всегда необходимое и в той или иной форме плодотворное. Исходя из представления о том, что каждая личность тотально отрицает другую и их ничто не связывает, нельзя более или менее адекватно истолковать подлинно значительное произведение драматургии. Ведь оно всегда представляет нам сложный процесс взаимоотталкиваний-взаимопритяжений, благодаря чему действующие лица прорываются к неким новым истинам. Это ни в коем случае не процесс «самопознания», ибо, о чем свидетельствует «Царь Эдип», для драматургии на первом плане — истина, обретаемая человеком в ходе конфликтного общения с другими индивидами.
Узнавание Эдипом истины, доказывает Маргвелашвили, не есть акт единоличный: герой добивается своего благодаря своей вовлеченности в сюжет, то есть в процесс взаимодействия с другими лицами. Но Маргвелашвили (как, впрочем, и Пропп), говоря о поэтапном обретении Эдипом «знания», не связывает этот процесс с одной из важнейших его составляющих — с очищением через страдание. Проблема катарсиса предстает в «Царе Эдипе», как увидим, в разных ее аспектах, из которых важнейший — нравственное очищение, от узнавания неотделимое.
6
Античная трагедия появляется в ту пору, когда существование и поведение индивида уже не определяется полностью его принадлежностью к роду или полису. Возникающие при этом мировоззренческие проблемы волновали и художников, и философов.
Ведь в древнегреческом полисе, объединяющем свободных граждан в единую общину, в гражданский коллектив, обострялись не только социально-имущественные конфликты, но и связанные с ними противоречия в сфере политики, этики и нравственности.
Философия и искусство постигали смысл этих противоречий и выражали его на свойственном каждому из них языке. В драматургии этот смысл обретал образное, поэтическое воплощение — более доступное, чем философские понятия. Ведь те становились уделом не столь уж многочисленного круга «знатоков», в то время как трагедия будила чувства и мысли тысяч зрителей, заполняющих амфитеатр.
Хорошо известно, что в пору создания гомеровского эпоса господствующие в мире божественные силы не воспринимались человеком как противостоящие ему. «Внешне человек оказывается тем, что имманентно его духу и характеру»[412]. Конкретные мотивы действий героев «Илиады» в итоге всегда так или иначе «совпадают» с указаниями богов. Но развитие античной демократии ведет к тому, что «внешнее» перестает быть вполне имманентным требованиям человеческого духа. Так называемых «первых философов» все более волнует мысль о том, что «следование общим, гражданским законам сопряжено с ущемлением индивидуальных склонностей и интересов». Но, считают эти философы, именно эти устремления во что бы то ни стало «необходимо ограничивать»[413].
Такова, видимо, была точка зрения натурфилософа Анаксимандра, о чем нам приходится судить по единственному дошедшему до нас его высказыванию. Согласно толкованию этого фрагмента, которое принимал Вяч. Иванов, смерть является «справедливой расплатой за вину обособления»[414]. Если принять несколько иное толкование знаменитого фрагмента, Анаксимандр считает индивидуальные притязания обособленных, отдельных «вещей» (стало быть, и людей), противопоставляющих себя некоей всеобщей сущности, «нечестивыми»[415].
Но софисты уже не осуждают индивидуальные притязания субъекта. Напротив, для них человек — центр и творческое начало мира, а не всего лишь орудие высших сил, всецело от них зависящее. Как «мера всех вещей», человек не должен подчиняться существующим вне его законам, он призван сам их творить. То есть софисты видят в человеке «творчески-созидающую» сущность, побуждающую его критически относиться к общепринятым нормам.
Такой человек занял в античном мировоззрении совсем иное место, чем ему отводила древняя натурфилософия. В трагедии это различное толкование меры духовной свободы человека мы можем обнаружить, сопоставив «Орестею» Эсхила с написанной много позднее «Ифигенией в Авлиде» Еврипида. Затравленный Орест принимает страшное решение убить свою мать Клитемнестру по настоянию Аполлона. Ифигения же оказывается способной к самостоятельному решению. Разумеется, оно во многом определяется ситуацией, обстоятельствами, но все же пожертвовать собой решает она сама.
В своей книге «Aeschylus and Athens» Дж. Томсон сближает самый тип драмы, созданной Эсхилом, с идеями Пифагора. А в исследовании «Первые философы» Томсон обнаруживает близость Софокла к воззрениям Гераклита. У Софокла, как и у Гераклита, «центр тяжести переносится с примирения на конфликт». В «Царе Эдипе» Томсон находит «драматическое выражение гераклитовского закона взаимопроникновения противоположностей». Тут изгнанник становится царем, а царь — изгнанником. Независимый, свободный человек здесь оказывается в сетях некоей сверхчеловеческой силы, неотвратимой и не поддающейся разумному контролю[416].
Мы знаем, что с гераклитовской оппозицией «видимость — сущность» связывает «Царя Эдипа» Хайдеггер. Но можно найти и иные точки пересечения его философии с концепцией Софокла. Так, духовно-познавательным способностям человека, разуму, объединяющему его с другими людьми, Гераклит противопоставляет «своеволие» (в другом переводе: «самомнение»), связанное, видимо, не с разумом, а с чувством. Это своеволие, говорил Гераклит, «следует гасить скорее, чем пожар»[417]. Разум и своеволие, традиции и самомнение — к этим гераклитовским проблемам все настойчивее обращается античная трагедия, давая им свое художественное истолкование.
Софокл как бы ставит перед собой, перед своим зрителем, да и перед нами анаксимандровские и гераклитовские вопросы. Действительно ли любые притязания личности «нечестивы»? Впрямь ли самомнение и своеволие субъекта надо тут же «гасить» в пожарном порядке? В каких пределах допустимо «обособление» личности, возлагающей на себя ответственность за свои деяния, за все их последствия?
Софокл дает свои, неоднозначные ответы на эти вопросы, выстраивая фабулу так, чтобы заставить нас увидеть «носителем» этой проблематики не одного только Эдипа. Разумеется, главный герой на первом плане, но другие лица здесь отнюдь не пассивный, малозначащий фон.
Иные авторы, как мы знаем, дерзают толковать трагедию Софокла, не упоминая никого, кроме Эдипа. Но и Маргвелашвили, придающий важнейшее значение «сюжетному полю» трагедии, то есть взаимодействию персонажей, все же понимает дело односторонне: Тиресий, Иокаста, пастухи всего лишь информируют Эдипа, способствуя тем самым постижению им истины.
У Софокла они не только «информаторы». Их значимые поступки создают тот образный контекст, то поле трагического напряжения, вне которого нельзя ни понять, ни оценить деяния самого Эдипа. Это поле образуется у Софокла благодаря тому, что Лай, Иокаста, пастухи, Эдип — эти столь разные по своему положению и значению в фабуле лица — оказываются в сходных ситуациях, внутренне сопрягающихся в процессе рисуемого Софоклом действия.
Лай и Иокаста первыми из действующих лиц позволили себе проявить своеволие, попытавшись избежать осуществления божественного пророчества. Лай — безжалостен и жесток. Его цель — самосохранение. В отличие от него оба пастуха, спасая младенца и поступая вопреки приказаниям царя, движимы гуманными соображениями. Наконец, Эдип, стремясь избегнуть исполнения предсказаний, действует, побуждаемый сложными мотивами. Он думает не только о себе, но и о тех, кого считает своими родителями. При этом Эдип движим верой в свои возможности, в нравственность, основанную на побуждениях индивидуума и противоречащую беспрекословным велениям свыше.
Лай, согласно мифу заслуживающий возмездия, у Софокла предстает по-другому. Ожидающая его жестокость ничем не мотивирована.
Но и он, стремясь ее избегнуть, отвечает преднамеренной жестокостью. У Софокла Лай, несмотря на проявленную им личную инициативу, на совершаемый им вызов оракулу, то есть существующему миропорядку, гибнет, не пройдя через узнавание и не становясь героем трагическим. Драматург не показывает нам Лая и не вызывает к нему ни сострадания, ни даже сочувствия.^
Как это ни покажется на первый взгляд странным, Тиресий тоже не предстает как герой трагический. Ничего не узнавший Лай и всеведущий Тиресий уравниваются перед лицом героев, на которых обрушивается узнавание (Иокаста, пастухи), а тем более перед Эдипом, завоевывающим знание того, насколько противоречив мир, в котором он живет, прорывающимся к истине, хотя она свидетельствует о том, что последствия его действий противоречат их побудительным мотивам. Лай ищет выхода из угрожающей ему бесчеловечной ситуации, становясь преступником и не заботясь о своей жертве. В отличие от Эдипа, становящегося убийцей отца непреднамеренно, Лай преднамеренно готов стать убийцей сына. Что касается Тиресия, то он вообще выхода из ситуации не ищет. Он принимает ее как таковую. Тиресий, стало быть, изо всех персонажей наиболее принадлежит мифу, а не трагедии (да и драматургии в целом, которая строится на том, что ситуация не удовлетворяет тех или иных вовлеченных в нее лиц, стремящихся сотворить новую).
Эдип сотворяет ее, стимулируемый стремлением преобразовать, перестроить общепринятые устои, нормы, обычаи, сопротивляясь роковым силам во имя утверждения новых нравственных принципов. В этом смысле Эдип, разумеется, решительно противостоит Лаю и ближе к пастухам, хотя человеколюбие сделало и их первыми виновниками всех дальнейших несчастий (в ходе действия они сами это же и признают). Но в пастухах стремление не наращивать существующее в мире зло лишь пробивалось. В поведении Эдипа оно заявило о себе с огромной мощью. Решения, принимаемые им лично, его энергия и неукротимая воля — все это воплощает новый тип человеческого сознания, неспособного к безропотному подчинению высшим религиозно-мифологическим силам, готового вступить с ними в конфликт.
Если поведение эпического героя (например, Ахилла или Агамемнона в «Илиаде») так или иначе «совпадало» с замыслами или желаниями богов (хотя и те часто противоречили друг другу), то античная трагедия уже видит, сколь сложны взаимоотношения человека с божественными силами, ответственными за миропорядок. В «Орестее» Эсхила ситуация существенно отличается от эпической. Окончательное решение колеблющегося Ореста убить свою мать Клитемнестру связано с указанием Аполлона, но находится в явном противоречии с требованиями ужасных эриний, — они затравили бы Ореста, если бы дело не кончилось компромиссом между Аполлоном, Афиной и эриниями, которым приходится стать эвменидами.
В «Царе Эдипе» вовсе новая ситуация. Первоначально оракул лишь извещает: Лаю и Эдипу он предсказывает, но не приказывает. Потом, уже через Креонта, Аполлон предстает как инстанция повелевающая. До этого момента Лай, Иокаста, пастухи, Эдип действуют на свой страх и риск. В определенном смысле пастухи уже герои драматические, поскольку совершают нравственный выбор, — правда, не зная, с какими именно силами они вступают в борьбу. Пастухи находят компромиссное решение: как бы выполняя повеление Лая, вместе с тем спасают ребенка от смерти. Они не становятся героями трагическими.
Самостоятельность пастухов, не знающих, чьей воле они перечат, принимает у Эдипа форму сопротивления силам, уготовившим ему участь по своему усмотрению. Так Эдип начинает вырастать в героя трагического, чьи притязания вызывают сопротивление.
Тем самым Эдип обрекает себя на действия, вызывающие у нас (а затем и у него самого) ужас и содрогание. Но у зрителя это содрогание смешано с восхищением. Ведь Эдип совершил вызов силам жестоким, поставившим его перед роковыми испытаниями. Кем же он стал, пройдя через эти испытания? Всего лишь преступником? Всего лишь идеальным героем? Всего лишь обладателем неподлинного знания?
Говоря о проблемах морали и нравственности, В. С. Библер полагает, что в повседневной жизни необходимы моральные предписания. Но в трагедийные моменты они «отказывают». И тогда нравственность воплощается «в трагедийные перипетии свободного личного поступка», то есть в перипетии «созидания нравственности», и на этой основе — «полной личной и исторической ответственности за этот уникальный и единственный поступок»[418]. При этом философ называет имена Прометея и Эдипа, Христа, Гамлета, Дон Кихота, Фауста.
В чем мы можем усмотреть уникальность поведения Эдипа? После страшного пророчества у него, казалось бы, должны опуститься руки. Допустим, что у него хватило благоразумия не возвращаться в Коринф. Но в ходе дальнейших событий перед нами предстает не благоразумно-осторожный человек, озабоченный, подобно Лаю, всего лишь своим спасением. Он вступает на путь созидания новой нравственности, соответствующей его представлениям о человеческом достоинстве. Блюстители старых норм безжалостно сопротивляются переменам. Эдип оказывается достойным их противником. Созидательно-творческий акт, им совершаемый, обрекает его на страдания, но при этом он творит себя как личность.
Когда Эдип отправляется в Дельфы с? вопросом: «Кто я?», он подлинным «я» еще и не обладает. Юноша Эдип задает этот вопрос, так сказать, преждевременно, ибо свое «я» ему предстоит обрести. Первый шаг на этом пути — возможно, самый ответственный — он делает, решив по своей воле не возвращаться в родной Коринф. Так он вступает в противоборство с надличными силами, уверенными в своей способности по-своему манипулировать человеком, лишенным своего «я».
Сократ призывал: «Познай самого себя». Софокл ставит вопрос иначе. Эдип вступает на путь поисков своего «я», который оказывается путем одновременно и самосотворения и самопознания в процессе со-бытия, взаимо-действия и противо-действия разных сил, порождающих экстремальные ситуации. Они становятся как для главного героя, так и для других лиц испытаниями их потенциальных возможностей в условиях существующего, сопротивляющегося переменам миропорядка. Не в одиночку, не через самоуглубление, а через страдания, в которые он, вступив на путь сопротивления, повергает себя сам и в которые повергают его другие лица и божественные силы необходимости, творит он себя.
При этом всем ходом действия опровергается представление о суверенности личности как об абсолютной ее независимости. Показывая, насколько велика взаимозависимость индивида и общественного целого, Софокл тем самым не отрицает значения суверенности, а, напротив, вызывает восхищение ею. Лишь у такой личности возникает та страсть к узнаванию, которой одержим Эдип, — ибо, по существу, лишь перед подобным индивидом возникает проблема утверждения своей воли и своего миропонимания в столкновении с устоями господствующего миропорядка.
Трагическая активность Эдипа проявляется по-разному: в его решениях, в поступках, в узнаваниях. Сам процесс узнавания, прорыв Эдипа к истине о себе и о мире отличается активностью, приобретающей все более глубокий смысл.
Аристотель, если вдуматься в «Поэтику», считал «узнавание» через страдание драматическим, трагическим действием. Впоследствии, упрощая Аристотеля, к действиям стали относить не диалоги, а лишь, так сказать, «физические» акции, впрямую направленные одним лицом против другого. В античной трагедии такие акции всегда происходят за сценой. А ее площадь трагики отводили перипетиям, дискуссиям, узнаваниям, страданиям, нравственным катастрофам.
Драматическое, трагическое узнавание — это действенный, творческий акт. Он ведет к преображению и познающего субъекта, и познаваемых «объектов». Таков его смысл. В контексте тех узнаваний, которые достаются в трагедии Софокла Иокасте, пастухам, домочадцам, узнавание Эдипа — вершинное, все более приобретающее у него характер трагической одержимости.
В «Царе Эдипе» эта поисковая одержимость структурирует все действие. Ведь Эдип, еще не познавший ни могущества сил, которым он воспротивился, ни собственных, в нем таящихся возможностей, и Эдип, прошедший тяжкий путь сопротивления-познания, — это же разные люди. Да и действительность, Эдипом осознанная, тоже уже не та, что была до того, как подверглась его воздействию. Дело не только в том, что город Фивы был осквернен и очищен им дважды, а и в том, что он обогатил миропорядок своей неуемной человечной энергией. Мир до того момента, когда в него вторглась активность Эдипа, был много беднее.
Выкалывая себе глаза, Эдип (по Проппу) наказывает себя за преувеличенную веру в свою независимость от таинственных сил необходимости. Вместе с тем, отказываясь от роли марионетки в их руках, он вменяет себе в ответственность поступки, совершенные им по неведению, как и решение, осознанно им принятое уже в Дельфах. Возлагая на себя полноту ответственности за последствия (неоднозначные, противоречивые) своей активности, он тем самым одновременно утверждает и свою суверенность и свою зависимость от миропорядка.
Зрителя «Царя Эдипа» приводило в содрогание не только «торжество» безличных сил, добивающихся тут своего. Его восхищение вызывало поведение Эдипа, сотворившее многое сверх того, что было «запрограммировано» ими. Эдип противопоставил им достоинство человека, его стремление утвердить новые нравственные принципы, страсть к познанию, то есть человеческие качества, несопрягаемые с безличностью и безответственностью.
Нравственная перипетия, переживаемая Эдипом, сложна по своему содержанию. Его притязания, его сопротивление, его борьба за новую, человечную нравственность оправданны. Но его уверенность в том, что он вполне независим от надличных сил, претендующих на полное всевластие в существующем миропорядке, не оправдывается ходом событий. В этом именно смысле Эдип в итоге предстает и правым и виноватым одновременно. Ему предстоит нравственное очищение.
О необходимости очищения Фив от скверны речь идет уже в Прологе трагедии. Прибывший из Дельф Креонт излагает веления Аполлона:
Ту скверну, что в земле фиванской, Изгнать, чтоб ей не стать неисцелимой.Эдип спрашивает:
Каким же исцеленьем, чем помочь?Креонт уточняет требование дельфийского оракула:
Изгнанием иль кровь пролив за кровь…Проблема очищения — наследство, полученное античной философией и искусством (не только трагедией) — от древнейших времен, когда господствовала вера в возможность очищения от «скверны», «нечисти», болезней, бедствий, разрушительных сил с помощью обрядового омовения, жертвоприношения и т. п.
Аристотель говорит о «подражании», о «мимезисе» в трагедии, связывая его с катарсисом. Тут очищение резко отличается от катарктики, имевшей место в обрядовой, до-театральной практике. Очистительные обряды отдаленных эпох прикреплены к смене времен года, к умиранию и возрождению в природе. «Скверна» понималась тогда не в моральном, а в космическом смысле. «Убивали», топили, вешали, бросали со скалы зиму, старый год и увенчивали новый — весну, лето.
Когда очистительный обряд был перенесен и на живые существа, пораженного скверной человека подвергали омовению, бичеванию и т. п. Жертвоприношение «козлов отпущения» тоже стало средством очищения от мора, болезней, катастроф. Все это — очищения в прямом, так сказать, «медицинском» смысле слова, подразумевавшем удаление «негодного». При этом совершался и своего рода мимезис — но обрядовый. Здесь подражали не вымышленному действию, а своеобразно понимаемым природным процессам. Здесь еще нет деления на участников и зрителей.
О. М. Фрейденберг, сопоставляя обрядовую и трагическую ка- тарктики, опровергает мнение Я. Бернайса, неправомерно отождествлявшего катарктику трагическую с очищением, имевшим место в архаическую эпоху. Многими принятая «медицинская» теория катарсиса, выдвинутая Бернайсом, к трагедии неприменима, ибо здесь катарктика обретает иные функции. Если даже в архаическую эпоху под «очищением» в природе подразумевали не только освобождение от «негодного», но и рождение из холода, бесплодия и мрака нового живительного солнца, то эта особенность очищения усложнилась в трагическом катарсисе, связанном с конфликтом драматическим.
Мифологический образ, обогащаясь мыслью, ведет в трагедии к рождению образа поэтического. Теперь мимезис создает не «иллюзию реальности» (чем ранее занимался мим), а иллюзию особой, добытой «узнаванием», художественно постигнутой действительности. Вместе с героями и исполнителями ролей зритель вступал в «возможную» действительность, «слепок» с которой погружал его в мир «подлинности»[419]. Благодаря этому образному действию и создаваемой им иллюзии зритель подвергался «очищению» уже не физическому, как в обряде, и не только этическому, как в культе (в мистерии, например), но и художественно-познавательному, эмоциональному, психологическому. Теперь зритель «очищался» не в прямом смысле (от «скверны»), а в переносном, то есть освобождался от всего будничного, приобщаясь к могучему «сущему»[420].
Весь ход рассуждений Фрейденберг ведет нас к мысли о том, что благодаря перипетиям фабулы и страданиям, которые переживают действующие лица, к «сущему» приобщаются не только они (прежде всего те из них, что к этому способны), но и в еще большей мере сострадающий им зритель.
В своей «Поэтике» Аристотель связывает очищение (катарсис) с состраданием. Это, казалось бы, общеизвестно. Однако, следуя мысли Аристотеля о том, что «известное известно немногим», приведем полностью его определение трагедии: «Трагедия есть подражание действию важному и законченному, имеющему определенный объем, производимое речью, услащенной по-разному в разных ее частях, производимое в действии, а не в повествовании и совершающее посредством сострадания и страха очищение (katharsis) подобных страстей»[421].
Казалось бы, речь здесь идет лишь об очищении зрителя через испытываемое им сострадание. Но в той же «Поэтике» Аристотель говорит и о «спасении посредством очищения» самих героев трагедии (ему подвергается Орест в еврипидовской «Ифигении в Тавриде» и в не дошедшей до нас трагедии Полиида). В «Орестее» Эсхила опять же речь идет об очищении матереубийцы Ореста. Стало быть, автор «Поэтики» полагал, что очищению подвергаются не только зрители, но и действующие лица.
Так оно и происходит в «Царе Эдипе». Очищение, которого ждут жители Фив, а затем — Креонт, соответствует позитивистскому % представлению о катарсисе, выдвинутому Варнайсом: речь идет об очищении как «удалении», «выбросе», «избавлении» от негодного.
В античной трагедии по ходу действия возникает необходимость в самых разных формах очищения. В «Царе Эдипе» катарсис предстает перед нами на различных уровнях: от, так сказать, «врачебного», «терапевтического» до катарсиса как нравственной перипетии.
Существуют разные мнения о цели, преследуемой такой перипетией. Сострадание и узнавание, полагает Д. Элс, приводит зрителя к неким выводам и умозаключениям[422]. Развивая толкование Элса, ссылаясь при этом на платоновского «Софиста» и IV главу «Поэтики» Аристотеля, Л. Гольден видит в очищении акт «интеллектуальный»[423]. Сходную мысль высказал и А. Ничев: очищение, полагает он, ведет к преодолению «ложных мнений»[424].
Согласно этим (и многим иным) толкованиям, Аристотель под катарсисом понимает лишь избавление «от» (болезней и болезненных аффектов — по Бернайсу; ложных умозаключений — по Ничеву и т. д.).
Интересна позиция Е. Г. Рабинович, связывающей катарсис с финальной развязкой, с моментом, когда познание истины «меняет все»[425]. Обращаясь, вслед за Рабинович, к древнейшей рукописи «Поэтики», Н. В. Брагинская вообще не находит в ней слов об «очищении страстей». Основываясь на этом, давая свое толкование взглядов Платона на назначение трагедии, опираясь и на высказывания Аристотеля в разных его сочинениях, Брагинская приходит к выводу, что оба философа резко разделяют очищение как «врачевание» от «катарсиса души».
В «Поэтике» речь идет не только об устранении ложных мнений и заблуждений, но и об «уяснении или прояснении самих знаний-пониманий». Такое «распознавание» и «уразумение» доставляет радость зрителю. У Аристотеля, полагает Брагинская, «эмоциональный, нравственный, эстетический эффект трагедии предстает как интеллектуальная радость от достижения ясного понимания»[426].
Наиболее ценно в суждениях Рабинович и Брагинской то, что в катарсисе они видят не столько «освобождение от», сколько обретение некоего «знания». Но если рассматривать катарсис в органической связи с аристотелевским пониманием фабулы как перипетии — узнавания — страдания, очищение предстанет перед нами не только процессом интеллектуальным, сугубо познавательным.
Ведь, по Аристотелю, новую истину герой обретает через страдание, а зритель — через со-страдание. Драматический (трагический, комедийный) герой эту добытую, завоеванную, сотворенную истину (всегда — связанную с перипетийно-катастрофическими поворотами в ходе действия) должен выстрадать. Этому принципу, открытому античными поэтами и сформулированному Аристотелем (пусть и не столь отчетливо, как нам бы хотелось), драматургия верна во все времена.
Тот процесс прорыва к нравственно-мировоззренческой истине, к «сущности» бытия, который предстает перед нами в «Царе Эдипе» (и который имеет в виду Аристотель), разумеется, связан с энергией интеллектуальной, но требует, прежде всего, активности эмоционально-страстной. Поисковая активность героя трагедии стимулируется как экстремальностью ситуаций, так и его личностными установкам и его страстными устремлениями. Самую истину, им постигаемую, он, разумеется, не способен, да и не стремится выразить понятийно. Она и не поддается исчерпывающему истолкованию в понятиях, ибо это — истина-переживание.
Для зрителя она неотделима от сострадания-удовольствия. Ведь Аристотель связывает сострадание-очищение зрителя с особого рода удовольствием, им испытываемым. Является ли это удовольствие интеллектуальным? Казалось бы, о каком вообще удовольствии может идти речь, если зритель не только созерцает, но и со-страдает, становится со-участником трагических событий, происходящих на сцене?
Существует весьма примитивное объяснение этому феномену: зритель, мол, способен испытывать удовольствие, поскольку несчастья обрушиваются не на его голову. Его, мол, дело — сторона. Он радуется тому, что катастрофы его минуют, да и обрушиваются они не на реальных людей, а на вымышленных персонажей. Это объяснение — донельзя упрощает содержание зрительской реакции.
Ведь зритель лишь тогда полноценно реагирует на происходящие перед его глазами события, когда его Потрясают столь безмерные притязания, столь высокие дерзновения героя, на которые реальный человек в своей обыденной жизни не способен.
От античной трагедии Аристотель ждет не того, что бывает в жизни, а возможного, вероятного — и вместе с тем необычайно для нас «важного».
В своих сочинениях, посвященных нравственным проблемам, возникающим перед человеком в реальной жизни («Никомахова этика»), Аристотель предлагает людям руководствоваться не страстями, а разумом. Но в отличие от своего учителя Платона, осуждавшего искусство трагедии за вызываемое ею восхищение порочными лицами, автор «Поэтики», не считая героев трагедии носителями пороков, высоко оценивает ее идейно-эстетическое воздействие на зрителя.
Пусть вовлеченные в вымышленные трагические сюжеты лица ведут себя совсем не так, как подобает, по Аристотелю, жить реальным людям. Пусть аффекты героев, их страсти далеко не всегда подчиняются разуму и даже увлекают его за собой. Автор «Поэтики» находит огромный смысл в поведении трагического героя, стимулируемого патосом (нравом, норовом, волей) более, чем разумом.
Автор «Поэтики» признает особого рода познавательно-эстетическое, очищающее предназначение трагической поэзии, где уделом героев становится то самое страдание, которого он в своих сочинениях по этике рекомендует всячески избегать реальному человеку. Через страдание эти герои прорываются к тем истинам, к той сущности бытия, которые остаются скрытыми от суетного обыденного сознания.
Мысль об очищающем страдании Аристотель связывает с «большой ошибкой» героя, с тем, что впоследствии было названо Гегелем «трагической виной». Ярхо, как мы знаем, саркастически относится к тем, кто «выискивает» у Эдипа вину, да еще трагическую. Сам Эдип задолго до того, как этим занялись «незадачливые» исследователи (здесь первое место занимает Гегель), признает свою вину и наказывает себя за нее, хотя, разумеется, и не называет ее «трагической».
Самое это понятие — результат осмысления наукой тех сложных ситуаций, в которые вовлекается герой трагедии — не только в силу обстоятельств, но и по своему свободному решению. В «Царе Эдипе» трагическая вина героя предстает не как чувство, изначально присущее человеку. Эта вина порождается определенным состоянием мира — обострявшимися в маленьких античных полисах противоречиями между личностью и общественным целым.
Гордый своей суверенностью, Эдип готов переоценивать свои возможности, умаляя значение объективных, надличных сил, неумолимо воздействующих на ход жизни. Это и нашло свое художественное отражение в трагедии. Стало быть, трагическая вина — не «идеалистическая выдумка», как у нас многие считают по сей день, а реальная проблема, художественно исследуемая античной трагедией.
Если врожденный «комплекс вины», который иные авторы усматривают в человеке, непреодолим, то «трагическая вина» героя античной (и не только античной) трагедии доступна очищению. Эдип становится ее носителем, но ход действия открывает перед ним возможность и очищения от нее. Решающее значение здесь имеет то, что герой готов отвечать за все последствия своих действий — даже тех, в которых он с позиций здравого смысла неповинен.
Сам Эдип считает себя виновным. А мы, оправдывая его стремление утвердить свою суверенность, вместе с тем видим, какие противоречия оно таит в себе.
По мысли Ф. Зелинского, в «Царе Эдипе» так называемые «сцены виновности» вынесены в экспозицию. Небольшой объем античной трагедии не позволял в рамках сценического действия «представлять и трагическую вину, и возмездие, как это делает Шекспир, например, в «Макбете»»[427].
Наиболее трудный вопрос, возникающий при анализе «Царя Эдипа», — какие именно моменты в поведении главного героя следует отнести к тому, что можно называть «сценами виновности»? Казалось бы, речь должна идти об убийстве Лая и женитьбе на Ио- касте. Но ведь эти поступки — следствие свободно принятого Эдипом решения не возвращаться в Коринф, дабы не осуществилось пророчество. Именно в этом решении таилось противоречие, о котором Эдип и не подозревал.
Его вызов высшим силам, абсолютно обоснованный нравственно, обернулся роковыми последствиями. Самое это решение, этот самонадеянный вызов, эта уверенность в своей независимости от посторонних (потусторонних — согласно религиозным верованиям древнего грека) сил таили в себе возможность рокового исхода.
Эдип уже вступает на путь героя трагического именно в тот % момент, когда, получив пророчество, воспротивился его осуществлению. Предлагая считать первым поворотом в ходе действия это решение Эдипа, то есть искать истоки его трагедии в стремлении утвердить себя, свою суверенность, я отдаю себе отчет в том, что понятие «личность», которое напрашивается на всем протяжении этой главы, вовсе отсутствует в языке античной классики. Но грекам было присуще острое ощущение «противоположности личности и судьбы», и потому «вся трагедия была построена на судьбе именно личности»[428].
А. Ф. Лосев отвергает представление, будто в понимании греческой классики личность, «определенная судьбой», есть по этой причине «нечто бессильное, непринципиальное, какая-то пешка в руках высших сил».
Выше мы ссылались на Томсона, связывавшего Софокла с Гераклитом. Можно найти и те точки пересечения их проблематики, которые не попали в поле зрения английского ученого. Гераклит говорил о «демоническом характере» человека и сводил индивидуальность к определяющему ее «демону». По Гераклиту, первое основание этического субъекта — это присущий ему ethos, который есть его демон[429]. Считая, что индивидуальность человека и есть его демон, Гераклит тем самым преодолевает древнее мифологическое понимание, согласно которому все в человека вкладывается свыше богами, а сам он — ничто. «Если ethos человека и есть демон, тогда на первый план выдвигается сам человек, его личность и внутреннее содержание этой личности»[430].
В античной трагедии, как и в философии, своим чередом шло переосмысление мифологического представления о человеке как о некоем извне наполняемом сосуде. Если под «демоном» Гераклит понимал внутреннее самоопределение человека, то и Сократ много позднее тоже говорил о своем демоне, изнутри определявшем нравственный смысл его собственного поведения.
Этот философский контекст побуждает нас видеть в Эдипе личность, сосредоточенную на стремлении к этическому самоутверждению, к противопоставлению себя безличному члену некоей родовой или городской (полисной) общности, которому ничто своеобразное и индивидуальное не присуще.
Разумеется, понимание личности, возникавшее в античной философии и трагедии, резко отличается от смысла, которым оно наполнялось в христианстве и в новоевропейском сознании. Но и то представление о достоинстве, суверенности, своеобразии героя, что присуще античной трагедии, решительно отграничивает ее от мифа.
Имеем ли мы все же основания, говоря об античности, применять к ее трагической поэзии, к ее философии такое понятие, как «суверенная личность»? По мысли Л. М. Баткина, к этой эпохе не следует относить понятия «индивидуальность», «личность», возникшие много позднее. В античности эти понятия закономерно отсутствовали, поскольку тогда не было и того «феномена», который этими словами стали обозначать в новое время. «Ни Эдип, ни Антигона, ни Катон, ни Алексей человек Божий, ни Тристан, ни Жанна д'Арк, ни даже Сократ и Блаженный Августин ни в коей мере не были и не могли быть «индивидуальностями», «личностями»», — утверждает Баткин[431].
По Баткину, «беспрецедентное» понятие самоценной личности возникло лишь тогда, когда стало ясно, что отдельный человек значит бесконечно много «в качестве такового, а не потому что он есть частица чего-то огромного». Что же касается античного человека и героя античной трагедии, то в них, полагает Баткин, нельзя усмотреть ни индивидуальности, ни личности, поскольку они выбирали не себя, а одну из «правд», в которые верили люди той эпохи.
Так, Антигона выбирала долг родства вопреки предписаниям государственности. Героиня эта была верна не себе, а тому, что представительствовало в ней. Она могла размышлять, жаловаться, упорствовать, но она не менялась, ибо решала все-таки не она, а решала «в ней» некая надличная инстанция[432].
Здесь, по Баткину, отсутствовало то, из чего рождается уникальная, индивидуальная суверенность — не было переплавки в «тигле своей внутренней свободы и единственности всей преднайденной истории и культуры». Такая коренная «переплавка» — условие появления личности, которой присуще особое, неповторимое, уникальное самосознание. Если Антигона отвечает за свои действия, а не за их смысл, то подлинная личность вносит в мир новые смыслы, от нее исходящие, ею самой порожденные, полагает Баткин.
Такие исключительные люди, как, например, Сократ, допускает Баткин, «во многих отношениях, конечно, похожи на то, что воз- % никнет позже и будет названо личностью». Но даже в случае с Сократом «для личности тут недостает идеи личности», а «где такая идея была невозможна, не было и самих личностей, т. е. людей, оцениваемых в свете этой идеи»[433].
Настаивая на том, что идея личности — достояние и феномен лишь новоевропейского сознания, отвергая мысль, будто эта идея вызревала в предшествующие эпохи, Баткин все же признает, что понятие личности «могло быть постепенно и трудно выработано лишь из антично-христианской традиции». Если это верно, то надобно в софокловом Эдипе оценить именно те особенности его норова, которые позволяют увидеть в нем героя, вступившего на путь личностного самоутверждения.
Поэтому вызывает сомнение и то определение ситуации Эдипа, которое дает Баткин, заявляя: «Эдип, сверявший каждый шаг с тем, как положено вести себя доблестному мужу, а потому излишне самоуверенный, попадал в силки, расставленные Роком»[434].
Во всей книге Баткина лишь эта фраза остается непонятной. Неясно, с чем именно «сверял свои шаги» Эдип, вступая в схватку на перекрестке трех дорог; угрожая пытками Тиресию и пастухам, а Кре- онту — смертью; запальчиво заявляя, что он сын Судьбы, а месяцы ему братья. Нет, Эдип при этом ни с чем свои шаги не сверял и поступал согласно велениям своего сознания и темперамента. Если способность принимать самостоятельное решение, не ориентированное на какие бы то ни было прецеденты, — одна из составляющих того, что можно считать суверенной личностью, то Эдип именно ее проявляет.
А с чем он сверял свои шаги, выкалывая себе глаза? Говоря о способности Эдипа принимать личностные, никем не предусмотренные решения, обратимся еще раз к эксоду трагедии. Потрясенный увиденным во дворце, Домочадец рисует хору полную страшных подробностей картину самоубийства Иокасты и самоослепления Эдипа. Ощущает ли Домочадец трагическую необходимость свершившегося? Нет, он не способен ни оправдывать, ни осуждать, ни даже понимать. Скорее всего, судя по его монологу, все случившееся кажется ему ужасным и противоестественным.
Хор примиряется с самоубийством царицы, к Эдипу относится сочувственно, но причин его самоослепления не понимает:
Как дерзнул ты очи погасить?.. Хвалить ли мне поступок твой — не знаю, Но лучше не родиться, чем ослепнуть…Тут, в эксоде, совершается наивысший взлет нравственности Эдипа, что Хор не сразу способен осознать. Эдип разъясняет: без воли Аполлона все бы не свершилось, но виноват во всем случившемся он один:
Глаз никто не поражал мне — Сам глаза я поразил…Говоря о том, что по своему ведению выколол себе глаза, он, видимо, имеет в виду то, что ранее, изначально, когда он был вполне зряч, зрение его было «поражено».
Теперь, ослепив себя, Эдип принимает кару более тяжкую, чем положенное ему изгнание: он обрекает себя участи самой жалкой изо всех возможных.
Победила ли в итоге Эдипа злая Судьба? Растоптала ли его вконец? Нет, по-своему он восторжествовал над ней, активно участвуя в со-творении своего будущего с момента, когда он покинул Коринф, вплоть до тех минут, когда он вонзил себе в глаза золотую иглу. Ведь тем самым он возлагает на себя ответственность и за все великое, и за все преступное, что было им совершено.
Не позволяет ли нам финальное решение Эдипа характеризовать его как суверенную личность?
А в его страсти к познанию истины о себе, о своем месте в мире, благодаря чему он и стал самим собой, — разве здесь можно усмотреть ориентацию на какие-то готовые образцы? Личностность Эдипа — в его поисковой активности, определившей взрыв его творческой энергии, все его необычное поведение, характеризующее его не как идеального, доблестного героя, а как лицо, которому ничто человеческое не чуждо. И наконец, готовность и способность отвечать за все свои поступки, за состояние мира — разве это в целом не говорит нам о нем как о суверенной личности?
Эдип несомненно вносит в мир господствующих в его время смыслов свой, новый, лишь им добытый смысл. Потому именно и возникает трагический конфликт между ним, другими действующими лицами и надличными силами. Трагедия как жанр поэзии драматической ведь возникает именно тогда, когда конфликт между личностью и общественным целым предстает в своей остроте и непримиримости.
В мифе такой непримиримый, становящийся предметом рефлексии конфликт отсутствует. Там безраздельно господствует необходимость. Этим определяется разительное и коренное различие фабульных структур мифа и трагедии.
Одна из особенностей мифологической фабулы — за преступления предков здесь возмездие обрушивается на близких и далеких потомков. Так, например, согласно мифу, не только Лай, но и его потомки гибнут, проклятые царем Пелопсом за то, что тот похитил его сына Хрисиппа. Древнегреческая пословица гласит: «Медленно мельницы мелют богов, но старательно мелют». В ней отражены мифологические представления о соотношении преступления и возмездия. В мифологии мельница богов действительно работает без спешки: наказание от преступления часто отделено большой временной дистанцией. Жертвой возмездия может стать лицо, не совершавшее преступлений, но принадлежащее к одному роду с преступником.
Фабула трагедии строится по иному принципу, поскольку она имеет дело с индивидом, не только выделившимся из родовой общности, но и способным противопоставить себя городской общине-полису. Поэтому в трагическом действии возникает новое соотношение между мотивами, поступками, их последствиями и теми узнаваниями-страданиями-очищениями, которых в мифе вовсе нет.
Софокл отказывается мотивировать судьбу Лая и его детей по мифу. Лай погибает вовсе не вследствие проклятия Пелопса. У Софокла его смерть — следствие не только участи, приуготовленной ему свыше, но и его собственной жестокости и спесивой гордыни: он хочет избавиться от младенца, не задумываясь наносит он удар неизвестному ему путнику (которым оказывается его сын Эдип). Мысль о достоинстве личности ему чужда, поскольку он живет представлением о правах, определяемых царским саном.
Выдвигая идею ответственности личности за содеянное ею, да и за состояние мира, античная трагедия нашла структуру действия, на которой во многом зиждется мировая драматургия и поныне. Говоря о героях трагедии, непременно пожинающих плоды своих деяний, Гегель несомненно имел в виду коренное различие между структурой действия в произведении драматургии и ходом событий в реальной истории.
Видимо, история, подобно богам Древней Греции, тоже часто «медленно мелет». Драматическое же действие, — это следует из толкования, которое мы находим в гегелевских «Лекциях по эстетике», — все «перемалывает» в кратчайший срок, приводя к такой развязке, когда герой отвечает за все последствия им содеянного. Отличие структуры трагедии от структуры мифа определяется тем, что в мифе безраздельно господствует необходимость, а в трагедии с ней вступает в противоборство субъект, все более настойчиво отстаивающий права личности, но и сам же несущий ответственность за свои действия.
В мифе роковая необходимость, судьба могущественнее богов. Разногласия между ними сказываются на судьбах героев, не совершающих ничего подлинно героического; ибо, повинуясь богам, они тем более не смеют противостоять таинственному року.
В работе о первом великом драматурге античности А. Ф. Лосев заявляет: «…мифология у Эсхила, строго говоря, играет только служебную роль, являясь выразительницей идей, уходящих далеко за пределы всякого антропоморфизма»[435]. Коренное отличие трагедии Эсхила не только от мифа, но и от эпоса и лирики Лосев видит в том, что в ней вопрос об отношении отдельного человека к божеству и к истории уже предстал как сложная проблема, требующая углубленной рефлексии. При этом Эсхил художественно выявляет «диалектику роковой необходимости и героической свободы»[436].
Переиздавая эту свою работу, Лосев смягчил процитированные выше заявления о «служебной» роли мифологии в трагической фабуле, устремившейся к выявлению диалектики свободы и необходимости. Лосев, возможно, счел свои прежние формулировки слишком категорическими применительно к творчеству Эсхила. Но в принципе эти мысли ученого помогают нам понять главное в проблемной направленности всей античной трагедии, в особенности — «Царя Эдипа».
Принято находить отражение философско-политических интересов у Эсхила и Еврипида. Софокла же, автора «Царя Эдипа», прежде всего считают искуснейшим поэтом, а его «Эдип» был признан лучшим из еще двенадцати трагедий на эту тему благодаря безупречно, идеально отработанному сюжету. Означает ли это, что трагедия Софокла не несет в себе философского содержания — актуального и для V века до новой эры, и для последующих тысячелетий?
В его трагедии диалектика свободы и необходимости приобретает необычайную остроту. Роковая необходимость выступает в «Царе Эдипе» как сила сугубо жестокая, мрачная и неумолимая (в то время как Эсхил и Еврипид видят ее способной идти навстречу человеку, — к этому вопросу мы вернемся в главе, посвященной «Ифигении в Авлиде»[437]).
Но и свобода в устремлениях Эдипа предстает в наиболее героических притязаниях и возможностях, во всем доступном ей нравственном величии, со всей присущей ей безбоязненной энергией, направленной к утверждению прав человека, к познанию скрытой сущности бытия — и не только к познанию, но и со-участию в его со-творении. Выкалывая себе глаза, Эдип признает, что был слеп, когда дерзостно возомнил себя вовсе независимым от правящих миром надличных сил. Это признание — главное слагаемое претерпеваемого царем нравственного очищения.
Проблема действия в теории драмы Г. Э. Лессинга
Взгляды Лессинга на драматургию и на природу действия (как индивидуального лица, так и общего драматического процесса) развивались в границах эстетического рационализма XVIII века. Правда, этот рационализм имел не догматический, а критический характер. К тому же воззрения Лессинга со временем обогащались под влиянием таких авторов, как Ж. Б. Дюбо, отводивших в процессе познания большую роль не только разуму, но и чувствам и даже считавших именно свидетельства чувств исходными в этом процессе.
Лессинг страстно стремился создать в Германии литературу, соответствующую проблемам и потребностям своей страны, способствующую борьбе с господствующим в ней феодальным строем. С этим, прежде всего, связан его критический пересмотр популярной в ту пору доктрины классицизма XVII века.
По мысли Г. Фридлендера, автора ряда фундаментальных исследований теоретического и художественного наследия Лессинга, его «борьба с искусством классицизма была важнейшей предпосылкой при утверждении нового сценического репертуара и новых принципов театрального искусства». Но какого именно репертуара добивался Лессинг, остается недостаточно выясненным. Разбор пьес, составляющих репертуар Гамбургского театра, с которым сотрудничал Лессинг, позволил ему, полагает Фридлендер, «критически охарактеризовать на страницах «Драматургии» основные направления европейской драмы XVII–XVIII веков»[438].
Но дело не только в выявлении Лессингом существа направлений драматургии этих веков. Роль Лессинга — теоретика драмы много шире. Он заложил основы того направления, того жанра в развитии мировой драматургии, которое оказалось ведущим на драматической сцене в будущем, в XIX–XX веках. Процессу этих поисков и результатам, достигнутым Лессингом, посвящена предлагаемая работа.
Среди ряда его сочинений, посвященных этим многолетним поискам, особое значение имеет эстетический трактат «Лаокоон» (1766), где автором дано новое толкование природы и назначения действия в поэзии[439]. Выдающаяся роль этого сочинения в развитии немецкой литературы и художественной критики общеизвестна. Но и по сей день остается неясным, какое именно содержание вкладывал Лессинг в то понятие «действие», которое он считал главной особенностью поэзии. Уже в «Лаокооне» в зародышевом виде сказываются те взгляды Лессинга на драматургию и та его склонность к утверждению на сцене нового драматического жанра, которые становятся все более явными в «Гамбургской драматургии» (1767–1769)[440], где Лессинг оценивает драматургию французского классицизма и ведет речь о том, каким он хотел бы видеть репертуар немецкого театра в ближайшем и отдаленном будущем.
Поставив в «Лаокооне» вопрос о границах между поэзией и живописью, Лессинг придает важное значение «материалу», которым пользуется каждое из этих искусств (слово в поэзии, краски, плоскость, твердый материал в живописи и скульптуре). Пластические искусства изображают предметы, существующие и сосуществующие в пространстве в определенное мгновение времени, в то время как поэзия изображает действия, сменяющие друг друга в процессе времени развивающегося.
Что, однако, в «Лаокооне» понимается под действием? Лессинг аргументирует свое понимание рядом примеров из «Илиады». Гомер не показывает нам колесницу Юноны в готовом виде. На наших глазах действует Геба, составляя колесницу из колес, кузова, дышла, упряжи. Рядом последовательных действий она составляет все эти предметы в единое целое — колесницу. Подобным же образом создается лук Пандара. И хитон Агамемнона нам не показан в готовом виде. Гомер изображает сам процесс надевания хитона. В этом процессе тоже своя последовательность и постепенность.
Каков вывод Лессинга, основанный на этих примерах? Вывод таков: «Я нахожу, — пишет Лессинг, — что Гомер не изображает ничего, кроме последовательных действий»[441]. Сюжеты с последовательным, постепенным действием — такова, по Лессингу, сфера поэзии. Являются ли такого рода действия подлинно драматическими акциями? Ныне этого рода действия принято называть рационально-целевыми. К ним вполне применимы такие характеристики, как целенаправленность, последовательность, постепенность, столь важные для автора «Лаокоона».
Но, ссылаясь на сцены из «Илиады», на повествовательно изображенные действования, Лессинг готов возвести их в норму. Современная наука к такого рода действованию, где возможны ошибки в последовательности и возникает необходимость в их исправлении, применяет термин: «сличение». Если результат действия при «сличении» не соответствует намерению, можно совершить иное, опять же целесообразное действие, ведущее к требуемой цели.
Возможны ли в драматургии такого рода действия со «сличением», с переменой уже сделанного поступка, ради достижения цели, соответствующей замыслу? В драматической поэзии действие, во-первых, не всегда рационально-целесообразно. Во-вторых, в драматургии результат совершенной акции чаще всего не соответствует намерению и не отменим. Лессинг неправомерно распространяет наблюдения над рационально-целевым действием, изображенным в «Илиаде», на любые действия в поэзии, тем более драматической, где мы часто имеем дело со спонтанными акциями, вовсе не достигающими цели.
Сам Лессинг не был вполне уверен в обоснованности и универсальности своего толкования действия. Так, в одном из набросков продолжения «Лаокоона» он говорит: «Ряд движений, направленных к единой конечной цели, называются действием»[442]. Это определение, к сожалению, дожило до наших дней и многие его повторяют.
Но сам автор «Лаокоона» в другом наброске написал: «…поэт изображает действия, а не тела: действия же являются тем более совершенными, чем более проявляется в них разнообразных и противодействующих друг другу побуждений»[443].
Как видим, во второй цитируемой записи нет разговора о ряде последовательных движений к единой цели. Оказывается, побуждения к действиям могут быть разнообразными и даже меняться у одного и того же лица. Лессингу нетрудно было убедиться в том, насколько в драматургии значимы Противоречивые побуждения, ведущие к неожиданному, непредвиденному действию, обратившись к одной из ситуаций высоко ценимой им трагедии Шекспира. Ромео намерен помешать стычке Тибальда с Меркуцио, но его вмешательство становится одной из причин смертельного ранения Меркуцио Тибальдом. В спонтанном порыве гнева и раскаяния Ромео смертельно ранит Тибальда. Ромео до этих минут, после бракосочетания с Джульеттой, был во власти доминирующей цели — примирения семейств. А совершил «движения», противоречившие этой цели и предопределившие трагический исход событий, которого герой во что бы то ни стало стремился избежать. Здесь не было рационально-целевых, да еще постепенных, да еще последовательных действий, на которые ссылается Лессинг, заимствуя свои примеры из «Илиады».
Как увидим, приверженность к тому пониманию действия, которое дано в опубликованном тексте «Лаокоона», Лессинг сохраняет и в будущем. В «Гамбургской драматургии» непоследовательные, неожиданные поступки какой-нибудь героини Корнеля или Вольтера Лессинг называет неестественными, неправдоподобными и даже противоестественными. Этот словарь явно восходит к «Лаокоону». Уже в этом сочинении дало себя знать то пристрастие к разумному, последовательному, естественному ходу всего драматического процесса, свободного от «скачков», которое Лессинг отстаивает в «Драматургии». Как известно, в трагедии действие строится именно на перерывах постепенности, на перипетиях, на вторжении в его ход неожиданностей. Видимо, у Лессинга уже в пору «Лаокоона» зрела потребность в ином, не трагическом, а драматическом видении действия, но оформилась эта потребность не сразу и многими осталась незамеченной по сей день.
Лессинг в «Лаокооне» полемизирует с И. И. Винкельманом, оспаривая его мысли о присущих образам греческой скульптуры «благородной красоте» и «спокойном величии», о греческой душе, «повелевающей своими страстями и подчиняющей их себе». Лессинг видит в греческих героях не холодное величие духа, но живые человеческие, естественные чувства. Он ссылается на «Филоктета» Софокла. Это — «человек-герой», не скрывающий своих страданий, но и превозмогающий мучительную физическую боль, когда этого требуют его гражданские чувства.
Филоктет, Геракл, другие герои греческой трагедии вызывают наше сострадание, когда испытывают телесные страдания, утверждает Лессинг. Но, оспаривая Винкельмана, Лессинг не говорит о героях греческой трагедии, одержимых страстями. Насколько своеобразно понимает Лессинг греческую трагедию, можно судить по тем страницам «Лаокоона», где идет речь об отличии древнеримской арены от греческой театральной сцены. Оказывается, на арене требовалось «скрывать всякие страдания», дабы не вызывать сострадания, а оно — «единственная задача трагической сцены». Тут герои «должны обнаруживать свои чувства, выражать открыто свои страдания и не мешать проявлению естественных наклонностей»[444]. Настаивая на изображении в трагедии «естественных наклонностей», Лессинг, по существу, очень своеобразно и неадекватно толкует ситуации античной трагедии. Разве герои «Орестеи», одержимые своими страстями, подвластные требованиям Апполона и эриний, впрямь проявляют «естественные наклонности»?
Трагедия изначально строилась на иных принципах, на условной «неправдоподобной» образности. Можно ли в поведении Клитемнестры или Медеи обнаружить «проявление естественных наклонностей»?
В зачаточном виде уже в «Лаокооне» обнаруживается то специфическое понимание трагедии, которое с большей убедительностью и настойчивостью высказывает автор «Гамбургской драматургии».
Неоднократно осуждая Корнеля пристрастие к изображению «противоестественных» героев (вызывающих сочувствие зрителей), автор «Гамбургской драматургии» настаивает: задача трагедии — обнаруживать лишь страдания «естественные», ими вызывая сострадание зрителей. Неприятие «неестественного» (то есть того, что в трагедии неправдоподобная условная образность неизбежна) проявилось уже в «Лаокооне». Уже тут Лессинг, возможно еще неосознанно, выдает свое стремление дать сцене новый жанр драматургии.
Разумеется, когда в «Драматургии» Лессинг анализирует ряд пьес, его представления о природе развивающегося в них действия усложнялись, обогащались, уточнялись. Лессинга принято рассматривать как критика классицистских догм, не принимавшего тех «искажений» аристотелевской «Поэтики», которые классицисты себе позволяли и настойчиво обосновывали. Он отвергал толкование трех единств у Корнеля. Не одобрял его убеждения в праве художника выводить на сцену порочного героя. Можно перечислить ряд его возражений против «неестественного», неправдоподобного поведения героев в классицистической драматургии XVII века, а затем героев пьес Вольтера.
Но ведь Лессинг, по существу, не принимает многое и в античной трагедии и ищет для трагического жанра новые возможности, что в итоге приводит его к результатам неожиданным, а по существу — новаторским.
Лессинг неоднократно говорит о своей святой верности «Поэтике» Аристотеля, которую лишь освобождает от налипших на нее схоластических истолкований. Реально он же оспаривает некоторые важнейшие, ключевые для Стагирита положения его теории трагедии.
Когда автор «Драматургии» требует освободить сцену от королей, королев, принцев, иного рода высокопоставленных лиц и отдать ее персонажу, «сделанному из одного теста с нами», он ведь требует репертуара с новой, актуальной проблематикой и новой поэтикой, т. е. ведет речь о том, что на смену трагедии должен явиться на драматической сцене новый жанр.
Лессингу и Дидро нужно изображение человеческих и общественных «нравов», а трагедия ведь чуждается «нравов», обычаев, навыков, традиционно сложившихся и узаконенных общественным мнением. Трагический герой ведь нарушает общепринятые нормы, он их переступает.
Знаменитое аристотелевское определение трагедии автор «Драматургии», обращаясь к нему несколько раз, трактует на свой лад. Так, мысль Стагирита о «страхе и сострадании», вызываемом трагическим действием, Лессинг считает возможным упростить, обходясь без слова «страх». Трагедией следует считать, полагает Лессинг, произведение, вызывающее всего лишь «сострадание».
Почему у Лессинга то и дело вызывает сомнение понятие «страх»? Он ведь появляется у зрителя, когда на его глазах совершается нечто «страшное», ужасное, преступное. Аристотель полагал, что речь должна идти не только о намеренном преступлении (когда Клитемнестра убивает Агамемнона, а Орест — Клитемнестру), а о совершенном непреднамеренно, «ошибочно» (как это происходит с Эдипом). Но Лессинг сокращает определение Аристотеля, поскольку, надо думать, хотел бы строить трагедию на новых принципах, далеких и от классицистских догм, и от ряда будто бы незыблемых требований Аристотеля.
О том, как менялись взгляды Лессинга на предназначение драматургии и возможности каждого из ее жанров, можно судить, сравнивая различные по времени их написания главы «Драматургии».
В седьмой статье «Драматургии»[445] Лессинг придерживается мысли о «чудовищных» преступлениях как «предмете» изображения трагедии.
Но вскоре он уже думает по-иному. Клеопатра из «Родогуны» — фигура, раздираемая острыми противоречиями, горделивые замыслы смешиваются в ней с коварной злобой и мстительностью. Вот эта явно «чудовищная» героиня вызывает, по мысли Лессинга, наше презрение. Этой безумствующей женщине место принадлежит не на сцене, а в доме умалишенных[446]. У Лессинга, хотя и неявно, возникает стремление к такой драматургии, где движущей силой были бы не злоба, коварство, преступность (намеренная или ненамеренная), а сложные отношения, возникающие в среде обыкновенных людей.
Поэтому Лессинг начинает сомневаться в выявленных Аристотелем важнейших художественных средствах, благодаря которым трагические коллизии обретали острую выразительность, подлинно потрясающий, «необычайный» ход и исход.
Так, Лессинг не признает за аристотелевской перипетией того высокого назначения, которое дано ей в «Поэтике». Говоря о способности перипетии менять ход действия к противоположному, Аристотель имел в виду не просто «технический» прием, усложняющий драматический процесс и лишь возбуждающий интерес зрителя. В «Поэтике» и «Риторике» перипетия, узнавание и патетическое страдание относятся к самым необходимым элементам трагедии. Они не только меняют ход действия, но и ведут к переходу героя из одного состояния в другое, как это происходит с Эдипом после появления вестника из Коринфа. Ведь после встречи с вестником перед нами уже не прежний, а новый Эдип. Вполне закономерно впоследствии в науке появилось понятие «нравственной перипетии», фиксирующей внимание на том, что поворот в ходе действия ведет к «смысловым» взрывам в состоянии персонажей, к углублению всей проблематики произведения.
В мысли Аристотеля о «перипетии», по существу, содержалось представление о двух процессах — постепенном и взрывном — движения истории, художественно отражаемых в искусстве. Постепенность — важнейшее условие развития истории. Но в ее «плавный» ход непременно врываются непредсказуемые события, многозначительные случайности (роковые и счастливые), крутые повороты.
Драматургический процесс, в представлении Аристотеля, является отражением, можно думать, противоречивого хода истории. Драматическая сцена предпочитает изображать процессы, в которых огромная роль принадлежит обстоятельствам непредвиденным и взрывам человеческой воли. Аристотель, судя по «Поэтике», имел в виду перипетии, связанные с вторжением в ход действия новых обстоятельств «со стороны» (как это происходит в третьем эписодии «Царя Эдипа»). В трагедии нового времени к перипетиям часто ведет неожиданная активность человеческой воли.
Лессинг придерживается иного мнения о мироустройстве, счи- % тая, что в нем господствует или призван господствовать разум. Он, конечно, знал, что невозможно построить пьесу, совсем лишенную «взрывных» моментов, вторжения непредвиденных обстоятельств, лишенную творческих, неординарных решений и поступков персонажа. Прекрасно это понимая, Лессинг и как автор пьес, и как теоретик драматургии стремился, насколько это допустимо, преуменьшить или ослабить, условно говоря, элемент «перипетийности» в драматургии. Его девизом (и когда он говорил об игре актера) всегда оставалось требование сдержанности, постепенности (неприятие того, что он называл «скачками»), последовательности в развитии чувств героя, в переходе его из одного состояния в другое.
Взгляды Лессинга на драматургию менялись и углублялись, поэтому в своих представлениях не только об искусстве, но и о ходе жизни, о природе человека он был не всегда последователен. Так, в январе 1768 года, в пору успешной работы над «Гамбургской драматургией», он считает определяющей в работе художника активность его «ума». В природе, пишет Лессинг, все тесно связано одно с другим, и в силу своего бесконечного разнообразия она представляет сложное зрелище для человеческого ума. Мы вынуждены предписывать явлениям природы известные границы, если мы не хотим стать жертвой разнообразных минутных впечатлений.
Здесь нам приходит на помощь наш ум, благодаря которому мы обособляем одни предметы от других. Задача искусства в этом смысле аналогична миссии ума. Искусство, подобно уму, «действительно обособляет и представляет нам этот предмет или сочетание предметов в такой ясности и связности, какие только допускают ощущение, которое должно быть вызвано ими»[447].
Предписывая искусству поиски истины «просвещенной», основанной на доводах ума, Лессинг потратил массу усилий, чтобы углубить свое представление о задачах искусства и работе художника. Если ум открывает нам возможность воспринимать объективный мир и ориентироваться в нем, то чувства способны выразить движения человеческой души, умом непостижимые и теряющие свою тонкость, когда их пытаются воспроизвести с помощью рассудочных понятий, — к такому выводу приходил Лессинг, говоря о роли чувств в работе художника.
Лессинг находил, что идеалы и мысли не только непосредственно связаны с чувствами, но даже порождаются ими. Кто правильно чувствует, тот правильно и рассуждает, говорил он. Подобных взглядов придерживался и Дидро. В литературе уже неоднократно отмечалось влияние, оказанное на Лессинга книгой французского аббата Ж. Б. Дюбо, с точки зрения которого искусство, выражая человеческие чувства, отнюдь не вступает в противоречие с разумом. Более того: Дюбо полагал, что рассуждения должны подчиняться «приговору» чувств и находить этому приговору разумное оправдание.
Если классицисты ориентировались на рассудок и разум зрителя, способного понять разрушительную природу страстей и устрашиться этим, то Лессинг (вслед за Дюбо) ценил в драматургии прежде всего ее воздействие на зрительские эмоции и чувства, их воспитание и формирование. Поэтому, полагает Лессинг, художник, подражая «явлениям природы»: отбирая и сочетая их, — должен особое внимание уделять «природе наших ощущений и душевных сил». Оказывается, отбор и группировка «явлений природы» с помощью разума имеют целью воздействовать не только на ум, но и на наши чувства. А в работе художника чувства приобретают первостепенное значение.
Тут весьма явственно проступает черта, отделяющая теорию Лессинга от классицистской, согласно которой победу должен одерживать разум — и на сцене, и в сознании зрителя.
Один из главных девизов Лессинга: художник призван создавать иллюзию и с ее помощью «растрогать нас». Зритель должен быть прежде всего «растроган». При этом создается весьма парадоксальная теоретическая ситуация: искусство, с одной стороны, — плод наблюдений и операций, производимых разумом, а с другой — порождение чувств, с помощью которых художник познает свой предмет и воздействует на растроганного зрителя. Воспринимающий искусство субъект реагирует прежде всего и главным образом не рассудочно, а эмоционально. Эта реакция не должна сменяться рассудочной (на чем настаивали теоретики классицизма), ибо и сценические герои и зрители живут прежде всего чувствами и душевными переживаниями. Ведь еще в «Лаокооне» речь идет о действии как процессе обнаружения чувств и открытого выражения страданий[448].
В этих не всегда последовательных рассуждениях снова и снова сказывается приверженность Лессинга совсем не трагедии, которая менее всего призвана «растрогать» зрителя, создавая некую «иллюзию» реальной жизни.
Когда Лессинг, толкуя Аристотеля, понимает под действием не только поступки, но сложные переживания и страдания героя, он опять же приближается к мысли о новом жанре драматургии, где будут главенствовать не страсти с их одержимостью, а противоречия внутреннего мира персонажей, существующих не во власти страстей, а в сфере чувств и душевных переживаний, порождаемых личными и общественными коллизиями современности.
Переживания и чувства не всегда подчиняются уму, а нередко ему противоречат. Эта мысль — одно из важнейших положений его теории — сохранила свое значение и по сей день. Разумеется, истоки и выражения той активности чувств, которую ищет Лессинг, меняются в ходе истории и в процессе развития драматургии.
Где же Лессинг нашел истоки поведения и действий нового современного героя, истоки нового драматизма? Как в условиях современной, отсталой, полуфеодальной Германии должна возникнуть захватывающая нас драматическая ситуация? В «Гамбургской драматургии» содержится несколько чуть ли не взаимоисключающих ответов на этот вопрос. Опыт античного и классицистского искусства усваивается, но и решительно преодолевается Лессингом в процессе поисков и обоснования принципов построения нового «среднего» жанра драматургии, отвечающего требованиям духовного развития немецкого народа.
Если персонаж, «сделанный из одного теста с нами», вытеснит со сцены необыкновенную, исключительную личность (которая движет ход действия в трагедии), то что может ввергнуть этого «рядового» человека в ситуацию, чреватую столь важным для Лессинга страданием и вызывающую сострадание зрителя?
Какова же его ключевая мысль, связанная с радикальным обновлением проблематики драматургии и способов ее воздействия на зрителя? «Человек, — говорит Лессинг, — может быть очень хорошим и все-таки иметь не одну слабость, сделать не один поступок, которым он навлекает на себя тяжкое бедствие, внушающее нам сострадание и огорчение, нимало не возмущая нас, потому что это — единственное следствие его поступка»[449]. Высказав эту мысль, Лессинг тут же ссылается на Дюбо, отводящего порочным героям «второстепенные» роли в трагедии. Итак, нужны не преступление, не роковые ошибки, а иного рода действия и поступки.
Важнейшая эта мысль несколько ранее выражена по-иному: «несчастный, к которому мы должны иметь сострадание, не заслуживает своего несчастья, хотя он навлек его на себя какою-нибудь слабостью»[450]. Как видим, в центре произведения драматургии должно, по Лессингу, стоять лицо, «навлекающее» бедствия и несчастья главным образом на себя самого и несущее ответственность за свои стремления, чувства, побуждения — часто противоречивые.
Разумеется, самое это понятие «слабость» надо понимать расширительно. Речь идет о стремлениях и побуждениях человека, о разноречивых его потребностях, порождаемых противоречиями общественной жизни.
Эта мысль Лессинга отличается верой в богатство и тонкость внутренней жизни обычного человека. В центре внимания критика в итоге оказались не героические и трагические страсти, а «природа чувств и переживаний».
За десять лет до того, как Лессинг в «Гамбургской драматургии» пришел наконец к своему определению природы коллизий, ожидающих своего воплощения новой драмой, Д. Дидро констатировал: «Поэтику комического и трагического жанра излагали сотни раз. У серьезного жанра своя поэтика»[451]. Эту новую поэтику, порождаемую новой проблематикой, Лессинг и Дидро искали каждый по-своему, во многом совпадая.
Стремясь предоставить сцену новому герою, Дидро видит его вовлеченным в «значительные сюжеты», близкие к «нашему быту и нашей жизни». В драме он хотел бы видеть изображение «домашних несчастий», связанных с общественным положением человека. Именно такого рода «несчастья» и дают возможность строить новые ситуации, исполненные волнующего драматизма.
Об особой глубине сюжетов, которых ожидал Дидро, можно судить по его мыслям о природе драматического диалога. Восхищаясь репликами из «Федры» и «Ифигении» Расина, из «Лондонского купца» Лилло, Дидро говорит о наиболее высоко ценимом им диалоге: в нем «реплики соединены такими тонкими чувствами, такими мимолетными мыслями, такими стремительными душевными движениями, такими неощутимыми намерениями, что кажутся бессвязными…»[452].
Диалог, о котором мечтает Дидро, способный выразить тончайшие побуждения и переживания, лишь нарождающиеся мимолетные мысли, — подобает, разумеется, не столько трагедии и комедии с присущими им определенностью целей и высказываний героев, сколько драме, где персонажи часто оказываются во власти спонтанных побуждений, противоречивых желаний и непредсказуемых поступков. Это высказывание Дидро обращает нашу мысль к будущему, к драматургии А. Чехова с ее сложно выстроенным диалогом.
Дидро пытался художественно воплотить свои представления о новой драме. Но его пьесы оказались произведениями художественно слабыми.
Иного уровня были пьесы Лессинга.
Первая из них оказалась неудачной, хотя имела огромный зрительский успех. Пытаясь создать «мещанскую» трагедию, т. е. найти в бытовых семейных отношениях людей «среднего» класса сюжет, исполненный подлинно трагических страстей, Лессинг пишет пьесу «Мисс Сара Симпсон» (1755), следуя такого же рода «мещанской трагедии» Лилло «Лондонский купец». Можно говорить, пишет В. М. Жирмунский, о некотором сходстве сюжетов Лессинга и «Медеи» Еврипида, ссылаясь, прежде всего, на образ «роковой» Мервуд, отравляющей свою соперницу Сару. Но сопоставление этих произведений лишь убеждает нас в том, что семейно-бытовая среда и трагедия (в глубоком смысле этого понятия) — явления несовместимые.
В пьесе Лессинга главный герой Мелефонт, человек весьма безнравственный, готов жениться на дочери почтенного английского сэра, но любовница Мелефонта отравляет невесту, а сам жених кончает с собой.
Две смерти еще не дают основания считать пьесу трагедией. Разве убийство или самоубийство, воспринимаемые в быту событиями «трагическими», становятся в искусстве подлинно трагическими акциями, если героями не движут великие страсти, необыденные, необычайные, нарушающие общепринятые нормы побуждения и стремления? В пьесе Лессинга чувствительно-добродетельным персонажам, даже раскаявшемуся Мелефонту, противопоставлена «порочная» Мервуд — женщина «демоническая». Но это низкопробный демонизм. Сильный характер Мервуд движим низменными побуждениями.
В «Медее» Еврипида речь идет о подлинно трагическом противостоянии двух культур. Варварски-поэтическая волшебница, страстно-демоническая Медея, способная безудержно любить и ненавидеть, отвергает прозаические расчеты Ясона, убеждающего ее в том, насколько выгодна их детям его женитьба на дочери коринфского царя. Ясон хотел бы приспособить Медею к чуждому ей миропорядку. А она, одержимая ненавистью к разлюбившему ее и переродившемуся Ясону, переживая мучительную борьбу противоречивых побуждений, в итоге убивает своих детей — тех самых, о которых столь рачительно заботился Ясон. Мервуд из пьесы Лессинга — не чета Медее: она обычная ревнивица среди множества ей подобных. Никакой подлинной трагической страстью не дышит и Мелефонт.
В этой пьесе В. М. Жирмунский справедливо оценил найденный Лессингом расхожий сюжет с непостоянным любовником, мечущимся между двумя женщинами, — сюжет этот обрел популярность в психологической драме нового времени — «от Гёте до Ибсена и Гауптмана»[453].
В «Мисс Саре Симпсон» наиболее выразительным оказался образ порочной Мервуд. Это, видимо, Лессинга не удовлетворило. Ему нужна была коллизия иного содержания. Мы знаем, что в «Гамбургской драматургии» Лессинг как теоретик нашел такого рода драматическую коллизию.
Новые, по-настоящему талантливые пьесы Лессинга, к каким бы жанрам он сам их не относил («комедия» — «Минна фон Барнхельм», «трагедия» — «Эмилия Галотти»), по существу представляли собой произведения нового жанра — психологической драмы.
В этих пьесах Лессинг стремится воплотить коллизию, до которой он «добирался», которой «доискивался» в «Драматургии». Поэтому нельзя согласиться с Фридлендером, будто после «Мисс Сары Симпсон» борьба с классицизмом «решительно переносится Лессингом в сферу трагедии». Внимательного читателя этой книги, Фридлендера поражает непоследовательность автора. Уже в «первом опыте» молодого Лессинга — теоретика драмы (речь идет о разборе «Пленников») отразились искания, которые в итоге «способствовали утверждению его на позициях защиты и пропаганды принципов буржуазной драмы», пишет Фридлендер.
Но на всем дальнейшем протяжении его книги Лессинг предстает теоретиком не драмы, а именно трагедии. Речь идет об «учении
Лессинга о природе трагического героя», которое отличалось от взглядов Гегеля. Об «Эмилии Галотти» как «образце нового для эпохи Просвещения типа трагедии». «Эмилия Галотти» (1772) «осталась единственной законченной героической трагедией Лессинга», опять же утверждает Фридлендер[454].
Намерения во что бы то ни стало «вместить» Лессинга — теоретика и драматурга в «сферу трагедии» и ведут, по мысли автора этих строк, к неадекватной оценке его вклада в теорию драматургии и в ее историю.
Пьеса «Минна фон Барнхельм» (1767) очень далека от «сферы трагедии». Тут Лессинг художественно воплотил сюжет, разновидности которого он хотел бы увидеть в современной драме.
Сюжет «Минны фон Барнхельм» заимствован из немецкой жизни той поры. Герои, Минна и ее жених офицер Тельхейм, отличаются от персонажей прежней пьесы подлинно человеческим достоинством, высоким уровнем душевной, интеллектуальной жизни. Жених несправедливо опозорен начальством и отстаивает свою честь, свое доброе имя не как дворянин, а как носитель гражданского самосознания. Минна умна, великодушна, понимает Тельхейма и мотивы его поведения. Прибегая к некой хитрости, она добивается своего и убеждает Тельхейма стать ее мужем.
В 1983 году Дж. Стрелер поставил эту пьесу в Милане и имел большой художественный успех, раскрыв во взаимоотношениях главных героев оправданное противоборство благородных сердец.
Критик М. Г. Скорнякова, которой довелось присутствовать на репетициях Стрелера, а затем и на спектаклях, пишет о «Минне» как о драме, актуальной для наших дней. В характере героини узнаваемы черты персонажей грядущей драматургии.
Задолго до ибсеновской Норы и женских персонажей «новой драмы» Минна, лишенная предрассудков своей эпохи, поднимает голос за равенство между мужчиной и женщиной в сфере чувств. Минна и Тельхейм, в силу сложившихся обстоятельств, друг друга и мучают. Критик уловила в спектакле Стрелера стриндберговские и иные мотивы искусства нового времени. И это — закономерно; ибо Лессингу удалось здесь найти характеры и коллизии, чреватые развитием в будущем, на новых витках истории[455].
Мысль Дж. Г. Лоусона: «Лессинг предвосхитил будущее развитие театра» — находит все новые и новые подтверждения, хотя в них и не нуждается[456].
«Эмилия Галотти», в которой наиболее явно ощущается развиваемая Лессингом мысль о «слабостях», за которые прежде всего ответственна сама героиня пьесы, по сей день вызывает разноречивые толки. По традиции ее рассматривают как трагедию, да еще с антитиранической направленностью.
Ранее уже упомянутый исследователь находит в пьесе изображение «возвышенных, героических чувств», скрытых в душе каждого обыкновенного человека — «нужны лишь соответствующие обстоятельства, чтобы они вспыхнули ярким пламенем». Остается, правда, неясным: о чьих «героических чувствах» идет речь. Эмилии, которой трудно перебороть владеющие ею соблазны? Ее отца — Одоардо, убивающего дочь в сложной, ему мало понятной ситуации? «В минуту рокового испытания» Эмилия и Одоардо, читаем мы в цитируемой работе, поднимаются до «трагически впечатляющих действий»[457]. Иные авторы видят в поступке Одоардо героический протест против беззакония, творимого в изображенном княжестве.
Лессингу действительно не удалось, воплощая найденную им подлинно драматическую коллизию, вовсе обойтись без финала, который с большой натяжкой можно назвать «трагически впечатляющим».
Все же перед нами драма, а не трагедия. Интересно решает вопрос о проблематике и поэтике «Эмилии» Г. В. Стадников в не так давно появившейся серьезной работе о Лессинге — критике и драматурге[458]. Отдавая неизбежную дань традиции, автор книги, к сожалению, видит в Лессинге теоретика трагедии и комедии.
Стадников уверен, будто Лессинг — критик и драматург — фигуры равноценные: его теория комедии, изложенная в «Драматургии», будто бы полноценно воплотилась в «Минну фон Барнхельм», а теория трагедии столь же полноценно будто бы нашла себя в «Эмилии Галотти».
Но дело не в этих явно спорных идеях: ведь в веках Лессинг все же реально остался прежде всего не драматургом, а выдающимся теоретиком.
Самое интересное в книге Стадникова именно анализ «Эмилии», порывающий с многочисленными устойчивыми ее истолкованиями.
Большинство исследователей, как бы игнорируя название пьесы, считают главным ее героем отца Эмилии Одоардо, хотя и не решившегося убить князя — соблазнителя своей дочери, но зато убивающего ее самое. Здесь обнаруживается хотя и умеренный, но все же «тираноборческий» пафос. Убийство отцом родной дочери — это будто и делает пьесу «трагедией».
По-иному подходит к Одоардо Стадников. Не отрицая того, что в его поведении сказывается, хотя и бессильный, протест против разнузданного беззакония, исследователь видит в отце сложный характер — своего рода домашнего тирана, отстаивающего незыблемую власть строгих религиозных норм, власть закоснелого патриархального уклада. Одоардо, говорит Стадников, хотел бы подчинить свою дочь издавна и навсегда установленным принципам, хотя наступает время, когда в человеке дают себя чувствовать и заявляют свои права новые потребности — естественные и человечные.
Многие авторы считают поведение Эмилии в финале пьесы неожиданным и драматически неподготовленным. Пристально осмысляя весь драматический процесс и поведение разных втянутых в него персонажей, Стадников видит всю сложную цепь переживаний Эмилии, изначально ведущих ее к трагическому финалу.
Стихия неожиданных, пугающих Эмилию чувств овладевает ею задолго до финала, уже в первых сценах пьесы. Ее мучает внутренний разлад, мотивируемый не ее природными склонностями, а новым строем чувств человека, высвобождающегося из-под гнета устаревающих устоев. Ведь Эмилия, как показывает Лессинг, не испытывает к будущему мужу подлинной любви. Здесь ее ожидает всего лишь постылая брачная жизнь. Сама того не осознавая, она ждет не такого существования, хотя и не понимает всей волнующей ее бури чувства. Она в смятении, ее влечет к иной жизни, а религиозное и домашнее воспитание подавляют это влечение.
В финале Эмилия находится в доме своего соблазнителя. Но оставаться там не станет ни в коем случае. Одоардо — он тут стоит рядом с дочерью — рад этому ее решению. С кинжалом в руке он готов «пронзить сердце» похитителям. Но своей Эмилии он не знает. Услышав ее неожиданное признание, он забывает об этой своей готовности, ибо оказывается перед лицом опасности, о существовании которой не мог даже предполагать.
Эмилия круто меняет его представление о сложившейся ситуации. На его слова о том, что невинная дочь не покорится насилию, та вовсе неожиданно отвечает:
«— Насилие, насилие! Кто не дает отпора насилию? То, что называют насилием — ничто. Соблазн — вот настоящее насилие… В моих жилах кровь, отец, молодая, горячая кровь. И чувства мои — человеческие чувства. Я ни за что не отвечаю. Я неспособна бороться…»
Сложная гамма переживаний сплетается в этом финальном монологе. Обратим внимание на слова Эмилии: «То, что называют насилием — ничто». Разумеется, Лессинг здесь не вполне согласен со своей героиней. Он прекрасно понимал, насколько театр его времени нуждается в пьесах на тираноборческие темы. Они вскоре и были созданы Шиллером — «Разбойники» (1781), «Коварство и любовь» (1784).
В затхлой атмосфере Германии, раздробленной, отсталой, забитой и изматываемой своеволием своих князей и их аморальных приспешников, драматургии предстояло беспощадное осуждение господствующего беззакония.
И однако, просветитель Лессинг ставит перед собой иные задачи, отвечающие его мировоззрению. Первостепенное значение он придавал формированию в человеке нового сознания, пробуждения в нем чувства своего достоинства, очищения его от безволия и индифферентности, от готовности к послушанию, отличавших немецкого бюргера.
Свое внимание Лессинг устремил на того самого человека, в котором сознание своих прав и своего достоинства еще не пробудилось либо лишь пробуждается, ставя его в мучительные ситуации, стимулирующие его душевную и духовную активность.
Поэтому Лессинг придает столь важное значение изображению человека со сложным диапазоном чувств, со стремлениями и потребностями, которые его влекут и одновременно отпугивают, со способностью осмыслять свою ситуацию и проявлять силу своей воли в поисках выхода из нее.
Именно таковой изображена Эмилия. А та, осмысляя свое положение, оказалась способной понять, на что ее обрекают общепринятые нормы. Тому прельщению, тому, как ей кажется, греховному искушению, которое она вынуждена в себе подавить, она находит религиозное, церковное определение — соблазн. Такое понятие доступно сознанию Одоардо. И, видимо, состояние дочери, подвластной соблазну, пугает его более, чем угроза со стороны Маринелли и князя.
Вникнем в существо сложного диалога между дочерью и отцом. Воле похитителей Эмилия способна противопоставить свою волю. Ей, этой собственной воле, предстоит совладать с насилием своей же молодой, горячей крови, совладать с «соблазном», хотя она себя за кипение в ней молодой крови не осуждает.
Желая получить из рук Одоарда кинжал, Эмилия готова к само-% убийству. Угадывая ее намерение, сопротивляясь ему, Одоардо, спасая дочь «от позора», вонзает кинжал ей tf грудь. Он спасает ее и от похитителей, и от нее самой. Гибель Эмилии можно толковать как акт самоосуждения и самоубийства, совершенного чужой рукой.
Так она оказывается во главе ряда персонажей мировой драматургии, переживающих смятение чувств, связанное, разумеется, с ходом истории и катаклизмами общественной жизни.
Эмилия — фигура более тонкая, чем Минна. И мысль Скорняковой о родственности Минны персонажам «новой драмы» в еще большей мере, чем к ней, можно отнести к Эмилии.
Мир этих персонажей — не возвышенные трагические страсти, а противоречивые чувства и побуждения, внутренняя борьба в душе «рядового» человека, осознающего свою ответственность за поступок, даже если при этом обстоятельства ему враждебны.
Эмилия не трагическая героиня, что ее нисколько не принижает. Духовно ограниченный убийца Одоардо, потрясенный владеющим дочерью «соблазном», обладает еще меньшим правом на звание персонажа героического.
Впору вспомнить уже цитированный отрывок из второй, недописанной части «Лаокоона», где речь идет о драматическом действии как о проявлении противоречивых побуждений. Давняя мысль Лессинга нашла наконец художественное воплощение, но, разумеется, не в жанре трагедии, а драмы, хотя в «Эмилии» еще и наличествуют драме чуждые ситуации.
«Бесприданница» А.Н.Островского
Глава I. Драматург и критика
Если в большинстве случаев А. Н. Островский, «трудясь как вол», писал свои вещи в сравнительно короткие сроки (и потому успел сочинить пятьдесят четыре пьесы, из них семь в содружестве с другими драматургами), то «Бесприданницу» он обдумывал и писал несколько лет. Работу он начал в ноябре 1874 года, завершил ровно четыре года спустя, успев в то же время создать «Волки и овцы» (1875), «Богатые невесты» (1875), «Правда хорошо, а счастье лучше» (1876), «Последняя жертва» (1877).
Несколько лет Островский жил «Бесприданницей», временами только на нее, свою сороковую по счету вещь, «устремлял все внимание и все силы», желая отделать ее самым тщательным образом. В сентябре 1878 года он писал одному из своих знакомых: «Я работаю над своей пьесой изо всех сил; кажется, выйдет не дурно»[459]. Надежды, казалось бы, оправдались: вскоре после завершения работы, 3 ноября 1878 года, драматург сообщал из Москвы своему другу, артисту Александринекого театра А. Ф. Бурдину: «Пьесу свою я уже читал в Москве пять раз, в числе слушателей были лица и враждебно расположенные ко мне, и все единогласно признали «Бесприданницу» лучшим из всех моих произведений» (15, 128).
Вскоре, однако, у автора появились поводы усомниться в этой оценке. 26 октября пьеса была отправлена из Москвы в Петербург. Там без каких-либо проволочек 28 числа того же месяца она прошла через цензуру. Малый театр, не мешкая, показал ее зрителю уже
10 ноября. По мнению большинства рецензентов, пьеса потерпела полнейший, несомненный и даже окончательный провал. Да, постановка была осуществлена всего за какие-нибудь десять дней. Теперь в это трудно даже поверить. Однако для той поры это было явлением обыкновенным. Еще и два десятилетия спустя (в 1896 году) актеры Александринского театра в Петербурге ознакомились с текстом чеховской «Чайки» всего лишь за девять дней до первого спектакля, тоже закончившегося провалом.
Когда рецензенты — среди них были люди весьма авторитетные — зачеркивали «Бесприданницу» как банальную историю про сентиментальную девицу и ее рокового соблазнителя, то, разумеется, доля вины за это падала на исполнение пьесы в Малом театре. Показанная на Александринской сцене 22 ноября того же 1878 года, пьеса имела больший успех. Рецензент петербургского спектакля даже выразил надежду, что пьеса, «разыгранная с полным ансамблем», сойдет с репертуара не скоро. Надежды эти не сбылись. Здесь пьесу тоже давали крайне редко.
И все же причину провала «Бесприданницы» надо искать не только в невысоком качестве ее первых постановок. Когда вдумываешься в неприязненные отклики на ее первые представления, видишь, что тут не принимают прежде всего именно пьесу.
Уже через день после московской премьеры, 12 ноября, Островский мог узнать и, несомненно, узнал из «Русских ведомостей», как на бенефис артиста Н. Музиля (он играл Робинзона) «собралась вся Москва, любящая русскую сцену». В креслах находился Ф. М. Достоевский. Ожидали хорошей пьесы, но не дождались. «Драматург утомил всю публику вплоть до самых наивных зрителей», ибо публика «явно переросла те зрелища», какие предлагает ей Островский. Такого провала на первых представлениях пьес Островского рецензент ни разу не видел за минувшие двадцать лет, хотя провалы случались и ранее.
Рецензент (им был давний и постоянный оппонент Островского П. Боборыкин) вернулся снова к этой теме и десять дней спустя, 21 ноября. В обеих рецензиях речь идет, во-первых, о сюжете: никакого интереса нет в истории о том, как «какая-то провинциальная девушка полюбила негодяя, согласилась выйти замуж за антипатичного пошляка и, отвергнутая другой раз предметом своей страсти, подставляет свою грудь под пистолет жениха». Затем достается и героине: эта девушка со своими страданиями могла бы привлечь наше внимание, будь она личностью колоритной, крупной, общественно значимой. Увы… ничего этого в ней нет, Лариса говорит банальности, ее рассказ о том, почему она Паратова, «развратника и нахала», считает «героем», просто смешон своей умственной и нравственной «низменностью».
Если Лариса — повторение героинь из «Бешеных денег» и других пьес Островского, то и Паратов — не более чем еще один негодяй из целого ряда распутных пошляков в прежних пьесах драматурга (в том числе — в «Последней жертве»). Мать Ларисы — опять же напоминает уже известные бытовые фигуры Островского. Самое удачное — четвертое лицо, жених Карандышев. Однако хорошо задуманный характер выполнен противоречиво и двойственно. Это и не «тряпичная натура», но и не такая, в которой личная обида и злобность могут вызвать страстный взрыв ненависти и мстительности. Даже очень хороший актер вряд ли сумел бы «замаскировать» двойственность Карандышева в конце третьего и четвертом акте.
Остальные лица — снова повторяют виденное в прежних пьесах Островского. «Задняя мысль автора»: нахал и пошляк Паратов все же выше дельцов вроде Кнурова — нас не убеждает. Вывод рецензента в целом уничижителен: избитый сюжет, знакомые фигуры, все тонет в ненужных разговорах и несносных длиннотах.
Сама эта (и многие ей подобные) двухчастная рецензия — явление весьма показательное. Опытный литератор, автор романов и пьес, П. Боборыкин оказался вовсе неспособным ни постичь сюжет пьесы, ни понять сложность характеров и связывающих их отношений, ни уловить главные ее мотивы и темы. Он до крайности все упростил, огрубил, не схватил главного ни в проблематике пьесы, ни в ее художественном воплощении, даже не приблизился к сердцевине замысла.
Оно и понятно. Легче всего было увидеть сходство — мнимое — действующих лиц «Бесприданницы» с лицами из прежних пьес, чем оценить реальную сложность и тонкость, с которой они выписаны. К тому же (об этом мы подробнее скажем позднее) П. Боборыкин вообще не считал Островского драматургом по призванию. В рецензии он повторил уже ранее высказанную им мысль об Островском: «Эпик потянул лямку драматурга». Талант большой, но все же не драматического, а эпического склада — так уже давно порешил Боборыкин про автора пьес «Свои люди — сочтемся» или «Гроза». Новую пьесу он счел еще одним доказательством своей предвзятой точки зрения.
Петербургская премьера вызвала более сочувственные отклики: «Новое время» тоже дважды возвращалось к ее оценке. Пьеса произвела на рецензента этой газеты «сильное впечатление». Правда, и он не увидел в фабуле ничего нового. Ни тип главной героини, ни другие фигуры не новы. И все же это «живые лица», а не роли, как это бывает «у постановщиков, переделывальщиков и компиляторов современной сцены». Пьесе не хватает сценического движения, однако автор рецензии отдает ей, при всей ее «некоторой тяжеловесности», объясняемой, впрочем, отчасти «самим складом русской жизни», явное предпочтение перед репертуарными пьесами с бойкими завязками и бойкими рольками «на заграничный манер».
Как видим, и здесь, при всем положительном отношении к пьесе, нет и речи о ней как о произведении выдающемся, а тем более как о шедевре. Еще раз к «Бесприданнице» газета «Новое время» вернулась после опубликования пьесы в печати[460]. На этот раз она была одобрена за «простую, но глубоко верную картину того бесстыдного и холодного бессердечия, которое сделалось чуть ли не основной чертой текущего прогресса во всех общественных слоях». Тут автор, говоря о «бесстыдном и холодном бессердечии», уже приблизился к одной из главных тем произведения Островского, но в итоге пришел к выводу, что «лица в этой картине очерчены не бог весть как ярко», в целом она «не принадлежит к числу лучших вещей Островского».
Среди появившихся в те дни многочисленных отзывов особый интерес представляет мнение газеты «Голос». Оно характерно. Островский, говорит рецензент, в свое время «подметил несколько типических черт русского человека», но он сумел увидеть лишь характеры и нравы купечества и чиновничества «старого режима». Среди типов, увиденных Островским, — «тип человека-тряпки» (Тихон, Милашин и им подобные лица во многих пьесах драматурга). Но «было бы клеветою на русскую жизнь принять этот тип за общую формулу русской жизни». К сожалению, Островский игнорирует «сильные, героические характеры», которые «отнюдь не чужды русской природе». В его новых пьесах нравственная личность персонажей «падает все ниже и ниже». Поэтому и «Бесприданница» рисует нам картину мрачную и безотрадную. Автор рецензии готов зачислить всех героев «Бесприданницы», не исключая и Ларису, в разряд циников, вызывающих презрение. Теперь нашей сцене нужны иные герои. Теперь настала необходимость в «более широком и объективном изучении действительности, более зорком и чутком отношении к признакам нашего времени, к типам современным». Но это Островскому уже не под силу. Пусть к новым задачам обратятся другие писатели, свободные от пессимизма…
Итак, с одной стороны, «Бесприданницу» ценят за раскрытое в ней «бесстыдное и холодное бессердечие», ставшее главным признаком современного прогресса, но, с другой стороны, пьесу обвиняют в пессимизме, в недооценке положительных сторон этого пресловутого прогресса.
Разноречивость этих оценок вызвана сложностью, новаторской природой самой пьесы, опередившей каноны своего времени: для постижения всей ее глубины потребовались десятилетия. Но разнобой в этих оценках связан и с характером отношений, сложившихся в 1870-е годы между Островским и критикой, театром и публикой.
И в это время Островский продолжал пользоваться славой первого русского драматурга, завоеванной в 50—60-е годы. Однако признавая ценность сделанного им ранее, критики теперь все более решительно предъявляли драматургу весьма суровые упреки и требования. Речь шла о его идейной «отсталости», об устарелости его мировоззрения, об исчерпанности его драматургической поэтики.
Попытаемся поэтому хотя бы в общих чертах представить себе эту особенную, конкретную ситуацию, в условиях которой замышлялась, долго вынашивалась и получила наконец сценическое воплощение «Бесприданница».
Ни один художник не может оставаться вовсе равнодушным к резонансу, вызываемому его творчеством в критике, в кругах читателей, зрителей, слушателей. Но реакция на этот резонанс, как хорошо известно, бывает весьма разнообразной. Нередко автор, задетый за живое, впрямую откликается на сторонние суждения, соглашаясь или недоумевая, негодуя, опровергая и разъясняя.
Островский за долгие годы работы привык к тому, что каждая новая пьеса его получает сценическое воплощение в Москве и Петербурге вскоре после ее написания. Его весьма волновали отклики на каждую постановку. Ведь помимо идейно-эстетического их смысла отзывы имели для него значение и чисто практическое: от меры успеха каждой пьесы зависела жизнь целой семьи, чье материальное положение обеспечивалось литературным трудом ее главы.
При всем том Островский принадлежал к тому типу художников, у которых реакции на суждения об их творчестве не проявляются непосредственно и явно. Оставаясь глубоко скрытыми, отношения этого рода художников к мнениям критики и публики чаще всего находят свое выражение лишь в идейно-образных структурах их новых произведений. Какие бы отзывы — от восторженных до уничижительных — Островскому ни приходилось читать или слышать, он в течение четырех десятилетий не переставал верить в свою миссию, в свою способность, создавая комедии и трагедии, фарсы, хроники и мелодрамы, строить здание русского национального театра, повинуясь своему пониманию хода жизни и духа времени, своим представлениям о законах искусства сцены. Автор «Грозы», «Леса», «Бесприданницы» резко отличался от драматургов, писавших на «злобу дня» и потакавших сиюминутным интересам зрителя. Он звал к постижению глубоких, труднодоступных истин и потому верил не только в зрителя сегодняшнего, но и завтрашнего, в зрителя из будущего. Эта вера, как показало время, не обманула художника.
Слава первого русского драматурга упрочилась за Островским в конце 50-х годов. Уже в 1859 году деятельность Островского признавалась «самою блистательной, самою завидной» в современной русской литературе. На рубеже 50—60-х годов вокруг его драматургии шли острые идейные споры. Решающую роль здесь сыграли знаменитые статьи Добролюбова «Темное царство» (1859), «Луч света в темном царстве» (1860). Не только Добролюбов, но и другие выдающиеся критики той поры — Н. Чернышевский, Ап. Григорьев, А. Дружинин, П. Анненков — с разных позиций раскрывали новаторскую природу драматургии Островского, опровергая шаблонные, несостоятельные требования к автору «Грозы» со стороны реакционной и догматической критики.
Интерес к драматургу не ослабевал, а в пореформенные десятилетия он возобновлялся при появлении каждой его новой пьесы, что происходило чуть ли не ежегодно. «Я не знаю, найдется ли другой писатель в нашей литературе, которым критика занималась бы с таким усердием, с каким она занимается Островским», — писал А. Скабичевский в 1875 году. Однако теперь усердие критики проявлялось все более разнообразно. Островского упрекали в самоповторениях, в непонимании нового этапа русской жизни, чуть ли не в том, что он вообще «исписался»: все чаще его называли «выдохнувшейся знаменитостью», чьи пьесы сшиты на «живую нитку» и завершаются «жиденькой моралью», из хода действия никак не вытекающей.
В этом смысле ситуация, в условиях которой вызревала «Бесприданница», весьма примечательна. Пьеса эта как бы содержит ответ художника на разнообразные сетования, требования и приговоры критики, ставшие особенно суровыми в 70-е годы. Поэтому имеет смысл дать читателю представление — по необходимости сжатое — о тех претензиях, которые предъявлялись Островскому со стороны различных, как в ту пору говорили, «литературных партий» на страницах солидных журналов, а не только в газетной периодике.
Замысел «Бесприданницы» возник в том самом году, когда вышло в свет восьмитомное собрание сочинений писателя. Тут был серьезный повод осмыслить и оценить итоги более чем двадцатилетних его трудов. Критика не замедлила им воспользоваться.
В 1875 году Н. Шелгунов, откликаясь на это издание, опубликовал в журнале «Дело» (под псевдонимом Н. Языков) статью, названную безжалостно и даже беспощадно: «Бессилие творческой мысли». Статья показательная. Здесь как бы суммированы взгляды разных критиков на творчество Островского и занимаемое им в литературе 70-х годов место.
Славу Островскому, полагает Шелгунов, создал Добролюбов. Мысль о «темном царстве», со всей широтой заключенных в ней обобщений, принадлежит не Островскому, а его критику. «Собственно, Островский остался тут ни при чем».
Главное, в чем Шелгунов винит Островского, — это узость его взгляда на жизнь. Даже в лучших своих пьесах драматург изображал лишь «домостроевское начало» в русской семье, «допетровские нравы», в ней сохранившиеся. Теперь же, в семидесятых годах, самодурство и домостроевщина — «скорее факты прошлого, чем настоящего».
Но и лучшим пьесам Островского сильно повредило его мировоззрение — его вера «в инстинктивную человеческую нравственность». Бросив драматургу такой упрек, Шелгунов затем вовсе неправомерно все более и более отождествляет нравственность, называемую им «инстинктивной», с нравственностью «патриархальной». Так, Островский уже предстает в статье Шелгунова не столько критиком патриархальной нравственности, сколько ее защитником.
Между тем если уж прибегать к этим понятиям, то «инстинктивная» и «патриархальная» нравственность для Островского никак не тождественны. Более того: в концепциях тех его пьес, что свободны от славянофильских воздействий, эти два рода нравственных представлений со временем все более дифференцируются, оказываясь резко противопоставленными друг другу.
Если в «Грозе» Кабаниха непреклонно отстаивает нравственность патриархальную, то Катерина живет в мире стремлений и страстей, вступающих с этой нравственностью в роковую коллизию. Да, ее переживания, ее поступки во многом импульсивны, спонтанны, «инстинктивны», но это инстинкты отнюдь не «природные». Они связаны с этическими представлениями, десятилетия и века складывавшимися в народном сознании. Шелгунов называет такие инстинкты «прирожденными», находя в этом не достоинство, а недостаток.
Но худо ли, что определенные, выстраданные человечеством представления — пусть они у Катерины принимают религиозную и даже «мистическую» окраску — вошли в плоть и кровь героини, возвышая ее над сословно-купеческими, косными, мертвящими законами «темного царства»? Нравственность Катерины, даже если называть ее «инстинктивной», имеет глубокие исторические, социально-психологические истоки и корни. Здесь сублимированы накапливаемые народом высокие этические ценности и представления. Шелгунов считает все это навсегда устаревшим, никому не нужным в условиях «прогресса», переживаемого Россией.
Теперь, когда «Европа взяла свое, и новое европейское начало, вошедшее в Россию клином, создало в ней иные стремления, иные понятия, иные задачи и характеры», Островский обнаружил перед всем этим свою беспомощность, продолжает Шелгунов.
В героях «европейски-буржуазного типа» драматург нашел еще меньше «сердечности», чем в самодурах типа Большова. В героях новой пьесы Островского «Бешеные деньги» критик не видит никакой определенности. Так и остается неясным — хороший ли человек Васильков или бездушное существо. Лидия столь же безнравственна, как и Васильков. Эти персонажи возмущают критика как своей противоречивостью, так и неоднозначным отношением драматурга к ним. Считая себя человеком передовых взглядов, Шелгунов вместе с тем предстает ревнителем чистоты узаконенных драматических жанров. Если в «Бешеных деньгах» он не принимает смешения красок в изображаемых лицах, то в пьесе «На всякого мудреца довольно простоты» он отвергает самый жанр пьесы, в которой смешаны ирония, фарс, карикатура и шутка.
Еще в первый период творчества Островский держал в руках «очень крошечное зеркало». Он с ним не расстается и теперь, убежден Шелгунов. Зеркальце же это «отражает не общие, а частные явления». К прежним своим героям из «допетровского быта» Островский нередко испытывал симпатию. Теперь же от людей «новой культуры» он отворачивается и даже презирает их.
Нет, Островскому не дано разглядеть «новую жизнь с ее порывами и стремлениями, с ее надеждами и желаниями». В этом и сказывается «бессилие творческой мысли». Потому-то новая критика отводит Островскому «надлежащее место и хоронит его, как похоронила уже многих, когда эти многие отжили свое время и кончили свое дело».
Осуждая «инстинктивную» нравственность, Шелгунов критикует ее с позиций упрощенного просветительства. Он не способен понять, насколько содержательны эти представления, движущие многими героями Островского, когда они восстают против нравственности патриархальной. Третируя новые пьесы Островского, в которых тот клеймит буржуазное делячество, Шелгунов — вольно или невольно — заступается за нравственность буржуазную. Нет сомнения, что Островский и эту, и ей подобные статьи не оставлял без внимания. Его реакция на подобные упреки и приговоры выразилась в таких пьесах, как «Последняя жертва», «Бесприданница», «Таланты и поклонники», «Без вины виноватые». Нам кажется, что наиболее резкий ответ на эти требования содержит в себе именно «Бесприданница».
Несколько лет спустя более объективно попытался подойти к творчеству драматурга уже известный нам П. Боборыкин — в своей большой работе «Островский и его сверстники» («Слово», 1878, № 8). Она появилась буквально в те же месяцы, когда завершалась работа над «Бесприданницей».
Боборыкин высоко ценил автора «Грозы» как изобразителя типов и знатока языка. Но, по мнению этого критика, многие драматические стороны жизни выпадают из поля зрения Островского, ибо по призванию-то он не драматург, а эпический художник, бытописатель. Эту мысль он, как мы знаем, повторял и рецензируя «Бесприданницу».
В драме, утверждает Боборыкин, главную роль играет «деятельная сторона человеческой души». При этом душевные движения должны переходить в «акты воли». У Островского же мало героев сильных, активных, волевых. Когда в его пьесах возникают подлинно драматические ситуации и мотивы, они тут же уступают место бытовым картинкам, рисовать которые Островский великий мастер. Поэтому в пьесах Островского и нет единого, «совокупного» действия, крепко объединяющего всех героев.
Да и форму диалога, считает критик, Островский выбрал не потому, что к ней его влекла драматургическая сущность таланта. Нет, диалог — очень удобный способ обрисовки «типов». Не случайно в его пьесах удачны именно «типы», «типовые фигуры», для создания которых достаточно владеть диалогом. Но в этих пьесах мы почти не находим характеров, ибо их надо показывать только в действиях. Островскому же изображение непрерывно развивающихся действенных отношений между персонажами не удается.
В силу всех этих разнообразных причин, делает вывод Боборыкин, драматургии Островского недостает «крупных» характеров, «крупных политических или нравственных идеалов», соответствующих переживаемому времени. Уловив некоторые черты драматургии Островского, Боборыкин судил о ней, исходя из требований нормативной теории драмы. Он видел «недостатки» там, где развитие характеров и коллизий подчинялось новым драматургическим принципам.
К сожалению, многого в Островском не понимали не только % критики, стоявшие на чуждых ему идейных и эстетических позициях, но и люди, относившиеся к его драматургии вполне сочувственно. Драматург, критик и теоретик драмы Д. В. Аверкиев, вопреки Боборыкину, отнюдь не сводил драматизм к острой борьбе между крупными, «волевыми» характерами. Зато у Аверкиева были свои догмы, и, плененный ими, он тоже не поспевал за движением Островского.
«Последнюю жертву» Аверкиев встретил доброжелательно. Однако анализируя ее, он высказывал мысли, шедшие вразрез с тем, чего добивался в ту пору драматург. Недопустимо, говорит Аверкиев, вызывать сострадание к мучениям «пошлого» человека, неправомерно возбуждать жалость к тому, что одновременно вызывает в нас смех и презрение. В «Последней жертве» Аверкиев увидел «благой» и решительный поворот художника к «чистой комедии» с «недвусмысленной» развязкой, не допускающей какого-либо «двойственного толкования» изображаемых явлений. Критик выразил надежду, что теперь драматург твердо пойдет именно по такому пути.
Но Островский по нему не пошел. Вопреки предсказаниям Аверкиева, он завершил «Бесприданницу» — не комедию, а драму. С героями, возбуждающими у нас смешанные чувства. С весьма «двусмысленным», то есть сложным, финалом, в котором героиня почему-то прощает своих убийц. Пьесу написал драматург, мудро отвергавший чьи бы то ни было схемы и догмы, веривший в правоту своего понимания жизни, в обоснованность своих идейно-художественных принципов.
Новаторская сущность драматургии автора «Бесприданницы» не всегда находит должное осмысление и в наши дни.
Структура характеров «Бесприданницы» (в особенности главной героини) весьма сложна. Здесь в обрисовке персонажей еще большее смешение красок, чем в пьесах, которые имел в виду Д. Аверкиев. С этим связаны особенности сюжета, конфликта пьесы, системы ее мотивов, ее жанровой природы.
Если в свое время Д. Аверкиев, ощущая усложнение характеров в пьесах позднего Островского, считал это недостатком, то в наши дни иные исследователи предпочитают вовсе не видеть, насколько поздний Островский усложняет коллизии своих пьес и психологию своих действующих лиц.
Вопрос о сложной природе коллизий и характеров в пьесах Островского, особенно позднего, остается камнем преткновения для иных критиков и в наши дни. Так, например, Е. Порошенков, автор недавней статьи «Достоевский и Островский», содержащей интересные наблюдения, подходит к конфликтам и характерам героев этих писателей, минуя скрытые здесь противоречия.
Критик близок к истине, говоря о том, что Достоевский и Островский анализировали и «развенчивали» доходящую до своеволия человеческую «гордость». В драме «Не так живи, как хочется» Петр ведет себя по принципу «так мне хочется». Это толкает его в «омут». В страшном виде, с ножом в руке Петр бегает по Москве-реке — «того и гляди в прорубь попадет». Излагая этот сюжет, Порошенков пишет: «Путь гордого человека завершается характерной сценой — символом крушения принципа «все позволено» — Петр становится на колени»[461]. Островский, считает Порошенков, поставив гордого Петра на колени, предвосхитил здесь Достоевского, побудившего своего «гордого героя» Раскольникова поступить подобным же образом.
Это наблюдение имеет свою ценность, и все же отношение к «гордому человеку» у обоих писателей не столь однозначно, как кажется исследователю. Ведь гордость гордости — рознь. И своеволие — тоже. Одно дело — своеволие Кабановой, совсем иное — своеволие Катерины или Ларисы. Достоевский в таких, столь разных и «гордых» героинях, как Настасья Филипповна или Аглая, видит проявление человеческого достоинства, а не то элементарное пренебрежение к требованиям нравственных норм, которое проявляет Петр из пьесы Островского. Не случайно ведь гордая Настасья Филипповна противостоит лишенному гордости Гане Иволгину. Столь же не случайно князю Мышкину понятны гордость и Аглаи, и Настасьи Филипповны. За это душевное качество князь не смеет их осуждать.
Идея «смирись, гордый человек!» у Достоевского-художника звучит далеко не столь прямолинейно, как у Достоевского-публициста. Островский тоже не считает гордость качеством изначально и во всех случаях отрицательным. Он видит разные ее истоки и мотивы, разные формы ее проявления — и те, которые он отвергает, и те, которые приемлет.
Ведь в гордости, нередко принимающей у героев Островского и, тем более, Достоевского болезненные формы, доходящей даже до эпатирующего своеволия, выражается стремление защитить права своей личности, отстоять свое человеческое достоинство от каких бы то ни было посягательств.
Однозначное толкование этой темы связано у Порошенкова с особым пониманием природы конфликта у Островского и Достоевского. «Конфликт, содержанием которого является столкновение всех дурных с одним чистым, обычен для Островсксух), и сам характер конфликта дает уже представление о соотношении добра и зла в собственническом мире. Это отношение верно понято и афористически названо Добролюбовым — «луч света в темном царстве», — пишет Е. Порошенков и продолжает: «Такой тип конфликта обуславливает и соответствующую организацию сюжета: носитель добра (Незабудкина, Катерина, Лариса, Негина и др.) оказывается окруженным носителями зла»[462].
С этим толкованием расстановки сил в пьесах Островского нельзя согласиться. Допустим, что Катерина — «носитель добра». Вряд ли будет верным считать ее окруженной лишь «носителями зла». Разве Кулигин, Кудряш, Варвара, Борис воплощают в «Грозе» зло? Разве студент Мелузов или суфлер Нароков предстают в образной системе «Талантов и поклонников» как окружающие Негину «носители зла»? В этот разряд носителей зла трудно зачислить и все окружение Ларисы Огудаловой.
Это правда, Нароков в «Талантах и поклонниках» действительно говорит Негиной: «Вы белый голубь в черной стае грачей». И Добролюбов действительно назвал Катерину «лучом света в темном царстве». Но дают ли эти высказывания повод утверждать, будто и в ранних, и в поздних пьесах Островского конфликт основан на противопоставлении «черной стаи грачей» «белому голубю»? Сближая с Островским Достоевского, Е. Порошенков находит такое же построение конфликта и в «Идиоте», где вокруг «красоты» — Настасьи Филипповны — группируются «носители зла» — Тоцкий, Епанчин, Ганя Иволгин и др. Однако при всей своей красоте Настасья Филипповна отнюдь не «белый голубь». А из числа тех, кто группируется вокруг Настасьи Филипповны, Е. Порошенков в угоду схеме забыл назвать князя Мышкина.
Суждения Е. Порошенкова не выявляют реальную расстановку сил и природу коллизий ни «Идиота», ни «Бесприданницы», где будто бы «красота обречена, так как злые силы сжимают кольцо вокруг жертвы». Разумеется, «злые силы» действительно сжимают свое кольцо вокруг Ларисы. И все же назвать Карандышева «злой силой» — явное упрощение. А увидев в Ларисе всего лишь жертву злых сил, мы упростим и ее образ.
Контрастное противопоставление непорочности и порока, белого голубя и черного грача скорее присуще мелодраме, а не драме или трагедии. И в героях драм Островского, тяготеющих к трагедии («Гроза», «Грех да беда на кого ни живет», «Бесприданница»), и в героях «романов-трагедий» Достоевского трудно усмотреть персонификацию одного лишь добра либо одного лишь зла. Героини, воплощающие здесь «красоту», все же отнюдь не «голубые» фигуры. Они причастны творимому в мире злу. А это возлагает на них «трагическую вину» и так или иначе влечет за собой возмездие.
Ведь героини Островского — Катерина, Лариса — или героиня Достоевского Настасья Филипповна — отнюдь не «белые голуби», они не просто безвинные жертвы окружающих их «носителей зла». В них скрыты свои острейшие противоречия. В этом для героинь истоки страданий, не менее важные, чем то «палачество», которому их подвергают «носители зла». Островский, а в еще большей степени Достоевский, трезво, без унижающей снисходительности рисуют реальную роль самих «жертв» в изображаемых коллизиях, а стало быть, и на них возлагают ответственность за свершавшееся с их участием.
Схема Е. Порошенкова — давняя и живучая. Нам пришлось обратить на нее внимание, ибо, не преодолев ее, всей сложности «Бесприданницы» не понять. К сожалению, одним из ее невольных «виновников» является замечательный наш литературовед А. П. Скафтымов, чьи мысли иногда подвергаются упрощению. В работе «Белинский и драматургия А. Н. Островского» (1952) он глубоко разъяснил вопрос о соотношении творчества двух великих драматургов — Гоголя и Островского. Многое восприняв в реализме автора «Ревизора» и «Мертвых душ», Островский не только по-своему продолжил, но и расширил обличительную, сатирическую направленность русской комедии, говорит А. П. Скафтымов. Гоголь изображал порок, однако практические следствия порока для страдающей стороны у него оставались лишь подразумеваемыми. Жертвы порока оставались у Гоголя за пределами его художественных изображений. Читателю или зрителю гоголевского «Ревизора» легко представить себе, какова была жизнь людей под властью городничего и его присных. «Но, — пишет Скафтымов, — эта страдающая сторона в непосредственной сценической демонстрации у Гоголя не представлена. Она лишь предполагается».
Не то, развивает свою мысль А. Скафтымов, у Островского: он изображает не только плохого или порочного человека самого по себе. У него всегда присутствует страдающая жертва. Когда Островский изобличает порок, он тут же кого-то от него ограждает. Его усилия направлены на защиту прав угнетаемой личности. Самодурство, конечно, было в русской жизни и до Островского, однако он % впервые показал не только его моральное зло, но и выступил защитником интересов личности, попираемой ТитТитычами.
Марья Андреевна из «Бедной невесты», Дуня из пьесы «Не в свои сани не садись», Любовь Гордеевна из пьесы «Бедность — не порок», Даша из пьесы «Не так живи, как хочется» — все они жертвы своего бесправного положения, диких нравов, самоуправства. Действие здесь строится на противопоставлении слепого эгоизма и его страдающей жертвы.
А. Скафтымов показывает, что отношение к страдающим жертвам у самого Островского и его истолкователя Добролюбова было различным. Сочувствие великого критика к угнетенным жертвам не является безусловным и всеобщим. Критик сочувствует прежде всего тем из них, кто еще не утратил достоинства личности, самостоятельности и способности к сопротивлению. И напротив, хотя и страдающие, но пассивные герои вызывают со стороны Добролюбова решительное осуждение. У самого же драматурга, по мысли Скафтымова, разграничения в авторских симпатиях к страдающим жертвам нет.
Такова концепция Скафтымова, охватывающая лишь начальный период творчества Островского. К сожалению, иные исследователи «механически» распространяют эту концепцию и на пореформенное творчество Островского, находя здесь прямое противопоставление порочных героев страдающим от них жертвам — «белым голубям».
Между тем самое отношение драматурга к страдающим и угнетенным, к жертвам зла, принимавшего в пореформенные годы новые формы, усложнялось. Более того: сочувствие к «жертвам» теперь связывается у Островского с требовательностью к ним, по-разному преломляющейся в «Лесе» или «Бесприданнице».
Разве ключница Улита — не жертва самодурства и произвола Гурмыжской? Но эта приживалка нарисована Островским без тени сочувствия к ней. Сатирическое негодование пьесы направлено и против Улиты, которая прямо-таки «ползает» перед барыней. Лакей Гурмыжской Карп говорит Буланову: «Вы своей воли не имеете». И этого лишенного воли недоросля Островский презирает. В «Волках и овцах» Островский показывает, как из «овцы» Глафира стремительно превращается в «волчицу». Такого рода «жертвы» изображены во множестве в пьесах Островского, однако никакого сочувствия драматург к ним не проявляет. Их человеческое достоинство попрано, но они свыклись со своим рабским положением. Рабство глубоко в них проникло. Островский видит, как и на «жертвах» сказывается растлевающее влияние бытовой морали, унаследованной от времен дореформенных, да еще и усугубленной растлением, которое принесло с собой пореформенное время.
Более строгим, внимательным и требовательным взглядом смотрит теперь драматург не только на власть имущих и своевольных, но и на тех своих героев, что предстают жертвами обстоятельств и чужого своеволия.
Когда Островского, в особенности раннего, называли «эпическим», а не «драматическим» художником, то вкладывали в это разное содержание. Одни считали, что в его пьесах слишком много места занимает повествовательное начало — например, рассказы той же Феклуши в «Грозе». Другие считали проявлением «эпичности» наличие в пьесах персонажей, непосредственно, подобно той же Феклуше, не участвующих в конфликте. Третьи видели в Островском эпического художника, ибо он спокойно зрит на правых и виноватых, а такой взгляд чужд драматургии, всегда так или иначе вершащей суд над своими героями.
Однако эпическое начало, в разных смыслах этого понятия, с течением лет все больше подчинялось у Островского началу драматическому. «Бесприданница» — наиболее яркий пример. Отношение автора к героям здесь страстное. Оно далеко от однозначности и тогда, когда дело касается тех, кого принято считать «жертвами».
Глава II. Афиша и еще несколько ремарок
Для театрального зрителя спектакль начинается с афиши. Ею, афишей, начинается и каждая пьеса. От театральной она отличается лишь тем, что в ней отсутствуют имена актеров и постановщиков. Но, как известно, создавая пьесу, драматург часто сам мысленно распределяет роли между хорошо известными ему артистами, а иногда даже специально создает роль ради того или иного актера.
Афиша, перечень действующих лиц и их краткая характеристика, — единственная возможность прямого обращения к своему зрителю или читателю, которая предоставлена автору пьесы. Затем все ложится на плечи действующих лиц и автор как бы устраняется из действия, не давая ему никаких истолкований и комментариев, которыми пользуются авторы повествовательных жанров — романа, повести, рассказа.
Подобно всем видам искусства, своей системе условностей, на которой основана ее специфическая образная природа, подчиняется и драма.
В реальной жизни даже самый замкнутый, самый необщительный человек находится, волей-неволей, в очень сложных связях со многими людьми. В то же время даже самая многолюдная драма ставит своих персонажей в отношения с очень небольшим кругом людей. В «Бесприданнице» их двенадцать, причем двое из них — Гаврило и Иван — ни в какое общение с главной героиней не вступают. С теткой Карандышева Лариса тоже не общается.
В течение нескольких часов мы становимся прямыми свидетелями и даже как бы соучастниками отношений, возникающих и все более усложняющихся на наших глазах. Здесь кроется причина особого волнения, возбуждаемого драмой, показывающей жизнь как непрерывно творимую людьми в процессе взаимодействия, в процессе противоборства желаний, стремлений и воль. Драматург концентрирует наше внимание только на людях, на тех стремлениях, страстях и чувствованиях, которые возникают у них в процессе активного и напряженного общения друг с другом. Действие как бы полностью отдается во власть не зависящих от автора лиц.
Хотя афиша и ремарки открывают драматургу некую возможность сказать читателю или зрителю кое-что, самую малость о персонажах своей пьесы, о том, что Пушкин называл «предполагаемыми обстоятельствами», драматические писатели не всегда находят нужным широко пользоваться этой возможностью. Их афиши очень скупы. Не то у Островского. Как и во многих других его пьесах, афиша «Бесприданницы» весьма содержательна. Название пьесы обращает нас к важнейшему обстоятельству в жизни героини. Затем идет определение жанра: «Драма в четырех действиях». Это очень важно, ибо большинство своих пьес драматург называл «комедиями», «картинами» или, особенно во втором периоде творчества, «сценами».
Затем афиша дает имена действующих лиц. Уже в первых своих пьесах Островский любил наделять своих героев «значимыми» именами: Самсон Силыч Большое и Лазарь Елизарыч Подхалюзин, Русаков и Вихорев, Африкан Коршунов, Тит Титыч Брусков… Эти имена часто прямо соотносятся с внутренними качествами героев.
За такую «прямолинейность» драматург не раз выслушивал упреки критики. Но от этого приема он так и не отказался до конца своей жизни.
Прием этот был не всегда так прямолинеен, как кажется. «Зверские» фамилии-прозвища Дикого и Кабанихи вполне оправдываются и характерами, и поведением. В той же «Грозе» Тихон подтверждает поведением свою «тихость», свою неспособность противостоять деспотизму матери. Но во многих случаях черты и особенности действующих лиц далеко не «покрываются» их значащими именами и фамилиями. Не следует у Островского — не только в его поздних, но и в ранних пьесах — всегда усматривать прямое выражение неизменных свойств человека в его имени. Ведь главная цель драмы — изображение перемен, сдвигов, даже катастрофических переворотов в человеческих отношениях и судьбах. Имя остается, а герой меняется. Выше всего в пьесе «Свои люди — сочтемся» И. С. Тургенев ценил «окончательную сцену», где отец семейства уже больше не Самсон, не Силыч, не Большое и уже не самодур вовсе, а жалкий человек, которого растаптывают и дочь, и зять. А тот теперь по жестокости своей уже никак не вяжете., ни с искательной фамилией Подхалюзин, ни с ласкательно звучащим именем и отчеством Лазарь Елизарыч.
Не только Островскому, но и Достоевскому было свойственно пристрастие к значимым именам и фамилиям. В «Преступлении и наказании» это, к примеру, Раскольников и Лужин. Карамазовы, Смердяков — в их имена Достоевский тоже вложил особый смысл.
В поздней пьесе «Бесприданница» Островский прибегает к своему старому приему. Правда, тут значение имен и фамилий в большинстве случаев открывается нам не сразу, ибо знаменательность здесь в большинстве случаев тайная, а не явная. Но ремарки-характеристики действующих лиц сразу воспринимаются читателем: «Мокий Парменыч Кнуров, из крупных дельцов последнего времени, пожилой человек с громадным состоянием». Островскому важно в своих ремарках сообщить и о возрасте персонажа, и о его имущественном положении. Если Лариса, как это ясно из названия пьесы, — бесприданница, то состояние Кнурова — громадно. А теперь о его имени. Как значительно, как весомо, как внушительно оно звучит! Но за этим звучанием есть и скрытый смысл. По словарю Даля, кнур — боров, кабан, хряк, свиной самец.
Один из главных героев: «Сергей Сергеич Паратов, блестящий барин, из судохозяев, лет за 30». Тут все, казалось бы, весьма благозвучно, но для охотников паратый — это сильный хищный зверь.
После блестящего Паратова идет персонаж странный. Имя, отчество и фамилия его образуют нарочито гротесковое сочетание: «Юлий Капитоныч Карандышев, молодой человек, небогатый чиновник». Имя римского императора дано человеку с очень обиходным, прозаическим отчеством. А фамилия? У Даля карандыш — коротышка, недоросток. В фамилии явно содержится нечто уничижительное. % Было бы, однако, неосторожно на этом основании делать слишком далеко идущие умозаключения о Юлии Капитоныче. «Карандышева, — с недоумением писал один автор, — случалось, играли как положительного героя. А значение слова, послужившего для образования фамилии этого персонажа, говорит об его отрицательных свойствах». П. А. Марков в статье «Морализм Островского» находит в именах его героев выражение «динамической сущности образа». Это верно, разумеется, по отношению далеко не ко всем именам и героям. Но в данном случае, как увидим, сочетание имени, отчества и фамилии говорит скорее о сложности фигуры, а вовсе не о «положительных» и не об «отрицательных» ее свойствах.
Один из персонажей назван Робинзоном. Как он попал сюда, в эту афишу и в эту компанию? Тут драматург воздерживается от каких-либо пояснений. Наши сомнения на этот счет должна разрешить пьеса.
Кончается афиша ремаркой: «Действие происходит в настоящее время в городе Бряхимове, на Волге». Большинство пьес Островского, как известно, посвящены русской жизни до- и пореформенной эпох (хотя были у него и пьесы исторические, и сказка «Снегурочка»). Но мы нигде, за исключением «Бесприданницы», не найдем у него специальной пометы, без всяких околичностей связывающей происходящее в пьесе с сегодняшним днем. На этот раз драматургу было очень важно подчеркнуть актуальное значение конфликта, его связь с противоречиями и острыми проблемами 70-х годов.
Волга. Впечатления, полученные еще во время поездок по великой реке в 1845 и 1848 годах, а затем уже во время «литературной экспедиции» 1857 года, всегда жили в творческом сознании драматурга. Впервые они отразились в «Грозе». Волга там на устах у всех. Ею восторженно любуется Кулигин. А Катерина, желающая птицей полететь в заволжские просторы, принимает смерть в ее водах.
Слова, которыми Паратов полушутя аттестует себя: «мужчина с большими усами и малыми способностями», были услышаны и записаны Островским во время его путешествия по Волге в 1857 году. Двадцать лет хранил их писатель, чтобы затем вложить в уста своего героя. Деталь? Да, но весьма показательная для понимания сложного процесса, именуемого творчеством художественным.
Ремарки в начале каждого действия — своеобразное продолжение афиши. Два действия — первое и последнее — проходят на высоком берегу Волги с видом не только на реку, но и на «большое пространство: леса, села и проч.». Время последнего действия — «светлая летняя ночь». Второе протекает в доме Огудаловой, в комнате с «приличной» мебелью, где стоит фортепьяно, а на нем лежит гитара. Место третьего — кабинет Карандышева. «Комната, меблированная с претензиями, но без вкуса».
В афише указано: место действия — город Бряхимов. Ремарки уточняют: драма будет разыгрываться сначала в виду Волги и Заволжья, потом в комнате с фортепьяно, затем в претенциозно убранном кабинете с дешевым ковром на стене и развешанным на нем оружием, завершится же все на высоком волжском берегу.
Глава III. Первое действие
Исходная ситуация и ее обострение. Начало завязки (замыслы Кнурова и Вожеватова, Карандышева и Паратова; противоречивые устремления Ларисы; благоразумный купчик и отчаянный барин ищут шутов; мотивы, их меняющаяся тональность).
В 1864 году Ф. М. Достоевский в письме брату Михаилу, мотивируя необходимость публиковать «Записки из подполья» не по главам, а полностью, в одной журнальной книжке, пояснял: «Ты понимаешь, что такое переход в музыке. Точно так и тут. В первой главе, по-видимому, болтовня, но вдруг эта болтовня в последних главах разрешается неожиданной катастрофой». Не только «Записки из подполья», но и «Идиот» ведь тоже начинается с «болтовни» и завершается катастрофой.
Обращение Достоевского к приемам музыкальной композиции глубоко знаменательно. Какие «переходы», подобные музыкальным, имеет в виду писатель? Разумеется, речь идет о переходах мотивов и тем из одной тональности в другую. В музыке от этих переходов — постепенных либо внезапных — в новую тональность зависит динамическое становление мотивов, приобретающих новые смыслы. Используя опыт музыкальных построений, Достоевский придает огромное значение не только сюжету, событиям и их связям. Особое значение приобретают связи сверхсюжетные. Мотивы как бы образуют некое ядро произведения. Подвергаясь трансформациям, они складываются в главные, доминирующие, ведущие темы, как это происходит в «Преступлении и наказании», «Братьях Карамазовых» и других его романах.
Автор «Бесприданницы» по-своему использует особенности музыкального построения. Пьеса начинается с «болтовни», разрешается же великим страданием, катастрофой и очищением. Тут важны не только события, но и доминирующие «сверхсобытийные» мотивы, которые надо расслышать, чего на первых порах не сумели сделать ни критика, ни театры.
В течение четырех действий пьесы, драматизм которых все нарастает, совершается ряд «переходов», которым Достоевский придавал столь большое значение, идет крутое движение ввысь. Не только ввысь, но и вглубь: от ленивого, как будто малозначащего диалога содержателя кофейной Гаврилы со своим слугой Иваном к исполненным страсти кульминационным сценам, к трагической развязке — смерти, которую принимает героиня драмы Лариса Огудалова в той же кофейне.
Таврило и Иван ввиду отсутствия посетителей предаются удовольствию почесать языком, обмениваясь — этого не могут не заметить читатель или зритель — соображениями, вопросами и ответами о вещах, хорошо им известных. Ленивый диалог здесь явно рассчитан на зрителя: ему адресована необходимая информация, связанная с исходной ситуацией пьесы. Некоторая нарочитость, бросающееся в глаза неправдоподобие зачина — неизбежное условие в строении драматического произведения. Даже в кажущихся «естественными» зачинах пьес Чехова, если в них внимательно всмотреться и вслушаться, мы тоже за жизнеподобием и непринужденностью обнаружим продуманное построение, отвечающее системе условностей драматургии.
Ведь вводя нас в мир своей пьесы, драматург при этом неизбежно обособляет определенную внутренне противоречивую ситуацию от того, что ей предшествовало. Но при этом ему необходимо осведомить нас о ее истоках. Мы должны узнать, как сложившаяся ситуация возникла и почему она в определенный момент перерастает в коллизию, свидетелем которой становится зритель.
Поэтому первые сцены драмы, иногда даже целый акт, наиболее, с житейской точки зрения, «неправдоподобны». Автор «Бесприданницы» и не стремится в этих сценах к «правдоподобию». Его задача — художественная правда. Он строит экспозиционные, вводные сцены так, чтобы помочь нам освоиться в «предполагаемых обстоятельствах», заставить нас войти в создаваемый им художественный мир. Вместе с тем ему надобно, не теряя времени, увлечь нас истиною страстей, переживаний, чувствований своих героев, глубиной возникающего конфликта. Поэтому в первых сценах изначальная ситуация одновременно и выявляется и обостряется.
Сцена Гаврилы с Иваном — своего рода пролог к драме. Явно игровой, имеющий как будто лишь служебное назначение (подвести нас к исходной ситуации и познакомить с некоторыми участниками будущей драмы), пролог этот более содержателен, чем кажется на первый взгляд.
Прислушаемся же к болтовне Гаврилы с Иваном. Отсутствие народа на бульваре Таврило разумно объясняет:
«По праздникам всегда так. По старине живем; от поздней обедни все к пирогу да ко щам, а потом, после хлеба-соли, семь часов отдыха… А вот около вечерен проснутся, попьют чайку до третьей тоски…
Иван. До тоски! Об чем тосковать-то».
В городе, где разворачивается действие, все как будто живут «по старине», не спеша, без тревог. Тут все как будто регулируется церковными службами — обеднями да вечернями, и еще пирогами да чаепитием. Об чем тосковать-то при таком хорошо налаженном и привычном образе жизни? Заметив приближающегося Кнурова («вон Мокий Парменыч Кнуров проминает себя»), Гаврило от своих мудрых рассуждений про весь город, от, выражаясь современным языком, общей панорамы Бряхимова переходит к одной фигуре, которая уже дается «крупным планом». Примечательно при этом сочетание выражений, применяемых Гаврилой к городу и к Кнурову. Город — «глотает кипяток», испытывает «шестой пот», «первую тоску», «третью тоску». Кнуров же — «себя проминает». Гаврило уже «глотнул» новую «образованность». Иван лишь дает ему новые поводы себя показать:
«Иван. Он каждое утро бульвар-то меряет взад и вперед, точно по обещанию. И для чего он себя так утруждает?
Гаврило. Для моциону.
Иван. А моцион-то для чего?
Гаврило. Для аппетиту. А аппетит ему нужен для обеду. Какие обеды-то у него! Разве без моциону такой обед съешь?
Иван. Отчего это он все молчит?
Гаврило. «Молчит». Чудак ты… Как же ты хочешь, чтоб разговаривал, коли у него миллионы!.. А разговаривать он ездит в Москву, в Петербург да за границу, там ему просторнее».
Если для Гаврилы Кнуров себя «проминает», то Иван выражается осторожнее: «утруждает». Гаврило смело употребляет еще одно таинственное слово — «моцион»; Ивану оно непонятно.
Не только о городе дает нам представление этот игровой диалог, но и обо всей России пореформенной эпохи. Пироги, щи, многочасовое потение за самоваром — все это еще сидит в быту очень крепко. Но веет при этом чем-то новым. Оно преломляется в словаре «просвещаемого» в клубном буфете Гаврилы, в его манере думать и говорить.
Еще в 50-е годы, почти за четверть века до появления «Бесприданницы», критика находила в пьесах Островского «все богатство и разнообразие нашего народного языка, обильного эпическими оборотами, множеством поговорок и негибнущих речений, приспособленных ко всевозможным житейским положениям». Вместе с тем в языке его персонажей с «комическою вольностью» укладываются слова и выражения, «взятые из отвлеченной сферы понятий или чуждых языков»[463].
В речи Гаврилы «негибнущие речения» из богатого арсенала народной речи причудливо сочетаются с «варваризмами», со словами, заимствованными из других языков.
В более ранней пьесе «Свои собаки грызутся, чужая не приставай» вдова Бальзаминова поучает сына Мишу: «Есть такие французские слова, очень похожие на русские…» Гаврило теперь гораздо чаще, чем Бальзаминова, слышит новые слова. Подобно ей, он прежде всего запоминает те французские, что «похожи на русские». У Бальзаминовой «ассаже» накладывается на «осадить». Подобно ей, Гаврило накладывает чужое слово «променад» на родные «мять» и «проминать», как близкие по смыслу и звучанию.
Очень разные речения Гаврило употребляет со знанием дела вполне к месту: обыкновенные горожане у него выходят «раздышаться да разгуляться»; человек же необыкновенный, молчаливый миллионер, тот не разгуливает, а «совершает моцион».
Так в речи Гаврилы возникают разнообразные «комические вольности», великим мастером которых был Островский. Через них, однако, дает себя знать время действия пьесы — пореформенная эпоха, когда, по словам В. И. Ленина, все «переворотилось», то есть уходило в прошлое крепостное право и весь «старый порядок», ему соответствовавший, и начал «укладываться» в России буржуазный строй жизни.
В живой, самой обыденной речи Островский слышал отголоски и этого «переворачивания», слышал сложное биение пульса современности; разумеется, драматург не брал в свои пьесы «сырую» живую речь. Словарь, интонация, а в ряде случаев, как увидим далее, и мелодия речи персонажей передают их характеры, состояния, атмосферу, создавая общий ритмический строй пьесы.
Включая Кнурова, да и других персонажей, в орбиту нашего внимания несколько искусственно, так сказать, ускоренно, Островский использует распространенный в драматургии прием предварительных характеристик. Они, разумеется, субъективны и выражают точку зрения не драматурга, а высказывающего их персонажа. Так, взгляд Гаврилы на Кнурова — это взгляд «снизу». Но ему нельзя отказать в проницательности. Для Гаврилы все в Кнурове полно величия, но нечто очень существенное буфетчик в молчащем миллионере определяет весьма точно. Когда Иван пробует усомниться в том, насколько правомерно хозяин кофейни связывает молчаливость Мокия Парменыча с его миллионами, он только помогает Гавриле отчетливо выразить свою мысль:
«Иван. А вон Василий Данилыч из-под горы идет. Вот тоже богатый человек, а разговорчив.
Гаврило. Василий Данилыч еще молод; малодушеством занимается, еще мало себя понимает; а как в лета войдет, такой же идол будет».
Оценив наблюдательность Гаврилы и меткость его последней реплики, в которой сказывается опыт клубного буфетчика пореформенной эпохи, мы могли бы с легким сердцем с ним расстаться. Так вскоре это делает и Островский, поручая ему еще лишь несколько реплик при появлении Паратова, — реплик человека, желающего потрафить богатому и щедрому барину.
Поговорить о Гавриле более подробно нас вынуждают две недавно появившиеся книги А. М. Поламишева — одна из них целиком посвящена анализу «Бесприданницы», а в другой ей отведено более сотни страниц большого формата[464]. Поламишев стремится дать не только литературный, но и режиссерский анализ пьесы Островского. Предлагая свое толкование замысла «Бесприданницы», Поламишев, следуя Станиславскому, считает необходимым направить внимание прежде всего на событийную сторону произведения. Исследователь хотел бы помочь актерам и режиссерам ответить на «простой» вопрос: что в пьесе происходит? Вместе с тем он ставит перед собой задачу во что бы то ни стало сделать всех до единого действующих лиц пьесы участниками ее основного конфликта, что будто бы тоже соответствует методу Станиславского.
Поламишев не только ищет, но даже находит в пьесе такой «общий конфликт», в котором Гаврило является более чем полноправным участником. Поэтому наши возражения исследователю продиктованы необходимостью решительно оспорить его истолкование глобального конфликта «Бесприданницы», который он связывает прежде всего с образом хозяина кофейни.
Автор убежден, что верно вскрытый «конфликт лиц, начинающих пьесу, как правило является таковым еще для целой группы действующих в начале пьесы персонажей». Начинают пьесу Гаврило и Иван. Надо, стало быть, обнаружить конфликт, которым они живут, и тогда все дальнейшее, вся пьеса во многом прояснится, если не станет вовсе ясной. «Конфликтным фактом» для Гаврилы и Ивана, по мысли автора обеих книг, оказывается «полдень воскресного дня», когда никто не идет в кофейню. «Пустует заведение Гаврилы по воскресеньям. Ах, как ненавидит Гаврило своих земляков за их темноту». Более того: Гаврило, оказывается, «завидует тем, кто может уехать отсюда в Петербург или за границу, завидует Кнурову». Поэтому и возникает «конфликт Гаврилы с этим распроклятым городом Бряхимовым». Все вышеизложенное и про «ненависть», и про «зависть», и про «конфликт» с Бряхимовым — домысел автора. У Островского на сей счет нет даже намека.
Но дело не ограничивается Гаврилой. Всех героев пьесы, оказывается, связывает «общий интерес»: им невыносимо в этом городе. Даже молчаливость Кнурова — свидетельство «конфликтного положения», в которое он вступил с ненавистным Бряхимовым. А Вожеватов? Он тоже в «конфликте с бряхимовской скукой». Ларису гнетет не только обстановка в ее доме, но «вся атмосфера Бряхимова». В полдень воскресного дня, пишет Поламишев, «как сквозь строй под палочными ударами проходит сквозь строй бряхимовской светской черни Лариса». Забывает исследователь, что в полдень воскресного дня на бульваре пусто, хотя сам же установил это на одной из предыдущих страниц книги, обосновывая безлюдьем «конфликт» Гаврилы и Ивана с Бряхимовым.
Атмосфера «бряхимовской безысходности», которую задал первый «конфликтный факт», тяготящий Гаврилу и Ивана, не разрешается, полагает Поламишев, и в третьем акте пьесы. В четвертом же героев окончательно побеждает Бряхимов. Здесь «человечность» была «вытеснена в Ларисе бряхимовским цинизмом», ибо «смерть настигает Ларису только после ее нравственного падения» (? — Б. К.). Здесь же, в последнем акте, обнаруживается и «глубина падения Карандышева». Пьеса завершается победой Бряхимова и диктуемых им «законов жизни» — так, в итоге, исследователь толкует судьбы всех персонажей «Бесприданницы» и ее идею.
Не только с Островским, а и со Станиславским, на которого он опирается в своих рассуждениях, вступает автор в явные и непримиримые противоречия. Во имя чего великий режиссер отстаивал свой «метод действенного анализа»? Одна из его вернейших последовательниц объясняет дело следующим образом. Если мы, то есть актеры и режиссеры, с самого начала окунемся «во все богатство предлагаемых обстоятельств, лексики, характеров» той или иной пьесы, «у нас разбегутся глаза». Дабы не «бродить вокруг и около», мы должны поставить себе вопрос: «Что происходит в пьесе? Отвечая на него, «мы дисциплинируем свое воображение», мы обращаем его к «объективным фактам»[465]. О дисциплинировании воображения, о погружении в глубины пьесы думал и сам Станиславский, считая необходимым «пойти за автором по проложенному им пути для того, чтобы не только понять, но и пережить задачи и намерения поэта», советуя искать «центральные места пьесы и роли», в которых артист «найдет настоящие исходные точки», «главные центры пьесы, ее нервные узлы»[466].
Давно выяснено, что Островский любил «вводные сцены». В ряде его пьес это прологи-монологи. Но гораздо больше у него прологов-диалогов с участием слуг. Одна из задач подобного рода вводных сцен — «жанровая обрисовка бытовой среды пьесы»[467]. Такова вводная сцена и в «Бесприданнице». Поламишев хочет доказать недоказуемое и не только включает в ряд «конфликтных» сцен вводную, но превращает ее в центральную, именно в ней находя ключ к пониманию структуры и идеи всей пьесы. А образ клубного буфетчика Гаврилы не поддается такому углублению, хотя, обосновывая свою точку зрения, исследователь тратит несколько страниц на объяснение того, «что такое был «клуб»? Какие были клубы в то время?», на рассказ о дворянском Английском клубе в Москве, о купеческих клубах 80-х годов, где пировали и заключали миллионные сделки. Подобные «отлеты» режиссерской фантазии от пьесы явились предметом иронии еще в «Театральном романе» М. Булгакова. Но, видимо, соблазн фантазировать вместо драматурга, дополняя его пьесу своими вымыслами, очень велик и труднопреодолим в работе режиссера.
Правда, в литературе последних лет появились еще более жесткие и узкие толкования «Бесприданницы». По мысли Поламишева, Лариса — фигура все-таки динамическая. Лишь заявив «пойду к хозяину», она переживает «окончательное» падение. Более сурово относится к Ларисе другой автор, с точки зрения которого она человек, так сказать, изначально падший, ибо, подобно другим героям, «тоже вступает в торговую сделку: за свою красоту хочет получить преданную любовь и положение порядочной семейной женщины»[468]. Итак, соглашаясь на брак с Карандышевым, Лариса уже торгует собой. Мало того: назвав себя позднее вещью, она поняла, что «самая возможность счесть Паратова идеалом была выражением ее глубокой связи с миром торговли, богатства, миром, где все репутации создаются деньгами»[469].
Так лица яркие, характеры и поступки противоречивые, мотивы сложные — все в подобного рода оценках сводится к одному знаменателю — до предела отрицательному. В противовес «голубой» Ларисе, Ларисе-жертве, пытаются создать из нее фигуру в высшей степени практическую, с идеалами низменными. Ее изымают из мира поэтических эмоций, погружая в «мир торговли», в органически чуждый ей мир маменьки — Хариты Игнатьевны.
Пушкин, которого очень высоко ставили и Островский и Станиславский, думая о призвании драматургии и средствах, которыми она обладает, между прочим сказал: «Изображение же страстей и излияний души человеческой для него (речь идет о зрителе. — Б. К.) всегда ново, всегда занимательно, велико и поучительно»[470]. В предлагаемой читателю книге (как и в первом ее издании 1973 г.) речь идет не о борьбе героев пьесы с Бряхимовым и «законами жизни» как таковыми, а о сложных междучеловеческих отношениях. В них, разумеется, сказываются законы жизни, но — особенным, неповторимым образом, соответственно характерам и страстям героев. Речь идет об «излияниях» души Ларисы, Карандышева, Паратова, других персонажей о внутренне-противоречивых ситуациях и действительно центральных, узловых сценах, где готовятся, а нередко и рождаются события произведения.
Подлинно драматическое напряжение возникает лишь во втором явлении «Бесприданницы», в сцене Кнуров — Вожеватов. Их «болтовня» переводит действие в новую тональность. Сцена эта внутренне очень драматична, но тут скрытый, лишь временами прорывающийся наружу драматизм, чреватый будущими событиями. При появлении пьесы больше всего упреков и нареканий со стороны критики, да и театров вызывал ее первый акт и, в особенности, именно сцена Кнуров — Вожеватов.
Известный артист Малого театра М. П. Садовский в декабре 1878 года получил из Петербурга письмо от Н. Флорина, которому он «поручил посмотреть» новую пьесу. «Ты, вероятно, читал в газетах, что она имела здесь большой успех. Увы, — это одна мечта», — сообщает Н. Флорин. Правда, на первом представлении в Александринском театре она действительно прошла с успехом. Но затем, на сцене Мариинского, продолжает Н. Флорин, «публика которого, как тебе небезызвестно, нисколько не похожа на публику Александринки, она провалилась точно так же, как и в Москве (судя по твоему письму)».
Вполне солидаризуясь со зрителями Мариинского театра, Флорин далее поясняет: «Это и понятно, ибо в пьесе этой, особенно в первом акте, действия нет никакого, а одни только разговоры, которые, может быть, интересны в чтении, но невыносимо скучны на сцене».
Весьма одобрительно встретивший петербургскую премьеру А. Плещеев в своей большой газетной статье высоко отозвался об образе Карандышева; он считал, что хорошо написана и Лариса. Ему очень понравилась игра М. Савиной — Ларисы в четвертом акте. Но и Плещеев посетовал на затянутость первого акта, состоящего сплошь из одних разговоров.
Прошли годы и десятилетия, «Бесприданницу» признали одним из шедевров Островского. И все же если не всю пьесу, то первый ее акт продолжали (а иногда и продолжают) трактовать как лишенный динамики. Этот акт будто бы «с идеальной полнотой характеризует статику пьесы — ее действующих лиц и те отношения, в которые они становятся друг к другу», пишет исследователь в наши дни. Тут уже не отрицательная, а как бы положительная оценка «статики» пьесы, призванной экспонировать исходную ситуацию пьесы. Но если целый акт статичен, пусть даже с «идеальной полнотой» экспонируя действующих лиц и их отношения, это все должно вызывать у нас ту самую «невыносимую скуку», о которой писал Н. Флорин М. П. Садовскому.
В первом акте «Бесприданницы» и впрямь, казалось бы, «одни только разговоры». Но означает ли это, что «действия нет никакого»? Тут ведь между Кнуровым и Вожеватовым возникает некий сговор насчет будущего Ларисы. Затем идет полная внутреннего напряжения сцена между Ларисой и Карандышевым. Да и приезд Паратова с Робинзоном, отношение Сергея Сергеевича к известию о предстоящем замужестве Ларисы и принимаемое им тут же решение посетить свою бывшую невесту — все это насыщено драматическим интересом, возбуждает ожидания зрителя, предчувствующего нарастающую драму. Однако выписано драматургом красками тонкими, требующими от исполнителей проникновения в скрытые намерения героев, в оттенки их чувств — не только в то?что выговаривается, но и в то, что ими недоговаривается.
«Бесприданница» уже в первом акте (особенно в нем) ставит перед исполнителями проблемы, с которыми через несколько десятилетий столкнутся зрители, читатели, критики чеховской драматургии. Ведь подобными же утверждениями — действия нет никакого — буквально пестрели отзывы о «Чайке», «Дяде Ване», «Трех сестрах», «Вишневом саде». Позднее в этом же упрекали и «Живой труп» Л. Н. Толстого.
Видимо, драматургия конца XIX — начала XX века требовала и от критики, и от зрителя пересмотреть свои представления о том, что же это такое — действие в драме. Требование это касалось и театров с их давно выработанными, но в чем-то устаревавшими средствами сценической выразительности.
«Бесприданница», несомненно, одна из первых в ряду пьес, побуждающих к поискам новых театральных красок, ритмов и тональностей, требовавших утонченного психологизма в разработке каждой роли и понимания скрытых мотивов и тем каждого произведения. Одновременно с Островским ломал устаревшие каноны театральности Г. Ибсен, многим пьесам которого тоже отказывали в сценичности.
Ситуация на театральной сцене особенно обострилась с появлением пьес Чехова. «Все театры России и многие — Европы пытались передать Чехова старыми приемами игры. И что же? Их попытки оказались неудачными. И нельзя назвать ни одного театра, ни даже единичного спектакля, который сумел бы показать Чехова с помощью обычной театральности», — писал К. С. Станиславский в книге «Моя жизнь в искусстве». Обычная «театральность» неприменима к Чехову, ибо «его пьесы — очень действенны, но только не во внешнем, а во внутреннем своем развитии. В самом бездействии создаваемых им людей таится сложное внутреннее действие», говорил Станиславский.
Быть может, он слишком резко отделял «внешнее» действие (оно «забавляет, развлекает или волнует нервы») от «внутреннего» (оно «заражает, захватывает нашу душу и владеет ею»), при этом несколько принижая значение действия, названного им «внешним». Но само это расчленение помогает нам понять особенную природу, своеобразие драматизма, присущего не только пьесам Чехова, но и таким пьесам, как «Бесприданница» Островского или «Гедда Габлер» Г. Ибсена, где скрытая жизнь героев не может быть выявлена средствами «обычной театральности», как их называет Станиславский.
Дело, однако, не только во «внутренней жизни» героев, для выражения которой нужны новые средства театральной выразительности. Они нужны и для выявления внутренних тем каждого акта и всей пьесы в целом — тем, связанных и с событиями, и с переживаниями героев. Так, в первом акте «Бесприданницы», будто бы лишенном динамики (всего одно событие — приезд Паратова, да и то к концу действия), уже звучат эти темы, насыщающие действие своим нетрадиционным динамизмом. Одна из них проступает отчетливо. Это тема всевластия денег и упоения этим всевластием, которого дельцы не в силах, да и не считают нужным скрывать. У Паратова Вожеватов покупает пароход — и задешево. Кнуров одобряет покупку и с улыбкой добавляет: «Да, с деньгами можно делать дела, можно».
Власть денежного мешка и возмущение, страх, отчаяние, охватывающие жертв этой власти, — одна из тем русской литературы 60—70-х годов. В романе Ф. М. Достоевского «Идиот» (1868–1869) со средой «наживателей денег» — дельца Тоцкого, генерала-фабриканта Епанчина, других темных финансовых воротил и их приспешников, с их всевластием вступает в отчаянную и безнадежную борьбу женщина необыкновенной красоты — Настасья Филипповна. В одной из центральных сцен романа, бросая вызов всем, кто ее продает и хочет купить, она швыряет в камин деньги, от власти которых, как и князь Мышкин, свободна. Ей и Мышкину в романе противопоставлен отпрыск обедневшей генеральской семьи Иволгиных, одержимый идеей обогащения. Ганя, человек мелкий, с темной и завистливой душой, — его своим болезненным самолюбием несколько напоминает Юлий Капитоныч Карандышев, хотя он вовсе не генеральский сын.
В предшествовавших «Бесприданнице» пьесах — «Бешеные деньги» (1870) и «Последняя жертва» (1877), в последовавшей затем пьесе «Таланты и поклонники» (1881) — тема всевластия денег преломляется каждый раз по-новому. В «Талантах и поклонниках» богач Великатов, обладающий, кроме денег, еще и некоторым обаянием, без особого труда побеждает бедного студента Мелузова и увозит с собой талантливую, но бедную актрису Негину. Становясь содержанкой Великатова, Саша Негина надеется осуществить свое призвание. Да, с деньгами можно делать дела: не только пароходы, но и таланты покупать — с полнейшей уверенностью в этом живет Великатов, беря верх и над студентом Мелузовым, влюбленным в Негину, и над ней самой.
И все же тема денег, заявленная в «Бесприданнице» в самом названии и в первых сценах пьесы, не является тут ни единственной, ни главной и доминирующей. Мотив купли-продажи, бессилия бедности и всесилия золотого мешка трансформируется, опосредуется, сливается с другими. Над всеми пьесами Островского последнего периода его творчества «Бесприданницу» возвышает ее тематическая усложненность и связанная с этим сложность композиционная, архитектоническая.
Покупаемая Вожеватовым «Ласточка» недолго занимает собеседников. В диалоге совершается «переход» к предмету, интересующему их много больше.
«Вожеватов (наливая). Слышали новость, Мокий Парменыч? Лариса Дмитриевна замуж выходит.
Кнуров. Как замуж? Что вы? За кого?
Вожеватов. За Карандышева.
Кнуров. Что за вздор такой! Вот фантазия. Ну что такое Карандышев! Не пара ведь он ей, Василий Данилыч».
Кнуров теряет всю свою невозмутимость. И тут мы слышим звучание другого мотива, связанного с уже заявленной ранее темой. Это мотив попрания человеческого достоинства: «Ну что такое Карандышев!» Презрение к Юлию Капитонычу весьма скоро обернется обидами и оскорблениями, наносимыми ему, и не только ему, но и Ларисе, пред которой мужчины, казалось бы, преклоняются.
Как и диалог Гаврилы с Иваном, диалог дельцов тоже не однослоен. Верхний слой здесь несколько «неправдоподобен», ибо рассчитан по преимуществу на читателя и зрителя. Весьма детально описывая обстановку в доме Ларисы Огудаловой, рассказывая о том, как ее мать — Харита Игнатьевна — с трудом выдала замуж двух дочерей-бесприданниц, Вожеватов вряд ли сообщает Кнурову факты, тому не известные. Да и Кнуров, характеризуя поведение Хариты Игнатьевны — «разочла не глупо: состояние небольшое, давать приданое не из чего, так она живет открыто, всех принимает», — тоже не сообщает Вожеватову что-либо новое. Столь же хорошо оба знают, как велико удовольствие бывать в доме Огудаловых и общаться с Ларисой. За него, однако, надо «платиться» подарками, которые выпрашивает Огудалова. Лариса же, хотя и пользуется огромным успехом у мужчин, ни на что иное, кроме замужества, «польститься» не желает — «хоть за Карандышева, да замуж».
Кнуров женат, Вожеватова мысль о женитьбе не привлекает. Лариса, казалось бы, для них недостижима. Они вынуждены признать: «Хорош виноград, да зелен». Но тут же наступает в этом диалоге-болтовне момент, когда он переходит в нечто более серьезное и настораживающее. Не желая отказываться от «винограда», цели свои они формулируют с недопускающей кривотолков определенностью. Оба хотели бы прокатиться на выставку в Париж «с такой барышней». Вожеватов по молодости и горячности, полагает Кнуров, легко пойдет на необходимые затраты. Собеседник возражает: «Всякому товару своя цена есть, Мокий Парменыч. Я хоть и молод, а не зарвусь, лишнего не передам».
Однако тема «товара» переходит тут же в новую. «Не ручайтесь! Долго ли с вашими летами влюбиться; а уж тогда какие расчеты!» — замечает Кнуров.
«Вожеватов. Нет, как-то я, Мокий Парменыч, в себе этого совсем не примечаю.
Кнуров. Чего?
Вожеватов. А вот, что любовью-то называют.
Кнуров. Похвально, хорошим купцом будете…»
Вожеватов искренен. Ему действительно неизвестна потребность в любви, он ее не испытывает. Говорит он об этом как о факте, не вызывающем в нем ни боли, ни даже недоумения. Спокон веков люди видели в любви чуть ли не главный смысл своей жизни. Ради нее шли на муки и на подвиги. Она была для них дороже жизни, сильнее смерти. Но здравомыслящему Вожеватову чувство, названное Стендалем «безумием, доставляющим человеку величайшее наслаждение», вовсе незнакомо, и он по этому поводу нисколько не сокрушается. Однако попросту заполучить Ларису, не думая при этом ни о какой любви, Вожеватов не прочь.
Кнуров слово «любовь» употребляет в пьесе единственный раз, когда подозревает Вожеватова в способности ее испытывать. Больше «идол» Кнуров про любовь ни разу не говорит.
Но как относятся к любви и как ее понимают другие персонажи пьесы, уже успевшие возбудить и вскоре еще больше возбуждающие наш интерес: Паратов, Лариса, Карандышев? Не здесь ли, не в ином ли отношении к этому чувству один из источников драмы, которую нам предстоит пережить вместе с ними?
Вожеватов рассказывает о любви Ларисы к Паратову как о каком-то для него курьезе: «наглядеться на него не могла», а когда тот исчез в неизвестном направлении, Лариса «чуть с горя не умерла», бросилась его догонять. «Какая чувствительная!» — не может Вожеватов удержаться от смеха, настолько все это кажется ему и непостижимым и ненужным.
Лариса же, после неудачи с Паратовым, решила дать согласие первому, кто попросит ее руки. Им оказался бедный чиновник Карандышев. Этого давнего, находившегося в небрежении поклонника согласие Ларисы — по словам Вожеватова — совсем преобразило: голову высоко поднял, очки надел, тон взял высокий. Прежде его и не слыхать было, а теперь все «я да я, я хочу, я желаю».
Новый мотив входит в пьесу — уязвленного самолюбия «маленького человека», который стремится во что бы то ни стало отстоять свое человеческое достоинство.
Для Кнурова и Вожеватова Карандышев не человек, а ничтожество, от которого надобно избавиться. Теперь Кнурова с Вожеватовым объединяет общая мысль: из этого брака «созданной для роскоши» Ларисы с жалким ломакой Карандышевым ничего хорошего не выйдет. К их вежливому сожалению о Ларисе тут же примешивается недоброе чувство. Оно еще выражено слабо, но каждый из них его ощущает в другом, а зритель — в них обоих.
Как-то оно проявится в их дальнейших поступках, это скрываемое ими желание несчастья Ларисе? Из единомышленников не превратятся ли они в сообщников? Тут один из тех моментов драматического действия, который можно назвать возбуждающим. С одной стороны, возбуждаются интересы, страсти, намерения действующих лиц. Вместе с тем и зритель, чуя недоброе, все более проникается сочувствием к еще не увиденной им Ларисе.
Сцена Кнуров — Вожеватов призвана рождать в нас чувство тревоги. Возникновения и нарастания такого чувства всегда добивается автор произведения драматического. Сцена общения двух дельцов построена так, чтобы заинтересовать нас необычной героиней и тут же вызвать опасения за ее судьбу. В нее ведь уже вторгся еще не увиденный нами Карандышев, а теперь намерены вторгнуться холодный, циничный Вожеватов и Кнуров — мужчина деловой, волевой, в натуре которого мы угадываем скрытую, тяжелую страстность. Произошло ли тут, во втором явлении первого акта, некое драматическое событие? Весь вопрос в том, какое содержание мы будем вкладывать в это понятие.
Ведь под общепринятое представление о событии подходит лишь приезд Паратова в Бряхимов, что имеет место лишь в шестом (предпоследнем) явлении первого акта. Неужто целых пять явлений «Бесприданницы» лишены событий? Станиславский, размышляя о природе драматического события, не проявлял педантизма. Характер происходящих событий, по мысли Станиславского, зависит от взаимоотношений и коллизий, от обстоятельств и положений, связывающих героев данной пьесы. Так, Станиславский однажды долго объяснял своим студийцам, что первое событие в «Горе от ума» — вовсе не приезд Чацкого, как полагали они. Нет, настаивал Станиславский, первым событием, давшим начальный импульс всему дальнейшему действию, было то, что «сегодня они, Софья и Молчалин, засиделись». Вчера они разошлись вовремя, позавчера — тоже не пересидели. А вот сегодня забыли о времени, и Лизе до них не достучаться. Поэтому она вынуждена перевести часы, а их звон в неурочный час привлекает наверх Фамусова. Софья и Молчалин, застигнутые им, попадают в трудное положение… Приезд Чацкого еще более напрягает уже создавшуюся острую ситуацию, усложняя положение Софьи, встревоженной событиями сегодняшнего утра.
По аналогии с рассуждением Станиславского мы, обращаясь ко второму явлению первого акта «Бесприданницы», можем сказать: сегодня они — Кнуров и Вожеватов — сговорились. Охотники за Ларисой сошлись на том, что ее брак непременно будет неудачен. И тогда наступит их черед. Соответственно этому и поступает вскоре Кнуров: не мешкая, он является к Огудаловой. «В Ларисе Дмитриевне, — излагает Кнуров свое понимание ситуации и свои планы, — земного, этого житейского, нет. Ну, понимаете, тривиального, что нужно для бедной семейной жизни». Когда она «догадается бросить мужа», ей понадобится «теплое участие сильного, богатого человека». Таким солидным прочным другом будет он, Кнуров, о чем и ставит в известность Огудалову, хотя Лариса «еще и замуж-то не вышла»…
Как видим, встревожившая нас деловая беседа Вожеватова с Кнуровым сразу же возымела (и впоследствии еще возымеет!) свои результаты. После разговора-сговора с Василием Даниловичем Мокий Парменыч приступает к осуществлению своего плана немедленно. Он спешит взять в сообщницы Огудалову, берет все расходы по предстоящей свадьбе на себя, надеясь на непременный разрыв между Ларисой и Карандышевым.
Сговор Кнурова с Вожеватовым — событие, предваряющее приезд Паратова. Но ему предшествует еще и объяснение между Ларисой и Карандышевым, в свою очередь усиливающее наши опасения, наши тревожные ожидания, связанные с тем, что жених и невеста думают по-разному о настоящем и будущем, а цели, во всяком случае ближайшие цели, у них прямо противоположные. Ситуация
Лариса — Карандышев тоже «событийна», ибо полна драматизма. Оба героя слышат друг от друга весьма для них неожиданные признания. А ведь неожиданность — спутник событийности в драме. Резкие, прямые, признания Ларисы и Карандышева побуждают нас с тревогой думать о последствиях, которыми чреваты заявленные ими противоположные позиции и желания.
Когда появляются Лариса, Карандышев, Огудалова и вступают в общение с Кнуровым и Вожеватовым, «возникающая сцена как будто соответствует нашим ожиданиям. Карандышев и Огудалова выказывают себя в полном будто бы соответствии с тем, как они уже охарактеризованы. Юлий Капитоныч претендует на роль большого барина, вовсе не обладая необходимыми для этого качествами и средствами. Огудалова предстает, как и ожидалось, особой разбитной и умеющей устраивать свои дела. Резка с женихом дочери, подобострастна с Кнуровым.
Совсем неожиданными предстают для нас взаимоотношения Вожеватова с Карандышевым. Тут Островский вводит, правда очень ненавязчиво, очень осторожно, новый мотив — он окажется важным в коллизии пьесы. Вспомним снова письмо Достоевского брату. Начиная с будто бы «болтовни», композитор движется к трагическому финалу, прибегая к «переходам», все более обогащая и углубляя тему.
Сначала Островский, в связи с «Ласточкой», ввел в пьесу мотив купли-продажи. Затем мотив любви, хорошему купцу непонятной и ненужной, связывается с мотивом попираемого человеческого достоинства. Теперь в отношениях между Вожеватовым и Карандышевым этот мотив преломляется по-новому, сказываясь в продолжение всей пьесы вплоть до ее финальной катастрофы. Между этими двумя лицами возникает какой-то особый тон отношений, на первый взгляд даже как будто не очень естественный ни для того, ни для другого. Вожеватов ведь, казалось бы, добродушен, Карандышев же заносчив. Но пытаясь разыгрывать из себя барина, самоуверенно поучая Кнурова и Вожеватова, как надо пить да как закусывать, и вообще рекомендуя им свой стиль жизни, он невольно ставит себя в положение шута. Милый же Вася не упускает повода упрочить за Карандышевым именно это положение. Юлий Капитоныч предлагает Ивану служить у него сегодня за обедом и быть во фраке. Тут же Вожеватов спрашивает: «Мне тоже во фраке прикажете?» Юлий Капитоныч этот язвительный вопрос воспринимает вполне серьезно. Он нечувствителен к снисходительному, пренебрежительному тону, к обидным колкостям Вожеватова, явно над ним потешающегося. За казалось бы добродушным подшучиванием — оскорбительное третирование. Лишь тонкой чертой оно отделено от прямого издевательства, объектом которого Карандышеву суждено стать в очень скором времени. Нет, Вожеватов не будет играть главной роли в этом глумлении. Существенно, однако, что первым начинает именно он, милейший Вася.
Так Островский вводит в пьесу ситуацию, характерную для мира, где человеку отведена либо роль барина, либо его шута. Эту ситуацию пореформенная эпоха унаследовала от предшествующей — крепостнической. Но теперь барин имеет множество новых способов глумиться над своим шутом. Таким образом, появлению Ларисы предшествует несколько сцен, исполненных внутреннего драматизма. А в ее поведении, в ее речах и поступках вскоре обнаружат себя и сюжетные, и сверхсюжетные связи с тем, что уже творилось на сцене.
Как бы подтверждая сказанное о ней ранее другими лицами, она вместе с тем сразу же усложняет наши о ней представления. В продолжение целой сцены Лариса, сидя у решетки, ограждающей обрыв, молча глядит на Волгу и за Волгу. Так она и входит в наше сознание: молчаливой, отрешенной, устремленной вдаль, прочь от своего окружения.
Решетка занимает важное место в коллизии «Бесприданницы», она значима и даже символична, как и гитара в руках Ларисы или цыгана Ильи, как пистолет, привлекающий ироническое внимание гостей в доме Карандышева. Решетка, вероятно, наиболее важный аксессуар из названных, и ее значение — мы это увидим — будет расширяться по ходу действия.
Теперь, когда вступление Ларисы в диалог подготовлено всем сказанным про нее Кнуровым и Вожеватовым, подготовлено сценой Карандышева с Огудаловой, подготовлено ее длительным молчанием и отрешенностью, особенный наш интерес должна вызвать сцена между нею и Карандышевым — в первом действии центральная, ключевая.
«Лариса. Я сейчас все за Волгу смотрела: как там хорошо, на той стороне! Поедемте поскорей в деревню!
Карандышев. Вы за Волгу смотрели? А что с вами Вожеватов говорил?»
Лариса — про Волгу, Карандышев — про Вожеватова. Карандышева не интересуют ни мысли, ни чувства, ни стремления Ларисы, выражаемые и этим ее напряженным «смотрением», и ее высказыванием. И чем более назойливо он выпытывает то, что Лариса называет «пустяками какими-то», тем резче становится ее отношение к нему. «Меня так и манит за Волгу, в лес… Уедемте, уедемте отсюда!» — просит Лариса, а Карандышев не слышит ни слов этих, ни этого повтора «уедемте, уедемте», ни интонаций первых двух реплик Ларисы, интонаций не менее содержательных, чем самые слова.
Говоря об исполнении Комиссаржевской роли Ларисы, один тонкий критик заметил, что у Островского она находится между Карандышевым, Паратовым, Кнуровым, у Комиссаржевской же — все время над ними. Думается, что в самой пьесе есть два момента, когда Лариса несомненно находится над миром «Карандышева, Паратова и Кнурова. Первый — когда она молча смотрит за Волгу и затем произносит свое «уедемте, уедемте». Второй — когда Карандышев своим выстрелом вызволяет ее из неволи этого мира и тем самым возносит ее над ним.
Но теперь, оставаясь совершенно глухим к просьбам и даже мольбам Ларисы, Карандышев втягивает ее в этот мир своими поучениями и попреками. Упоенный своей ролью жениха и будущего мужа, Карандышев ведет себя как судья и обвинитель. Но, вопреки ожиданиям, ставит себя в положение обвиняемого. Такова, видимо, вообще судьба Карандышева; видимо, всегда результаты его действий будут противоположны намерениям. С Вожеватовым он повел себя как барин, а тот повел себя с ним как с шутом. Теперь, поучая и упрекая Ларису, он побуждает ее высказать ему откровенные слова, которые он менее всего хотел бы услышать и смысла которых он в самоупоении так и не в силах понять.
Лариса начинает с признания, что жизнь в доме маменьки была ей не по душе. Беспрестанно упрекать ее за порядки, царившие в их доме, «глупо или безжалостно». Так вводится в коллизию мотив жалости и безжалостности, человеческого сочувствия и человеческого бессердечия — один из важнейших в «Бесприданнице». Мы еще увидим, почему и как становится безжалостной и бессердечной сама Лариса. Тем важнее подчеркнуть, что этот мотив вводит в пьесу она. В жалости, поддержке, ободрении, ласке Лариса очень нуждается и этого просит у Карандышева. И тут же откровенно признается, что его она еще только «хочет полюбить», то есть не любит. Столь же откровенно говорит она о предстоящем замужестве как средстве «бежать от людей».
Начав с безжалостных попреков, Карандышев в ответ услышал слова еще более безжалостные. Сложный, странный, противоречивый характер имеет это самооправдание Ларисы, переходящее в мольбу о помощи, поддержке, сочувствии. Моля о сердечности, в которой она так нуждается, Лариса откровенно, но и бессердечно поясняет Карандышеву, что ее выбор никак и нисколько не определяется его достоинствами и думает она не о нем, а о себе только. Он для нее всего лишь средство и сам по себе еще занимает ее очень мало.
Противоречивые мотивы, сплетающиеся тут в речи Ларисы, позднее, в третьем действии, вновь возникнут в пьесе и зазвучат с огромной силой. Карандышев тогда, произнося свой тост, всячески будет опровергать слова, которые теперь сам же и заставил ее произнести.
Как видим, первое же наше знакомство с Ларисой и подтверждает и опровергает все услышанное нами про нее. Вожеватов был и прав и не прав, говоря о ее «простоватости», понимая под этим отсутствие «хитрости», весьма свойственной Харите Игнатьевне. Да, Лариса не хитрит, она человек откровенный, но характера отнюдь не простого. Она живет внутренне противоречивыми целями. Несоответствие между стремлениями, во власти которых она живет, и средствами, к которым она прибегает, начинает проясняться для нас в первом же диалоге с ее участием.
Когда Карандышев, в ответ на признание Ларисы, просит прощения за слова, сказанные без намерения обидеть, это опять же вызывает резкую реакцию с ее стороны: «Надо думать, о чем говоришь… Каждое слово, которое я сама говорю и которое я слышу, я чувствую. Я сделалась очень чутка и впечатлительна». Здесь опять же Ларисой сказаны слова, имеющие значение не только в контексте данной сцены, их значение будет расширяться в большом контексте всей пьесы. Да, она чутка и впечатлительна, но только по отношению к тому, что касается ее лично.
Несколько позднее, во втором действии, Карандышев, объясняя Ларисе, зачем ему нужен званый обед, молит ее: «Пожалейте вы меня хоть сколько-нибудь! Пусть хоть посторонние-то думают, что вы любите меня, что выбор ваш был свободен». Лариса не очень-то согласна его «пожалеть» и объясняет почему: «Вы только о себе. Все себя любят!» Да, Карандышев действительно думает только о себе. Но разве она, Лариса, поступает иначе?
Надо понять противоречивость, присущую первым же поступкам Ларисы, и тогда мы сможем постигнуть смысл тех радикальных перемен, что происходят с ней на протяжении пьесы, смысл тех ее слов и поступков, которыми она в третьем, а затем и в четвертом действиях будет колоть, язвить, терзать и мучить другого человека, смысл тех потрясений, которые она переживет.
Ведь в основе конфликта «Бесприданницы» — противоречивость сознания человека пореформенной эпохи. Ею определяется и поведение дворянина Паратова, не без мучительности превращающегося в дельца новой формации, и поведение типичных для нее дельцов, каковы Кнуров и Вожеватов. Противоречия времени сказываются и в поведении Робинзона — человека, опустившегося на «дно» жизни. С особенной силой проявляются они в стремлениях, в психологии, в поведении Карандышева и Ларисы. При всем том что эти люди несоизмеримы по природной одаренности, по эмоциональным, душевным и духовным потенциям, оба они — каждый по-своему — испытывают воздействие «веяний» своего времени и давление его социальных, идейных, нравственных тенденций. Разумеется, время давит на каждого из них по-своему, и каждый из них по-своему же отвечает на это давление.
Лариса явно ищет того, в чем время ей решительно отказывает.
В ответ на слова Карандышева о «цыганском таборе» Лариса с вызовом вспоминает о людях, там бывавших, и прежде всего о Паратове. Благородная личность, он был, остается и навсегда останется в ее глазах «идеалом мужчины». Так возникают новые, важнейшие мотивы пьесы. Что Лариса понимает под «идеалом»? Впрямь ли ему соответствует Паратов? Не заблуждается ли она, а если заблуждается, то как и чем будет за свое заблуждение расплачиваться?
Подчиняясь неумным и запальчивым настояниям Карандышева, Лариса тут же пытается обосновать свое высокое мнение о Сергее Сергеевиче. Паратова, уже представшего перед нами в восприятии Василия Данилыча и Мокия Парменыча, мы теперь видим ее глазами. В связи с Паратовым начинает звучать тема, контрастирующая вожеватовской, выраженной им в словах: «не зарвусь». Когда Вожеватов заявлял, что «смелости у него с женщинами нет», это было очень важным признанием. Тут речь шла об определенной жизненной позиции. В восприятии и Вожеватова, и Ларисы Паратов предстает перед нами выразителем совсем иной, не вожеватовской «философии».
Для здравомыслящего, холодного Вожеватова Паратов — «мудреный», для Ларисы — «смелый». Вожеватов недоуменно и с некоторой насмешливостью говорил о «чувствительности» Ларисы, пустившейся догонять Паратова, когда тот исчез из Бряхимова. Лариса, теперь мы это понимаем, искала в Паратове страстную натуру, подобную ей самой. Способность к риску, готовность совершать поступки необычные и необычайные в мире вожеватовых с их трезвым практицизмом — вот что восхищало ее в Паратове. В мире рассудочных, расчетливых, предприимчивых дельцов порывистость, размах и даже безрассудство Паратова Лариса воспринимала как воплощение стихийной поэзии жизни.
Когда Юлий Капитоныч пытается ревновать Ларису и к Паратову, и к Вожеватову, она успокаивает ревнивца словами: «Я не люблю и не полюблю никого». Тут же, однако, выясняется: никого не полюбит, ибо Паратова разлюбить невозможно.
Вняв этому сообщению, мы, читатели и зрители, опять же вынуждены признать, что Лариса никак не подходит под разряд «идеальных» и насквозь «положительных» героинь. Островский того и не хотел. Свою героиню, продолжающую любить одного человека, но вынужденную выходить за другого, он ставит в заведомо трудное, быть может, трагическое положение. Драматург прекрасно понимает все сопряженные с таким положением сложности. Сама Лариса противоречивости своих побуждений, стремлений и поступков еще не ощущает. Чем же все это обернется, чем чреваты поступки, в основе которых лежат сложные и противоречивые мотивы?
Усиливая возникающие у нас тревожные предчувствия и сразу же идя им навстречу, драматург прерывает сцену Карандышев — Лариса пушечным выстрелом, очень пугающим Ларису. А мы уже знаем то, чего не знают ни она, ни Карандышев, — выстрел этот возвещает появление человека, про которого невеста только что успела сказать своему жениху: «Успокойтесь, он не явился, а теперь хоть и явится, так уж поздно…». Поздно ли? Этот вопрос тоже не может не возникнуть у читателя и у зрителя. Выстрел — один из поворотных моментов завязки драмы.
Когда наконец-то предстает перед нами Паратов, опять происходит драматическая неожиданность: Сергей Сергеич не один, при нем состоит некое новое лицо. И на этот раз драматург как бы соблюдает прием предварения и снова же нарушает его.
Готовясь жениться на девушке с приданым в виде золотых приисков, Паратов приехал попрощаться навсегда со своей свободой и первым делом приглашает приятелей к себе. Но Кнуров и Вожеватов уже званы на обед к жениху Ларисы. Сообщение о ее предстоящем замужестве Паратов встречает с облегчением: он ведь чувствовал себя «немножко» виноватым перед ней. Теперь, когда со «старыми счетами» столь благополучно «покончено», он желает ей счастья. У нас нет никаких оснований сомневаться в его искренности. Однако тревогу возбуждает желание Паратова в новых обстоятельствах, когда все уладилось, навестить Огудаловых из одного лишь любопытства поглядеть на Ларису.
К сопровождающему Паратова человеку по кличке Робинзон мы могли бы отнестись более или менее равнодушно, усмотрев в нем всего лишь эпизодическое лицо, призванное внести в пьесу комедийное начало. Не будем, однако, проявлять такую наивность, отнесемся к Робинзону серьезно. Без него, этого спившегося провинциального актера Аркадия Счастливцева, нельзя до конца понять всей той системы отношений, что втягивает в себя Ларису и ведет ее к гибели.
Робинзон при Паратове — в роли шута. Во многих произведениях мировой драматургии среди действующих лиц нередко важная роль отводится и шуту. Вспомним, к примеру, шекспировского «Короля Лира». Там шут — лицо, глубже других понижающее Лира, и не только короля, но и его окружение. Он прикидывается дураком, а на деле умен, проницателен, тонок. Ему позволено смешить, а он позволяет себе насмехаться — с горечью и болью — над трагедией, которой он является не только наблюдателем, но и участником.
Зачем Паратову понадобилось по дороге в Бряхимов отобрать Робинзона у одного загулявшего купца? Паратов же не купец, он ведь судохозяин из дворян. Вот как он знакомит с Робинзоном своих старых друзей:
«Паратов…А я, господа, и позабыл познакомить вас с моим другом. Мокий Парменыч, Василий Данилыч! Рекомендую — Робинзон.
Робинзон важно раскланивается и подает руку Кнурову и Вожеватову.
Вожеватов. А как их по имени и отчеству?
Паратов. Так, просто, Робинзон, без имени и отчества.
Робинзон (Паратову). Серж!
Паратов. Что тебе?
Робинзон. Полдень, мой друг, я стражду».
Рекомендация без имени и отчества явно Робинзону не по душе, и он спешит ее оборвать заявлением про свою жажду. Паратов со словами: «Ну, ступай, черт с тобой!» — позволяет ему отправиться в кофейную. Излагая забавную историю их недавнего знакомства, он вызывает чувство зависти у Вожеватова, который, «кажется, ничего б не пожалел за такого человека…». Сергей Сергеич легко передает «дня на два, на три» этого «веселого», «потешного» господина в его руки.
Какие разные они люди — Паратов и Вожеватов! Один — дворянин и барин — пленителен, обаятелен, смельчак. Для него, согласно тут же сказанным им словам, «ничего заветного нет». Другой — молодой купчик — осмотрителен, ни на какие порывы не способен. Его девиз: здравомыслие. Однако, при всем различии, обнаруживается в них нечто общее. Ведь фразу-то свою, что ничего заветного для него нет, Паратов кончает словами: «найду выгоду, так все продам, что угодно». Начинает свою фразу Паратов как человек широкой души, по-барски, по-молодечески, а кончает по-вожеватовски, по-деловому, по-купечески.
Блестящий барин и начинающий буржуазный воротила — родственные натуры: каждый из них думает о выгоде. И каждый из них нуждается в шуте. Нет, не в таком, что позволял бы себе колоть им глаза правдой. Им нужен шут другого рода — без имени, без отчества, обезличенный, приниженный.
Отметим теперь внутреннюю соотнесенность этой сцены со сценой Вожеватов — Карандышев. Юлий Капитоныч ставил себя в положение шута поневоле. Робинзон делает это уже как профессионал. Шутовство для него средство существования. Карандышев унижает себя, намереваясь возвеличиться. Он болезненно обидчив и вместе с тем не чувствует наносимых ему обид. Робинзон, по словам Паратова, «не обидчив». Так ли это? Может быть, еще чувствителен к обидам и только делает вид, будто их не замечает? Может быть, топит свои обиды в вине?
Зачем так надобны шуты Вожеватову и Паратову? Какова природа этой их душевной потребности и чем она может обернуться в скором будущем, в дальнейшем развитии коллизии пьесы?
Глава IV Второе действие
Завершение завязки (сговор Кнурова с Огудаловой; признания Ларисы; Паратов обуздывает и укрощает).
В первом действии «Бесприданницы» не было борьбы между персонажами, если понимать ее как открытую схватку, как столкновение внутренне вовсе чуждых друг другу сил. Иногда, пытаясь доказать, что у Островского, как и у других драматургов, происходит такого рода борьба, делят персонажей «Бесприданницы» на два противостоящих лагеря. В одном — богатые и независимые, в другом — бедные и зависимые. Хариту Игнатьевну Огудалову при этом относят к числу зависимых.
Состояние у нее и впрямь «небольшое». Но, видимо, все же такое, что можно бы просуществовать. И если она стремится жить в зависимости от Кнурова или любого другого богатого человека, то тут мы имеем дело не с чем-то подневольным и вынужденным. Они добровольно движутся навстречу друг другу — Кнуров и Огудалова. Тут тоже внутреннее родство. Тут общее им обоим — миллионщику и небогатой вдове — понимание жизни. Именно это сближает мать, готовую дорого запродать свою дочь, с богатым покупщиком. Зависимость от Кнурова, не доставляющую ей ни страданий, ни тягот, она сама всячески стремится упрочить. Поэтому даже отдаленные аналогии и уподобления отношений, существующих между власть имущими и их подневольными в ранних пьесах Островского, с отношениями, связывающими Кнурова с Огудаловой, не имеют под собой никакой почвы.
Пришли новые времена. До реформы жизнь держалась на открытом принуждении. Оно определяло отношения не только между барином и крепостным мужиком, но проникало и в жизнь других социальных слоев. Теперь, в пореформенные годы, происходят изменения в обстоятельствах жизни и в людях. Возникают новые противоречия в человеческих характерах. Художественному анализу сложной системы зависимостей — социальных, нравственных, психологических, связывающей этих меняющихся людей, и посвящена «Бесприданница».
Разные формы зависимостей предстают перед нами. Робинзон давно поставлен жизнью в рабское положение, которое временами его как будто тяготит, но переменить он ничего уже не в силах, да и не пытается. Огудалова хотела бы попасть в такую зависимость от какого-нибудь богача, которая дала бы ей полную материальную независимость. Карандышев находится в духовной зависимости от других лиц, хотя стремится доказать обратное, и своими поступками эту зависимость только усиливает. Лариса тоже не свободна от разного рода «зависимостей» — не только материальных, но и духовных — возникших в пореформенную эпоху.
Как Огудалова принимает от Вожеватова подарок в 500 рублей ко дню рождения Ларисы, нам не показывают. Мать лишь сообщает дочери о подношении «плутишки». Зато визит Кнурова и его диалог с Харитой Игнатьевной драматург изображает непосредственно — в очень важной сцене второго действия. Тут два деловых человека, понимающие друг друга с полуслова и не считающие нужным все договаривать до конца. Лариса Дмитриевна еще не только не разошлась с мужем, но даже и замуж не вышла. Кнуров, однако, уже спешит занять место будущего «прочного» друга и сулит Огудаловой десятки тысяч, как он выражается — «даром». Происходит обгова- ривание сделки, которой не миновать в недалеком будущем.
По контрасту с этой следующая сцена совсем не коммерческая, не деловая. Ее участницы — Огудалова и Лариса. Впервые Лариса предстает перед нами с гитарой в руках, впервые мы слышим ее пение. Это пение про себя и для себя, когда человек думает, мечтает, вступает в разговор и опять возвращается к пению.
Лариса напевает романс Гурилева «Матушка, голубушка, солнышко мое, пожалей, родимая, дитятко твое!». Тут нет прямого обращения к своей матушке — Харите Игнатьевне. И все же не случайно в устах Ларисы звучит именно этот мотив: просьба о жалости, о сочувствии, о помощи, о поддержке, обращенная на этот раз не к Юлию Капитонычу, а к матери. А когда Лариса затем несколько раз запевает романс «Не искушай меня без нужды», это уже предварение того, что вскоре будет происходить в третьем и четвертом действиях. Ведь искушать Ларису будет не только Паратов своим двусмысленным поведением, но и Кнуров своими решительными предложениями.
Огудалова еще до того, как Кнуров выступит открыто, уже готовит ему почву. Лариса стремится к тихой жизни в деревне с Юлием Капитонычем, там она хотела бы отдохнуть душой. Огудалова ее как будто не отговаривает, но ясно, что она не хочет отпускать дочь в деревню, да и не считает серьезной потребность «отдохнуть душой». Меньше всего Огудалову заботит вопрос о душе человеческой. Верит ли она вообще в ее существование? Иронически-одобрительно заявляя «сделай милость, отдыхай душой», Огудалова тут выступает не просто как сообщница бездушного, циничного «идола» Кнурова, но и как его единомышленница в самом глубоком смысле слова.
Если в начале диалога с дочерью Огудалова выражала свою позицию в не очень прямых словах, то, узнав, что в город приехал какой-то богач, она уже высказывается на этот счет без обиняков. Не поторопилась ли Лариса, дав согласие Карандышеву? Огудалова хочет снова втравить свою дочь в погоню за богатым женихом.
«Лариса. Опять притворяться, опять лгать!
Огудалова. И притворяйся, и лги! Счастье не пойдет за тобой, если сама от него бегаешь».
Запомним эти слова. И вспомним их, когда станем в этом же действии свидетелями встречи Ларисы сначала с Карандышевым, а потом — с Паратовым. Там темы лжи, притворства, правды в чувствах и словах подвергнутся нескольким «переходам» и станут одними из самых важных в пьесе. А слова про счастье, которого надо добиваться самой, вспомним, когда Лариса в третьем действии поведет свою борьбу за Паратова.
Но сначала о лжи и притворстве. Когда появляется Карандышев, он не понимает желания Ларисы поскорее уехать, даже «бежать отсюда». Действительно, почему Ларисе так хочется бежать? Что ее томит? Душевная усталость от прошлых переживаний, нежелание опять притворяться и лгать или тревожные предчувствия? Юлию Капитонычу не до ее переживаний. Если в первом действии Лариса дала понять Карандышеву, что замужество для нее — средство найти тишину и уединение, то теперь он, в свою очередь, платит ей той же монетой. Для Юлия Капитоныча женитьба на Ларисе — хотя он ее по-своему и очень сильно любит — тоже средство «погордиться и повеличаться» перед людьми, коловшими его самолюбие, перед всем городским обществом как избраннику столь необыкновенной % девушки.
Надо понять ситуацию во всей ее сложности. Упрощая дело, нередко говорят, будто Карандышев Ларису вовсе и не любит. Нет, в меру отпущенных ему душевных возможностей любит сильно и горячо. Но Островскому важно раскрыть одно из искажений, которым подвергается любовь в мире, где унаследованные от крепостнической эпохи формы попрания человеческого достоинства усложняются складывающимися буржуазными отношениями.
Если Вожеватов ничего не знает и знать не хочет про любовь, то Карандышев способен любить и любит. Когда в четвертом действии он будет кричать о своей любви, тут с его стороны не будет ни обмана, ни самообмана. Однако Карандышев не может отдаться своей любви, ибо есть нечто гложущее его и тревожащее больше, чем самая любовь. Ему надо скрыть и от себя, и от других некую правду о себе. Ему надо создать видимость, что и его любят, что он вовсе не «соломинка», за которую хватается утопающий, а человек подлинно значительный. Нет, правда в том, что он именно «соломинка», пытается отрезвить его Лариса.
«Карандышев (с сердцем). Так правду эту вы и знайте про себя! (Сквозь слезы.) Пожалейте вы меня хоть сколько-нибудь! Пусть хоть посторонние-то думают, что вы любите меня, что выбор ваш был свободен.
Лариса. Зачем это?
Карандышев. Как зачем? Разве вы уж совсем не допускаете в человеке самолюбия?»
Вот как развивается тут тема лжи и правды, прозвучавшая в диалоге Ларисы с матерью. Та требовала от дочери утаивать истину, лгать и притворяться. Того же, в своих видах и целях, требует от нее теперь Карандышев.
Карандышевскую тему самолюбия, тему уязвленного и болезненного ощущения своей неполноценности, подхватывает и развивает, как это ни странно, появляющийся вскоре перед очами Ларисы Паратов. Они совсем разные — Карандышев и Паратов — по общественному положению, по воспитанию и уму, по характерам и дарованиям. Дают они друг другу весьма обоснованные уничижительные характеристики. Но в ходе их сложной борьбы друг с другом драматург выявляет нечто для нас неожиданное и чрезвычайно важное. Победитель женских сердец, самоуверенный, окруженный загадочным ореолом светский господин, человек, внушающий страх, почтение, восторг, и мелкий неказистый чиновник, всеми третируемый, с помощью очков пытающийся придать себе солидность, — оба хотят предстать перед людьми не такими, каковы они есть, а какими хотели бы казаться.
Сцена Паратов — Лариса является ключевой, узловой в завязке «Бесприданницы». Тут каждый из персонажей совершает поступки, ранее не входившие в его намерения. А такое несовпадение первоначальных намерений с результатами человеческих действий и есть один из главных источников того, что зовется драматизмом.
Харите Игнатьевне Паратов вполне чистосердечно объясняет причину как своего исчезновения, так и своего теперешнего появления. В игривом тоне Огудалова осторожно выведывает: а не вернулся ли Паратов к Ларисе? Тот полушутливо сообщает весьма серьезную новость. Он готовится «продать свою волюшку» и оценил ее в полмиллиона. Всей правды Паратов Огудаловой все же не сообщает: ведь волюшка-то уже запродана.
С Ларисой разговор идет совсем в ином тоне. Тут не до шуток, слишком они друг в друге глубоко заинтересованы. Приходит он, по его словам, с намерением «засвидетельствовать почтение». У нас нет никаких оснований думать, будто у него иные цели. Но и Паратов, и Лариса, поступая не так, как хотели бы, раскрывают себя неожиданным образом. Именно этого — неожиданного и вместе с тем неизбежного, а потому и драматического обнажения героями своей подлинной, самой глубокой сущности добивается здесь драматург. Сцена между Ларисой и Паратовым — одно из высших его достижений.
«Паратов. Не ожидали?
Лариса. Нет, теперь не ожидала. Я ждала вас долго, но уж давно перестала ждать.
Паратов. Отчего же перестали ждать?
Лариса. Не надеялась дождаться. Вы скрылись так неожиданно, и ни одного письма…»
От вполне естественного вопроса «не ожидали?» Паратов переходит к более сложному и, несомненно, агрессивному: «Отчего же перестали ждать?» Вскоре после приезда, узнав о предстоящем замужестве Ларисы, Паратов признался Кнурову и Вожеватову в своей вине перед ней. Теперь перед Ларисой человек, отнюдь не намеренный долго и серьезно виниться. Он быстро становится в положение обвиняющего. Никаких оснований, кроме оскорбленного самолюбия человека, опасающегося, что его разлюбили, у Сергея Сергеича для этого нет. Самолюбие — «сокрытый двигатель его», и даже не «сокрытый», а открытый, как и у Карандышева. Нарастая, оно становится все более решающим импульсом поведения Паратова в этой сцене, да и в последующих:
«Паратов. А позвольте вас спросить: долго вы меня ждали?
Лариса. Зачем вам знать это?
Паратов. Мне не для любопытства, Лариса Дмитриевна; меня интересуют чисто теоретические соображения. Мне хочется знать, скоро ли женщина забывает страстно любимого человека: на другой день после разлуки с ним, через неделю или через месяц… имел ли право Гамлет сказать матери, что она «башмаков еще не износила» и так далее…
Лариса. На ваш вопрос я вам не отвечу, Сергей Сергеич; можете думать обо мне, что вам угодно».
Придавая своим обвинениям «чисто теоретическую» форму, Паратов берет себе в помощники шекспировского Гамлета, а Ларису готов уподобить Гертруде, торопливо изменившей памяти только что скончавшегося короля. На Ларису, однако, эти уподобления не действуют. Она остается при своем и не намерена отвечать Паратову на его язвительный не вопрос даже, а глубоко несправедливое обвинение. А тот, стремясь во что бы то ни стало вырвать у Ларисы ответ, хоть и соблюдая умеренную вежливость, недвусмысленно настаивает на своем, обвиняя с помощью Шекспира весь женский пол:
«Паратов. Об вас я всегда буду думать с уважением; но женщины вообще, после вашего поступка, много теряют в глазах моих.
Лариса. Да какой мой поступок? Вы ничего не знаете.
Паратов. Эти «кроткие, нежные взгляды», этот сладкий любовный шепот, — когда каждое слово чередуется с глубоким вздохом, — эти клятвы… И все это через месяц повторяется другому, как выученный урок. О, женщины!
Лариса. Что «женщины»?
Паратов. Ничтожество вам имя!
Лариса. Ах, как вы смеете так обижать меня? Разве вы знаете, что я после вас полюбила кого-нибудь? Вы уверены в этом?
Паратов. Я не уверен, но полагаю.
Лариса. Чтобы так жестоко упрекать, надо знать, а не полагать.
Паратов. Вы выходите замуж?
Лариса. Но что меня заставило…»
Харита Игнатьевна доказывала Ларисе, как это необходимо в жизни — лгать и притворяться. Карандышев умолял ее скрывать правду. Но Ларисе эти уроки не пошли впрок. Еще несколько минут тому назад она была полна решимости не отвечать на главный вопрос
Паратова, пренебречь язвительными, обидно-витиеватыми его колкостями и оскорблениями. Теперь этой решимости нет и следа.
«Паратов. Лариса, так вы?..
Лариса. Что «я»? Ну, что вы хотели сказать?
Паратов. Извините! Я виноват перед вами. Так вы не забыли меня, вы еще… меня любите?
Лариса молчит.
Ну, скажите, будьте откровенны!
Лариса. Конечно, да. Нечего и спрашивать.
Паратов (нежно целует руку Ларисы). Благодарю вас, благодарю.
Лариса. Вам только и нужно было: вы — человек гордый».
Паратов и впрямь кажется и себе, и Ларисе человеком гордым. И эту позицию — а может быть, теперь уже всего только позу? — гордого, побеждающего и не терпящего поражения героя ему надо сохранить во что бы то ни стало. Но как ни верти — поражение налицо. Ведь, вновь увидев Ларису, он не может не понять всей меры того, что он теряет в обмен на полмиллиона. Паратов, однако, не из тех, кто способен признавать свои поражения. Поэтому в следующих репликах он сразу же выступает не столько как гордый, сколько как болезненно самолюбивый и себялюбивый человек. И не вполне честный.
«Паратов. Уступить вас я могу, я должен по обстоятельствам; но любовь вашу уступить было бы тяжело.
Лариса. Неужели?
Паратов. Если бы вы предпочли мне кого-нибудь, вы оскорбили бы меня глубоко, и я нелегко бы простил вам это.
Лариса. А теперь?
Паратов. А теперь я во всю жизнь сохраню самое приятное воспоминание о вас, и мы расстанемся как лучшие друзья».
Правды и только правды требует Паратов, и ему удается ее выпытать. Но как он сам себя ведет при этом? С Кнуровым и Вожеватовым он был вполне правдив, с Огудаловой — почти правдив, шутливо уклонившись от изложения некоторых фактов. С Ларисой он ведет себя как бы правдиво. Он не мог ей «сообщить ничего приятного». Теперь он должен «уступить ее по обстоятельствам». О невесте и помолвке — ни слова. Позволив себе тут полуправду, не позволит ли он себе и что-либо похуже? Нет, в эти минуты, говоря Ларисе примирительные слова про будущее, про «приятные воспоминания» и про дружеские чувства, с которыми уедет, он не притворствует. И ничего дурного не замышляет. Его и впрямь удовлетворило признание Ларисы, и в этот момент ему больше от нее ничего не надобно.
Она же, выдав себя и получив взамен всего лишь красивые слова, простодушно, но вполне логично спрашивает: «Значит, пусть женщина плачет, страдает, только бы любила вас?»
Вот тут-то Паратов высказывает в ответ некую продуманную сентенцию. Ее содержание шире, чем он сам предполагает: «В любви равенства нет, это уж не мной заведено. В любви приходится иногда и плакать». Себя, разумеется, Паратов исключает из числа тех, что могут «иногда и плакать», ибо, как сказала Огудалова, он «молодец мужчина».
Паратов — разновидность одного из интересовавших русскую литературу человеческих типов. Критик Ап. Григорьев в конце 50-х — начале 60-х годов называл его в своих статьях «хищным» или «страстным», в отличие от «смирного», воплощенного Пушкиным в Иване Петровиче Белкине или Лермонтовым в Максиме Максимыче. Симпатизируя типу «смирному», выступая против напускного демонизма, фальшивой страстности героев А. Марлинского или лермонтовского Грушницкого, Григорьев, однако, считал, что тип «блестящий действительно», «страстный действительно», «хищный действительно» — вроде Печорина — имеет в природе и истории свое «оправдание», ибо вносит в жизнь нужное ей тревожное начало.
В молодости Островский и Григорьев были очень близки друг другу, они входили в один литературно-художественный кружок и тесно общались; Григорьев был восторженным почитателем творчества Островского. Можно предположить, что образом Паратова (начиная с присвоенной ему драматургом фамилии, значение которой нам уже известно) Островский творчески полемизирует со своим покойным другом. Во что теперь превратился «хищный» тип, осталось ли в нем хоть что-нибудь от истинной страстности, от той широты натуры и той стихийности, которые хотел бы в нем найти Григорьев и которыми он в свое время этот тип оправдывал?
Паратов, каким он был годом ранее или, точнее, каким он существует в воспоминаниях и рассказах Ларисы, еще обладает многими привлекательными чертами «хищного» типа. Вновь явившегося в Бряхимов Паратова Островский подвергает суровому испытанию на подлинную страстность, на подлинную безоглядность и истинную широту души.
Когда Лариса, сделав свои признания, опомнившись, просит: «Сергей Сергеич, я сказала вам то, чего не должна была говорить; я надеюсь, что вы не употребите во зло моей откровенности», — Паратов на это реагирует с благородным возмущением: «Помилуйте, за кого же вы меня принимаете! Если женщина свободна, ну, тогда другой разговор… Я, Лариса Дмитриевна, человек с правилами, брак для меня дело священное. Я этого вольнодумства терпеть не могу». Заявление вполне успокоительное.
Однако Паратов стал обладателем чужой тайны, которую можно употребить во зло. Как-то он распорядится тем, что узнал? Сдержит ли он свое слово? Ведь нам он уже показал свою способность к полуправде. Не заведет ли она этого себялюбца на путь зла? Окончание диалога уже внушает нам на этот счет серьезные опасения.
«Паратов. Позвольте узнать: ваш будущий супруг, конечно, обладает многими достоинствами?
Лариса. Нет, одним только.
Паратов. Немного.
Лариса. Зато дорогим.
Паратов. А именно?
Лариса. Он любит меня.
Паратов. Действительно дорогим; это для домашнего обихода очень хорошо».
Так завязывается новый узел в отношениях между Ларисой и Паратовым: тот стал обладателем нескольких тайн, на что вовсе не рассчитывал, отправляясь в дом Огудаловых. Теперь он знает не только то, что Лариса любит его по-прежнему, но и то, что Лариса ценит в Карандышеве его способность любить. Вот это Паратов пытается тут же дискредитировать, принизить, обесценить, хотя еще несколькими минутами ранее всячески добивался от Ларисы признания в любви. Дорогое для Ларисы достоинство Карандышева Паратов иронически и безапелляционно объявляет пригодным всего лишь «для домашнего обихода».
Паратов — «широкий», «страстный», «хищный» тип, оказавшись в трудном положении, легко и победно вышел из него. Он как будто не только не уронил себя, но и нанес болезненный удар счастливому сопернику, которого и в глаза еще не видел. Как, однако, он далее будет выходить из испытаний, перед которыми его ставит ситуация, им же самим созданная? Что в нем победит: уважение к «правилам», отношение к браку как «делу священному» или самолюбивое нежелание примириться с поражением, которое он уже попытался было красиво выдать за «уступку обстоятельствам», от него не зависящим?
Когда сразу же после этой сцены Паратов встречается с Карандышевым, он, явно прибедняясь, рекомендует себя Юлию Капитонычу человеком «с большими усами и малыми способностями». Тот гласно ни за что не признает в себе недостаток способностей. Сергей Сергеич же делает это непринужденно, ибо предполагается, что реально он человек с большими дарованиями. Таким ведь его воспринимает и Лариса, имея в виду, разумеется, не способность к коммерции, а высокое дарование чувствовать жизнь во всей ее глубине и полноте, жить страстно, самозабвенно.
Когда ранее, стоя у окна, Карандышев увидел подъезжавшего к дому Паратова, он весьма проницательно заметил: «Четыре иноходца в ряд и цыган на козлах с кучером. Какую пыль в глаза пускает! Оно, конечно, никому вреда нет, пусть тешится; а в сущности-то и гнусно, и глупо».
Слова «пусть тешится» оказались вещими. Правда, однако, в том, что «пусканием пыли в глаза» самолюбиво занимаются они оба — каждый в меру своих сил. И в том правда, что каждому их них надобно «потешиться», но Паратов, разумеется, делает это более умело, изощренно и, как окажется, более жестоко, чем Карандышев.
Паратов умеет «тешить себя» по-разному. Ведь только что в сцене с Ларисой он уже потешил себя, выпытав признание в любви и ответив на него ссылкой на обстоятельства.
Теперь ему трудно не потешиться над человеком, которому он «уступает» Ларису. Оснований и поводов для этого предостаточно. Паратов затевает ссору. Коса находит на камень. И только ради Огудаловой, готовой «на колени броситься» перед Паратовым, тот сбавляет гнев: «Благодарите Хариту Игнатьевну. Я вас прощаю. Только, мой родной, разбирайте людей!»
Примечательны тут и «я вас прощаю» (эти же слова будет говорить Карандышев Ларисе в четвертом действии), и «разбирайте людей». Паратов — человек особого разбора: из тех, кому дано гневаться и миловать. Но за всей его амбициозностью начинаешь ощущать чувство, которое может быть названо потребностью вымещения. На ком-нибудь ему надо вымещать горечь своих неудач и поражений. Сначала он «отделывает» Карандышева в гневе — отчасти напускном, искусственно подогретом. Потом, знакомя с Робинзоном, которого Юлий Капитоныч искренне принимает за лорда, ставит Карандышева в положение шута.
Паратову, дабы убедить и себя и других в том, что он человек особого разбора, мало лишь «потешиться», ему надобно над кем-нибудь поглумиться, кого-нибудь потоптать. Войдя во вкус, он уже не может удовлетвориться только что имевшим место глумлением и замышляет какое-то новое. Но, как это часто бывает в драме, где поступки заводят человека гораздо далее первоначальных намерений, объектом паратовского топтания станет не только Юлий Капитоныч.
В последнем, очень коротеньком, явлении второго действия завершается «завязка» всей коллизии.
«Вожеватов. Понравился вам жених?
Паратов. Чему тут нравиться! Кому он может нравиться! А еще разговаривает, гусь лапчатый.
Вожеватов. Разве было что?
Паратов. Был разговор небольшой. Топорщился тоже, как и человек, петушиться тоже вздумал. Да погоди, дружок, я над тобой, дружок, потешусь. (Ударив себя полбу.) Ах, какая мысль блестящая! Ну, Робинзон, тебе предстоит работа трудная, старайся…
Вожеватов. Что такое?
Паратов. А вот что… (Прислушиваясь.) Идут. После скажу, господа».
Тут в реплике Паратова есть ключевые слова: «Топорщился тоже, как и человек, петушиться тоже вздумал». Они углубляют тему пьесы.
Еще при жизни Островского критика отмечала в его творениях «переклички» с М. Е. Салтыковым-Щедриным. Пишут на эту тему и современные исследователи. Анализируя пьесу «На всякого мудреца довольно простоты», В. Лакшин показал, как глубоко она связана с мотивами сатиры Салтыкова-Щедрина[471].
В «Бесприданнице» тоже можно обнаружить точки прямого сближения Островского с великим сатириком. Слову «топорщиться» Салтыков-Щедрин в начале 70-х годов посвятил целую сатирическую филиппику. В цикле «Итоги» (1871) он издевается над «прогрессистами-публицистами», преувеличивающими положительные последствия реформы 1861 года. Она, говорит автор «Итогов», пробудила в людях потребности, которых не удовлетворила. А «прогрессисты» обвиняют этих людей в неблагодарности и заносчивости. «Курицыны дети! — восклицают хором прогрессисты-литераторы и прогрессисты-публицисты. — Посмотрите! Тоже топорщатся! Шеи вытягивают, на цыпочки становятся!»
Позиция явных реакционеров и властей предержащих сатирику более «симпатична». Те действуют просто устрашением и окриком: «Рожна, что ли, нужно?» Тут все коротко и ясно. Позиция же «прогрессиста» постыдна, ибо «для него презрителен самый вид «топорщащегося» человека, да и самое слово «топорщиться» именно с той целью заимствовано из лексикона теплых русских слов, дабы в нарочито омерзительном виде изобразить претензию человека на человеческий образ».
Так вот оно что! Прибегая к словам «топорщился тоже», Паратов буквально повторяет щедринского «прогрессиста». Карандышев и впрямь «вытягивает шею» и «на цыпочки становится». Он еще будет так поступать снова. Но за его смешным и уродливым «вытягиванием шеи» — желание отстоять свое человеческое достоинство, заявить о правах своей личности. Салтыков-Щедрин с возмущением говорит в «Итогах» о «прогрессистах», пресекающих, «обуздывая и укрощая», любые попытки «пришибленного», обреченного на «ползание» человека «сделать человеческий жест».
Читал ли Островский эти страницы? Салтыков-Щедрин хорошо знал пьесы Островского и в своей публицистике во многих случаях прямо на них ссылался. А здесь, в «Бесприданнице», Островский, в свою очередь, развивает один из мотивов этой публицистики.
Отметим любопытную подробность в творческой истории пьесы. В сохранившейся авторской рукописи, окончание которой датировано 16 октября 1878 года, содержится много дополнений и исправлений, сделанных после этой даты. Но слова о «топорщащемся» Карандышеве тут еще отсутствуют[472]. Они были введены в текст в самые последние дни, перед отсылкой рукописи в Петербург.
Далее мы отметим еще несколько случаев переработки и доработки драматургом важнейших мест в пьесе, относящихся к тем же дням. Как можно судить по сохранившимся материалам, некоторые существеннейшие сцены и реплики были записаны драматургом задолго до того, как стал складываться связный текст всей пьесы. Зато другие появились только в последний момент, когда мысль художника уже была напряжена до предела, а пьеса — как будто уже и закончена.
Вложив в уста Паратова слова возмущения тем, что Карандышев «топорщился тоже, как и человек», Островский придал всей коллизии дополнительные аспекты. Паратов, «обуздывая и укрощая», пользуется приемами, распространенными в самодержавно-полицейском государстве. Только применяет он их в сфере частных, личных отношений. Так совершается в пьесе еще один идейно-тематический «переход»: неприязнь Паратова к Карандышеву обретает сложное содержание и диктуется не только самолюбием и ревностью, но и мотивами общественно-историческими, социальными.
Завершается второе действие в момент, когда Паратову приходит в голову еще раз потешиться над женихом Ларисы, которого она все-таки ценит за его любовь к ней. «Мысль блестящая» — это мысль представить соперника в нарочито омерзительном виде и перед невестой, и перед всем обществом. Мы увидим, как Паратов изощренно преследует свою цель, как его стараниям будет способствовать сам Карандышев, которого станут топтать без снисхождения и жалости.
Однако драматическая диалектика развивающихся далее отношений проявится все же в том, что «сделать человеческий жест» удастся в конце концов все-таки Карандышеву, а не Паратову.
Глава V. Третье действие
Кульминация. Начало катастрофы (победы Паратова и его падение; терзания, торжество и надежды Ларисы; торжество и отчаяние Карандышева).
В пьесе «Свои люди — сочтемся» действие охватывало несколько месяцев, а в «Бедной невесте» — почти месяц. В «Грозе» — около двух недель. О стремлении Островского концентрировать во времени действие своих пьес пишет в своей книге «Мастерство Островского» Е. Холодов, показывая, что особенно эта тенденция сказалась в поздних пьесах драматурга. В «Лесе», «Волках и овцах», «Последней жертве» оно длится всего три дня. В «Бесприданнице» — менее суток.
Островский здесь до минимума свел время, отделяющее один акт от другого. Первый начинается около полудня. Второй происходит вскоре. Третий — обед у Карандышева — в предвечерние часы. Четвертый — после возвращения из-за Волги — завершается около полуночи или за полночь.
Этой сжатостью, концентрированностью действия во времени во многом определяется и его динамика. Но каждый акт тут динамичен по-своему. В первом — динамика скрытая. Во втором нарастающая коллизия выражается резкими переменами во взаимоотношениях персонажей.
Начало третьего, на первый взгляд, может показаться статичным, тут несколько сцен нередко воспринимаются как чисто жанровые. Своим обедом Карандышев нисколько, разумеется, не удивил, а только раздражил гостей. Лариса и Огудалова, выйдя из столовой в кабинет, пристыженно говорят о Юлии Капитоныче: его спаивают, а он не замечает. Затем появляется тетка Карандышева и вступает с женщинами в бытовой разговор, казалось бы, всего лишь характеризующий мещанскую, скудную обстановку жизни в доме. Но и тут тоже свой «переход».
В речах тетки — пародийное развитие одной из главных тем пьесы. Евфросинья Потаповна возмущается приглашенным поваром: «…В кухню-то точно какой победитель придет, слова ему сказать не смей!» Но тут же негодование тетки против победительного повара обращается на победительного Карандышева. Когда Огудалова со свойственной ей бесцеремонностью подчеркивает, что повар сам знает дело и только «расчетливые люди» могут возмущаться его требованиями, тетка простодушно восклицает: «Какие тут расчеты, коли человек с ума сошел». И это уже не про повара, а про племянника. Затем тетка переходит к ценам на стерлядь и вино. Кончает же заявлением: «…Нам форсить некстати».
Конечно же, люди, сошедшие с ума и бросившие все расчеты, — это, с точки зрения тетки, и повар, и Карандышев. Вскоре, слушая пение Ларисы, Паратов скажет: «Мне кажется, я с ума сойду». Потом скажет: «Еще несколько таких минут… Я брошу все расчеты». Паратов будет говорить словами тетки Карандышева, а та ведь, в свою очередь, развивает тему, начатую в первом действии Кнуровым и Вожеватовым, — про «любовь» и «расчеты».
Так первые, как будто бытовые, явления третьего действия не только дают читателю и зрителю передышку, необходимую для того, чтобы воспринять последующие эмоционально насыщенные кульминационные сцены. Здесь, правда сниженно, продолжает звучать важная тема всей пьесы. Фигура Евфросиньи Потаповны — и бытовая, и комедийная; в ее сознании два сошедших с ума человека — повар и Карандышев — совмещаются настолько гротесково, что даже не очень ясно, где кончается один из них и начинается другой.
Мы предчувствуем, что пародийно звучащая тема может вскоре заявить о себе всерьез и даже трагически. Во втором действии Сергей Сергеич, отстаивая свою монополию на «человеческий жест», обуздывал и укрощал Карандышева. Теперь Паратов применяет другие средства. Охотно передав Вожеватову во временное пользование своего шута — Робинзона, он делает жалкого шута из Карандышева. Пусть Сергей Сергеич сам отказался от Ларисы, сам предал ее. Расплачиваться за это будет принижаемый и уничижаемый им Карандышев.
По наущению Паратова Робинзон его спаивает, спаивание переходит в измывательство. Но Карандышев этого нисколько И» ощущает. Зато очень остро реагируют на происходящее и Лариса, и ее мать. «Я, помилуйте, я себя знаю. Посмотрите: все пьяны, а я только весел. Я счастлив сегодня, я торжествую», — отвечает на их укоры уверенный в себе Карандышев.
Вот что нужно ему более всего: публичное торжество. Тихое, скромное счастье Карандышева никак не устраивает. Но желая стать вровень с Паратовым, Кнуровым, Вожеватовым и даже возобладать над ними, Карандышев помогает им превратить себя в шута.
Уже давно Островский интересовался теми явлениями современной ему жизни, которыми порождалась ситуация: шутники и шут. Его занимал вопрос о социальной ее подоплеке и психологическом выражении. В пьесе «Шутники» (1864) он в лице отставного чиновника Оброшенова вывел тип человека достойного, нравственно возвышающегося над своим окружением, но вынужденного силой обстоятельств шутить да паясничать, разговаривать «по-сорочьи». Ситуация отставного чиновника Оброшенова с его двумя дочерьми несколько напоминает и предвосхищает ситуацию отставного штабс-капитана Снегирева из романа Достоевского «Братья Карамазовы». Но тут есть и существеннейшие различия.
В «Шутниках» все венчается неожиданно благополучным концом. JT. Н. Толстой, очень высоко ценивший многие пьесы Островского, о «Шутниках» отозвался так: «Комедия трогательна, даже слишком». Да, тут излишняя, чрезмерная трогательность, перерастающая в сентиментальность, дает себя знать в том, что конфликт между «шутниками» и «шутом» в итоге легко разрешается. «Шутник» женится на дочери «шута».
Коллизия здесь основана на одном лишь материальном, имущественном неравенстве между шутником и шутом. Самолюбие Оброшенова вовсе не страдает от того, что он вынужден паясничать. Ему и его дочерям богатый шутник не наносит глубоких, неисцелимых психологических травм.
Иное происходит с героями Достоевского — штабс-капитаном Снегиревым, его дочерьми и сыном Илюшечкой. Снегирев беден и даже нищ, но он и бесправен. Он вынужден сносить оскорбления и не имеет средств отстоять свое человеческое достоинство, попираемое «шутником» Дмитрием Карамазовым. Вот это и является причиной «вывертов» и «паясничания» Снегирева. Человек в основе своей добрый, умный, проницательный, он издевается не только над другими, но и над собой. В поведении Снегирева, в его шутовстве и паясничании, в его жестоких выходках — своеобразный вызов миру, людям, общественным отношениям, его принижающим, неприятие этих отношений и даже протест против них.
Снегирев отнюдь не жаждет казаться выше и лучше, он готов казаться ниже и хуже, чем он есть. Не таков Карандышев, образ которого является одним из самых глубоких художественных созданий Островского. В отличие от добродушного Оброшенова и озлобленного Снегирева Карандышев ставит себя в положение шута, в положение паяца, в положение Робинзона не намеренно, даже нисколько не подозревая об этом. Он вовсе не хочет выглядеть шутом. Вовсе не желает ни сам издеваться над собой, ни давать другим делать это.
Карандышев отличается от штабс-капитана Снегирева, человека внутренне значительного, не утратившего человеческого лица и достоинства, тем, что он стремится во что бы то ни стало скрыть свою обезличенность. Как в собственных глазах, так и в глазах других людей он жаждет утвердить себя, играя некую роль, выдавая себя не за того, кем он является реально, напяливая на себя некую маску.
У Карандышева все должно быть не хуже, чем у сильных мира сего — тех, кто его презирает, третирует, ни в грош не ставит. У него стену должен украшать ковер. На ковре же должно быть развешено турецкое оружие. В его доме «бургонское» и «шампанское», «коньяк». Робинзон не зря называет вещи, размещенные на карандышевском ковре, «бутафорскими», хотя из пистолета, несмотря на его бутафорский вид, раздается роковой выстрел. Здесь не только вещи и вина бутафорские, самого себя Карандышев превращает в бутафорию, в некое подобие того, что ему кажется весомым и значительным.
Торжествующий над соперниками Карандышев демонстрирует свою власть над Ларисой. Гости — Паратов, Кнуров, Вожеватов — упрашивают ее спеть. «Нельзя, господа, нельзя, Лариса Дмитриевна не станет петь», — заявляет Карандышев без особенных на то оснований. «Не станет» — здесь еще нет прямого запрета. В следующей его реплике уже больше фанфаронства. «Уж коли я говорю, что не станет, так не станет». Этим «уж коли я говорю» он то ли показывает, насколько он знает Ларису, понимает ее настроения и хотения, то ли указывает, как ей следует поступать.
Потом, в ответ на настойчивость гостей, Карандышев уже реагирует вполне по-хозяйски: «Нет, нет, и не просите, нельзя; я запрещаю», и, наконец, уже с предельной заносчивостью: «Нет, нет! Я положительно запрещаю!» Именно это бутафорское «запрещаю» во многом предопределяет дальнейший роковой ход событий.
Вопреки запрещению Лариса поет, и, казалось бы, спесь карандышевская должна быть сбита ее своеволием. Не тут-то было. Забыв про свой запрет, он усиленно восхищается пением и предлагает выпить шампанского за здоровье Ларисы Дмитриевны. В ответ на ворчание тетки он кричит: «Исполняйте, что вам приказывают!» Если не Лариса, пусть хоть тетка исполняет его повеления.
Подобно Паратову, Карандышев тоже не позволяет себе признавать какое-либо свое поражение. С бокалом в руках он предлагает тост за свою невесту, который оказывается тостом вовсе не за нее, а за него, Юлия Капитоныча Карандышева. Он воздает хвалу «главному и неоценимому достоинству Ларисы Дмитриевны» — ее умению «ценить и выбирать людей». Не прельщаясь мишурным блеском, она искала человека «достойного». И нашла его, Карандышева. «Да, господа, я не только смею, я имею право гордиться и горжусь. Она меня поняла, оценила и предпочла всем». За это «предпочтение» Юлий Капитоныч и благодарит ее публично.
По мысли великого немецкого философа Гегеля, драма возникает как совокупность «акций» и «реакций» персонажей. Опыт мировой драматургии свидетельствует о том, что в одних случаях «реакции» непосредственно следуют за «акциями», в других — отделены друг от друга временем и разного рода событиями. «Реакции» могут быть немедленными и открытыми, могут они быть запоздалыми и скрытыми. Тост Карандышева — запоздалая, но для Юлия Капитоныча очень важная «реакция» на «акцию» Ларисы в первом действии, на ее заявление: «не приписывайте моего выбора своим достоинствам». И на ее заявление во втором действии о соломинке. Таите правду о соломинке про себя, умолял тогда Карандышев. Теперь он эту же правду хочет во что бы то ни стало замаскировать, заменить ее угодным ему, удовлетворяющим его болезненное самолюбие вымыслом.
Это апогей карандышевского самоутверждения — тем более жалкий и даже трагический, что и Паратов, и Кнуров, и Вожеватов, и зрители уже знают о решении Ларисы ехать за Волгу.
Да, Лариса уже выбрала, но выбрала не его; уже предпочла, но предпочла не оставаться с ним; уже решила, но это решение, принятое в смутной надежде обрести навсегда Паратова, должно низвергнуть Карандышева с пьедестала, на который он себя втащил, и ввергнуть его в позор и отчаяние. Стремясь к своей цели и, казалось бы, ее достигнув, Карандышев теперь дальше от нее, чем когда бы то ни было. Вся ситуация наполнена глубокой драматической иронией: герой находится во власти заблуждения, за которым неизбежно последуют узнавание и прозрение.
Две с половиной тысячи лет тому назад Аристотель в «Поэтике» говорил об узнавании как об одном из самых драматичных элементов трагической фабулы. В античной трагедии узнавание часто перерастало в осознание, в осмысление узнанного и в очищение, которое Аристотель называл катарсисом. Потрясенный неожиданным ходом событий, герой постигал истинный их смысл, постигал нечто существенное в себе самом.
Первое узнавание — об исчезновении гостей. Карандышев готов счесть это всего лишь за неучтивость. Но за ним следует новое, невероятное и убийственное: Ларисы тоже нет. От Ивана Карандышев слышит про ее отъезд с господами за Волгу. Изо всех сил пытаясь отдалить от себя самую страшную истину, он еще тщится найти какого-нибудь виновника, какого-нибудь ответчика за происшедшее и прокурорским тоном спрашивает: «Харита Игнатьевна, где ваша дочь? Отвечайте мне, где ваша дочь?»
Слова Огудаловой звучат враждебно и безжалостно: «Я к вам привезла дочь, Юлий Капитоныч; вы мне скажите, где моя дочь!» Поняв, где Лариса, Карандышев толкует события так, как толковали их многие критики пьесы в момент ее появления, как еще нередко продолжают это делать и по сей день. Он объявляет себя жертвой сговора: «И все это преднамеренно, умышленно — все вы вперед сговорились…»
Мы-то знаем, что идея превратить Карандышева в шута, поглумиться над ним, принизить его всячески на глазах Ларисы принадлежит одному Паратову. Потом между Кнуровым, Вожеватовым и Паратовым уже происходит нечто вроде «сговора», но он увенчивается успехом благодаря неосознанному содействию самого Карандышева. И в особенности благодаря Ларисе, у которой состоялся «сговор» с Паратовым.
Ощутив наконец всю силу нанесенного ему удара, Карандышев потрясен до глубины души. Выражение «глубина души» употребляется здесь отнюдь не как общераспространенное и ходовое. Нет, теперь можно говорить и о душе Карандышева, и о ее глубинах в самом подлинном смысле этих слов. Человек, ранее избегавший именно этого — правды, теперь осмеливается ее осознать и высказать во всеуслышание. Монологи Карандышева, завершающие третье действие «Бесприданницы», входят в число вершинных, кульминационных моментов всей пьесы.
«Жестоко, бесчеловечно жестоко!» — кричит он. Заговорил, закричал наконец Карандышев о бесчеловечности и жестокости. Не о своей, правда, хотя в безудержном стремлении утвердить себя он был по отношению к Ларисе и бесчеловечен, и жесток.
«Рано было торжествовать-то!» — злорадно отвечает на каран- дышевский крик отчаяния Огудалова. Торжество перерастает в катастрофу стремительно, и тогда появляется перед нами другой, новый Карандышев: этот способен понимать и себя, и других людей совсем не так, как прежний. Примечательно, что в полных глубокого страдания и отчаяния, беспощадных признаниях и обвинениях Карандышева нет ни слова осуждения Ларисы. И это делает ему честь.
Великая, поистине драматическая перемена происходит в Юлии Капитоныче. Мы слышим вовсе неожиданное в его устах признание: «Да, это смешно… Я смешной человек… Я знаю сам, что я смешной человек. Да разве людей казнят за то, что они смешны? Я смешон — ну, смейся надо мной, смейся в глаза! Приходите ко мне обедать, пейте мое вино и ругайтесь, смейтесь надо мной — я того стою». Знал ли Карандышев всегда, что он «смешной человек», да только признаваться не хотел? А может быть, лишь теперь, сейчас, в сей момент наконец осознал? Это признание сразу же возвышает его в наших глазах над тем Карандышевым, что хорохорился, топорщился, петушился, напяливал на себя вместе с очками какую-то маску.
Теперь, когда из-за этой маски проглядывает искаженное мукой человеческое лицо, мы начинаем ему сострадать. Нет, испытывая боль за него, мы не забываем при этом того, чем он нас ранее отталкивал, и предчувствуем, что он еще снова будет вызывать наше возмущение. Мы испытываем при этом смешанные чувства, в правомерности которых сомневались в свое время Аверкиев и другие критики — современники Островского.
В середине, да и в конце 30-х годов нашего века, когда социальному происхождению и положению героя многие придавали большее значение, чем его реальному поведению, Карандышева стремились трактовать как фигуру «положительную». Ю. Юзовский видел в нем представителя «чиновничьей голи», человека из той категории «униженных и оскорбленных», о которых писали Гоголь и Достоевский[473]. Как об «униженном и оскорбленном», тоскующем «по своему маленькому счастью», несколько позднее говорил о Карандышеве К. Державин, связывая его с героями первых рассказов и повестей Достоевского.
По-иному подходили к образу Карандышева в 1860-х годах. Новая точка зрения лучше всего выражена Ю. Осносом. Высказав ряд интересных соображений об образе Паратова (мы к ним еще вернемся), критик трактует Карандышева как фигуру «полностью отрицательную», ибо Карандышев страдает пусть и глубоко, но недолго, «почти немедленно» переполняясь чувством ненависти к людям, отнявшим у него Ларису. Да и вообще, «само по себе страдание или способность его испытывать отнюдь не сообщает человеку положительные свойства… Как ни мучительны и искренни переживания Карандышева, они не облагораживают его»[474].
Как видим, и в 30-х, и на рубеже 70-х годов подходили к Каран- дышеву с критерием: либо «положительный», либо «отрицательный». При этом сохранялось отношение к нему как к фигуре статической. Его не воспринимали как образ противоречивый, динамический и претерпевающий драматические изменения.
Разумеется, сами по себе страдания не облагораживают человека. Но подлинные ценности и человек, и общество не обретают запросто, их приходится выстрадать. Не проходят для Карандышева бесследно испытываемые им страдания. Они его очеловечивают, как они очеловечивают даже толстовского Алексея Александровича Каренина.
Разумеется, страдающий Карандышев не становится совсем иным человеком. Но теперь он неизмеримо выше тех, кто претендует на его невесту. В отчаяннейший момент своей жизни Лариса молит Вожеватова о помощи, но тот оказывается вполне равнодушным к ее мольбе: ни самому страдать, ни другим сострадать ему не дано. О способности Кнурова испытывать страдание говорить вообще не приходится. Не только над прежним Карандышевым возвышается новый, способный хоть отчасти взглянуть горькой правде в глаза и испытать муку, неизбежно связанную с познанием и переживанием этой правды. Он возвышается и над Паратовым, все время балансирующим между истиной и ложью, только и умеющим, что доставлять муки другим людям.
Кнуров, недовольный обедом, назвал Карандышева глупым человеком. Паратов охотно согласился: «действительно, глуп». Однако в финале третьего действия истерзанный Карандышев обнаруживает не глупость, а ум, когда очень точно говорит о том, что ведь не разбойники, а «почтенные люди» задались целью «разломать грудь у смешного человека, вырвать сердце, бросить под ноги и растоптать его!» Нам еще предстоит увидеть, как ум Карандышева проявится, конечно, вместе с больным самолюбием, и в одной из решающих сцен последнего действия.
Но пока что Карандышев с отчаянной жаждой мстить своим обидчикам, мстить кроваво, «пока не убьют меня самого», с пистолетом — орудием мщения — в руках убегает из дому. Все уже пошло вопреки его хотениям, торжество обернулось позорной катастрофой. И далее, разумеется, все пойдет не так, как он хотел бы. Прежде всего потому, что, считая единственными виновниками катастрофы одних только «почтенных людей», он не понимает ни своей роли, ни роли Ларисы в происходящем.
Если торжество Карандышева в третьем действии было от начала до конца мнимым, то испытанное Ларисой в этом же действии торжество было очень сложного свойства. Потешаясь и глумясь над ее женихом, Паратов с Вожеватовым мучили при этом и Ларису. «Да ведь они меня терзают-то», — говорила она Огудаловой. Терзания Ларисы никого не волнуют; если уж теперь терзание, то дальше ведь будет еще хуже, предсказывает Огудалова, снова отвращая дочь от Карандышева и действуя заодно с Кнуровым и Паратовым.
Но вот наступает момент, когда Лариса, не очень стремясь к ней, одерживает свою победу. Ее пение вызывает всеобщий и неподдельный восторг.
Упрашивая Ларису петь, Паратов ссылается на то, что уже целый год ее не слышал, да и не услышит более. Тут Паратов правдив. Но опять же не до конца. Ведь за несколько минут до этого между ним, Кнуровым и Вожеватовым и впрямь состоялось нечто вроде сговора. Правда, мысль «напоить хорошенько» Карандышева и «посмотреть, что выйдет» принадлежит одному Паратову. Но он поддержал идею Кнурова: задуманную ими поездку за Волгу надо бы совершить вместе с Ларисой.
Как же ведет себя Паратов после пения? Является ли его реакция вполне притворной и преследующей только одну цель — увлечь Ларису за Волгу? Ответить на этот вопрос можно, лишь внимательно проанализировав сцену самого пения и следующее за ним объяснение между Ларисой и Паратовым. Что же поет Лариса в ответ на откровенное заявление Паратова про свой отъезд? Как она это делает и ради чего? Романсом «Не искушай меня без нужды…» Лариса как бы хочет поставить крест на всем, что было между нею и Паратовым. Пением своим она как бы решительно отказывается идти навстречу новым соблазнам, как бы отказывается от попыток изменить что-либо. Тем более ей чужда мысль сделать романс орудием соблазна и обольщения. Музыка, пение под фортепьяно или гитару — те сферы существования Ларисы, в которых она чувствует себя и выражает себя наиболее свободно и полно. Так происходит и на этот раз. Паратов ее более не услышит, и она вкладывает в романс всю свою певучую душу, всю боль оборванной любви.
Цыганское пение, столь популярное в прошлом веке, было разным по своему характеру, по-разному оно и воспринималось. Таким людям, как уже упоминавшийся нами поэт и критик Аполлон Григорьев, стихия цыганской песни помогала хоть на время вырваться из сферы тягостной реальности и лживых условностей в недосягаемую сферу «воли». Так, кстати сказать, воспринимает цыганское пение Федя Протасов в «Живом трупе» Толстого. Другого рода слушатели в стихии цыганского пения искали лишь стимул к разгулу темных, непросветленных страстей.
Одухотворенная страстность, с которой поет Лариса, диктуется и ее натурой, и словами Баратынского. Поэтому трудно согласиться с высказываемой иногда мыслью, что свое объяснение с Ларисой Паратов начинает в приливе грубой чувственности, вызванной ее пением.
Вопреки намерениям Ларисы, романс, не содержащий в себе ни призыва, ни вызова, романс-прощание вносит нечто новое и неожиданное в уже, казалось бы, вполне ясно и навсегда определившиеся отношения между нею и Паратовым. Ее пение приводит к результатам, о которых не могли думать они оба.
Восторги Кнурова, Вожеватова, Карандышева не идут в сравнение с тем, что происходит с Паратовым. В уже упоминавшейся рукописи, датированной 16 октября 1878 года, Кнуров, Паратов и Вожеватов решали пригласить Ларису поехать за Волгу уже после ее пения. Сговорившись с ними, Паратов просил их оставить его вдвоем с Ларисой. Но уже после 16 октября Островский усложнил ситуацию. В окончательном тексте пьесы Паратов предстает человеком, и впрямь потрясенным пением Ларисы.
Оставшись наедине с ней, он произносит: «Очаровательница!.. Как я проклинал себя, когда вы пели!» Можно, конечно, счесть эти слова совсем неискренними и, приняв паратовский восторг за напускной, усмотреть тут лишь одну цель: завлечь Ларису за Волгу. Но так мы крайне упростим образы и Паратова, и Ларисы, да и смысл всей коллизии. Может быть, Паратов не играет в восторженность, а снова увлечен Ларисой, и увлечен больше, чем сам мог предполагать? В ответ на вопрос, за что же он проклинал себя, Паратов отвечает сущую правду: «Ведь я не дерево; потерять такое сокровище, как вы, разве легко?»
Лариса ощущает именно это: он вновь покорён и не может этого скрыть. Ей, естественно, хотелось бы знать, насколько значительна и прочна одержанная ею победа. Ведущую роль в диалоге берет в свои руки она:
«Лариса. Кто ж виноват?
Паратов. Конечно, я, и гораздо более виноват, чем вы думаете. Я должен презирать себя».
Вспомним, как протекал их первый диалог во втором действии, когда Паратов легко и быстро вошел в роль обвинителя, поставив Ларису в положение оправдывающейся. Теперь он ведет себя прямо противоположным образом: винит да еще презирает себя. Такие чувства и такие признания не могут не тронуть Ларису, не всколыхнуть совсем уж было похороненные в душе надежды. После паратовского восклицания: «Зачем я бежал от вас! На что променял вас?» — Лариса побуждает его к новым признаниям.
«Лариса. Зачем же вы это сделали?
Паратов. Ах, зачем. Конечно, малодушие. Надо было поправить свое состояние. Да бог с ним, с состоянием! Я проиграл больше, чем состояние, я потерял вас; я и сам страдаю, и вас заставил страдать.
Лариса. Да, надо правду сказать, вы надолго отравили мою жизнь».
После его столь откровенных и покаянных речей Лариса позволяет себе сказать ему о своих страданиях. Но Паратов готов преувеличивать меру, степень, силу упреков, с которыми впервые обращается к нему Лариса.
«Паратов. Погодите, погодите винить меня! Я еще не совсем опошлился, не совсем огрубел; во мне врожденного торгашества нет; благородные чувства еще шевелятся в душе моей. Еще несколько таких минут, да… еще несколько таких минут…
Лариса (тихо). Говорите!
Паратов. Я брошу все расчеты, и уж никакая сила не вырвет вас у меня, разве вместе с моей жизнью».
Искренен ли тут до конца Паратов? В нем действительно в этот момент происходит борьба: «торгашество», «расчеты», «опошление» схватываются с «благородными» чувствами и «душой». Силу своих благородных чувств он не преувеличивает: они всего лишь «шевелятся».
В этой сцене третьего действия обретает вполне ясное выражение тема, заявленная Паратовым же в первом действии как бы вскользь, мимоходом. После того как ударила пушка, возвещая прибытие большого барина, выходит он сам, в своем черном сюртуке, лаковых сапогах, белой фуражке, и сразу же рассказывает приятелям про свой конфликт с машинистом «Ласточки». Тот так и не дал ему выказать свой норов, не позволил обгонять другой пароход. «Вылез из своей мурьи: «Если вы, говорит, хоть полено еще подкинете, я за борт выброшусь». Боялся, что котел не выдержит, цифры мне какие-то на бумажке выводил, давление рассчитывал. Иностранец, голландец он, душа коротка; у них арифметика вместо души-то». После этого пассажа про свою лихость, не нашедшую поддержки в трусливом машинисте, Паратов непринужденно переходит к забавной процедуре: знакомит Кнурова и Вожеватова со своим «другом» Робинзоном. Одна забава — с пароходом — не удалась, что ж, можно перейти к другой — с Робинзоном.
В этом рассказе звучит, еще в форме занятного происшествия, этакого любопытного эпизода, одна из главных тем «Бесприданницы». Паратову мало самого рассказа о том, как победили бездушные «цифры» бездушного машиниста, ему нужна еще и мораль: про арифметику, вытесняющую у «них» душу. Так резко разделяются «они» — все живущие в мире расчета, и «мы» — люди широкой души, свободной от власти «арифметики».
За много лет до создания «Бесприданницы», когда Островский еще был молод, вокруг него группировался кружок литераторов, артистов, художников. Они стремились утвердить понимание русского характера как широкой и свободной натуры, не вмещающейся в тесные рамки западной буржуазной меркантильности. Молодые литераторы, работавшие в 50-х годах в журнале «Москвитянин», не все были правоверными славянофилами, но симпатий своих к славянофильству не отрицали. У Островского эти симпатии больше всего проявились в пьесе «Бедность не порок» (1853).
Затем, однако, Островский, а своим путем и другой член кружка — Аполлон Григорьев стали отходить от славянофильства. Островский вовсе порвал с ним.
Но кратковременное увлечение молодого Островского некоторыми из славянофильских идей (чему, кстати сказать, Добролюбов существенного значения не придавал) многим критикам уже в наше время казалось настолько серьезным, что следы этих увлечений они готовы были находить даже там, где для этого не было решительно никаких оснований.
В те же предвоенные 1930-е годы, когда в Карандышеве видели всего только «униженного и оскорбленного», Паратова иные критики воспринимали как фигуру, выражающую реакционные, славянофильские симпатии Островского. Паратов для Островского будто бы герой, которому он всячески завоевывает симпатии зрителя. Задачу советского театра видели в том, чтобы, переосмысляя Островского, «развенчать» Паратова.
К счастью, Островский тут оказался глубже и дальновиднее своих будущих истолкователей. Он сам его развенчивает. Но делает это как большой художник и рисует такого Паратова, которого имеет смысл развенчивать. Казалось бы, трудно этого не заметить. Многие, однако, не замечают и по сей день, ибо не могут выйти за рамки представлений о существующем в пьесе лишенном противоречий Паратове рядом со столь же лишенными противоречий и движения Карандышевым и Ларисой.
В «Бесприданнице» Паратов — фигура драматическая. Одни силы уже начали одерживать в нем победу над другими. Островский показывает нам, как этим силам удается возобладать в Паратове окончательно и бесповоротно.
Сам Паратов нисколько не ошибается на свой счет и тогда, когда говорит Ларисе про еще «шевелящиеся» в его душе благородные чувства, и тогда, когда в ответ на вопрос Ларисы: «Чего же вы хотите?» — он отвечает: «Видеть вас, слушать вас… Я завтра уезжаю».
Нет, Паратов стремится не лгать Ларисе и отчетливо говорит о своем неминуемом завтрашнем отъезде. Присмотримся все же еще раз к этому месту в диалоге. Пусть он повторно пройдет перед нашими глазами и, как это нередко принято делать в современном кинематографе, пусть повторный показ будет замедленным.
«Лариса. Чего же вы хотите?
Паратов. Видеть вас, слушать вас… Я завтра уезжаю.
Лариса (опустя голову). Завтра.
Паратов. Слушать ваш очаровательный голос, забывать весь мир и мечтать только об одном блаженстве.
Лариса (тихо). О каком?
Паратов. О блаженстве быть рабом вашим, быть у ваших ног».
Все слова паратовские о блаженстве «забывать весь мир», «быть рабом», «быть у ног» в достаточной мере уклончивы. Они лишены определенности, допускают самое различное истолкование, кроме решительного заявления о предстоящем завтра отъезде.
Чувствует ли Лариса эту уклончивость? После того как она повторила паратовское «завтра», он уже как бы игнорирует это слово, как бы считает его несказанным. Его следующая реплика — прямое продолжение того, что было им сказано ранее, но слова «я завтра уезжаю» как бы отброшены им. Получается вот какая единая реплика: «Видеть вас, слушать вас, слушать ваш очаровательный голос, забывать весь мир…»
Лариса это чувствует и понимает, но в своих видах тоже как бы игнорирует повторенное ею слово «завтра». Лариса тут не просто, в бессилии им противостоять, покоряется восторгам Паратова. Нет, в этот момент она решается на борьбу, рискованную борьбу с Паратовым за него же, за себя, за них обоих, хотя борьба эта скорее всего безнадежна. Вот как продолжается диалог после красивых слов про «блаженство» и готовность стать «рабом»:
«Лариса. Но как же?
Паратов. Послушайте: мы едем всей компанией кататься по Волге на катерах — поедемте!
Лариса. Ах, а здесь? Я не знаю, право… Как же здесь?
Паратов. Что такое «здесь»? Сюда сейчас приедут тетка Карандышева, барыни в крашеных шелковых платьях; разговор будет о соленых грибах».
Красивые пассажи про минуты блаженства, после которых никакая сила не вырвет из его рук Ларису, Паратов кончает двусмысленным приглашением. Существование Карандышева Паратов игнорирует, говоря не о нем, а о его тетке и ее соленых грибах. Этот аргумент Лариса принимает. Для нее Карандышев тоже перестает существовать как человек, о котором надо бы подумать.
«Лариса. Едемте.
Паратов. Как, вы решаетесь ехать за Волгу?»
Этим вопросом своим Паратов не то хочет заставить Ларису опомниться, не то еще более распалить. Но Ларисе уже не до отступлений.
«Лариса. Куда вам угодно.
Паратов. С нами, сейчас?»
Снова вопрос, в котором смешано и восхищение азартом, смелостью, широтой души Ларисы, и удивление, которое должно бы ее насторожить, вернуть ее сознание к словам «я завтра уезжаю», отрезвить ее. Но она решительно и безоглядно движется вперед по избранному пути.
«Лариса. Когда вам угодно.
Паратов. Ну, признаюсь, выше и благородней этого я ничего и вообразить не могу. Очаровательное создание! Повелительница моя!
Лариса. Вы — мой повелитель».
Еще несколькими минутами ранее Карандышев своим «запрещаю» заявлял претензию быть повелителем Ларисы. Из соломинки, за которую хватаются, он захотел превратиться в господина, которому повинуются. Но Лариса из тех натур, что повинуются себе и тем повелителям, которых они сами избирают. Да, ее выбор оказывается ошибочным. Ее решение ехать за Волгу тоже оказывается роковой ошибкой. Но все, что она делает, она делает не в припадке неразумия. Она живет логикой своих чувств, стремлений и надежд. Слова Паратова «Повелительница моя!» побуждают ее к мысли, что он, подобно ей, тоже сумеет пренебречь «условиями», пренебречь силой тех обстоятельств, о которых говорил ранее, и подняться над прозой жизни во имя ее поэзии.
Заключительная реплика Ларисы вызывает у нас ассоциацию со словами Катерины в один из моментов ее первого свидания с Борисом. «Зачем ты моей погибели хочешь?» — спрашивает она. «Разве я злодей какой?» — отвечает Борис. «Ну как же ты не загубил меня, коли я, бросивши дом, ночью иду к тебе», — доказывает свое Катерина. Борис возражает: «Ваша воля была на то». И тогда Катерина объясняет ему: «Нет у меня воли. Кабы была у меня своя воля, не пошла бы я к тебе… Твоя теперь воля надо мной, разве ты не видишь! (Кидается к нему на шею.)»
Подобно Катерине, Лариса способна любить любовью безоглядной, но, в отличие от нее, не считает себя обреченной на поражение и гибель. Когда Лариса заявляет: «Вы — мой повелитель», это вовсе не означает: «Нет у меня воли». У Ларисы сохранилась воля, которую, как ей кажется, она сможет вдохнуть и в Паратова.
Но по мере того как у Ларисы возникали и усиливались надежды, Паратов, уже пытавшийся было охладить ее пыл, сам успел остыть окончательно. Расставшись с Ларисой, он уже вполне спокойно сообщает Кнурову и Вожеватову: «Она поедет». Затем коварно одобряет тост, провозглашаемый Карандышевым. Потом совершает еще один шаг, знаменующий его окончательное падение, и предлагает тост «за здоровье счастливейшего из смертных, Юлия Капитоныча Карандышева».
Когда молодой К. С. Станиславский в 1890 году сыграл на любительской сцене Паратова, он сделал это под впечатлением от «жизненного и тонкого» исполнения этой роли А. П. Ленским в Малом театре. Станиславский хотел создать фигуру, сходную с той, которую создавал Ленский, но записал в своем дневнике, что «не сразу освоишься с этим сложным типом». Станиславский имел успех, но зрители находили в его Паратове «совсем другой тип», чем у Ленского. В чем же было различие?
Станиславский ощущал в Паратове сложную фигуру, но, видимо, передавал главным образом противоречие между его внешним изяществом, красотой (она вызвала всеобщий восторг зрителей) и внутренней бесчеловечностью. Ленский же видел в Паратове черты подлинной страстности и даже подлинного лиризма и меланхолии.
По словам современного исследователя, Ленский «намеренно уменьшал пошлость своего героя», облагораживал его, создавал сложный образ, близкий новой сценической манере исполнения, дабы таким образом «объяснить силу увлеченности Ларисы Паратовым».
Думается, что Ленский руководствовался не только этим. Ведь сила увлеченности Катерины Борисом в «Грозе» или Параши Гаврилой в «Горячем сердце» никак не соответствует достоинствам героев. Что же касается Паратова, то большой артист Ленский увидел в нем то, что реально вложил в этот образ драматург. Тем более глубоким представляется замысел показать, как низко падает человек, еще обладающий чертами «широкой» натуры, когда в нем расчетливость и «арифметика» окончательно побеждают.
Мы уже попутно говорили о том, что, упрощенно понимая Карандышева как образ «полностью отрицательный», критик Ю. Ос- нос высказал о Паратове весьма любопытные соображения. По его мысли, Сергею Сергеичу, в отличие от Кнурова и Вожеватова, чужды стяжательство и поклонение деньгам как таковым. Для Паратова деньги — «лишь средство вырывать у жизни ее наслаждения». Слишком буквально толкуя имя, данное Островским своему герою, и относя его к породе «хищников», Оснос считает, что «смысл существования для Паратова — физиологическое наслаждение жизнью».
Затем, однако, критик углубляет свою трактовку и видит в Паратове не только «хищника с перебитым хребтом», циничного «потребителя жизненных благ», но и человека, ощущающего свои «непоправимые жизненные неудачи». Отсюда в нем «и трагическая раздвоенность, и болезненный надрыв, и мстительная жестокость, и самоиздевательство». Критик видит в Паратове жестокую потребность «выворачивания наизнанку своей и чужой души».
Карандышев, как мы знаем, уподобил Паратова Кнурову и Вожеватову, увидел в нем члена «шайки». Так трактуют Паратова и многие критики. Оснос, как видим, отходит наконец от карандышевской трактовки Паратова. Разумеется, в истолковании Осноса он скорее приобретает черты героя Достоевского, чем Островского. Все же рациональное зерно в этом подходе есть. Надо только отказаться от полемических преувеличений. Ведь, как ни толкуй, в Паратове больше глумления над другими людьми, над Карандышевым и Робинзоном, чем «самоиздевательства», хотя и оно тоже имеет место. Когда он издевается над собой, над своей ситуацией, он ироничен, когда издевается над Карандышевым — беспощаден и жесток.
Стремясь углубить обычные представления о Паратове, критик утверждает, будто Сергей Сергеич направляется к Ларисе с сознательным намерением убедиться в том, что эта чистая и гордая женщина «так же покорно, как и он, подчинилась жизни, позволила ей сломить себя, — и найти в этом оправдание собственному поражению»[475]. Но реальное драматическое развитие образа Паратова состоит в том, что он в Бряхимове тоже переживает драму, а не просто проявляет некие свойственные ему изначально качества.
В Паратове вновь вспыхивает любовь к Ларисе. Вспыхивает, чтобы тут же погаснуть. И тогда наступает его необратимое падение. Ларисе еще предстоит узнать всю меру этого падения. Но перед тем, как покинуть дом Карандышева, оставшись на мгновение наедине с матерью, она прощается с ней очень значащими словами: «Или 'тебе радоваться, мама, или ищи меня в Волге».
Как и другие драматические герои, начиная с героев Эсхила и кончая героями Шекспира, Чехова и Брехта, Лариса стоит перед необходимостью выбирать между разными возможностями. Драматический герой, подобно витязю из сказки, оказывается на распутье. И выбор пути во многом зависит от него самого.
Конечно, не всегда этот выбор делается осознанно. Так, например, шекспировский Ромео, помня про Джульетту, осознанно отвергает попытки Тибальта втянуть его в ссору. Но когда Тибальт убивает Меркуцио и сам Ромео оказывается виновным в смерти друга, он на роковое мгновение забывает про Джульетту. В порыве боли, страдания, возмущения он «выбирает» путь, по которому идти не хотел, и в дуэльной схватке убивает Тибальта. Выбор Ромео, как и выбор, совершаемый многими другими драматическими героями, обычно очень трудно определить как только «правильный» или только «неправильный». Этот выбор драматичен, то есть является результатом безотчетных побуждений и ведет к сложным результатам.
Что можно сказать о выборе, сделанном Ларисой? Не идти на риск было бы свыше ее сил, значило бы отказаться от забрезживших возможностей, в которые ей так хотелось поверить. Ясно лишь, что Лариса вынуждена выбирать. Идя на риск, она вовсе не уверена в победе, ибо помнит про паратовское «я завтра уезжаю». Она жаждет победы, но готова и к поражению, и к единственно возможному страшному его последствию: готова броситься в Волгу.
Глава VI. Четвертое действие
Катастрофа, развязка, финал (узнавания-потрясения, очищение; смерть как избавление).
В 1850 году, после создания пьесы «Свои люди — сочтемся», Островский считал комедию «лучшею формою к выражению нравственных целей», а в себе признавал «способность воспроизводить жизнь преимущественно в этой форме» (14, 16). Надо, однако, иметь в виду, что кульминационные, финальные сцены в «Своих людях» отнюдь не комедийны, а сугубо драматичны.
С течением времени, если считаться с жанровыми определениями, которые он давал своим пьесам, Островский все более обнаруживал способность рисовать жизнь не только в форме комедий. В позднейших его высказываниях, основанных, разумеется, прежде всего на личном опыте, мы уже найдем новое понимание жанровой природы русской драмы и новое представление о стоящих перед ним как драматургом задачах.
Народные писатели, говорил он в 1881 году, должны создавать такую драматическую поэзию, «для которой требуется сильный драматизм, крупный комизм, вызывающий откровенный, громкий смех, горячие, искренние чувства». Все это недоступно мелодраме с ее «невозможными событиями и нечеловеческими страстями». Заставить зрителя плакать и смеяться может только драма истинных страстей, проникающая в тайники души. Страсти при этом должны дойти до степени напряжения, способствующей выявлению всей присущей им сложности. Тогда и положения, порожденные этими подлинно человеческими страстями, будут положениями возможными, то есть художественно правдивыми (12, 123–125).
Вот это напряжение страсти почувствовал Добролюбов в «Грозе». Тут, говорит критик, «является перед нами лицо, взятое прямо из жизни, но выясненное в сознании художника и поставленное в такие положения, которые дают ему обнаружиться полнее и решительнее, нежели как бывает в большинстве случаев обыкновенной жизни».
Своих взятых из жизни персонажей Островский и ставит в особые драматические положения, побуждающие их обнаруживать себя, проявлять драматическую инициативу. Так рождаются и «сильный драматизм», и «крупный комизм» ряда его пьес. Когда читаешь работы, крайне преувеличивающие роль обстоятельств в пьесах Островского, когда говорят о «яркости», «глубине» его типов, но не видят присущей его персонажам драматической активности, драматической инициативы, волей-неволей вспоминаешь Боборыкина, считавшего Островского не драматическим, а эпическим писателем.
Разве ситуация в пьесе «Свои люди — сочтемся» задана, а не творится инициативой Большова, Подхалюзина, Липочки? Разве драма Катерины определяется лишь сложившимися обстоятельствами, а не ее характером?
Роль самих персонажей в создании тех драматических положений, из которых им надо «выпутываться», еще больше возрастает в пореформенных пьесах Островского. «Бесприданница» — один из его шедевров потому именно, что тут «ходом жизни» задано только одно обстоятельство — «бесприданничество» Ларисы. Все остальные обстоятельства, возникающие в пьесе, связаны с этим, «заданным жизнью». Но в еще большей мере они являются все же плодом деятельности, активности, инициативы самих героев, втянутых в коллизию.
Написав «Последнюю жертву», Островский отмечал, что сюжет пьесы «половину интереса имеет в неожиданностях» (15, 99). Еще важнее роль «неожиданностей» в сюжете и коллизиях «Бесприданницы». Речь идет не только о нежданном появлении Паратова в доме Огудаловых, но и о непредсказуемых проявлениях характеров. Вспомним про неожиданные признания Ларисы Карандышеву: его не любит, никаких достоинств не находит, о Паратове же продолжает думать. Вспомним, как Лариса, вполне неожиданно для себя, признается Паратову в своей любви. Не меньшей неожиданностью было ее бегство из дома Карандышева — и не только для Юлия Капито- ныча, но и для нее самой.
А поведение самого Юлия Капитоныча? Чем оно «предопределено»? Какими сторонними обстоятельствами? Да, он мелкий чиновник, жалованье небольшое, так что «форсить некстати», как говорит тетка Карандышева. Однако решающее значение в драме имеют поступки, совершаемые им по его личной, определенным образом направленной воле, связанные с амбицией, самолюбием, потребностью самоутверждения.
«Бесприданница» становится пьесой, исполненной сильного драматизма, благодаря противоречивым и потому неожиданно проявляющим себя характерам Паратова, Карандышева и, прежде всего, Ларисы. Этот глубокий драматизм пьесы и ее центрального образа составляет некую «тайну», разгадать которую дано не каждому театральному коллективу, готовому за это взяться.
Лариса — по-гречески — белая чайка. Это, да и вся ее судьба позволили иным критикам уподоблять ее чайке из пьесы Чехова, Нине Заречной. Искали в Ларисе и «цыганство», чему Островский дает повод — ведь мать Ларисы зовут Харита, а это по-цыгански означает: прелестница. Однако Нина Заречная, Лариса Огудалова, как и Катерина Кабанова, — прежде всего лица, каждое из которых связано с определенным периодом русской жизни. Эмоциональный и духовный облик Ларисы, во многом определяющий ее трагедию, неотделим от мироощущения, присущего многим романтически настроенным героям русской литературы 30—50-х годов. А жить ей приходится даже не в 50-е, а именно в 70-е годы. Об этом надо задуматься, ибо здесь для Островского один из главных истоков катастрофы, сокрушившей его героиню.
Для Ларисы, как и для Катерины, любовь — суть жизни, высшая правда и высший смысл существования. Этим они отличаются от других героинь Островского — от Негиной, например, способной пожертвовать любовью ради счастья быть актрисой. Однако у Катерины и Ларисы чувство любви «окрашено» по-разному.
Запросы, надежды и мечты, поэтическое отношение к жизни — все это высоко подымает и Катерину, и Ларису над их окружением. Вместе с тем их идеалы, их представления о желаемом и должном — различны. И дело не только в том, что их драмы возникают в различных общественных условиях и быт «Грозы» — совсем не то, что быт «Бесприданницы».
Истоки возвышенных стремлений, воодушевляющих этих героинь Островского, сложны. В свое время Добролюбов, говоря о Катерине, видел в ней проявление «естественных» человеческих потребностей. Это вполне соответствовало просветительскому взгляду на человека, будто бы от природы доброго и возвышенного, но подавленного обстоятельствами, извращающими его изначальную сущность.
В наши дни критика нередко развивает эти же идеи применительно не только к Катерине, но и к Ларисе Огудаловой, говоря о «естественных» потребностях той и другой, упуская из виду, что «естество» каждой из них пропитано историей по-своему.
Задумываясь над этой проблемой, имеет смысл вспомнить о толковании образа Катерины и ее стремлений Ап. Григорьевым. Критик этот объяснял поведение героев Островского не «естественными» или «противоестественными» побуждениями. Он искал в самой русской истории истоки разных типов и характеров, схваченных кистью Островского. Катерину, ее особенный характер, ее порывы он связывал с началами «коренными и народными», с «вольным, молодым бытом приволжского города». Против «окаменелых форм жизни» этот быт «протестует широкой песней, широкой гульбой, широким и наипростейшим пониманием отношений мужчины и женщины». Пусть Ап. Григорьев не всегда точен в выражении своей мысли, но важен ее главный итог: «Две жизни, равно исторически сложившиеся, две системы понятий там борются» (курсив мой. — Б. К.).
Стало быть, характер Катерины, во всей его сложности, с запросами и «мистически» окрашенными мечтами, чувство греха — все это порождено не одним лишь неприятием окружающего мира, но имеет исторические истоки и неотделимо от народной нравственности и народно-поэтического сознания.
Поэтому превращать Катерину в провозвестницу женской эмансипации, столь популярной в 1860-е годы, как это делает М. Лобанов в своей книге «Островский» (1979), значит вовсе не учитывать ни исторических истоков, ни устремленности этого характера. Ведь тем эмансипированным женщинам, с которыми Лобанов насильственно связывает Катерину, чужды чувство «греха» и мысль об ответственности за нарушение этических норм.
Как и запросы Катерины, желания и надежды Ларисы тоже не сводятся к требованиям «естественной» человеческой природы. Они тоже исторически содержательны. В Ларисе не только резкое неприятие пошлости окружающей жизни. Ей присущи определенные, исторически сложившиеся и как бы вошедшие в ее плоть и кровь представления и идеалы. Они вступают в коллизию уже не с темным миром крепостнического бесправия, а с не менее безжалостным, всесильным царством денег и меркантильных расчетов.
Душевный, духовный облик обеих героинь — Катерины и Ларисы — при всем том, что многое их роднит, — своеобразен и неповторим. Своеобразие здесь не только личное, но и историческое, ибо за героиней «Грозы» стоит мир народной песни. Есть несомненное сходство между образом Катерины и женским типом, запечатленным русской песней, пишет, как бы развивая мысль Ап. Григорьева о народных истоках характера Катерины, современный исследователь А. Штейн в своей книге «Мастер русской драмы» (1973). Далее, говоря о Ларисе, автор обнаруживает и в ее характере, и в ее судьбе отражение совсем иной музыкально-песенной стихии. Лариса живет тем кругом страстей, ей близок тот стиль человеческих отношений, который выразил себя в романтической поэзии, а затем и в русском романсе. Мысль эта интересна. Правда, трудно согласиться с тем, что «вся ситуация пьесы» — искушение нежной и страстной женщины «загадочным» обольстителем, убийство из ревности — «основана на мотивах и коллизиях романса», а Лариса будто бы ведет себя как полагается «истинной героине романса».
Ведь искушает Ларису не только «загадочный» Паратов, но и «идол» Кнуров. Да и сама Лариса, в отличие от героини романса, не только жертва предательства, она и сама совершает предательство, покидая Карандышева и его дом. Но «романсное» начало несомненно Ларисе присуще. Ее натуре, миру ее страстей действительно близка цыганская песня с ее стихийным порывом к воле, с ее «преодолением» быта, отказом от него. Однако ее душа, ее страсти, ее противоречия, ее идеал никак не вмещаются в привычный, все-таки односторонне направленный облик, связанный в нашем сознании с героиней романса — особенно цыганского. Лариса ведь не случайно жаждет вырваться из того «табора», в который Харита Игнатьевна превращает их дом. Актрисы, в чьем исполнении «романсное», да еще «цыганское» начало доминировало в Ларисе, упрощали образ, созданный Островским.
Правда, В. Комиссаржевская, отвергнув традиционное толкование, при этом лишила свою героиню жизнелюбия и действенной энергии, присущей героине цыганского романса. Это было крайностью, но актриса по-своему оправдала эту крайность, показав возвышенно-элегическое, даже трагическое мироощущение своей героини.
Мысль о «романсном» начале в «Бесприданнице», верная лишь в известном смысле, позволяет связать душевный строй и жизненную позицию героини с идеалом, восходящим к романтической поэзии и к романтическому мировосприятию. Суть ситуаций, в которые ставит Ларису жизнь (в них ее втягивают и Харита Игнатьевна, и мужчины, начиная с Кнурова и кончая Карандышевым), связана с тем, что романтически устремленному человеку нет места в до жестокости прозаическом, предельно расчетливом, бессердечном мире буржуазных отношений.
В «Бесприданнице» получает свое поэтическое выражение драматизм столкновения двух сознаний и мировосприятий. Тут ходом событий отвергается романтическое отношение к жизни (наиболее ярким воплощением которого были в России Печорин и «печоринство»), победу над которым одерживают буржуазные дельцы типа Беркутова, Великатова, Паратова, Кнурова, способные все продать и купить. Возвышенная, поэтическая душа Ларисы, стало быть, не просто проявление «естественной» человеческой природы. Ее идеал — порождение русской жизни, в этом идеале отражено наследие культуры целой эпохи. А в новое время, когда возобладали Кнуровы и Вожеватовы с их цинизмом, когда Паратовы сбрасывают с себя покровы былого «печоринства», превращаясь в расчетливых дельцов, романтический идеал оказывается вовсе неосуществимым. Лариса гибнет, переживая окончательный крах своих возвышенных представлений о любви, об «идеале мужчины», о жизни в целом. Ее смерть — лишь завершение, лишь финал катастроф, пережитых ею в попытках воплотить романтический идеал.
Как известно, в судьбе, в постижении и осмыслении того или иного произведения драматургии многое нередко зависит от его сценической истории. Выдающиеся актеры своим исполнением, талантливые режиссеры своими трактовками могут опережать и углублять истолкования, даваемые критикой и наукой. Так, например, трактовка великим Мочаловым роли Гамлета (Белинский посвятил ей свою знаменитую статью) навсегда сохраняет свое значение и ценность, углубляя наше понимание Шекспира. Судьба зрелой чеховской драматургии, чей стиль оказался недоступным традиционной режиссуре, во многом определилась постановками Московского Художественного театра. Он «открыл» сначала «Чайку», а потом «Дядю Ваню», «Три сестры, «Вишневый сад», воплотив сложные коллизии этих пьес с невиданной до того психологической тонкостью и внутренней эмоциональной напряженностью, с ощущением тех сложных настроений и их оттенков, обнаруженных в этой драматургии.
«Бесприданницу», как мы знаем, ни в Москве, ни в Петербурге театры не сумели «открыть» при первых ее сценических воплощениях. Коллизии, характеры, самый стиль этой пьесы не давались театрам, у которых уже сложилась стойкая традиция истолкования и исполнения Островского.
Труднее всего театрам давались образы Ларисы, Паратова, Карандышева. Первые исполнительницы роли Ларисы на московской и петербургской сценах Г. Федотова и М. Савина особенного успеха в э ой роли не достигли. Затем роль в Малом театре перешла от Фе- до овой к М. Ермоловой. Трагедийное дарование, исключительный темперамент этой актрисы наиболее мощно проявились в ролях Катерины, Лауренсии («Овечий источник» Лопе де Веги), Марии Стюарт в пьесе Шиллера. В пьесах Островского Ермолова, кроме Катерины, играла Василису Мелентьеву, Юлию Тугину, Ларису, Парашу, Сашу Негину. Именно последняя была лучшей ролью Ермоловой в этой галерее героинь Островского. Однако она любила и свою Ларису. В созданном ею образе не было ни «цыганского» элемента, внесенного в роль Ларисы М. Савиной, ни налета мелодраматизма, свойственного исполнению Г. Федотовой. С присущими ей искренностью и благородством чувств Ермолова показывала, что Лариса, обманувшись в любви, «желает смерти и приветствует ее как спасительный выход», писал один из рецензентов. В 1894 году Ермолова согласилась сыграть Ларису в Нижнем Новгороде, пригласив на роль Паратова К. Станиславского. Для него это был незабываемый спектакль. Стоя рядом с Ермоловой, ощущая силу и заразительность ее игры, Станиславский, так казалось ему, сам «стал на минуту гениальным».
И все же заслуга подлинного «открытия» Ларисы и, благодаря этому, триумфального возвращения «Бесприданницы» на подмостки Александринского театра, принадлежит актрисе нового поколения — В. Ф. Комиссаржевской. Видимо, утверждению «Бесприданницы» на сцене благоприятствовала новая эпоха, новое мироощущение, характерное для так называемого «конца века».
По ее собственному признанию, Комиссаржевская, исполняя роль Ларисы, «не углублялась в типичность этого образа, а искала в нем обобщенную женскую натуру». Уточняя свою мысль, актриса говорила: «В моей Ларисе не видно ни типического отпечатка старой провинции, ни типических «цыганских» черт». А ведь именно такие «типические» особенности провинциальной, да еще «цыганской» барышни искали в Ларисе другие исполнительницы, полагая это главным в героине Островского. Комиссаржевская готова была поэтому признать, что ее Лариса отличается от той, какую создал драматург. Не оказалась ли, однако, Комиссаржевская ближе к замыслу драматурга, чем ее предшественницы?
Многих критиков, как мы знаем, после первых представлений пьесы разочаровало отсутствие в ней новых «типов». В Ларисе не обнаружили «типичной провинциальной львицы». Но вот вопрос: ставил ли себе автор «Бесприданницы», столь долго работая над пьесой, задачу создания именно типов? Оставался ли Островский и в 1870-х годах мастером изображения типов, каким был он признан в первые десятилетия своей творческой деятельности? Надо ли искать в Ларисе фигуру типическую в том смысле, который привычно вкладывают в это понятие?
Анализ «Бесприданницы» побуждает нас затронуть вопрос о соотношении в искусстве слова и, стало быть, в науке, анализирующей это искусство, таких явлений и понятий, как «тип» и «характер». Д. В. Аверкиев, выступив с теоретическим трудом «О драме» (1877–1878), к этим двум прибавлял еще третье понятие — «личность», стремясь таким образом классифицировать героев мировой драматургии по содержанию, масштабу и направленности их целей и стремлений. Далеко не во всем аргументация Аверкиева убеждает нас сегодня. Однако им была сделана ценная попытка показать, что в распоряжении драматурга — разные способы постижения и изображения человека. Художник отдает предпочтение тому или иному способу в зависимости не только от жизненного материала, им «осваиваемого», но и в зависимости от идейно-художественных задач, которые он перед собой ставит.
Речь идет не о глубине, с какой изображена та или иная фигура, а о тех особенных соотношениях с породившей ее средой, какие каждый раз в каждой фигуре выявляет драматург. По мысли Аверкиева, художник в созданном им типе воплощает требования, устои, обычаи, навыки определенной среды. Тип детерминирован уже сложившимися в том или ином сословии представлениями и нормами. Иное дело — характер. В поведении героя, являющегося не типом, а характером, гораздо большее значение, чем воздействия среды, имеет присущее только ему «определенное направление воли» (по мысли Аристотеля, именно «направление воли» следует понимать под характером). Личность еще более своеобразна, чем характер. Она неповторима и даже уникальна, ибо на всех ее проявлениях «лежит ей только свойственный отпечаток». Такова, примерно, концепция Аверкиева, изложенная им в его сочинении.
Говоря о типах, характерах и личностях, изображаемых художественной литературой, в частности — драматургией, мы помним, что это образные обобщения того, что художник нашел или угадал в реальной действительности. При этом он не просто «воспроизводит» черты и свойства, присущие реальным людям. Вспомним еще раз Аристотеля, его мысль о поэте, дело которого изображать не то, что было, а то, что могло бы быть. Создавая образы своих героев, художник как бы постигает различные потенциальные возможности, скрытые в каждом из них.
Касаясь этой проблемы, И. С. Тургенев говорил о «сыром материале» для художественных построений», которые дают ему наблюдения над реальными людьми и реальными эпизодами. Но «самый процесс развития характеров» в своем воображении писатель связывал с каждый раз возникающим у него вопросом: «для чего предназначила природа ту или иную личность?» Можно сказать, что одному герою «предназначено» стать типом, другому — характером, третьему — необыкновенной личностью, в зависимости от тех возможностей, которые обнаруживает в нем писатель, и тех сюжетных условий, в которые он его ставит, создавая художественную концепцию своей пьесы. Одним ее героям не дано отрываться от породившей их среды, преодолевать силу воздействующих на них и подчиняющих себе обстоятельств. Другие герои, обладающие характером, на это способны. Они ищут и пролагают новые пути в жизни, вступая при этом в острые, противоречивые отношения с окружающей их реальностью.
Преобладание в творчестве того или иного художника типов или характеров, типических характеров или личностей во многом определяется временем, когда он творит. Эпохи, которые отличаются определенной стабильностью общественных отношений, утвердившимися надолго формами жизни, часто стимулируют художника к изображению типов — того, что устоялось и отстоялось в людях и их поведении. Иные эпохи, переломные, переходные, — более благоприятствуют появлению в литературе не столько типов, сколько характеров или типических характеров, в чьих поступках сказываются индивидуальные побуждения и свободная воля.
Островский же в первых своих комедиях — таких, как- «Свои люди — сочтемся» или «Бедность не порок», по преимуществу художник типов, порожденных определенной — купеческой — средой. В емких типах, как и в коллизиях и конфликтах, возникавших в их среде, Островский сумел раскрыть важнейшие противоречия общерусского крепостнического строя жизни, подавлявшего права и достоинство человеческой личности. Это было выявлено Н. А. Добролюбовым в его знаменитых статьях.
Однако взгляд на Островского как на мастера изображения типов позволял некоторым из современных ему критиков по-иному трактовать общее направление его творчества, находить в нем не протестующее, а, напротив, «глубоко примиряющее начало». Если Добролюбов ценил в пьесах Островского обличение междучеловеческих отношений, порождаемых крепостнической действительностью, то критики, не желавшие видеть обличительную, сатирическую направленность его творчества, мотивировали свою точку зрения тем именно, что Островский — создатель типов. В его пьесах, писал один из оппонентов Добролюбова А. Скабичевский, «вы найдете своего рода фатум, еще в большей мере делающий героев неответственными (курсив мой. — Б. К.), чем фатум древней трагедии. Он заключается в том, что раз известная среда и масса условий создали тот или другой тип, человек фатально действует в рамках этого типа, не может поступать иначе». У Островского лишь одни бесхарактерные герои чувствуют угрызения совести. «Настоящие же трагические злодеи, — продолжает далее критик, — каковы Бессудный, Уланбекова, Кабанова, считают себя правыми перед судом своей совести после самых ужасных поступков. Кабанова оказывается способной даже глумиться над трупом Катерины, в чьей смерти и она повинна, говоря сыну: «Об ней и плакать-то грех!»». Именно на этом, присущем его типам «сознании безответственности» основано, заключает критик, «глубоко примиряющее начало, проникающее произведения Островского».
Драматург будто бы никого не винит и не может обвинять, ибо тип как порождение среды и условий сам, «лично», не отвечает за содеянное им. Действуя не по своим побуждениям, а соответственно требованиям, диктуемым ему извне, «типический» герой не судит себя, как не судит и не осуждает его и драматург. Обосновывая, таким образом, «типичностью» героев Островского их право на «безответственность» за свои деяния, Скабичевский делает еще более далеко идущий вывод о мировоззрении драматурга. Оно «жизнерадостное, всепрощающее и примиряющее нас со всеми частными преходящими напастями во имя вековечной мудрости», правящей миром.
Как видим, вопрос о типичности героя связан с важнейшим для драматургии вообще (для творчества Островского в частности) вопросом о его ответственности за свое поведение, за свои действия и поступки. Проблема типичности неотделима и от истолкования мировоззрения писателя, которым определяется его отношение к своим героям.
Разумеется, Скабичевский весьма односторонне толкует вопрос об ответственности героя, считая, что тип будто бы вовсе «неответственен», поскольку им как бы движут не личные, субъективные побуждения, а среда, которой он подчинен. Реально дело в пьесах Островского даже с типами обстоит сложнее. Сами они (Подхалюзин, Липочка, Кабанова) своей ответственности за содеянное действительно не чувствуют, зато другие лица эту ответственность часто на них возлагают. Ее возлагает и драматург всем ходом своей мысли, воплощенной в событиях, в концепции каждой пьесы. Так, например, о том, что и Тихон, и Островский считают Кабанову ответственной за смерть Катерины, свидетельствуют восклицания Тихона в финале пьесы: «Маменька, вы ее погубили! Вы, вы, вы…» Скабичевский обходит такого рода ситуации в пьесах Островского, опровергающие его мысль о «всепрощении» как важнейшей особенности мировоззрения драматурга.
Спору нет, Островский действительно показывает в лице Кабановой, Дикого, Уланбековой или Бессудного, как среда и условия формируют определенный тип человека, «фатально» действующего в рамках своего типа, уверенного в своем освященном традицией поведении.
Но Островского влекут к себе и иные герои — прорывающие «фатальную» власть обстоятельств, нарушающие сословные представления, пренебрегающие обычаями и предрассудками среды. Чем более герой Островского по своей природе ближе к «характеру», а не к «типу», тем интенсивнее чувство ответственности за свои действия, рождающееся в нем самом, в недрах его души. Спрашивая с себя за действия, в которых решающую роль играли личные мотивы, такой герой готов принимать на себя тяжесть их последствий. Угрызения совести чувствуют у Островского не только «бесхарактерные» герои, как полагает Скабичевский, а именно герои, обладающие характером. Да иначе и быть не может: чем более герой повинуется своим внутренним побуждениям, своей воле, а не навязываемым извне нормам, тем глубже он, подобно Катерине, способен переживать свою ответственность за проявления этой воли, тем активнее работает его совесть, тем глубже связанные с этим страдания.
Надо сказать, что и в дореформенных своих пьесах, особенно в «Грозе», Островский вовсе не стремился изображать только «типы». Кабаниха, Дикой, странница Феклуша — это действительно типы в общепринятом смысле этого слова. Правда, справедливости ради упомянем, что и Кабаниху критик Ап. Григорьев счел возможным определить как «могучий, но окаменелый характер». Однако именно «окаменелость», страстная приверженность «темному царству», которой дышат каждое слово и каждый поступок Кабановой, позволяют нам видеть в ней фигуру вполне типическую для определенной среды и для определенного времени.
Сложнее обстоит дело с образом Катерины. Нет, тут перед нами не тип в общепринятом смысле слова. Многое связывает и роднит Катерину со средой, ее породившей, но ее одухотворенность, желание «полететь, куда бы захотела», — напротив, не типичны для ее среды. Это понимают и те, кто ее окружает, и она сама. «Эх, Варя, не знаешь ты моего характеру», — говорит она своей золовке. Когда Катерина спрашивает ее: «Отчего люди не летают?» — той вопрос этот кажется странным. «Я не понимаю, что ты говоришь… Что ты выдумываешь-то», — отвечает Варвара. И это вполне естественно, ибо Катерина — существо для города Калинова необычное, необычайное, никак не сопрягающееся с принятым в этом городе образом жизни.
Разумеется, это вовсе не дает нам оснований считать Катерину человеком «не от мира сего». Ее религиозность и даже «мистицизм» неотделимы от свойственной ей любви к жизни и умения радоваться земными радостями. Однако и в самых земных своих стремлениях («Кабы моя воля, каталась бы я теперь по Волге, на лодке, с песнями, либо на тройке хорошей, обнявшись»), в ее страсти к Борису, в той интенсивности, с которой она переживает свой грех и свою вину, — в каждом ее поступке мы ощущаем особенное поэтическое начало, подымающее ее над повседневностью и «типичностью».
Когда в пореформенные 1860-е и особенно 70-е годы одни критики и зрители Островского досадовали на его повторные возвращения к определенному циклу типов, связанных с купеческой средой, они не замечали, что драматург на деле все чаще отходил от тех прежних принципов типизации, которыми он столь мастерски владел в своих прежних комедиях. От драматурга по инерции продолжали требовать все новых и новых «типов». Между тем уже и самая русская жизнь, когда в ней все сдвинулось и перевернулось, когда старые сословные связи, устои, нормы и порожденный ими быт решительно распадались, побуждала драматурга к поискам новых принципов изображения человека. К поискам иных коллизий, вызванных к жизни реформой, началом буржуазной эры в развитии России, при которой сохранились, однако, сильнейшие пережитки крепостничества не только в экономике, но и во всех сферах бытия.
Для этой новой эпохи и для тех целей, которые ставила перед собой тогда художественная литература, весьма характерен отзыв И. С. Тургенева о Бальзаке. Герои этого писателя, говорил Тургенев, колют в глаза своей типичностью». Ни в одном из «типов» Бальзака, говорил Тургенев, «нет и тени той правды, которой, например, так и пышут лица в «Казаках» нашего JI. Н. Толстого». Суждение Тургенева субъективно. Критикуя Бальзака за нарочитый, чрезмерный «типизм», Тургенев вместе с тем в Дон Кихоте и Гамлете увидел «два типа», воплощающих две коренные противоположные особенности человеческой природы.
Говоря о произведениях эпического жанра, Тургенев часто находит там то «типы», то «характеры». Однако касаясь вопроса о природе драматургических положений, он связывает их происхождение именно с характерами: «Истинно драматические положения, — говорит Тургенев, — возникают не тогда, когда добродетельные люди борются с злыми, как в мелодраме, или когда люди страдают от внешних бедствий… Драматические положения возникают тогда, когда страдание неизбежно вытекает из характеров людей и их страстей». Драматические катастрофы и страдания «вытекают» именно из характеров людей. Слово «тип» было бы здесь крайне неуместно, ибо типы чаще всего причиняют страдания другим, сами их не испытывая: такова, к примеру, ситуация Кабаниха — Катерина.
Если русская литература первой половины XIX века поражает богатством и разнообразием созданных ею типов, то, обратившись во второй половине XIX века к изображению коренных сдвигов, которыми была чревата жизнь предреформенных и пореформенных десятилетий, она преуспела именно в создании характеров. Гоголь, автор «Мертвых душ», и Гончаров, автор «Обломова», — по преимуществу художники типов. Сам Гончаров видел в типах «зеркала, отражающие в себе бесчисленные подобий». Разумеется, каждый художественный образ отражает в себе некие «подобия», но при этом способен нести в себе своеобразное, даже уникальное, начало. Во многих героях Тургенева, Толстого, Достоевского нас поражает именно неповторимость, своеобразие их личности. Найти им «многочисленные подобия» оказывается невозможным. О Рудине или Базарове еще можно говорить как о типах, точнее — как о «типических характерах». А вот Пьер Безухов, Андрей Болконский, Раскольников, князь Мышкин, Настасья Филипповна предстают перед нами как неповторимые, своеобразные лица, или как уникальные «личности» (если пользоваться классификацией Аверкиева). В упомянутых героях важно не только то, что они «получили» извне, из породившего их мира. Огромную роль в поведении каждого из них играет не имеющее себе никаких «подобий» их сугубо индивидуальное самосознание, свойственное только данному лицу мировосприятие, которое ведет его к глубочайшим коллизиям и с миром и с самим собой.
В творчестве Островского 60—70-х годов мы наблюдаем процесс все более явственного перехода от обрисовки типов к изображению характеров. Разумеется, это не следует понимать формально: если в дореформенных своих пьесах драматург, отдавая предпочтение типам, рисовал вместе с тем и характеры, то в последний период творчества он вовсе не отказывался и от изображения типов.
В «Бесприданнице» драматург поставил перед собой задачи новаторские. Он не задавался целью нарисовать свою Ларису как фигуру типическую. Разительно отличается она от тех «бедных невест» из прежних пьес Островского, с которыми ее охотно отождествляли первые критики пьесы. Отличается тем именно, что предшественницы Ларисы — фигуры типические. Они — порождение, они же и жертвы среды и жизненных условий, в подчинение которым в конце концов отдают себя. Сходство здесь только в том важном обстоятельстве, которое лежит в основе исходной ситуации каждой из пьес. Все эти молодые невесты — бесприданницы. Но суть роковой коллизии, в которую втягивается Лариса, определяется не только этим обстоятельством. Решает дело ее своеобразный, неповторимый, «нетипичный» характер. Если воспользоваться мыслью И. А. Гончарова о типе как о лице, имеющем «бесчисленные подобия», то Островский, можно сказать, в Ларисе задался целью нарисовать образ девушки, не имеющей себе подобий, бесподобной. Стремления и вожделения окружающих ее лиц направлены к тому именно, чтобы уподобить ее другим женщинам, навязать ей образ жизни, чуждый ее желаниям и притязаниям, но зато соответствующий реальным законам окружающего ее мира.
Это связывает Ларису не с героинями «Бедной невесты» или «Воспитанницы», даже не с Сашей Негиной из «Талантов и поклонников», а именно с Катериной из «Грозы». Ведь Катерину Кабаниха во что бы то ни стало хотела уподобить другим женщинам Калинова. Как и Катерина, Лариса поднимается над вседневным бытом, над всем образом жизни своего города, хотя на этот раз драма развивается не в затхлом, дореформенном Калинове, а в уже европеизированном Бряхимове, где сурово молчащий миллионер Кнуров мало чем напоминает неумолкающего ругателя Дикого.
В Ларисе нет ни религиозности, ни тем более «мистицизма» Катерины. Но она ей сродни своей впечатлительностью и страстностью, поэтической своей душой, чистотой и высотой своих стремлений. Для Катерины, писал Плещеев, возможна только «или жизнь по сердцу, полнокровная, без утайки и лицемерия, или гибель». Но и Ларисе нужна лишь та жизнь, что отвечает потребностям ее души и сердца. Однако и критики, и первые исполнительницы роли Ларисы, повинуясь сложившимся представлениям об Островском, искали в ней некий новый «тип», искали и не могли найти, ибо драматург здесь создал своеобразный, неповторимый характер. Лариса — лицо не типичное для Бряхимова — весьма типичного города пореформенной России.
Когда благодаря Комиссаржевской «Бесприданница» триумфально вернулась и на столичную, и на провинциальную сцену, критика находила, что Комиссаржевская играет Ларису замечательно, но не по Островскому, а по-своему. Актриса эти упреки, как мы знаем, принимала. Но вполне ли справедливы были упреки? Не диктовались ли они уже сложившимися, устаревшими представлениями о героине Островского?
Игра первых исполнительниц роли Ларисы отражала дух общего понимания пьесы критикой, не сумевшей проникнуть в ее своеобразную природу, ее «тайну». Предстояло прежде всего вникнуть в сложность, даже противоречивость характера самой девушки, способной безоглядно следовать за Паратовым, но вместе с тем готовой проводить с Карандышевым вечера в деревенском одиночестве, где «глухо и холодно». Комиссаржевская многое в этом сложном характере постигла. Однако даже столь серьезный критик, как Ю. Беляев, отмечал, что своим исполнением Комиссаржевская «поднимает престиж» Ларисы — девушки, упавшей до положения «драгоценной безделушки, на которую бросают жребий». Для Беляева Лариса Островского прежде всего — «тип отрицательный». Опять, как видим, тип. В исполнении же Комиссаржевской «эта кипучая цыганская кровь, насквозь пропитанная вольнолюбивым духом табора, выходит какой-то «белой чайкой», которая, не долетев до берега, разбивается о прибрежные скалы», писал Беляев в своей книге о Комиссаржевской. Восторгаясь актрисой, критик вместе с тем считал необходимым отметить разительное несходство между образом, ею созданным, и героиней пьесы Островского, которую он почему-то считал типом отрицательным.
Другой критик, Ф. Степун, в статье 1913 года оценил в игре Комиссаржевской то, что с первой же своей фразы («Я сейчас все на Волгу смотрела, как там хорошо на той стороне») она подымает внутренний мир Ларисы на огромную духовную высоту. Образ у Комиссаржевской развивается и усложняется: «Слова реплик, — продолжает Степун, — чем дальше, тем более перестают быть словами; это не слова, это голоса, звуки — музыка… Но вот минута — и музыки, как музыки, уже нет, есть только восторг, порыв и парение». Но, подобно Беляеву, и Степун истоки этой «музыки» обнаруживал не в героине Островского, а лишь в Ларисе Комиссаржевской. Именно Степун утверждал, что в пьесе героиня находится между Кнуровым, Паратовым, Карандышевым, а Лариса Комиссаржевской вовсе чужда их миру.
«Очень обаятельным, но совершенно неправильным» называл исполнение Комиссаржевской критик А. Кугель. Грустная, элегическая Лариса нисколько не нужна всем этим Кнуровым, Вожеватовым и Паратовым, писал Кугель и спрашивал: «Таких ли прожигателей может пленить глубокое элегическое страдание?» Но драма-то в том именно, что Лариса — существо сложное и далеко не во всем соответствует представлениям «прожигателей» жизни. Героиня Островского как бы пребывает в двух мирах (так это происходит и с Катериной) — в том, куда ее втягивают и вовлекают самолюбивые, хищные поклонники, да и мать — Харита Игнатьевна, и в другом мире — создаваемом ее воображением, ее поэтической натурой, ее музыкальной, певучей душой.
Надо воздать должное критику Н. Долгову, автору статьи, появившейся к тридцатипятилетию «Бесприданницы». Он одним из первых, если не первым, решился сказать, что замечательное исполнение Комиссаржевской идет не вопреки автору, а именно «от автора». Мысль о «Бесприданнице» как лучшей пьесе, как одной из вершин творчества Островского Долгов затем аргументировал и в своей книге, появившейся в 1923 году, к столетию со дня рождения драматурга.
Может быть, Долгов, в свою очередь, впал в крайность, полностью отождествив Ларису Комиссаржевской с той, какая была задумана Островским. В героине Комиссаржевской было, разумеется, и нечто от мироощущения «конца века», был некий надрыв. Актриса уже при первом выходе давала чувствовать обреченность своей Ларисы. Ее Лариса, возможно, была слишком «надбытовой». Но ведь благодаря этому актриса сумела подчинить бытовое музыкальному ритму, которым характеризовалось все ее исполнение. Не только сцена пения романса (романс на слова Баратынского Комиссаржевская заменила старинным итальянским романсом: «Он говорил мне…»), но и вся роль, как о том свидетельствует Степун, была проникнута внутренней музыкой. Из ее духа рождалось то парение Ларисы, которое не могло не закончиться роковой гибелью.
Казалось бы, какое отношение к подобной Ларисе Огудаловой имеет унижаемый, оскорбляемый, вечно «жаждущий», подточенный страшным «казенным» ядом Робинзон? Они на разных полюсах пьесы. Проще всего в этом человеке усмотреть лицо «аксессуарное» и даже лишнее в пьесе. Будущий соратник К. С. Станиславского, но в ту пору еще студент Вл. И. Немирович-Данченко откликнулся на премьеру «Бесприданницы» газетной статьей — в общем, одобрительно оценив пьесу как «задуманную прекрасно». Видны в драме и белые нитки, признает бойкий рецензент. Фигурка кочующего актера Робинзона приплетена «ни к селу ни к городу». Уж не ради ли бенефиса г. Музиля, исполнителя этой роли, введена в пьесу эта фигурка? — спрашивает рецензент.
В наши дни автор уже упомянутой книги «Мастер русской драмы» видит в Робинзоне Аркашку Счастливцева из «Леса», забывая, что разные эти лица органически входят в образную структуру двух разных по своей проблематике пьес. Автор той же книги готов увидеть в Робинзоне трусливого и даже подлого человека: еще бы, пьет вместе с Юлием Капитонычем всякую мерзость; не мешает Кнурову и Вожеватову бросать жребий; испытывает страх при виде пистолета в руках Карандышева. Но с Робинзоном дело обстоит не столь просто. В «Бесприданнице» на Робинзона возложены не только сюжетные функции (он помогает спаивать Карандышева, рассказывает ему про жребий). Он не только вносит в действие комедийное начало.
Если Лариса или Кнуров для нас фигуры художественно вполне оригинальные, хотя и в них можно обнаружить черты, сходные с чертами иных героев прежних пьес Островского, то и Робинзон не является в этом смысле исключением. Главное в нем — отнюдь не сходство со Счастливцевым, хотя соблазн их отождествить бывает велик.
Особенно сильно противоположные мнения о Робинзоне скрестились в связи с постановкой «Бесприданницы» Театром Революции (1940 г. Постановка Ю. А. Завадского). В этом спектакле многое шло вразрез с общепринятым. Ларису играла Бабанова — без пощады к своей героине. Смерть она принимала не как примирение, а как избавление. Однако Лариса, писал критик А. Мацкин, не была полновластной госпожой этого спектакля. Тема поруганной любви сплеталась здесь с темой поруганного человеческого достоинства, которую вели замечательные актеры (С. А. Мартинсон в роли Карандышева, Д. Н. Орлов, М. М. Штраух в роли Робинзона).
П. Боборыкин увидел в фигуре Карандышева такую «двойственность», какой не сыграть никакому актеру. Мартинсон сыграл — но не просто двойственность. Он дал противоречивый, гротесковый характер в его динамическом развитии.
Карандышев — Мартинсон был принят всеми, а вот усложнение образа Робинзона многим показалось незакономерным. В возникшем споре веско прозвучал голос советского актера и режиссера С. М. Михоэлса. «Лариса и Робинзон, — сказал он, — в системе взаимоотношений пьесы Островского сопряжены. Судьбы их перекликаются». Михоэлс даже находил, что «какие-то трагедийные моменты, решенные комедийно, должны прозвучать в Робинзоне с большей силой, чем это сделано в спектакле».
Говоря о трагедийных моментах, режиссер, несомненно, имел в виду те мотивы и темы пьесы, которые уже в первом действии звучат при появлении этой «фигурки» человека без имени и отчества, передаваемого из одних рук в другие с этакой милой, барственной, хозяйской небрежностью. Тут тема попираемого маленького человека предстает в комедийной тональности, но внутренне сопрягаясь с трагической темой Ларисы.
Как уже говорилось, в «Бесприданнице» герои связаны не только сюжетно, здесь важны сверхсюжетные, тематические связи. П. Боборыкин упрекал Островского за обилие в его пьесах колоритных, но эпизодических, чуждых основному действию персонажей, разрушающих «единство» произведения. Критик проходил мимо сверхсюжетных связей, играющих большую роль в создании требуемого драматургией единства.
Значение этих связей все более выявляется нами. Для нас в «Грозе», например, Феклуша и Кулигин отнюдь не «лишние» персонажи. И не только потому, что они, как писал Добролюбов, рисуют обстановку, в которой протекает драма Катерины. Сюжетно друг с другом не сталкиваясь, Феклуша и Кулигин драматически противоборствуют, отстаивая различные, непримиримые требования к жизни. Первая как бы обосновывает позицию Кабанихи. Второй — во многом идейный единомышленник Катерины. Они — участники драматической борьбы, если не сводить ее к непосредственным «стычкам» между персонажами.
Робинзона связывает с Ларисой мотив человеческого достоинства. В поведении и судьбе шута этот мотив обретает важную и необходимую тональность. С Робинзоном уже произошло то, что хотят сделать с Ларисой. Он уже превратился в вещь, передаваемую господами из рук в руки и для потехи, и для самоутверждения.
Он тоже иногда вздумывает, подобно Карандышеву, «петушиться» и «топорщиться». Сцена двух «шутов», Робинзона и Карандышева, когда струсивший Робинзон сначала старается спрятаться за бутылку, а затем вполне успешно разыгрывает перед Карандышевым роль человека семейного, — смешна и грустна одновременно. Потом Робинзон пытается дерзить Вожеватому. Его жалкие потуги хоть в чем-то отстоять себя только смешат Паратова и Василия Данилыча. Робинзона уже не надо ни «обуздывать», ни «укрощать», ни выводить из себя, как Карандышева. Он уже укрощен жизнью. И все-таки не до конца.
Теперь наступает самая жестокая сцена. Хотя, конечно, Сергей Сергеич «ни над чем не задумается; человек смелый», он, однако, «миллионную невесту на Ларису Дмитриевну не променяет». Теперь наступает черед Кнурова и Вожеватова, они вступают в борьбу за надломленную Паратовым Ларису. По жребию счастье ехать в Париж с Ларисой достается Кнурову. В ее согласии ни один из них не сомневается.
Сообщая о жребии Карандышеву, Робинзон включается в самый нерв пьесы. «О, варвары, о, разбойники! Ну, попал я в компанию!» — восклицает он. На этот раз устами шута глаголет истина.
Да — варвары, да — разбойники, но разбойничают они по-разному. Рисуя хищную игру Кнурова и Вожеватова вокруг Ларисы, драматург вновь перекликается с Салтыковым-Щедриным, беспощадно изображавшим разнообразное «хищничество» 1870-х годов. Паратов — барский «хищный тип». Перерождаясь в хищника буржуазного толка, он пытается скрыть претерпеваемую им катастрофу победительной маской человека с широкой натурой. Кнуров и Вожеватов — порождения новой формации — в условиях 70-х годов чувствуют себя вполне уверенно. Никакие внутренние катастрофы им не грозят, поскольку они, если перефразировать несколько слова Вожеватова, в себе совсем не видят того, что душой называют. В ажиотаже приобретательства они полагают, что в их средствах все купить. Торгуя Ларису, они намереваются завладеть не только красотой, но музыкальной и певучей душой, поэтичностью и страстностью — всем, что есть в Ларисе и чего нет в них самих.
После слов Паратова «она поедет» мы уже ничего хорошего от него не ждем. А Лариса еще ждет и надеется, хотя слова «или ищи меня в Волге» были ею сказаны. В сцене после возвращения с Волги Ларисе тоже все становится ясным. Начинается ряд узнаваний-потрясений, через которые она проходит в четвертом действии. Нельзя даже сказать, какое из них наиболее сокрушительно и катастрофично.
Дело ведь не только в том, что Паратов обручен, что, поманив Ларису за Волгу, он ее обманул, а обман свой объясняет «мгновенным увлечением», страстный угар которого быстро проходит. Дело еще и в том, что Лариса обманывала себя, тщетно надеясь найти и обрести тот «идеал мужчины», которого в жизни уже и не найти совсем.
Она обвиняет Паратова, будто он ей сказал: «Брось все, я твой». Но он этого не говорил, это она ждала таких слов, и ей казалось, будто она их дождалась. Когда Паратов говорил: «Я завтра уезжаю», она эти слова и слышала и не слышала, ибо надеялась все переделать, пересоздать по-своему, заблуждаясь в людях, в себе самой, в возможностях, открываемых ей жизнью.
Если Карандышев создает свою маску с помощью очков, то Паратов не меняет своего лица. Но оно само уже только маска. Из Паратова окончательно улетучились, испарились и смелость, и нерасчетливость, и способность чувствовать поэзию жизни, и готовность жертвовать для этой поэзии прозой — все то, о чем лгут и его красивое лицо, и его необычная повадка. Ларисе приходится взглянуть правде в глаза и понять, что Паратов — всего только вещь, уже закупленная богатой невестой.
Теперь Лариса предстает перед нами жертвой не только жестоких замыслов Кнурова и Огудаловой и не только самолюбивых притязаний Паратова и Карандышева, но и собственных заблуждений, иллюзий, ошибок, за которые надо расплачиваться. Такова судьба каждого подлинного драматического героя или героини: Катерины из «Грозы», Феди Протасова из «Живого трупа», горьковского Егора Булычева, шекспировских Ромео и Гамлета, шиллеровского Карла Моора и многих других героев русской и мировой драматургии.
Лариса начинала с того, что, совершая внутренне противоречивые поступки, еще не отдавала себе в этом отчета. Потом смысл своих действий стала осознавать. Разве ее прощальная, обращенная к Огудаловой реплика об этом не свидетельствовала? Теперь, совершая поступки еще более противоречивые, она обретает способность анализировать их с растущей требовательностью к себе.
Паратова Лариса прогоняет гордо и решительно: «Подите от меня! Довольно! Я сама об себе подумаю». До этого она успела сказать Сергею Сергеичу про сучок, на котором можно удавиться, про Волгу, где легко утопиться.
Однако, в противоречие с гордыми словами, Лариса тут же просит помощи у Васи. Тот на ее призыв отвечает отказом. Зато готовность помочь изъявляет Кнуров, которому она досталась по жребию. В отличие от Паратова Кнуров абсолютно прям, деловит, не позволяет себе никакой полуправды. Он располагает возможностью предложить Ларисе содержание — столь громадное, что заставит замолчать самых злых критиков чужой нравственности, и обещает стать самым преданным ее слугой, самым точным исполнителем ее желаний и капризов.
Сцена Лариса — Кнуров относится к сильнейшим в пьесе, хотя (скорее — потому что) Лариса тут не произносит ни слова. Четырежды останавливается Кнуров и четырежды получает в ответ лишь молчание Ларисы. Слышит ли она его? Да, разумеется. Ведь на прямое приглашение Кнурова поехать с ним в Париж она отрицательно качает головой.
Лариса может позволить себе промолчать, ибо у нее впереди еще встреча с Волгой, которая может стать ее последним прибежищем. Наступает и этот момент. Лариса наедине с Волгой, наедине с собой.
Мы помним Катерину из «Грозы», тело которой находит в Волге Кулигин. Помним мы и других героинь Островского, готовых лишить себя жизни. Они отказываются от своих страшных намерений лишь тогда, когда перед ними приоткрывается иной, но достойный выход из драматической ситуации.
Ларису ждет иная судьба. Когда она стоит у решетки, разные мысли перебивают друг друга в ее потрясенном сознании: «Вот хорошо бы броситься!», «Нет, зачем бросаться!.. Стоять у решетки и смотреть вниз, закружится голова и упадешь…»
Ужас и страх Ларисы очень понятны. «Расставаться с жизнью совсем не так просто, как я думала. Вот и нет сил!» — говорит она со свойственной ей правдивостью. Но с этой же беспощадной к себе правдивостью она признает, что людям, идущим на самоубийство, видно, уж совсем жить нельзя; их ничто не прельщает и ничего им уже не жалко. Значит, ее, Ларису, все-таки еще что-то прельщает в этой жизни. «Что ж я не решаюсь? Что меня держит над этой пропастью? Что мешает? (Задумывается.) Ах, нет, нет… Не Кнуров… роскошь, блеск… нет, нет… я далека от суеты… (Вздрогнув.) Разврат… ох, нет. Просто решимости не имею. Жалкая слабость: жить, хоть как-нибудь, да жить… когда нельзя жить и не нужно».
Говоря о Карандышеве, мы вспоминали самолюбивых героев Достоевского, которым он близок. Теперь монолог Ларисы и, в особенности, ее слова «жить, хоть как-нибудь да жить… когда нельзя жить и не нужно» вызывают у нас новые ассоциации, свидетельствующие о том, какими сложными нитями связаны творчество Островского и Достоевского.
Герой «Преступления и наказания» во время своих одиноких блужданий по Петербургу, наблюдая разнообразную жизнь «низов» большого города в ее ужасающей, душераздирающей будничности, сталкивается у одного доходного дома, заполненного распивочными и «прочими» увеселительными заведениями, с группой женщин. Иным из них — за сорок, но есть тут и семнадцати лет. Раскольников слышит их сиплые голоса. Одна из женщин просит у него шесть копеек на выпивку, другая, «в синяках, с припухшею верхнею губою», осуждает товарку за «бессовестную» просьбу.
Вся сцена пробуждает у Раскольникова воспоминания о герое прочитанной книги. Приговоренный к смерти, тот был готов жить в самых невыносимых мучениях, лишь бы не «сейчас умирать». Герой Достоевского размышляет о неистребимой потребности человека жить, как бы ужасны, невыносимы, омерзительны ни были условия его существования. «Только бы жить, жить и жить! Как бы ни жить — только жить! Экая правда! Господи, какая правда! Подлец человек!» — думает Раскольников. Но тут же себя и опровергает, усложняя проблему: «И подлец тот, кто его за это подлецом называет».
Здесь не только перекличка в мыслях у Ларисы с Раскольниковым, но и чуть ли не дословное повторение того, о чем думал герой Достоевского. Это — вполне объяснимо. Ведь Ларисе, отвергнувшей домогательства Кнурова, может угрожать и судьба увиденных Раскольниковым женщин, не задумывающихся над трагизмом своего положения. Но, как бы повторяя слова Раскольникова, Лариса дает мысли свой собственный поворот. Неистребимую потребность «хоть как-нибудь да жить», к которой у героя Достоевского отношение сложное, Лариса называет «жалкой слабостью». Она хотела бы сложившуюся ситуацию разрешить по-своему, не подчиняя себя горькой правде о человеке, осознанной Раскольниковым.
До беспощадных истин прорывается тут Лариса в своем самоанализе. Казалось бы, перед ней лишь дилемма: либо соблазниться кнуровской роскошью, либо хоть как-нибудь да существовать. Однако сила духа и неумирающее нравственное чувство подсказывают ей теперь новый, единственно возможный выход: «Кабы теперь меня убил кто-нибудь…» В состоянии не то полузабытья, не то полного забытья после сказанных ею слов о том, что она хотела бы «хворать долго, успокоиться, со всем примириться, всем простить и умереть», и застает ее Карандышев.
Но увидев его, тут же, сразу, как бы мгновенно, меняется и преображается Лариса. От подавленности, от апатии не остается и следа. Она впадает в новое — агрессивное — состояние.
«Лариса (поднимая голову). Как вы мне противны, кабы вы знали! Зачем вы здесь?
Карандышев. Где же быть мне?
Лариса. Не знаю. Где хотите, только не там, где я.
Карандышев. Вы ошибаетесь, я всегда должен быть при вас, чтобы оберегать вас. И теперь я здесь, чтобы отмстить за ваше оскорбление.
Лариса. Для меня самое тяжкое оскорбление — это ваше покровительство; ни от кого и никаких других оскорблений мне не было».
Говоря о сцене ссоры Паратова с Карандышевым во втором действии, мы уже употребляли такое слово: вымещение. Теперь нам снова придется прибегнуть к нему. Теперь и Лариса становится человеком, открыто вымещающим свои страдания на другом лице, на Карандышеве. Да, она еще не знает про жребий, но ведь ее уже смертельно оскорбляли — каждый по-своему — и Паратов, и Вожеватов, и Кнуров. В гордыне своей она пытается все это отрицать: ничего такого не было, как не было ни тяжких раздумий, ни горьких признаний в своем малодушии у решетки над обрывом.
Про Карандышева она недавно говорила Паратову: «Это дело кончено: он для меня не существует». Но стоило Карандышеву явиться ей на глаза, и, оказывается, он для нее существует. Но в новом качестве — ответчика за все, что она вынесла от Паратова, Вожеватова, Кнурова и перестрадала, стоя в беспомощности у решетки. На нем вымещает она свои обиды и свою боль.
А тот, уже многое поняв и перестрадав, все же остается самим собой. «Уж вы слишком невзыскательны», — говорит он Ларисе. Это она, только что прогнавшая прочь Паратова, отвечавшая молчанием на предложения Кнурова, жаждавшая самоубийства у решетки, невзыскательна? Снова не хватает у Карандышева благородства и душевной тонкости, снова он не способен понять Ларису.
Зато у него есть аргументы, и он их выкладывает: «Кнуров и Вожеватов мечут жребий, кому вы достанетесь, играют в орлянку — и это не оскорбление?» И тут, как это уже случилось с ним в конце третьего действия, вдруг обнаруживает, казалось бы, ему недоступную глубину понимания ситуации: «Хороши ваши приятели! Какое уважение к вам! Они не смотрят на вас как на женщину, как на человека, — человек сам располагает своей судьбой; они смотрят на вас как на вещь. Ну, если вы вещь, — это другое дело. Вещь, конечно, принадлежит тому, кто ее выиграл, вещь и обижаться не может».
Нельзя не удивиться и не поразиться глубине и афористичности слов Карандышева. Хорошо нам известные со школьной скамьи слова мы охотно приписываем самому Островскому, как бы забывая, что они вложены в уста Юлия Капитоныча.
Уж не одарил ли его драматург этой сильной и разящей мыслью только потому, что больше ее в пьесе высказать было некому? Задумываясь над этим вопросом, полезно вспомнить другие подобные случаи в мировой драматургии, когда герои произносят слова, звучащие в их устах неожиданно и даже, на первый взгляд, неорганично. Вкладывая в уста Сатина знаменитые речи о человеке и его назначении, сам Горький не был уверен, что их должен произнести именно он. Но больше в пьесе их сказать некому, оправдывался драматург. А для нас теперь эти слова Сатина приобретают полную убедительность — но только при одном условии.
Когда иные критики в недавнем прошлом, да еще и поныне, изымают монолог этот из его драматургического контекста, он сразу же блекнет, превращаясь в своего рода публицистическую декларацию, не имеющую ни для читателя, ни для зрителя художественной убедительности.
Слова Сатина обретают свою глубокую, пронзительную силу лишь в том случае, когда они предстают (в сценическом воплощении или в нашем восприятии, если мы, читая, как бы проигрываем пьесу в нашем воображении) как выражение мучительных переживаний и поисков ответов на сложнейшие вопросы бытия, волнующие героя. Слова Сатина о предназначении человека не были им давно заготовлены впрок. Нет, это истины, к которым он прорывается на наших глазах. Его стимулируют катастрофические события в ночлежке Костылевых и поведение странника Луки, противопоставившего всеобщему ожесточению, царившему в ночлежке, участливое отношение к человеческим страданиям и веру в человеческие возможности. Сатин не может забыть, что Лука «живет из себя, на все смотрит своими глазами», настаивая на том, что человек создан «для лучшего».
Подняться до идей, высказываемых им в финальном монологе, Сатин в первых актах пьесы «На дне» еще не был способен. Его злую, холодную, непримиримую мысль, дав ей новое направление, обогатил именно Лука. Лишь вняв упорным, пусть и не чуждым утешительству призывам Луки к человечности (при том что странник открыто ненавидит Михаила и Василису Костылевых), Сатин наконец дозревает, дорастает до мыслей о том, что «человек — выше сытости», что человек — «это звучит гордо!» Если озлобленный, относившийся к людям свысока Сатин первых актов не смог сказать этих слов, то Сатин из четвертого акта, в споре с Бароном, лишенным какой бы то ни было веры во что бы то ни было, уже не может не произнести их. Теперь, в четвертом акте, его слова звучат как необходимое драматическое завершение одной из сквозных тем пьесы.
В «Бесприданнице» сверх сюжета, углубляя его смысл, тоже развивается несколько сквозных тем. Проницательнейшее сопоставление человека, имеющего право проявлять свою волю, с вещью, которая воли не имеет, тоже не вяжется с той фигурой, какой Карандышев является нам в первых актах. Но именно он схватывает и с предельной остротой выражает тему, зарождающуюся еще в самом начале пьесы.
Для тех, кто видел и продолжает видеть в Карандышеве только «мелюзгу», от которой должна бежать Лариса, кто считает его фигурой статической, раз навсегда застывшей в своей заурядности, завистливости и мелком самолюбии, слова про «вещь» должны в его устах показаться неуместными. Подобному персонажу не дано постичь истину об «овеществляемом» человеке, о человеке-марионетке, которым манипулируют власть имущие.
Но драматург ведь смотрит на Карандышева не глазами Кнурова и Паратова. Юлий Капитоныч, каким его видит Островский, открыт для драматических изменений и прозрений. Когда Юлий Капитоныч хорохорится или, по словам Паратова, «топорщится», ему и в голову не может прийти мысль о человеке, превращаемом в вещь. Приди ему в те минуты такая мысль, он прогнал бы ее от себя прочь.
Но катастрофа, постигающая его во время обеда, стимулирует его мысль, вынуждает его отказаться от иллюзий о себе самом, признать себя смешным человеком, пешкой в чужих безжалостных руках. А в последнем акте ход событий еще более способствует той работе мысли, которая уже началась в сознании Карандышева. Он обнаруживает, что и Лариса — всего лишь пешка в игре холодных страстей Паратова, Кнурова и Вожеватова. Поэтому, оскорбленный уже не только за себя, но и за Ларису, он прорывается к истине о человеке-вещи, и он выражает ее безупречно точно и жестоко.
Ранее все попытки униженного, оскорбленного маленького человека отстоять себя, свое человеческое достоинство принимали смешные, жалкие, уродливые формы. Вплоть до сцены тоста на злополучном обеде Юлий Капитоныч утверждает себя, доказывая, что он нисколько не ниже, а даже выше других господ, претендующих на Ларису. Пытаясь сравняться с ними и даже «превзойти» их, Карандышев в глубине души знает им цену, но не видит ничего «смешного» в своем стремлении сравняться с ними. Здесь один из истоков парадоксальной драмы этого «маленького» человека, сближающей его с «маленькими» людьми Достоевского, с их амбициозностью и обостренным чувством собственного достоинства. И, подобно им, Юлий Капитоныч тоже оказывается способным оценить и других людей, и самого себя трезво и беспощадно.
Драматизм ситуаций в явлении четырнадцатом третьего акта и одиннадцатом явлении последнего акта повергает Юлия Капитоныча в состояние предельного отчаяния. И тогда именно он схватывает и обнажает проблемы, темы, коллизии, связывающие воедино всех персонажей «Бесприданницы». Именно он во всеуслышание говорит о том, о чем тот же Паратов, тоже человек-вещь, предпочитает умалчивать, сохраняя видимость гордого и независимого барина.
Очень существенна реакция Ларисы на эти убийственные слова Карандышева. Как гласит ремарка, она отвечает ему «глубоко оскорбленная». Сказав, что человек сам располагает своей судьбой, а «вещь» — это «другое дело», и принадлежит она тому, кто ее выиграл, Карандышев этим наносит Ларисе удар гораздо более безжалостный, чем сам предполагает. Кнуров и Вожеватов, столь бесцеремонно распоряжавшиеся ею, действительно глубоко ее оскорбляют, но еще сильнее оскорбляет Ларису Карандышев, так и не сумевший понять, что всеми своими поступками она преследовала именно эту цель — управлять своей судьбой. Весь поглощенный обличением низости ненавистных ему Кнурова и Вожеватова, Карандышев и теперь далек от понимания мотивов, двигавших Ларисой.
Само сообщение о том, как ее по жребию поделили Кнуров с Вожеватовым, она — и это очень примечательно — как бы пропускает мимо ушей. Зато бурную реакцию с ее стороны вызывают слова о человеке и вещи. Оно и понятно: разве все прошлое Ларисы, о котором Вожеватов рассказывает Кнурову (2-е явление I акта), а затем и все, совершаемое ею на наших глазах, не было цепью отчаянных попыток строить жизнь соответственно своим желаниям? Ведь и за Волгу она отправилась с надеждой добиться своего, настоять на своем, вернуть себе Паратова. Затем, после Волги, прогнав Паратова и отказав Кнурову, не пыталась ли она снова управлять своей судьбой? У решетки, над обрывом, она еще раз отказывается от роскоши и блеска, которые тот ей сулит. Этой роскоши она искренне предпочитает смерть: «Кабы теперь меня убил кто-нибудь…» — именно таково ее заветное желание. Нет, в каждой новой ситуации она ведет себя не как вещь, с огромной силой воли стремясь управлять своей судьбой. Этого-то Карандышев и не понимает.
Прощаясь с Огудаловой в третьем акте, Лариса нисколько не заблуждается насчет своего будущего. Но она представляет себе только два возможных исхода: радость, счастье с Паратовым либо смерть. Теперь же чуть ли не неизбежным становится третий — самый обидный и унизительный исход — превращение в вещь. Именно на такой исход надеялись Кнуров и Вожеватов еще в первом акте, как бы «планируя» неминуемый разрыв Ларисы с Карандышевым, избегая прямых слов, но вполне понимая друг друга. Паратов, обольщаясь и прельщая Ларису несбыточными надеждами, дабы еще раз удовлетворить свою неуемную гордость, оказался прямым пособником Кнурова и Вожеватова. Они же исподволь и уверенно готовили для Ларисы третий исход, с их точки зрения — единственный.
Теперь — считают Кнуров и Вожеватов — Ларисе уже деться некуда. После того как она порвала с Карандышевым, а Паратов ее покинул, наступает их черед — в этом Кнуров и Вожеватов абсолютно уверены. Их время приспело даже раньше, чем они могли надеяться. Все обошлось без несчастного брака, на который рассчитывали Кнуров с Вожеватовым. Беспомощной и одинокой девушке теперь ничего не остается, кроме как отдать себя в руки тех, кто предполагал, что охота будет более длительной и сложной. Теперь Лариса раз и навсегда должна забыть о своих гордых и наивных надеждах на подлинную любовь. У нее один выход — смириться с участью содержанки. Такова логика наших дельцов.
Сама Лариса, стоя у решетки, уже начала догадываться, насколько иной вид приобрела стоявшая перед ней дилемма. Она говорила
Огудаловой о возможности счастья. Теперь об этом нечего и думать. Теперь остались две другие возможности: смерть (о ней она серьезно задумывалась ранее, но не в силах на это решиться) либо — кнуровская роскошь.
Слова Карандышева потому и вызывают в Ларисе такое неистовство, что все ее страстные попытки управлять своей судьбой роковым образом вели к превращению ее в вещь. Своими наивными надеждами и своей активностью она лишь ускоряет этот процесс. На слова о вещи она реагирует с нескрываемым вызовом и отчаянием: «Вещь… да, вещь! Они правы, я вещь, а не человек. Я сейчас убедилась в том, я испытала себя… я вещь! (С горячностью.) Наконец слово для меня найдено, вы нашли его. Уходите! Прошу вас, оставьте меня!»
Теперь Лариса не только не спорит, не только не опровергает, как это всегда было и не могло не быть во время ее диалогов-стычек с Карандышевым. Впервые она с ним соглашается. Разными путями они оба двигались и прорвались к одной истине.
Если мы ценим искусство драмы, если оно захватывает, потрясает и трогает нас, то такие моменты переживаемого драматическим героем прозрения мы ставим особенно высоко. Прорыв к истине, постижение сути вещей, как бы горька или радостна она ни была, даются драматическому герою ценой мук и страданий. Шекспировский Отелло дорого платит за то, чтобы перед смертью осознать свою вину перед чистотой Дездемоны и понять меру злобного коварства Яго, которому он сам, Отелло, доверился. Дорого достается истина шекспировскому Лиру — о Корделии, Гонерилье и Регане, о своих роковых заблуждениях, о мире, в котором он живет. Истина о себе самом, когда он из короля превращается в голое двуногое животное, а затем — в человека.
Такие же минуты узнавания и прозрения переживают и многие герои Островского. Среди них Самсон Силыч Большое, узнающий, сколь непробиваемо бессердечие дочери Липочки и приказчика Подхалюзина, ставшего ее мужем. Холодная жестокость дочери и зятя контрастируют в пьесе с переживаниями Большова, осознающего свою вину перед нравственным законом, который для Самсона Силыча является законом божественным.
В своей «Поэтике» Аристотель придает очень большое значение очищению (катарсису) как одной из главнейших особенностей драматического действия. Сам автор «Поэтики» не говорит о прямой связи так называемых «узнавания» и «очищения». Но связь происходящего в драме узнавания-осознавания-постижения закономерностей жизни с «очищением» героя от заблуждений, во власти которых он находился, несомненна.
Европейская драма вплоть до конца XIX века строилась в соответствии с аристотелевским пониманием действия, требующим более или менее решительных поворотов во взаимоотношениях действующих лиц и переломов в их судьбах. Герои при этом осмысляют все эти повороты либо время от времени в ходе действия, либо в его финальных сценах. «Бесприданница» в этом отношении пьеса «аристотелевского» театра.
В последние годы все чаще Островского рассматривают как предтечу Чехова-драматурга. В пьесах Островского динамика и напряжение действия ослаблены; в них много «лишних» лиц и эпизодов, не имеющих прямого отношения к фабуле; линии драматической «борьбы» в них часто не очень четко выявлены. Различные черты драматургии Островского дают основания видеть в нем предшественника Чехова, во многом подготовившего новаторство автора «Трех сестер».
Аспекты этой проблемы сложны и многообразны. Разумеется, чеховская драма при всем своем своеобразии связана с Островским и своими идейными мотивами, и своей поэтикой. Конечно, это связь внутренняя. В учителе Кулыгине можно узнать Карандышева, но свободного от самолюбия и готового на все ради Маши. Зато в Соленом из тех же «Трех сестер» Чехов, как бы подхватывая еще одну из тем «Бесприданницы», создает образ человека, который, подобно Карандышеву, непременно хочет казаться не тем, что он есть.
Коллизию, найденную Островским, Чехов толкует по-своему. Его не занимает вопрос о социальных антагонизмах, столь важный для Островского. Соленого от других персонажей отделяет не принадлежность к разночинной среде, как это происходило с Карандышевым. Чехова интересует драма человека, пытающегося скрыть свою ущербность с помощью отталкивающей агрессивности. В Соленом, разыгрывающем из себя не то Лермонтова, не то лермонтовского героя, обнаруживается сходство и с Карандышевым, и с Паратовым. Трудно себе представить Карандышева, убивающего Тузенбаха на дуэли, зато в этой роли легко увидеть Паратова. На месте Соленого Сергей Сергеич, разумеется, тоже не смог бы перенести того, что Ирина выходит замуж не за него.
Островский в своей пьесе позволил себе уподобить Паратова Карандышеву, вскрыв то, что делает их фигурами близкими и даже родственными. Чехов, совместив в своем Соленом черты Карандышева и Паратова, развивает, таким образом, одну из тем «Бесприданницы».
Но, говоря о несомненных связях, идейных и художественных, между драматургией Островского и Чехова, не следует забывать, что перед нами разные художественные миры. Об одном из этих принципиальных отличий между Чеховым и Островским пишет Л. Лотман в книге «А. Н. Островский и драматургия его времени» (1961). Автор отмечает, что в «Грозе» Кулигин, передавая Кабановым труп Катерины, произносит слова, побуждающие зрителя пережить момент «очищения трагических эмоций от оболочки будничности, бессмысленности». У Островского драма помогает «выявлению затемненного бытом подлинного существа социальных явлений». В отличие от героев Островского герои Чехова «живут, страдают и умирают в обстановке безмолвия и безгласности. Они не находят… ясных и ярких слов для выражения своих страданий».
Если в финалах «Трех сестер» и «Дяди Вани» героини все же находят слова, выражающие всю глубину их страданий, то финал «Чайки» в этом смысле очень показателен. После мрачно-исповедальной сцены Треплев — Нина дело движется к трагической развязке, но на сцене идет игра в лото. Под выкрики играющих, под звуки меланхолического вальса где-то в своей комнате стреляется Константин Треплев, о чем доктор Дорн тихо сообщает Тригорину. Чехов строит сцену своеобразно: занавес опускается до того, как мать Константина актриса Аркадина узнает о катастрофе. Ведь вместе с Чеховым мы понимаем, что никакого «осознавания-очищения», никакого переворота в душах Аркадиной и состоящего при ней беллетриста Тригорина смерть Треплева, в которой немалая доля и их вины, не произведет.
«Бесприданница» — пьеса с потрясающим осознаванием-очище- нием. Тут его переживает самый благородный, самый прекрасный, самый глубокий человек — Лариса. И эта ее потребность в очищении, способность к нему, обнаруживаемая в финале, возвеличивает Ларису в наших глазах.
К очищению Лариса движется сложным путем. Сначала в каком-то злом упоении она хочет окончательно превратить себя в вещь и велит Карандышеву призвать своего будущего богатого владельца — Кнурова. Ранее она уже поступила с самим Карандышевым, как с вещью, сбежав из его дома. В эту минуту, вымещая на нем свое горе, делая его посыльным, она снова обращается с ним не как с человеком, а как с вещью — по-паратовски.
Но, уцепившись за слово, произнесенное Карандышевым, повторив во всеуслышание правду о себе, она уже вступает на путь очищения. Паратов, превращаясь в вещь, продажная стоимость которой полмиллиона, факт своего овеществления скрывает. А Лариса ничего скрывать не хочет. В сердцах крича о своем намерении пойти к хозяину, она в этот момент ведает, что творит. Ее слова про цены, существующие для каждой вещи, и про то, что она вещь дорогая, Карандышев называет «бесстыдными». Разве тут бесстыдство, а не злая правда?
На беспощадное бичевание враждебного ей мира и самобичевание, на большую правду об этом мире и о себе оказывается способной Лариса. Тут не бесстыдство, тут вызов с ее стороны своему бывшему жениху, бесчеловечному обществу, всему миру вызов. Но — и это очень важно — тут и себе самой беспощадный укор и вызов.
Да, в отношении Ларисы к Карандышеву продолжает сквозить нескрываемое к нему отвращение. Она продолжает вымещать на нем свое горе и свою злость, называя его «мелким» и «ничтожным» человеком.
Но знаменательно все же то, что самые глубокие свои обиды на жизнь, самые трогательные признания и самое сильное осуждение тех, от кого зависела ее судьба, она высказывает ему же, Карандышеву.
В ответ на его слова о своей любви она отвечает: «Лжете!» Но далее идет обращение не только к нему: «Я любви искала и не нашла. На меня смотрели и смотрят, как на забаву. Никогда никто не постарался заглянуть ко мне в душу, ни от кого я не видела сочувствия, не слыхала теплого, сердечного слова. А ведь так жить холодно. Я не виновата, я искала любви и не нашла… ее нет на свете… нечего и искать. Я не нашла любви, так буду искать золота. Подите, я вашей быть не могу».
Отметим прежде всего, что слова, подчеркнутые нами, еще отсутствовали в рукописи, датированной 16 октября, нет их и во вставках, сделанных Островским в этой рукописи после означенной даты. Слова эти были записаны драматургом на обнаруженном нами отдельном листочке[476]. Он, видимо, включил их в текст пьесы перед самой отсылкой рукописи в Петербург — 26 октября.
Драматург ввел в эту исповедь Ларисы слова «я не виновата». Такие слова может сказать человек, перед которым возникает проблема вины. Лариса теперь начинает ощущать потребность в оправдании своих поступков. Ранее она такой потребности не испытывала. Поэтому вся ее речь приобретает очень сложный характер: обличения, исповеди, самооправдания. Потом, в финале, когда Лариса будет говорить: «Это я сама… Никто не виноват, никто…», она как будто бы станет противоречить обвинениям, которые она теперь бросает в лицо Карандышеву и через его голову — всему миру.
Очень важно понять движение чувств и мыслей Ларисы в этой ее речи. Обличая Карандышева во лжи, она обличает не его одного. Ведь не только от него она ждала теплого, сердечного слова, не он — единственный, у кого она искала сочувствия. Словами «никто не постарался заглянуть ко мне в душу», «на меня смотрели, как на забаву», она расширяет круг виноватых перед ней, круг своих оскорбителей и мучителей. Но завершает она свой страстный монолог словами, уже обращенными только к Карандышеву: «Подите, я вашей быть не могу». Поединок с обществом и миром опять как бы превращается в поединок с одним лишь Карандышевым, выступающим теперь единственным ответчиком за все, в чем перед Ларисой провинился весь мир.
Он же продолжает настаивать на своих правах: ведь он по-своему любит Ларису и справедливо считает себя выше людей, деливших ее по жребию. Только что униженно упрашивавший и умолявший, он в ответ на решительные слова Ларисы встает и говорит угрожающе: «О, не раскайтесь! (Кладет руку за борт сюртука.) Вы должны быть моей».
Видела ли Лариса, как вставал Карандышев, видела ли движение его руки? Трудно сказать. Она не только игнорирует угрозу, прозвучавшую в его словах, но как бы еще более его распаляет, позабыв про идею «со всем примириться, всем простить», возникавшую у нее, когда она стояла над пропастью. Карандышеву она не хочет простить ничего и никаких примирительных слов говорить ему не намерена. И, по-своему, она вполне права. Когда открывалась возможность уехать с ней в деревню, он был во власти своего «самолюбия». Теперь он снова хочет настоять на своем: «Вы должны быть моей».
Но ведь он же говорил о том, что человек сам располагает своей судьбой. Лариса запомнила эти слова. Нет, на сей раз ей никто не помешает все решать самой.
В ответ на его «должна» следует ее «никогда». И тогда Карандышев стреляет.
«Лариса (хватаясь за грудь). Ах! Благодарю вас! (Опускается на стул.)
Карандышев. Что я, что я… ах, безумный! (Роняет пистолет.)
Лариса (нежно). Милый мой, какое благодеяние вы для меня сделали! Пистолет сюда, сюда, на стол! Это я сама… сама. Ах, какое благодеяние… (Поднимает пистолет и кладет на стол.)»
Впервые Лариса обратилась к Карандышеву нежно, впервые произнесла: «Милый мой». Дождался от нее наконец и Карандышев ласкового слова.
Не в обидчиков своих, как он намеревался это сделать в конце третьего действия, а в Ларису он выстрелил. Как и ранее, Карандышев и Лариса и теперь многого не понимают друг в друге. И все-таки уже был один момент, когда они сошлись: его слова про вещь она не опровергла, а подхватила.
Не является ли и выстрел выражением взаимопонимания, возникающего между ним и Ларисой поверх произносимых ими слов? Юлий Капитоныч стреляет как будто только по мотиву: если не моей, то ничьей. Но в его выстреле проступает и другая логика, словами не высказанная.
Все, все четверо мужчин стремились превратить Ларису в вещь. В свою вещь. Хотел этого и Карандышев. Но он был и остался единственным — да, единственным — из всех четырех, кто не хотел и не мог позволить Ларисе стать чужой вещью. Паратов был готов передать Ларису в любые руки, Карандышеву и даже Робинзону; Кнуров и Вожеватов кинули жребий, и каждый готов был примириться с его исходом.
Никто из них не мог бы сказать, подобно Карандышеву: «Я готов на всякую жертву, готов терпеть всякое унижение для вас». Он говорит эти слова слишком поздно, но все же говорит то, на что ни один из остальных претендентов не способен. Лишь «смешной» человек Юлий Капитоныч, настаивая на своем, совершает «благодеяние». Лариса оказывается спасенной от превращения в вещь. Перед ней открывается возможность умереть человеком.
Этот исход Лариса, пусть и непреднамеренно, приближает тем именно, что все накопившееся в ней ожесточение и негодование против мира и против себя самой она с избытком изливает на Карандышева. Можно сказать, что Лариса как бы напрашивалась на выстрел, добивалась и добилась его.
С Карандышевым Лариса вела себя не просто неуступчиво, но агрессивно. Она словно брала реванш за поражение, которое потерпела от Паратова. И за слабость, проявленную ею у решетки, за то, что слова, сказанные ею матери при расставании, остались только словами. Однако реванш, который она берет, оказывается большим, чем она могла сознательно предполагать. На такой исход можно только неосознанно, в самых тайных тайниках души надеяться.
Выстрел Карандышева — действие, соотносящееся не только с тем обменом репликами, за которыми он непосредственно следует.
Диалог Островского иногда называют «прямолинейным», «одно- плановым», в отличие от «разнопланового», «многопланового» диалога у Чехова. У Островского каждая реплика прямо связана с предшествующей и все они в развернутой сцене выстраиваются в некий вполне законченный художественно-смысловой, интонационный ряд. имеющий начало, середину и финал.
Если чеховские герои позволяют себе к^с бы отклонения в сторону от главной темы диалога, то персонажи Островского избегают обходных путей и чаще всего считают для себя обязательным непосредственно реагировать на каждую чужую реплику. Если Лариса требует: «Уходите! Прошу вас, оставьте меня!», то Карандышев не скажет в этот момент что-либо нейтральное, он подхватывает ее слова, выражая прямое с ними несогласие: «Оставить вас? Как я вас оставлю? На кого оставлю?» Карандышев любит Ларису, она ему дорога, и он высказывает это с громким отчаянием.
Не будем, однако, рассматривать каждую из реплик Ларисы или Карандышева только в малом, ограниченном контексте, лишь в свете того, что им непосредственно предшествует и за ними непосредственно следует, только в их сюжетных связях. Тут опять же надо вспомнить о сверхсюжетных связях, объединяющих и разделяющих героев.
У Островского, как и у других подлинно великих драматургов, та или иная значительная реплика, то или иное решающее действие персонажа существуют не только в непосредственном, «малом», но и в «большом» контексте всей пьесы. Подлинный смысл и все значение карандышевского выстрела, последовавшего после коротких реплик: «Не моей?», «Никогда!», «Так не доставайся ж ты никому!» — не раскроется нам только в свете этих реплик. Нет, поступок Карандышева связан и с тем, что мы назвали исповедью-обличением Ларисы. Связан он и со сделанным Ларисой признанием о своем превращении в вещь.
Выстрел Карандышева связан и с тем даже, что происходило у решетки. Казалось бы, Карандышев об этом и понятия не имеет, и уж это на него повлиять никак не могло. Но ведь то, что было у решетки, «вошло» в Ларису, сказалось в ее поведении, прорвалось и выплеснулось в ее бессердечии и в ее отчаянии. Да и все, что произошло между Ларисой и Паратовым после поездки, и торг между Кнуровым и Вожеватовым, о котором она узнала со слов Карандышева, — все это тоже «вошло» в Ларису и тоже сказалось в ее поведении.
Поэтому выстрел Карандышева является действием сложным по своим мотивам и по своим результатам. Можно тут усмотреть всего лишь преступную акцию собственника и эгоиста, одержимого одной мыслью: не мне, так никому. Но можно видеть в выстреле и ответ на тайные мысли Ларисы — сложным путем они проникают в сознание Карандышева, единственного из четырех мужчин, не желавшего передавать ее в чьи-либо руки.
И тогда окажется, что безумный выстрел Карандышева — подлинно человеческий «жест» на фоне благоразумной осмотрительности и холодного, цинического расчета, проявленных по отношению к Ларисе другими.
Вместе с тем и реакцию Ларисы на выстрел, ее слова о «благодеянии», сделанном для нее Карандышевым, как и слова «я сама» и «никто не виноват», надобно понять в их сложной взаимосвязи, в их соотнесенности с тем, как поступали по отношению к ней другие люди и как она вела себя по отношению к ним.
Анализируя образ Катерины из «Грозы», Добролюбов отметил одну важную особенность ее поведения перед смертью: «Ни на кого она не жалуется, никого не винит, и даже на мысль ей не приходит ничего подобного; напротив, она перед всеми виновата, даже Бориса она спрашивает, не сердится ли он на нее, не проклинает ли… Нет в ней ни злобы, ни презрения, ничего, чем так красуются обыкновенно разочарованные герои, самовольно покидающие свет».
По-другому, совсем по-другому ведет себя Лариса перед тем, как не «самовольно», но все же и не против воли своей покидает свет. Она и жалуется, и всех винит, а к Юлию Капитонычу выказывает презрение и злобу. Часто критики любили говорить, будто Островский в своих новых пьесах повторяет себя — обращается к уже ранее найденным ситуациям и характерам. Да, в ситуации Ларисы можно увидеть нечто сходное с ситуацией Марьи Андреевны из «Бедной невесты». Что же касается трагической развязки, на которую оказывается обреченной поэтически возвышенная женская любовь, то здесь, разумеется, много сходного в судьбах Катерины и Ларисы.
Но важнее вот что: воплощая в своих пьесах конфликты времени, Островский не повторяет себя. Через женский характер и любовную коллизию передает он своеобразие общественных противоречий, своеобразие атмосферы, в которой протекает конфликт.
То, что Лариса жалуется, винит, испытывает презрение и злобу, нисколько не принижает ее образ. Если казнящая только себя одну Катерина напоминает в этом отношении некоторых героинь и героев романов Тургенева конца 1850-х— начала 60-х годов, то Лариса своим характером и поведением вызывает у нас иные ассоциации, иные аналогии — с героинями и героями русской литературы конца 60-х — 70-х годов.
Рядом с образом Ларисы возникает в нашем сознании образ Настасьи Филипповны из романа Достоевского «Идиот», уже успевшей с молодых лет испытать участь, которую готовил Ларисе Кнуров. Возникает тут и ассоциация с образом толстовской Анны Карениной. Отличаясь одна от другой и характерами, и положениями, в которые они поставлены жизнью, героини эти близки друг другу тем, что остро сознают свои права на жизнь и любовь. «Я не виновата в том, что бог сделал меня такою, что мне нужно любить и жить» — эти слова Анны Карениной в своей интерпретации ведь произносит и Лариса, обращаясь к Карандышеву и ко всему миру с исповедью-обличением. Героинь Достоевского, Толстого и Островского сближают совершаемые ими неожиданные, нелогичные, опрометчивые поступки, диктуемые эмоциями: любовью, ненавистью, презрением, раскаянием.
Способная презирать и даже ненавидеть, Лариса этим резко отличается от героинь дореформенных пьес Островского, даже от Катерины. Лариса уже не останавливается перед тем, чтобы обрушить свой гнев и свое презрение на обстоятельства и на людей, виновных в ее драме. Этим она сближается с героинями великого русского романа 70-х годов.
Но не менее важно и другое. В конце концов в Ларисе пробуждается и ощущение собственной вины в том, что случилось. Такова сложная диалектика этого образа.
Противоречие между «арифметикой» и «душой», о котором говорит в первом действии Паратов, рассказывая про машиниста, проходит через всю пьесу и через души всех персонажей. Но драматург свою пьесу построил не так, чтобы «душа» и «арифметика» воплощались все время в разных персонажах, противопоставленных друг другу. Даже в Паратове есть «душа». Вернее — ее остатки. На наших глазах их окончательно поглощает «арифметика». Вместе с тем мы видели, что овеществление, выступающее тут как синоним «арифметики», то есть утраты и души, и духовности, не только угрожало Ларисе, но уже начало оказывать на нее свое разрушительное влияние. Ведь нельзя же сказать, что через соблазны — паратовские и кнуровские — Лариса прошла, никак ими не затронутая.
Душевная сила Ларисы в том и сказывается, что, когда ее любовь растаптывают, когда это вызывает в ней гнев, подавленность, малодушие, ожесточение, злобу, она все же способна понять, на что ее обрекают. Она противостоит ситуации, не отдает себя в добычу соблазну. Спасительный выстрел Карандышева отвечает ее тайным ожиданиям в момент, когда она чуть было не дала захлестнуть себя бессердечию и мстительному озлоблению. Тут скрыт еще один важный мотив, связанный с этим выстрелом. Ведь Лариса — на пороге самоубийства. То, что она не решилась сделать сегодня, она может совершить завтра. Карандышев, таким образом, спасает ее от греха самоубийства. Великий грех он берет при этом на себя.
Очень много споров и даже недоумений вызывала и вызывает в критике последняя, финальная сцена пьесы — в особенности слова умирающей Ларисы: «Никто не виноват… Живите, живите все!.. Я ни на кого не жалуюсь, ни на кого не обижаюсь… вы все хорошие люди… я вас всех… всех люблю».
Как это так — прощать своих убийц? Да еще объявлять их «хорошими людьми»? Что это за всепрощение? В характере ли оно героини? Не возмущает ли оно нравственное чувство зрителя?
Что касается соответствия этого поступка характеру героини, то вспомним еще раз, что мысль «всем простить и умереть» появилась у Ларисы еще у решетки, над пропастью. Она, правда, забыла о желании всем простить, как только узре. л Карандышева. Но потом это желание вполне закономерно пробуждается в ней перед лицом неотвратимой смерти.
А теперь о нравственном чувстве зрителя. Он ни в прошлые времена не требовал, ни теперь не может требовать от Ларисы, чтобы она перед самой смертью обличала, проклинала и казнила. Это значило бы, что своей вины в происшедшем, и прежде всего перед Карандышевым, она так и не почувствовала.
Пусть умирающая Лариса, справедливо пишет Л. Лотман в книге, на которую мы уже ссылались, всех прощает, ее слова «лишь усиливают эмоции негодования и протеста» в зрителе, вызывая желание изменить общество, где люди, подобные Ларисе, обречены на гибель.
В. Лакшин пишет не о реакции зрителя, а о логике поведения героини «Бесприданницы»[477]. Критик считает, что от последних слов Ларисы веет могильным холодом равнодушия, полнейшего разочарования в жизни и добре. Апатия, переходящая в опустошенность, считает критик, началась у Ларисы после того, как было произнесено Карандышевым и ею подхвачено слово «вещь».
С этим согласиться невозможно.
Разве, признав себя вещью, Лариса впала в апатию? Мы видели, как узнавания и потрясения в сцене с Карандышевым вывели ее из состояния апатии, овладевшего ею у решетки. В сцене с Юлием Капитонычем она реагирует на все с обостренной чувствительностью и произносит исступленные, трогательные слова о том, как искала любви и тепла. В новом состоянии она осуждает жестокий мир и отрицает свою вину в том, что случилось. Внутренне глубоко обоснован ее переход к признанию своей вины. Такие переходы, столь резкие и категорические, не делаются в состоянии апатии и равнодушия. Они возможны только в моменты напряжения духовных сил, в минуты отчаянной решимости, в моменты постижения сути вещей.
«Трудно судить Ларису за эту опустошенность души», до которой ее довели, пишет Лакшин. Но тут не за «опустошенность» надо судить Ларису. Здесь, напротив, надо поражаться силе духа и способности к нравственному просветлению.
Заявляя «это я сама», «никто не виноват», Лариса прежде всего стремится снять вину за ее смерть с Карандышева. Это не просто красивые слова, сказанные из великодушия. Тут дело не исчерпывается и тем, что Лариса следует христианскому обычаю прощать своих врагов перед смертью. Нет, Лариса теперь в состоянии озарения. Успевая постичь выстрел Карандышева в цепи всех событий, она признает и свою вину в трагическом исходе коллизии. Нам было бы грешно не последовать тут за Ларисой, упрощая ситуацию, сложность которой она постигла.
Слова «это я сама» можно продолжить по-разному: «это я сама выстрелила», «это я сама виновата». Произнося их, Лариса проявляет способность отвечать за свои поступки, которую она вот-вот могла бы и вовсе утратить, обрушивая свое негодование на одного Карандышева, в сердцах делая его одного виноватым и за Паратова, и за Кнурова, за Вожеватова, за свое начавшееся падение. Снимая вину с Карандышева, Лариса тем самым признает, что, при всех непростительных поступках, он тоже жертва: жертва ее вновь вспыхнувшей любви к Паратову, паратовского изощренного измывательства, обдуманной кнуровской хищнической хватки…
Испытав презрение и ненависть к своим мучителям, испытав ужас перед грозившими ей соблазнами и своей готовностью пойти им навстречу, Лариса — разумеется, подсознательно — побуждает Карандышева к выстрелу и тем самым торопит единственно возможную развязку, которая становится для нее одновременно и смертью и очищением.
Подлинные виновники страданий и гибели Ларисы — паратовы и кнуровы — вины своей не только никогда не признают, но даже и не почувствуют. Лариса же, ощутив, насколько и она виновна в происшедшем, и приняв смерть как благодеяние, тем самым вырывается из пут мира паратовых и кнуровых, нравственно над ним возвышается, резко и навсегда отделяет себя от этого мира.
Краткий список литературы
Оснос Ю. В мире драмы. М., 1971.
Ревякин А. И. Искусство драматургии Островского. Изд. 2-е. М., 1974.
Холодов Е. Мастерство Островского. М., 1967.
Холодов Е. Драматург на все времена. М., 1975.
Штейн Л. Мастер русской драмы. М., 1973.
Приложение
Б. О. Костелянец Запись в дневнике от 26 октября 1935 г.
24/Х был на докл[аде] Мейерхольда: Пушкин и драматургия[478]. В этом же зале лектория я в прошлом году присутствовал на его докладе «О театре». В прошлом году он передвигался по пустой сцене, свободными руками рисовал перед зрителем пластические характеристики тех лиц и событий, о которых шла речь. На этот раз он вышел с большим портфелем в руках, весь доклад простоял у кафедры, обильно цитировал Пушкина и других. Произнося фразу, он вначале несколько откидывается назад, как бы приседая, чтобы другую ее часть выбросить в зал резким выпрямлением всей фигуры. Неожиданно для меня он вынимает очки, надевает их и сразу, в одно мгновенье, заметно стареет. До конца он так и остался в очках.
Основной мотив его доклада: Пушкин — настоящий знаток театра, сторонник настоящей театральности, условности. Пушкин поставил такие вопросы, которые актуальны для наших дней, для наших дней гораздо больше, чем для прошлого.
Пушкин был не только драматургом, он был настоящим организатором спектакля, режиссером, в нашем понимании. Когда он читал свои драматические] произвел[ения], он в своем чтении давал исчерпывающую характеристику образу, вполне достаточную для сценической интерпретации.
Оглядывая свой творческий путь, свои работы примерно с 1910 г. (в связи с анкетой «Литературного] современника]» о Пушкине), он, Мейерхольд, приходит к выводу, что его работа — осуществление пушкинских требований, старательная учеба у П[ушкина].
Он зачитывает письмо П[ушкина] о Чацком и комментирует его следующим] образом. Должно быть, Грибоедов не сумел в своем чтении подчеркнуть то, чем должен руководствоваться организатор спектакля, приступая к сценической интерпретации его образов и всей комедии. Пушкин в этом письме настоящий организатор спектакля, и он, М[ейерхольд], руководствовался П[ушкиным] при постановке этой пьесы.
П[ушкин], указывая на «три струны», которыми пользуется драматургия, принижая роль смеха, требовал высокую комедию, и он, М[ейерхольд], в прошлом году в этом зале говорил об опасности того смеха, который овладел нашей сценой, вызывая в зрителе одно лишь зубоскальство.
П[ушкин] в своей драматургии намного опередил современную театральную технику. Он, как другие великие драматурги, ставил театру задачи, двигал его вперед. — Об этом М[ейерхольд] говорил в продолжении всего доклада. Потому никому не удавалось справиться с постановкой его драм. Не удовлетворяет та постановка, которую мы видим на сцене театра драмы[479]. Театр добивался спектакля этакого монументального, герои там все этакие сочные, тяжеловесные. Монументальность там понята, как великость, как что-то большое. «Недавно я читал одну статью в какой-то газете и из контекста понял, что автор понимает монументальное как большое… длинное» — последнее слово он произносит, растягивая его и повышая голос таким тоном, что весь зал начинает смеяться. Он вынимает из портфеля разброшюрованный текст «Бориса Годунова», выбирает один листик. Вот на этих трех страничках поместилась целая сцена. Мы читаем: Девичье поле, Новодевичий монастырь, Народ. — Он показывает эти странички, затем зачитывает весь текст сцены, пропуская имена действующих [лиц]. Читает все подряд в одной тональности, создавая какое-то музыкальное однообразие. — Алекс[андринский] театр дает в этой сцене 50 человек, но если даже дать в ней 100 человек, 150 человек, все равно это будет не Пушкин. Совершенно непонятно, как в этой сцене, где участвует 7–9 человек, дать Девичье поле и народ. У Пушкина сказано лаконично, но ясно: Девичье поле, народ. — Как же должна звучать эта сцена, от чего исходил П[ушкин], создавая ее? — Пришлось обратиться к Карамзину, к тому отрывку, который как-то соответствует этой сцене. Оказывается, народу было несметное количество и издавал он «неслыханные вопли». Вывод: такого народа, который издает неслыханные вопли, который «падает за рядом ряд», на сцене дать нельзя. Невозможно дать среди такой толпы тех действующих] лиц, которых выделил П[ушкин] так, чтобы они отвечали п[ушкинскому] замыслу. Зритель должен видеть мимическую игру того актера, который силится заплакать и не может, который ищет луку, чтобы потереть глаза. Этих лиц надо дать, как говорят в кино, крупным планом, они должны быть одни на сцене. Нужно изобрести какой-то музыкальный] инструмент], который давал бы этот гул толпы, ее движения, чувство того, что она падает за рядом ряд.
Когда М[ейерхольд] делал это блестящее построение, я обернулся назад и увидел, как в центральной ложе выдвинулся сильно вперед, весь поглощенный им, профессор] Гвоздев[480].
Потом М[ейерхольд] долго доказывал, что п[ушкинский] текст надо читать как стихи, не выискивая логического смысла фразы, чтобы делать логические ударения. — Этот проклятый учебник декламации Коровякова[481], не один актер следует ему. Текст Щушкина], пятистопный ямб, требует обязательной паузы после второй строфы и люфт-паузы в конце строчки. Нечего бояться, что смысл не дойдет. У Щушкина] все так расставлено, что только при таком чтении можно передать этот смысл.
Время, положенное на доклад, было на исходе, поэтому он далеко не исчерпал всего того, что можно было сказать. Он остановился еще на одной п[ушкинской] мысли. Это мысль, высказанная им о поэте народном и придворном французском поэте. Настало время, когда зрительный зал един, когда поэт может смело говорить о герое.
В архиве Б. О. Костелянца эта дневниковая запись существует в виде двух вырванных из тетради листочков — остальная часть дневника давно уничтожена автором. Выступление В. Э. Мейерхольда (как и виденные им мейерхольдовские спектакли) произвело на двадцатитрехлетнего Бориса Осиповича глубокое впечатление. О многом свидетельствует сам факт, что Борис Осипович сохранил этот текст и после того, как Мейерхольд был репрессирован. Сохранил его и в 40-е годы, когда после Постановления о журналах «Звезда» и «Ленинград» сам Борис Осипович был зачислен в «космополиты» и в любой момент мог подвергнуться обыску и аресту. По воспоминаниям его сестры Елизаветы Оскаровны Костелянец, Борис Осипович это сознавал и говорил ей об этом (личная беседа автора комментариев с Е. О. Костелянец от 19 ноября 2005 г.).
Публикация и комментарии А. П. Варламовой, научного сотрудника сектора театра Российского института истории искусств.
Краткая библиография трудов Б. О. Костелянца
(Составлена А.П.Варламовой)
Монографии
А. С. Макаренко: Критико-биографический очерк. М., 1954. 235 с.
Рец.: Добин Е. Новая книга об А. С. Макаренко // Звезда. 1955. № 4. Морозова Н. Монография о творчестве А. С. Макаренко // Вести ЛГУ. 1956. № 20.
Творческая индивидуальность писателя: Критические очерки и статьи. Л., 1960. 548 с.
Рец.: Горелов Л. О книге и по поводу// Сибирские огни. 1961. № 6. Тамарченко А. Индивидуальность критика // Вопросы литературы. 1961. № 8.
«Педагогическая поэма» А. Макаренко. М.; Л., 1963. 136 с.
«Бесприданница» А. Н. Островского. Л., 1973. 94 с.
Рец.: Соловьев Вл. Не результат, а процесс! // Театр. 1974. № 9.
«Педагогическая поэма» А. С. Макаренко. 2-е изд., доп. Л., 1977. 109 с.
«Бесприданница» А. Н. Островского. 2-е изд., доп. Л., 1982. 192 с.
Мир поэзии драматической… Л., 1992. 488 с.
Свобода и зло: самоочищение и пресечение зла силой. Опыт прочтения величайшей трагедии Шекспира. СПб., 1999. 192 с.
Рец.: Скорочкина О. Книга жизни // Петербургский театральный журнал. 1999. № 9.
Kosteljanez В. Die Freiheit und das Bose: Selbstreinigung und Uberwindung des Bosen durch Kraft — «Konig Lear» von Shakespeare. Tirschenreutn, 2002. 88 S.
Между Призраком, Клавдием и Гертрудой. СПб.: СПГАТИ, 2003. 68 с.
Рождение трагедии: Суверенный человек и мировой порядок. СПб.: СПГАТИ, 2003. 67 с.
Научно-методические издания
Драма и действие. Лекции по теории драмы. Л., 1976. 159 с.
Теория драмы: Программа для театроведческого факультета. Л., 1979. 26 с.
Теория драмы: Программа для театральных институтов по специальностям «Режиссура драмы», «Театроведение». М., 1984. 30 с.
Драма и действие. Лекции по теории драмы. Вып. 2. СПб., 1994. 112 с.
Статьи в сборниках и книгах
Kostelianez В. Menschen aus Krushilicha // Wera Panova. Men- schen aus Krushilicha. Berlin, 1949.
Горький и проблема творческой индивидуальности писателя // Горький и вопросы советской литературы. Л., 1956. С. 3—54.
Русский очерк // Русские очерки: В 3 т. Т. 1. М., 1956. С. 5—80.
Составление и подготовка текста // Русские очерки: В 3 т. М., 1956. (Совместно с П. А. Сидоровым).
Подготовка текста и примечания // Тынянов Ю. Избранные произведения. М., 1956. С. 771–806.
Традиции боевого жанра: Об одном противопоставлении // Пути советского очерка: Сб. Л., 1958. С. 3—98.
Проза Тынянова: Вступительная статья // Тынянов Ю. Соч.: В 3 т. Т. 1. М.; Л., 1959. С. V–LX. То же. М., 1994.
Примечания // Тынянов Ю. Соч.: В 3 т. М.; Л., 1959. Т. 1. С. 521–553. Т. 2. С. 527–543. Т. 3. С. 557–589. Тоже. М., 1994.
Подготовка текстов и примечания. // Григорьев Ап. Избранные произведения. Л., 1959. С. 519–588. (Библиотека поэта. Большая серия).
Иван Бунин — поэт // Бунин И. Стихотворения. Л., 1961. С. 5—82. (Библиотека поэта. Малая серия).
Подготовка текста и примечания // Бунин И. Стихотворения, Л., 1961. С. 477-^98. (Библиотека поэта. Малая серия).
Поэзия Аполлона Григорьева // Григорьев Ап. Стихотворения и поэмы. М.; Л., 1966. С. 5—86. (Библиотека поэта. Малая серия).
Подготовка текста и примечания // Григорьев Ап. Стихотворения и поэмы. М.; Л., 1966. С. 377–401. (Библиотека поэта. Малая серия).
Описательный жанр?.. Нет! // Пути к художественной правде: Статьи о современной советской прозе. Л., 1968. С. 296–339.
Ход истории и путь героя // Тынянов Ю. Кюхля. Смерть Ва- зир-Мухтара. Л., 1971. С. 744–762.
Примечания // Тынянов Ю. Кюхля. Смерть Вазир-Мухтара. Л., 1971. С. 763–782.
История и мир художника // Тынянов Ю. Кюхля. Рассказы. Л., 1973. С. 3–22.
Примечания // Тынянов Ю. Кюхля. Рассказы. Л., 1973. С. 515–556.
Примечания // Тынянов Ю. Пушкин. Л., 1974. С. 473^99.
[Послесловие] // Тынянов Ю. Пушкин. Л.: Художественная литература, 1974. С. 551–555.
Примечания // Тынянов Ю. Пушкин. Л.: Художественная литература, 1974. С. 556–580.
Послесловие // Тынянов Ю. Смерть Вазир-Мухтара. Л., 1975. С. 445–457.
Примечания // Тынянов Ю. Смерть Вазир-Мухтара. Л., 1975. С. 461–477.
[Послесловие] // Тынянов Ю. Пушкин. Л., 1976. С. 473^477.
Примечания // Тынянов Ю. Пушкин. Л., 1976. С. 478^99.
Драма истории и ее герои: Вступ. статья // Тынянов Ю. Избранное. Кишинев, 1977. С. 3—20.
Примечания // Тынянов Ю. Пушкин. М., 1981. С. 588–607.
Примечания // Тынянов Ю. Кюхля. Рассказы. М., 1981. С. 529–557.
Драма истории. Судьбы героев // Тынянов Ю. Кюхля. Смерть Вазир-Мухтара. М., 1981. С. 3–14.
Примечания // Тынянов Ю. Кюхля. Смерть Вазир-Мухтара. М., 1981. С. 441–485.
Послесловие // Тынянов Ю. Смерть Вазир-Мухтара. Сюжет «Горя от ума». М., 1981. С. 576–587.
Примечания // Тынянов Ю. Смерть Вазир-Мухтара. Сюжет «Горя от ума». М., 1981. С. 589–607.
Примечания // Тынянов Ю. Смерть Вазир-Мухтара. М., 1983. С. 480–495.
Примечания // Тынянов Ю. Пушкин: В 2 т. М., 1983. Т. 1. С. 225–240. Т. 2. С. 201–208.
Драма «На дне»: ее сюжеты, мотивы и темы // Русский театр и драматургия начала XX века. Л., 1984. С. 3—24.
Послесловие // Тынянов Ю. Смерть Вазир-Мухтара. Краснодар, 1984. С. 429–438.
Примечания // Тынянов Ю. Смерть Вазир-Мухтара. Краснодар, 1984. С. 439–447.
Примечания // Тынянов Ю. Пушкин. М., 1984. С. 414–426.
Чеховские катастрофы // Чехов и театральное искусство JI., 1985. С. 65–96.
Драма истории, ее жертвы и герои // Тынянов Ю. Соч.: В 2 т. Т. 1.Л., 1985. С. 5–30.
Примечания // Тынянов Ю. Соч.: В 2 т. Л., 1985. Т. 1. С. 506540. Т. 2. С. 418–435.
Послесловие // Тынянов Ю. Пушкин. М., 1987. С. 540–543. То же. М., 1988. М., 1990.
Примечания // Тынянов Ю. Пушкин. М.: Московский рабочий, 1988. С. 550–573.
Проблема действия в теории драмы Г. Э. Лессинга // Лидия Аркадьевна Левбарг. Из научного наследия. Статьи учеников и коллег. Воспоминания о ней. СПб., 1997. С. 183–201.
Примечания // Тынянов Ю. Восковая персона. Избранное. СПб., 2001. С. 535–572.
Журнальные статьи
На открытых дорогах: «Кружилиха» В. Пановой // Знамя. 1948. № 7. С. 162–172.
Спор о человеке [пьеса М. Горького «На дне» во МХАТе. 1902 г.] // Нева. 1968. № 3. С. 165–177.
Плодотворный конфликт // Нева. 1969. № 3. С. 161–171.
Драматургия «Горя от ума» // Нева. 1970. № 1. С. 184–191.
Рывком и по-своему// Нева. 1970. № 12. С. 172–182.
Разгадывая «Бесприданницу» // Нева. 1973. № 4. С. 185–197.
Еще раз о «Ревизоре» // Вопросы литературы. 1973. № 1. С. 195–224.
Драматическая активность // Театр. 1979. № 5. С. 59–64.
Перечитывая чеховские пьесы // Звезда. 1985. № 1. С. 150–162.
«Король Лир» — свобода и зло: самоочищение и пресечение зла силой // Вопросы литературы. 1999. Март — апрель. С. 187–223.
От редакции
Настоящий сборник трудов Б. О. Костелянца включает его основные работы по теории драмы.
Прежде всего это два выпуска лекций по теории драмы «Драма и действие» вышедшие в 1976 (Л.: ЛГИТМиК) и 1994 (СПб.: СПБГАТИ) годах.
Первая часть очень скоро стала библиографической редкостью. Автор внес в нее значительные исправления, однако новое издание так и не было осуществлено при его жизни. Переработанный вариант впервые публикуется в настоящем издании. Отдельные главы первой части переработаны автором в разной степени. Так, изменения не коснулись Введения, хотя оно, очевидно, нуждалось в кардинальной переработке, отложенной, по-видимому, на конец работы. Редакция сочла невозможным вносить в авторское Введение какие-либо сокращения, несмотря на то, что некоторые его положения идеологически устарели. Полностью была переписана седьмая глава. Рукопись ее обнаружена в архиве Костелянца, находящемся в настоящее время в Санкт-Петербурге в Институте истории искусств. Архив представляет собой несколько десятков объемных папок, содержащих в основном материалы для докторской диссертации, так и не завершеной. Однако нет уверенности, что переработка и сокращения седьмой главы предназначались именно для переиздания лекций по теории драмы. Исправления и сокращения остальных глав сделаны автором в экземпляре издания 1976 г. Этот экземпляр был предоставлен редакции вдовой Б. О. Костелянца Ниной Павловной Снетковой. Работа по исправлению первой части очевидно не была завершена автором. В некоторых случаях сделаны пометы заменить фразы или абзацы. Эти фрагменты в настоящем издании выделены курсивом. Редакция сочла возможным дать названия главам первой части, обозначенным автором только номерами — по аналогии со второй частью.
Во вторую часть внесены незначительные авторские исправления по экземпляру, также предоставленному Н. П. Снетковой. В основном они касаются опечаток.
Основные идеи, изложенные в «Драме и действии», развиваются в статьях «Рождение трагедии: Суверенный человек и мировой порядок» и «Проблема действия в теории драмы Г. Э. Лессинга».
В первой статье дается подробный разбор софокловского «Царя Эдипа», сжато обозначенный в первой главе «Драмы и действия». Она впервые опубликована в книге Б. О. Костелянца «Мир поэзии драматической…» (СПб.: Советский писатель. Ленинградское отделение, 1992).
Вторая статья написана для книги «Лидия Аркадьевна Левбарг: Из научного наследия. Статьи учеников и коллег. Воспоминания о ней» (СПБГАТИ. СПб.: СПБГУЭФ, 1997).
В настоящее издание включена также книга Б. О. Костелянца ««Бесприданница» А. Н. Островского», имевшая два многотиражных издания (1973, 1982) и являющаяся практическим и адаптированным для широкого круга читателей воплощением принципов теории драмы, разработанной Костелянцем. Книга воспроизводится по второму изданию.
В Приложении приводится дневниковая запись о лекции Мейерхольда о Пушкине, сделанная Костелянцем в 1935 г. и подготовленная к публикации сотрудником Института истории искусств А. П. Варламовой, работавшей в течение ряда лет секретарем Б. О. Костелянца.
Кроме того в Приложении дается краткая библиография трудов Б. О. Костелянца, подготовленная ею же для его книги «Рождение трагедии: Суверенный человек и мировой порядок» (СПб., 2003).
В настоящем издании были согласованы написания иностранных имен и использование прописных букв, отличающиеся по разным книгам и статьям Б. О. Костелянца. Были идентифицированы источники некоторых цитат и библиографические ссылки приведены в соответствие с современными правилами. Необходимые вставки и слова, восстанавливаемые по контексту, даются в квадратных скобках.
Примечания
1
Аникст А. Теория драмы от Аристотеля до Лессинга. М.: Наука, 1967. С. 350.
(обратно)2
Лидия Аркадьевна Левбарг. Из научного наследия. Статьи учеников и коллег. Воспоминания о ней. СПб., 1997. С. 183–201 (стр. 368–385 наст. изд.).
(обратно)3
Фридлендер Г. Лессинг. М., 1957.
(обратно)4
Катышева Д. Н. Вопросы теории драмы: действие, композиция, жанр. СПб., 2001. С. 17.
(обратно)5
Катышева Д. Н. Вопросы теории драмы. С. 16.
(обратно)6
Там же. С. 18.
(обратно)7
Аверинцев С. С. К истолкованию символики мифа о Эдипе // Античность и современность. М.: Наука, 1972.
(обратно)8
Там же. С. 102.
(обратно)9
Ярхо В. Н. Драматургия Эсхила и некоторые проблемы древнегреческой трагедии. М.: Наука, 1978.
(обратно)10
Аристотель. Поэтика // Соч.: В 4 т. Т. 4. М.: Мысль, 1983. С. 658–659.
(обратно)11
Там же. С. 676–677.
(обратно)12
Пропп В. Я. Фольклор — действительность. М., 1976.
(обратно)13
Костелянец Б. О. Драма «На дне»: ее сюжеты, мотивы и темы // Костелянец Б. О. Мир поэзии драматической… Л.: Советский писатель, 1992. С. 244.
(обратно)14
Там же. С. 251.
(обратно)15
Там же. С. 261.
(обратно)16
Там же. С. 245.
(обратно)17
Костелянец Б. О. Свобода и зло: самоочищение и пресечение зла силою. СПб.: Гиперион, 1999. С. 12.
(обратно)18
Аристотель. Поэтика. С. 652.
(обратно)19
Костелянец Б. Свобода и зло… С. 8.
(обратно)20
Там же. С. 23.
(обратно)21
Там же. С. 29.
(обратно)22
Костелянец Б. Свобода и зло… С. 43.
(обратно)23
Там же. С. 44.
(обратно)24
Там же. С. 47.
(обратно)25
Текст впервые опубликован во втором выпуске «Лекций по теории драмы» (1994). — Примеч. ред.
(обратно)26
Аникст А. Теория драмы от Аристотеля до Лессинга. М., 1967; Он же. Теория драмы в России от Пушкина до Чехова. М., 1972; Он же. Теория драмы на западе в первой половине XIX века. М., 1980; Он же. Теория драмы от Гегеля до Маркса. М., 1983; Он же. Теория драмы на Западе во второй половине XIX века. М., 1988.
(обратно)27
Ортега-и-Гассет X. Дегуманизация искусства. М., 1991. С. 9, 21. (Автор явно недооценивает Ф. Ницше, чье воздействие на общественную мысль и искусство сказалось именно во второй половине XIX века, не ослабевая и в начале нового столетия.)
(обратно)28
Имеется в виду второй выпуск «Лекций по теории драмы». — Прим. ред.
(обратно)29
Белинский В. Г. Полн. собр. соч. Т. 5. М., 1954. С. 62.
(обратно)30
Маркс К., Энгельс Ф. Сочинения. Т. 3. М., 1955. С. 72.
(обратно)31
Фейербах Л. Избр. философские произведения: В 2 т. Т. 1. М., 1955. С. 203.
(обратно)32
Маркс К., Энгельс Ф. Сочинения. Т. 4. С. 138.
(обратно)33
Маркс К., Энгельс Ф. Сочинения. Т. 3. С. 35.
(обратно)34
Там же. С. 36.
(обратно)35
Там же. С. 40.
(обратно)36
Szondi P. Die Theorie des modemen Dramas. Frankfurt a. M., 1956. — Примеч. ред.
(обратно)37
Freytag G. Die Technik des Dramas. Leipzig, 1870. — Примеч. ред.
(обратно)38
См.: Натев, Лтанас. Драматично и драматургично. София, 1967. С. 78–79 и др.
(обратно)39
См.: Горбунова Е. Н. Вопросы теории реалистической драмы. М., 1963; Кургинян М. С. Драма // Теория литературы. Основные проблемы в историческом освещении. М., 1964; Гачев Г. Д. Содержательность художественных форм. Эпос. Лирика. Театр. М., 1968; Сахновский-Панкеев В. А. Драма. Конфликт. Композиция. Сценическая жизнь. Л., 1969; Карягин А. А. Драма как эстетическая проблема. М., 1971; Владимиров С. В. Действие в драме. Л., 1972.
(обратно)40
Bentley Е. R. The life of the drama. New York, 1964. (Рус. пер.: Бентли Э. Жизнь драмы. М., 1978. С. 17. — Примеч. ред.) ф
(обратно)41
Аристотель. Об искусстве поэзии. М., 1957. Гл. 3. В дальнейшем, цитируя это издание, мы в тексте указываем номер главы.
(обратно)42
Античная литература: Учебник для студентов пединститутов. М., 1973. С. 191.
(обратно)43
См.: Лоусон Дж. Г. Теория и практика создания пьесы и киносценария. М., 1960. С. 337 и др.
(обратно)44
См.: Давыдов Ю. «Царь Эдип», Платон и Аристотель // Вопросы литературы. 1964. № 1; Он же. Искусство как социологический феномен. М., 1968.
(обратно)45
Давыдов Ю. Искусство как социологический феномен. С. 224.
(обратно)46
Там же. С. 225.
(обратно)47
Политика Аристотеля. М., 1911. С. 8.
(обратно)48
Этика Аристотеля. СПб., 1908. С. 41.
(обратно)49
Этика Аристотеля. СПб., 1908. С. 110.
(обратно)50
Этика Аристотеля. С. 49–50.
(обратно)51
Давыдов Ю. «Царь Эдип», Платон и Аристотель // Вопросы литературы. 1964. № 1.С. 168.
(обратно)52
Бородай Ю. М. Воображение и теория познания. М., 1966. С. 132–133.
(обратно)53
См.: Там же. С. 134–141.
(обратно)54
Фраза, выделенная курсивом, вычеркнута автором в правленом экземпляре книги. На полях помета: «Заменить!» — Примеч. ред.
(обратно)55
Фразы, выделенные курсивом, отмечены автором в правленом экземпляре книги. На полях помета: «Развить!» — Примеч. ред.
(обратно)56
Подробный анализ «Царя Эдипа» см. в статье «Рождение трагедии: суверенный человек и мировой порядок» в настоящем издании. — Примеч. ред.
(обратно)57
Фразы отмечены автором. Помета: «Развить!» — Примеч. ред.
(обратно)58
Лосев А. Ф. Эсхил. Греческая трагедия: Учебное пособие для пединститутов. М., 1958. С. 96.
(обратно)59
Там же. С. 99.
(обратно)60
Там же. С. 96.
(обратно)61
Лосев А. Ф. Катарсис. Историко-семасиологический этюд // Проблемы общего и русского языкознания. М., 1972. С. 10.
(обратно)62
Лессинг Г. Э. Гамбургская драматургия. М.; Л.; 1936, С. 258.
(обратно)63
Лессинг Г. Э. Гамбургская драматургия. С. 131.
(обратно)64
Там же. С. 56.
(обратно)65
Лессинг Г. Э. Лаокоон, или О границах живописи и поэзии. М., 1957. С.110.
(обратно)66
Лессинг Г. Э. Лаокоон. С. 78.
(обратно)67
Лессинг Г. Э. Гамбургская драматургия. С. 137. Критику взглядов Лессинга на соотношение басни и драмы см.: Выготский Л. С. Психология искусства. М., 1968. С. 135–186, где басня рассматривается как «маленькая драма».
(обратно)68
Лессинг Г. Э. Гамбургская драматургия. С. 38.
(обратно)69
Там же. С. 133.
(обратно)70
Там же.
(обратно)71
Лессинг Г. Э. Гамбургская драматургия. С. 60.
(обратно)72
См.: Лессинг Г. Э. Лаокоон. С. 113.
(обратно)73
Там же. С. 147–148.
(обратно)74
Там же. С. 149–150.
(обратно)75
Лессинг Г. Э. Гамбургская драматургия. С.10.
(обратно)76
Там же. С. 275–276.
(обратно)77
Там же. С. 303.
(обратно)78
Лессинг Г. Э. Гамбургская драматургия. С. 305.
(обратно)79
Лессинг Г. Э. Гамбургская драматургия. С. 131.
(обратно)80
Там же. С. 132–133.
(обратно)81
Либинзон 3. Е. Литературно-эстетические взгляды писателей периода «Бури и натиска» // Ученые записки Горьковского государственного пединститута. Т. 23. Серия филологическая. Горький, 1958. С. 283.
(обратно)82
Лессинг Г. Э. Лаокоон. С. 111.
(обратно)83
Там же. С. 263–264.
(обратно)84
Лессинг Г. Э. Гамбургская драматургия. С. 291–292.
(обратно)85
Там же. С. 292.
(обратно)86
Там же.
(обратно)87
Лессинг Г. Э. Лаокоон. С. 218. С этими идеями Лессинга вступил в полемику Г. Гердер. См.: Гердер Г. Избр. соч. М., 1959; см. также: Дмитриева Н. А. Изображение и слово. М., 1962.
(обратно)88
Лессинг Г. Э. Лаокоон. С. 97.
(обратно)89
Психология / Под ред. А. Г. Ковалева и др. М., 1966. С. 426.
(обратно)90
Захава Б. Е. Сценическое действие // Театр. 1951. № 9. С. 82.
(обратно)91
Захава Б. Е. Мастерство актера и режиссера. М., 1964. С. 43–48.
(обратно)92
Лессинг Г. Э. Лаокоон. С. 422.
(обратно)93
Лессинг Г. Э. Лаокоон. С. 422.
(обратно)94
См.: Гегель Г. В. Ф. Сочинения. Т. 5. М.; Л., 1937. С. 6–7.
(обратно)95
См.: Гегель Г. В. Ф. Сочинения. Т. 8. М.; Л., 1935. С. 20.
(обратно)96
Там же.
(обратно)97
Выделено Б. О. Костелянцем. — Примеч. ред.
(обратно)98
Гегель Г. В. Ф. Сочинения. Т. 8. С. 25.
(обратно)99
Там же. С. 19.
(обратно)100
Гегель Г. В. Ф. Эстетика. Т. 1. М., 1968. С. 270.
(обратно)101
См.: Фридлендер Г. К. Маркс и Ф. Энгельс и вопросы литературы. М., 1962. С. 144–165.
(обратно)102
См.: Асмус В. Ф. Диалектика свободы и необходимости в философии Гегеля // Философские науки. 1970. № 5. С. 93–94.
(обратно)103
См.: Гегель Г. В. Ф. Эстетика. Т. 3. М., 1971. С. 540.
(обратно)104
См.: Гегель Г. В. Ф. Сочинения. Т. 8. С. 37.
(обратно)105
Маркс К., Энгельс Ф. Сочинения. Т. 3. М., 1955. С. 19.
(обратно)106
Гайденко П. П. Буржуазная философия в поисках реального содержания исторического процесса // Вопросы истории. 1956. № 1. С. 92–98.
(обратно)107
Фразы, выделенные курсивом, в правленом экземпляре сопровождены пометой на полях: «французы». — Примеч. ред.
(обратно)108
Бородай Ю. Л/., Гайденко П. П. С. Кьеркегор и критика Гегеля с позиций экзистенциализма // Вестник МГУ. 1961. № 2. С. 47.
(обратно)109
Речь идет о третьей антиномии чистого разума. Тезис: «Причинность по законам природы есть не единственнная причинность, по которой можно вывести все явления в мире. Для объяснения явлений необходимо еще допустить свободную причинность». Антитезис: «Нет никакой свободы, все совершается в мире только по законам природы». (Кант И. Критика чистого разума. М., 1994. С. 278–279). — Примеч. ред.
(обратно)110
Кант И. Критика способности рассуждения // Сочинения. Т. 5. М., 1966. С. 318.
(обратно)111
Кант И. Критика способности рассуждения. С. 318.
(обратно)112
Асмус В. Ф. Иммануил Кант. М., 1973. С. 495. Содержательный критический анализ этической концепции Канта см. в кн.: Наследие Канта и современность. М., 1974 (особенно в главах 4 и 6, написанных О. Г. Дробицким, Э. Ю. Соловьевым).
(обратно)113
Кант И. Сочинения. Т. 4. Ч. 1. М., 1965. С. 405–406.
(обратно)114
Кант И. Сочинения. Т. 4. Ч. 1. С. 229.
(обратно)115
Гегель Г В. Ф. Сочинения. Т. 11. М.; Л., 1935. С. 445.
(обратно)116
Гегель Г В. Ф. Эстетика. Т. 3. М., 1971. С. 607–608.
(обратно)117
См.: Шиллер Ф. Собр. соч. Т. 6. М., 1958. С. 127.
(обратно)118
Там же. С. 135.
(обратно)119
Там же.
(обратно)120
См.: Гёте И. В. Об искусстве. М., 1975. С. 414.
(обратно)121
«О причине наслаждения, доставляемого трагическими предметами», «О трагическом искусстве», «О грации и достоинстве», «О возвышенном», «О патетическом».
(обратно)122
Шиллер Ф. Собр. соч. Т. 6. С. 212.
(обратно)123
Там же С. 61–62.
(обратно)124
Там же. С. 222.
(обратно)125
См.: Гегель Г. В. Ф. Эстетика. Т. 1. М., 1968. С. 251–252; Т. 2. М, 1969. С. 290–291; Т. 4. М., 1973. С. 461^162, 296.
(обратно)126
Гегель Г. В. Ф. Эстетика. Т. 1. С. 227.
(обратно)127
Там же.
(обратно)128
Гегель Г. В. Ф. Сочинения. М., 1935. Т. 7. С. 43.
(обратно)129
Там же. С. 144.
(обратно)130
Там же. С. 143.
(обратно)131
Слова, выделенные курсивом, подчеркнуты автором в правленом тексте. На полях помета: «ввести тему души». — Примеч. ред.
(обратно)132
Гегель Г. В. Ф. Эстетика. Т. 1. С. 240.
(обратно)133
Слова, выделенные курсивом, подчеркнуты автором. — Примеч. ред.
(обратно)134
Гегель Г. В. Ф. Эстетика. Т. 1. С. 241.
(обратно)135
См.: Руднева Е. Г. Теория пафоса в эстетике Гегеля // Вестник МГУ. 1957. № 1.С. 44–75; см. также: Костелянец Б. Творческая индивидуальность писателя. Л., 1960. С. 41–45.
(обратно)136
См.: Гегель Г В. Ф. Эстетика. Т. 1. С. 244.
(обратно)137
Гегель Г В. Ф. Эстетика. Т. 3. М., 1971. С. 593.
(обратно)138
Гегель Г. В. Ф. Эстетика. Т. 3. С. 548.
(обратно)139
Масеев И. А. Сущность и роль конфликтов в искусстве // Проблемы эстетики. М., 1969. С. 168.
(обратно)140
Маркс К., Энгельс Ф. Сочинения. Т. 37. С. 395–396.
(обратно)141
Гегель Г. В. Ф. Эстетика. Т. 4. С. 267.
(обратно)142
Там же. С. 268.
(обратно)143
Боннар А. Греческая цивилизация. Т. 2. М., 1959. С. 23.
(обратно)144
Там же. С. 26.
(обратно)145
Ярхо В. Н. Древнегреческая трагедия (К вопросу об ее исторической специфике) // Вопросы литературы. 1974. № 7. С. 196–200.
(обратно)146
Там же. С. 196.
(обратно)147
Интересные наблюдения и суждения об этом см. в кн.: Владимиров С. Действие в драме. Л., 1972. С. 16–23.
(обратно)148
Гегель Г. В. Ф. Эстетика. Т. 2. С. 291.
(обратно)149
Гегель Г. В. Ф. Эстетика. Т. 1. С. 234.
(обратно)150
См.: Петровский Ф. А. Послесловие // Софокл. Трагедии. М., 1958. С. 439.
(обратно)151
Боннар А. Греческая цивилизация: В 3 т. Т. 3. М., 1962. С. 35–50.
(обратно)152
Гегель Г. В. Ф. Эстетика. Т. 4. С. 160.
(обратно)153
Там же. Т. 3. С. 575.
(обратно)154
Пушкин А. С. Полн. собр. соч. Т. 2. М., 1949. С. 127.
(обратно)155
Маркс К., Энгельс Ф. Сочинения. Т. 33. М., 1964. С. 175.
(обратно)156
Аристотель. Об искусстве поэзии. М., 1957. Гл. 11.
(обратно)157
См.: Lucas F. L. Tragedy in Relation to Aristotle's Poetics. London, 1957.
(обратно)158
Freytag G. Die Technik des Dramas. Leipzig, 1870. S. 90.
(обратно)159
Ibid. S. 89.
(обратно)160
Волькенштейн В. Драматургия. M., 1960. С. 267.
(обратно)161
Зелинский Ф. Софокл и героическая трагедия / / Софокл. Драмы. Т. 2. М., 1915. С. XXXIX.
(обратно)162
См.: Веckеrтап В. Dynamics of Drama. New York, 1970. P. 80–82.
(обратно)163
Виктор Гюго указывает на важность значения параллельной сюжетной линии, связанной с Лаэртом (Гюго В. Уильям Шекспир // Собр. соч.: В 15 т. Т. 14. М., 1956) — Примеч. ред.
(обратно)164
Громов П. Герой и время. Л., 1961. С. 309.
(обратно)165
О перипетиях в «Ревизоре» см.: Костелянец Б. Еще раз о «Ревизоре» // Вопросы литературы. 1973. № 1. С. 203–221.
(обратно)166
Мнение Катенина известно из ответного письма к нему А. С. Грибоедова, датируемого первой половиной января — 14 февраля 1825 года. — Примеч. ред.
(обратно)167
Надеждин Н. И. Литературная критика. Эстетика. М., 1972. С. 283–284.
(обратно)168
Белинский В. Г. Полн. собр. соч. Т. 3. М., 1953. С. 480–485.
(обратно)169
Гончаров И. А. Собр. соч. Т. 8. М., 1955. С. 15.
(обратно)170
Там же. С. 18.
(обратно)171
См.: Медведева И. Н. Творчество Грибоедова // Грибоедов А. С. Сочинения в стихах. Л., 1967. С. 40–41.
(обратно)172
См.: Скафтымов А. Нравственные искания русских писателей. М., 1972. С. 339–380; Калмановский Е. Кто я, зачем я, неизвестно… // Театр. 1972. № 3.
(обратно)173
П. Громов и К. Рудницкий глубоко анализируют сцену расстрела офицеров и Вожака как кульминационную, не выявляя ее перипетийной природы. См.: Громов П. Герой и время. J1., 1961. С. 330–344; Рудницкий К. Портреты драматургов. М., 1961. С. 118.
(обратно)174
Фейербах Л. Избр. философские произведения: В 2 т. Т. 1. М., 1955. С. 455.
(обратно)175
См.: Громов П. Герой и время. С. 232, 234.
(обратно)176
Герберт К, Кун Г. История эстетики. М., 1960. С. 476.
(обратно)177
Гегель Г. В. Ф. Эстетика. Т. 2. С. 286–287.
(обратно)178
Гегель Г. В. Ф. Эстетика. Т. 2. С. 289.
(обратно)179
Там же. С. 291.
(обратно)180
Там же.
(обратно)181
Гегель Г. В.Ф. Сочинения. Т. 7. М., 1935. С. 161.
(обратно)182
См.: Кисель М. А., Эмдин В. М. Этика Гегеля и кризис современной буржуазной этики. Л., 1966. С. 42.
(обратно)183
Гегель Г. В. Ф. Сочинения. Т. 4. М., 1959. С. 35.
(обратно)184
См.: Гегель Г В. Ф. Эстетика. Т. 1. С. 231.
(обратно)185
Гегель Г. В. Ф. Эстетика. Т. 2. С. 297.
(обратно)186
Там же. С. 292.
(обратно)187
Там же. С. 130–131.
(обратно)188
См. об этом: Костелянец Б. «Бесприданница» А. Н. Островского. Л., 1973; Лотман Л. М. Островский и литературное движение 1850–1860 годов // А. Н. Островский и литературно-театральное движение XIX–XX веков. Л., 1974. С. 88–89.
(обратно)189
Гегель Г. В. Ф. Сочинения. Т. 8. М, 1935. С. 28.
(обратно)190
Анализ «Макбета» и сдвигов в развертывающемся тут действии как связанных с переменами в главных героях см.: Сахновский-Панкеев В. Драма. Конфликт. Композиция. М., 1969. С. 98—115.
(обратно)191
Гегель Г. В Ф. Эстетика. Т. 1. С. 240; Т. 2. С. 295–296; Т. 3. С. 610.
(обратно)192
Там же. С. 252.
(обратно)193
Морозов М. М. Избранные статьи и переводы. М., 1954. С. 355.
(обратно)194
Там же. С. 197–212.
(обратно)195
Морозов М. М. Избранные статьи и переводы. С. 353.
(обратно)196
Минков В. Проблемы трагического в творчестве Шекспира и его современников// Вильям Шекспир. 1564–1964. М., 1964. С. 142.
(обратно)197
См.: Громов П. Герой и время. Л., 1961. С. 307.
(обратно)198
Райх Б. Гегель о драматическом конфликте // Театр. 1939. № 7. С. 47–48.
(обратно)199
Гегель Г. В. Ф. Эстетика. Т. 1. С. 231.
(обратно)200
Там же. Т. 3. С. 608.
(обратно)201
Гегель Г. В. Ф. Эстетика. Т. 3. С. 608.
(обратно)202
Там же. С. 542.
(обратно)203
Там же. С. 547.
(обратно)204
Там же. Т. 1.С.224.
(обратно)205
Там же.
(обратно)206
Морозов М. Комментарии к пьесам Шекспирам. М.; Л., 1941. С. 45.
(обратно)207
См.: Пинский Л. Шекспир. Основные начала драматургии. М., 1971. С. 122.
(обратно)208
Гегель Г. В. Ф. Эстетика. Т. 2. С. 293–294.
(обратно)209
Там же. Т. 1. С. 252.
(обратно)210
О других русских критиках, в чьих статьях на протяжении первых десятилетий XIX века возникали проблемы теории драмы, см.: Лапкина Г. А. У истоков русской театральной критики // Очерки по истории русской театральной критики. Л., 1975.
(обратно)211
Тальников Д. Л. Театральная эстетика Белинского. М., 1962. С. 96.
(обратно)212
Зеньковский В. В. История русской философии. Т. 1. Ч. 2. Л., 1991. С. 62.
(обратно)213
Белинский В. Г. Поли. собр. соч.: В 13 т. 1953–1959. Т. 4. С. 493.
(обратно)214
Там же. Т. 11. С. 316.
(обратно)215
Соловьев Г. А. Эстетические идеи молодого Белинского. М., 1986. С. 255.
(обратно)216
Белинский В. Г. Полн. собр. соч. Т. 5. С. 21.
(обратно)217
Аникст А. Теория драмы в России от Пушкина до Чехова. М., 1972. С. 142.
(обратно)218
Поляков В. М. Поэтика критической мысли. М., 1968. С. 137.
(обратно)219
Белинский В. Г. Полн. собр. соч. Т. 7. С. 507.
(обратно)220
Белинский В. Г. Полн. собр. соч. Т. 5. С. 19–20.
(обратно)221
Толстой Л. И. Полн. собр. соч.: В 90 т. Т. 15. М., 1938. С. 239. (Курсив мой. — Б. К.)
(обратно)222
Белинский В. Г. Полн. собр. соч. Т. 5. С. 21.
(обратно)223
См.: Лаврецкий А. Эстетика Белинского. М., 1959. С. 231.
(обратно)224
Гуляев Н. А. В. Г. Белинский и зарубежная эстетика его времени. Казань, 1961. С. 340.
(обратно)225
Там же. С. 342.
(обратно)226
Лаврецкий А. Эстетика Белинского. С. 231.
(обратно)227
Белинский В. Г. Полн. собр. соч. Т. 3. С. 449.
(обратно)228
Шлегель А. Чтения о драматической литературе и искусстве // Литературная теория немецкого романтизма. М., 1934. С. 234.
(обратно)229
См. первый выпуск «Лекций по теории драмы».
(обратно)230
Белинский В. Г. Полн. собр. соч. Т. 3. С. 469.
(обратно)231
Там же. Т. 5. С. 53.
(обратно)232
Там же. Т. 2. С. 296.
(обратно)233
Белинский В. Г. Поли. собр. соч. Т. 3. С. 460. (Курсив мой. — Б. К.).
(обратно)234
Лаврецкий А. Эстетика Белинского. С. 236.
(обратно)235
Белинский В. Г. Полн. собр. соч. Т. 3. С. 469.
(обратно)236
О взаимовоздействии см.: Костелянец Б. Лекции по теории драмы. Вып. 1. Л., 1976. С. 152–153 [С. 208 наст, изд.]; Барбой Ю. Структура действия и современный спектакль. Л., 1988. С. 18, 20.
(обратно)237
О «взаимновоздействии» в «Ревизоре» см.: Костелянец Б. Еще раз о «Ревизоре» // Вопросы литературы. 1973. № \\Он же. Два лика империи // Мир поэзии драматической… Л., 1992.
(обратно)238
Белинский В. Г. Полн. собр. соч. Т. 5. С. 62.
(обратно)239
Шлегель А. Чтения о драматической литературе и искусстве. С. 219.
(обратно)240
См.: Миллер Т. Некоторые проблемы изучения греческой трагедии // Вопросы античной литературы в зарубежном литературоведении. М., 1963. С. 23.
(обратно)241
Белинский В. Г. Полн. собр. соч. Т. 2. С. 293.
(обратно)242
См. об этом в первом выпуске наших «Лекций.
(обратно)243
Белинский В. Г. Полн. собр. соч. Т. 2. С. 301–302.
(обратно)244
Там же. Т. 3. С. 455.
(обратно)245
Там же. Т. 5. С. 62.
(обратно)246
Аникст А. Теория драмы в России от Пушкина до Чехова. С. 195–196.
(обратно)247
Чернышевский Н. Г. Полн. собр. соч.: В 16 т. Т. 15. М., 1950. С. 26–27.
(обратно)248
Фейербах Л. Лекции о сущности религии // Избр. философские произведения: В 2 т. Т. 2. М., 1955. С. 696.
(обратно)249
Фейербах Л. Вопрос о бессмертии с точки зрения антропологии // Там же. Т. 1. С. 291.
(обратно)250
См., напр.: Каримский А. М. Философия истории Гегеля. М., 1988. С. 260 (где Гегелю ставится в заслугу обоснование единства исторического процесса и тем самым единства судьбы человечества).
(обратно)251
О поэзии, сочинение Аристотеля / Перевел, изложил и объяснил Б. Ордынский. М., 1854. С. 24.
(обратно)252
См.: Коган Л. Н. Гегель и Шекспир: проблемы активности личности // Вопросы философии. 1985. № 6. С. 98–99.
(обратно)253
Чернышевский И. Г. Полн. собр. соч. Т. 2. С. 30.
(обратно)254
Белинский В. Г. Полн. собр. соч. Т. 5. С. 55.
(обратно)255
Так у автора. — Примеч. ред.
(обратно)256
Чернышевский Н. Г. Полн. собр. соч. Т. 2. С. 30.
(обратно)257
Плеханов Г. В. Избр. философские произведения: В 5 т. Т. 5. М., 1958. С. 267–269.
(обратно)258
Добролюбов И. А. Собр. соч.: В 3 т. Т. 2. М., 1952. С. 168–274. (Курсив мой. — Б. К.)
(обратно)259
Там же. Т. 3. С. 181.
(обратно)260
Добролюбов Н. А. Собр. соч.: В 3 т. Т. 2. С. 192–193, 202, 203.
(обратно)261
Чирва Ю. И. Островский и Леонид Андреев //А. Н. Островский и литературно-театральное движение XIX–XX веков. Л., 1974. С. 151.
(обратно)262
Писарев Д. Я. Собр. соч.: В 4 т. Т. 1. М., 1955. С. 121.
(обратно)263
Григорьев Ап. Литературная критика. М., 1967. С. 126.
(обратно)264
Там же. С. 82–83.
(обратно)265
Там же. С. 498, 419, 368.
(обратно)266
Добролюбов Н. А. Собр. соч. Т. 2. С. 203, 215.
(обратно)267
Достоевский Ф. М. Полн. собр. соч.: В 30 т. Т. 18. Л., 1978. С. 94.
(обратно)268
Там же. С. 112.
(обратно)269
Там же. Т. 29. Кн. 1.С. 225.
(обратно)270
См.: Кант И. Соч.: В 6 т. Т. 5. М., 1969. С. 318–319.
(обратно)271
Достоевский Ф. М. Полн. собр. соч. Т. 28. Кн. 2. С. 23.
(обратно)272
Мейерхольд Вс. Э. Статьи. Письма. Речи. Беседы: В 2 т. Т. 1. М., 1968. С. 205.
(обратно)273
Салтыков-Щедрин М. Е. Собр. соч.: В 20 т. Т. 5. М., 1966. С. 190, 195–197.
(обратно)274
Боборыкин П. Д. Островский и его сверстники // Слово. 1878. Август. С. 2, 19.
(обратно)275
Аверкиев Д. О драме. СПб., 1907. С. 136–137.
(обратно)276
См.: Аверкиев Д. О драме. С. 97–98.
(обратно)277
Аникст А. Теория драмы в России от Пушкина до Чехова. С. 418.
(обратно)278
Скабичевский А. История новейшей русской литературы. СПб., 1893.С. 369. (Курсив мой. — Б. К.).
(обратно)279
Там же.
(обратно)280
Лоусон Дж. Г. Теория и практика создания пьесы и киносценария. М.,1960. С. 127. (Курсив мой. — Б. К.).
(обратно)281
Гегель Г. В. Ф. Эстетика: В 4 т. Т. 3. М., 1971. С. 541.
(обратно)282
Гегель Г. В. Ф. Философия права // Соч. Т. 7. М.; Л., 1934. С. 44, 48.
(обратно)283
См.: Гегель Г В. Ф. Философия истории // Там же. Т. 8. М., 1935. С. 22.
(обратно)284
Гегель Г В. Ф. Эстетика. Т. 1. М., 1968. С 106.
(обратно)285
Гегель Г. В. Ф. Философия духа // Соч. Т. 3. М., 1956. С. 280–283.
(обратно)286
Гегель Г. В. Ф. Философия права. С. 43–45.
(обратно)287
Гегель Г. В. Ф. Эстетика. Т. 2. М., 1969. С. 289, 291.
(обратно)288
Там же. Т. 3. С. 606.
(обратно)289
Аникст А. Теория драмы от Гегеля до Маркса. С. 108.
(обратно)290
Куклин А. Я. Искусство и общение в учении Гегеля // Искусство и общение. J1., 1984. С. 49.
(обратно)291
Каган М. С. Мир общения. М., 1988. С. 21, 22, 25.
(обратно)292
Фейербах Л. Избр. философские произведения: В 2 т. Т. 1. М., 1955. С.183.
(обратно)293
Там же. С. 203.
(обратно)294
Лукач Г Литературные теории XIX века и марксизм. М., 1937. С. 50.
(обратно)295
См.: Ортега-и-Гассет X. Что такое философия? М., 1991. С. 365 и др.; об этом же см.: Банфи А. Философия искусства. М., 1989. С. 232.
(обратно)296
См.: Соловьев Э. Ю. Попытка обоснования новой философии истории и фундаментальной онтологии М. Хайдеггера // Новые тенденции западной социальной философии. М., 1988. С. 19.
(обратно)297
Гусейнов В., Скрипни/с А. Пессимистический гуманизм // Шопенгауэр А. Свобода и нравственность. М., 1992. С. 5.
(обратно)298
Лосев А. Ф. Гибель буржуазной культуры и ее философии // Хюбшер А. Мыслители нашего времени. М., 1962. С. 326.
(обратно)299
Шопенгауэр А. Полн. собр. соч. М., 1903–1904. Т. 2. С. 621–622.
(обратно)300
См.: Хюбшер А. Мыслители нашего времени. С. 30–37.
(обратно)301
См.: Шопенгауэр А. Полн. собр. соч. Т. 2. С. 118.
(обратно)302
См.: Быховский Б. Э. Шопенгауэр. М., 1975. С. 105
(обратно)303
Шопенгауэр А. Свобода воли и нравственность. С. 70.
(обратно)304
См.: Шопенгауэр Л. Свобода воли и нравственность. С. 240.
(обратно)305
Шопенгауэр А. Свобода воли и нравственность. С. 205–206, 223.
(обратно)306
Шопенгауэр А. Мир как воля и представление. СПб., 1880. С. 396.
(обратно)307
Ярошевский М. Г. Зигмунд Фрейд — выдающийся исследователь психической жизни человека // Фрейд 3. Психология бессознательного. М., 1989. С. 3.
(обратно)308
Гадамер Г. Истина и метод. М., 1988. С. 323 и др.
(обратно)309
Кьеркегор С. Или — или // История эстетики. Памятники мировой эстетической мысли. Т. 3. М., 1967. С. 494–495.
(обратно)310
Гайденко П. Трагедия эстетизма. М., 1970. С. 205.
(обратно)311
Цит. по: Гайденко П. Трагедия эстетизма. С. 204.
(обратно)312
См.: Эфендиева Н. М. Проблема времени в философии С. Кьеркегора // Вопросы философии. 1980. № 5. С. 146.
(обратно)313
Кьеркегор С. Наслаждение и долг. СПб., 1894. С. 246, 248, 282–283.
(обратно)314
См.: Адмони В. Г. Генрик Ибсен. Л., 1989. С. 89.
(обратно)315
Ницше Ф. По ту сторону добра и зла // Избр. произведения: В 2 кн. Кн. 2. М.; Л.: Сирин, 1990. С. 414.
(обратно)316
Там же. С. 329.
(обратно)317
Там же. С. 329, 360.
(обратно)318
Ницше Ф. Происхождение трагедии из духа музыки. СПб., 1899. С. 125, 127.
(обратно)319
Банфи А. Философия искусства. М., 1989. С. 269.
(обратно)320
Фрейденберг О. М. Миф и литература древности. М., 1978. С. 366–368.
(обратно)321
См.: Кессиди Ф. От мифа к логосу. М., 1972. С. 107, 182; Он же. Гераклит. М., 1982. С. 39.
(обратно)322
Жирмунский В. Немецкий романтизм и современная мистика. М., 1914. С. 194.
(обратно)323
Freytag G. Die Technik des Dramas. Leipzig, 1870.
(обратно)324
Меринг Ф. Литературно-критические статьи. М.; Л., 1934. Т. 2. С. 183.
(обратно)325
Аникст А. Теория драмы на Западе во второй половине XIX века. С. 143.
(обратно)326
См.: Толстой А. К Проект постановки («Смерти Ивана Грозного») // Собр. соч.: В 4 т. Т. 3. М., 1969. С. 490, 493.
(обратно)327
См., напр.: Карьер М. Драматическая поэзия. СПб., 1898. С. 25 и др.
(обратно)328
Аникст А. Теория драмы на Западе во второй половине XIX века. С. 164.
(обратно)329
Лоусон Дж. Г. Теория и практика создания пьесы и киносценария. М., 1960. С. 352.
(обратно)330
Brunetiere F. La Loi du th£atre // Noel E., Stoullig E. Les Annales du theatre et de la musique / avec une preface par F. Brunetiere. Paris, 1894.
(обратно)331
Лоусон Дж. Г. Теория и практика создания пьесы и киносценария. С. 127–128.
(обратно)332
См.: Рассел Б. История западной философии. М., 1959. С. 772–773.
(обратно)333
Brunetiere F. La Loi du the&tre. P. IV.
(обратно)334
«Селимар возлюбленный» (1863), «Соломенная шляпка» (1851) — комедии Эжена Лабиша («Селимар возлюбленный» — совм. с Делакуром). — Примеч. ред.
(обратно)335
Арнольф и Агнеса — персонажи комедии Мольера «Школа жен» (1662). — Примеч. ред.
(обратно)336
Brunetiere F. La Loi du theatre. P. VI11, XI.
(обратно)337
Ibid. P. IX–XI.
(обратно)338
Ершов П. Технология актерского искусства. М., 1959. С. 288.
(обратно)339
Лоусон Дж. Г. Теория и практика создания пьесы и киносценария. С. 222.
(обратно)340
См.: Аникст А. Трагедия Шекспира «Гамлет». М., 1986. С. 31.
(обратно)341
См.: BoorJ. Dialektika deji'n divalda. Bratislava, 1975. S. 170.
(обратно)342
МимъД. Огюст Конт и позитивизм. СПб., 1906. С. 7.
(обратно)343
См.: Конт О. Курс позтивной философии // История эстетики. Памятники мировой эстетической мысли. Т. 3. С. 727–732.
(обратно)344
Кон И. Позитивизм в социологии. Л., 1964. С. 20.
(обратно)345
Отметим попутно, что в 1890-х годах (к тому же десятилетию относится и статья «Закон драмы») Брюнетьер в духе борьбы за существование толкует литературный процесс в целом: Расин в «Андромахе» хотел создать нечто иное, чем Корнель; Дидро в «Отце семейства» захотел сделать нечто иное, чем Мольер в «Тартюфе». Таковы, по Брюнетьеру, закономерности, определяющие смену направлений и жанров в драматургии; они борются друг с другом и, так же как в природе, при благоприятных условиях, «могут стабилизироваться» (см.: Брюнетьер Ф. Эволюция жанров в истории литературы / / Памятники мировой эстетической мысли. Т. 3. С 742–748).
(обратно)346
Шоу Б. О драме и театре. М., 1963. С. 65–69.
(обратно)347
Юрский С. Играем Ибсена // Вопросы литературы. 1985. № 4. С. 198.
(обратно)348
Чехов А. П. Письмо А. С. Суворину от 30 мая 1888 г. // Полн. собр. соч. и писем: В 30 т. Письма: В 12 т. Т. 2. М., 1975. С. 281.
(обратно)349
Чехов А. П. Письмо В. А. Тихонову от 7 марта 1889 г. // Там же. Т. 3. М., 1976. С. 174.
(обратно)350
Чехов А. П. Письмо А. С. Суворину от 21 окт. 1895 г. // Там же. Т. 6. М., 1978. С. 85.
(обратно)351
Волконский С. Художественные отклики. СПб., 1912. С. 60–61.
(обратно)352
Неведомский М. О современном художестве. Символизм в последней драме А. П. Чехова // Мир Божий. 1904. № 8. С. 20.
(обратно)353
Айхенвальд Ю. Современное искусство // Русская мысль. 1904. Кн. 2. С. 257, 258, 262.
(обратно)354
Белый А. «Вишневый сад» // Весы. 1904. № 2. С. 47.
(обратно)355
Джемс Линч (Л. Андреев. — Б. К.), Сергей Глаголь. Под впечатлением Художественного театра. М., 1917. С. 66.
(обратно)356
См.: Чирва Ю. И. О пьесах Леонида Андреева // Андреев Л. Н. Драматические произведения: В 2 т. Т. 1. Л., 1989. С. 7.
(обратно)357
Андреев Л. Письма о театре. Письмо первое // Полн. собр. соч. Т. 8. СПб., 1913. С. 306–307.
(обратно)358
Андреев Л. Письма о театре. Письмо второе // Литературно-художественный альманах издательства «Шиповник». Кн. 22. СПб., 1914. С. 249–257.
(обратно)359
«Fille Elise» — роман Эдмона Гонкура «Девица Элиза» (1877), на основе которого Жаном Ажальбером была написана трехактная пьеса, представленная в декабре 1890 г. на сцене парижского Театра Либр Андре Антуана. — Примеч. ред.
(обратно)360
Аничков Е. Литературные образы и мнения 1903 года. СПб., 1904. С. 118–124. См. об этом: Костелянец Б. Мир поэзии драматической… Л., 1992. С. 190–237.
(обратно)361
Archer W. Playmaking // European theories f drama with a supplement on the American drama. An anthology of dramatic theory and criticism from Aristotle to the present day… / by Barret H. Clark. New York, 1947. P. 477–479.
(обратно)362
См.: Лоусон Дж. Г. Теория и практика создания пьесы и киносценария. С. 224.
(обратно)363
Лихачев Д. С. Поэтика древнерусской литературы // Избр. работы: ВЗт. Т. 1.Л., 1987. С. 648.
(обратно)364
Кузьмина Т. А. Человеческая субъективность как онтологическая проблема в современной буржуазной философии // Вопросы философии. 1977. № 9. С. 114.
(обратно)365
Ницше Ф. Происхождение трагедии из духа музыки // Полн. собр. соч. Т. 1. СП6., 1912. С. 104.
(обратно)366
Ницше Ф. Вагнер как явление (Fall Wagner) // Нитче о Вагнере. СПб., 1907. С. 35.
(обратно)367
См.: Аристотель. Поэтика // Соч.: В 4 т. Т. 4. М., 1983. С. 657–658.
(обратно)368
Манн Т. Опыт о театре // Собр. соч.: В 10 т. Т. 9. М., 1960. С. 406–421.
(обратно)369
Snell В. Aischylos und das Handeln im Drama. Leipzig, 1928.
(обратно)370
Ярхо В. Образ человека в греческой литературе и история реализма // Вопросы литературы. 1957. № 5. С. 73–74. (Курсив мой. — Б. К.)
(обратно)371
См.: Snell В. Aischylos und das Handeln im Drama. S. 3.
(обратно)372
Snell В. Aischylos und das Handeln im Drama. S. 13, 14.
(обратно)373
Ibid. S. 19.
(обратно)374
Бентли Э. Жизнь драмы. М., 1978. С. 17.
(обратно)375
Аристотель. Поэтика. С. 661.
(обратно)376
См.: Костелянец Б. Драматическая активность // Костелянец Б. Мир поэзии драматической… С. 444–485.
(обратно)377
Аверинцев С. К истолкованию символики мифа о Эдипе // Античность и современность. М., 1972. С. 90. (Курсив мой. — Б. К.)
(обратно)378
См. статью: Эдип // Мифы народов мира. Т. 2. М., 1988. С. 657–658. В ней миф об Эдипе изложен по трагедиям Софокла «Царь Эдип» и «Эдип в Колоне»; на иные версии отдельных мотивов мифа даны лишь краткие ссылки.
(обратно)379
Аверинцев С. К истолкованию символики мифа о Эдипе. С. 98–99.
(обратно)380
Там же. С. 92, 95.
(обратно)381
Там же. С. 92, 100. (Курсив мой. — Б. К.)
(обратно)382
Аверинцев С. К истолкованию символики мифа о Эдипе. С. 100.
(обратно)383
См.: Бородай Ю. Воображение и теория познания. М., 1966. С. 132, 133.
(обратно)384
Там же. С. 134–141.
(обратно)385
См. об этом: Гайденко П. Тема судьбы и представление о времени в греческом мировоззрении // Вопросы философии. 1969. № 9.
(обратно)386
Давыдов Ю. Царь Эдип, Платон и Аристотель (античная трагедия как эстетический феномен) // Вопросы литературы. 1964. № 1. С. 157.
(обратно)387
Давыдов Ю. Царь Эдип, Платон и Аристотель. С. 175.
(обратно)388
Там же. С. 154. (Курсив мой. — Б. К.)
(обратно)389
Зелинский Ф. Объяснительные примечания // Софокл. Царь Эдип. СПб., 1896. С. 88.
(обратно)390
Ярхо В. Драматургия Эсхила и некоторые проблемы древнегреческой трагедии. М., 1978. С. 204. (Курсив мой. — Б. К.).
(обратно)391
Днепров В. Идеи времени и формы времени. J1., 1980. С. 43.
(обратно)392
Там же.
(обратно)393
Ярхо В. Драматургия Эсхила… С. 181. (Курсив мой. — Б. К.)
(обратно)394
Там же. С. 182.
(обратно)395
Там же. С. 185. (Курсив мой. — Б. К.)
(обратно)396
Там же. (Курсив мой. — Б. К.)
(обратно)397
Ярхо В. Драматургия Эсхила… С. 192, 194.
(обратно)398
Ярхо В. Драматургия Эсхила… С. 195. (Курсив мой. — Б. К.)
(обратно)399
Там же. С. 199–200. (Курсив мой. — Б. К.)
(обратно)400
Ярхо В. Драматургия Эсхила… С. 182.
(обратно)401
Там же. С. 165. (Курсив мой. — Б. К.)
(обратно)402
Пропп В. Эдип в свете фольклора // Пропп В. Фольклор и действительность. М., 1976. С. 259.
(обратно)403
Там же. С. 253.
(обратно)404
Там же. С. 285. (Курсив мой. — Б. К.)
(обратно)405
Там же. С. 290.
(обратно)406
Там же. С. 298.
(обратно)407
Пропп В. Эдип в свете фольклора. С. 298.
(обратно)408
Маргвелашвили Г. Сюжетное время и время экзистенции. Тбилиси, 1976. С. 35.
(обратно)409
Там же. С. 58.
(обратно)410
Маргвелашвили Г. Сюжетное время и время экзистенции. С. 49.
(обратно)411
Sartre J. P. L'Etre et le neant. Paris, 1943. P. 323.
(обратно)412
Гегель Г. В. Ф. Соч. М.;Л., 1938. Т. 12. С. 231.
(обратно)413
Гусейнов А., Иррлитц Г. Краткая история этики. М., 1987. С. 27.
(обратно)414
Иванов Вяч. Дионис и прадионисийство. Баку, 1923. С. 260.
(обратно)415
См.: Маковельский А. Досократики. Казань, 1914–1919. Ч. 1. С. 37.
(обратно)416
См.: Томсон Дж. Первые философы. М., 1979. С. 270–273.
(обратно)417
Материалисты Древней Греции: собрание текстов Демокрита, Гераклита, Эпикура. М., 1955. С. 41.
(обратно)418
Библер В. Ответ на вопросы // Этическая мысль. М., 1988. С. 374–375.
(обратно)419
Фрейденберг О. Миф и литература древности. М., 1978. С. 475.
(обратно)420
Там же. С. 476.
(обратно)421
Аристотель. Поэтика // Сочинения: В 4 т. Т. 4. М., 1983. С. 651.
(обратно)422
См.: Else G. F. Aristoteles Poetics. London, 1957. P. 230–231.
(обратно)423
См.: Golden L. The clarification theorie of catharsis // Hermes. Wiesbaden, 1976. Bd. 104. № 4, 5.
(обратно)424
См.: Nicev A. L'finigme de la catharsis tragique dans Aristotle. Sofia, 1970. P. 102.
(обратно)425
Рабинович E. Г. «Безвредная радость»: О трагическом катарсисе у Аристотеля // Mathesis. Из истории античной науки и философии. М.: Наука, 1991. С. 103–113. Приношу глубокую благодарность Е. Г. Рабинович за ценные замечания к этой главе, хотя не всеми я сумел воспользоваться.
(обратно)426
Брагинская Н. Трагедия и ритуал у Вячеслава Иванова // Архаический ритуал в фольклорных и раннелитературных памятниках. М., 1988. С. 329.
(обратно)427
Зелинский Ф. Древнегреческая литература эпохи независимости. Пг., 1919. Ч. 1.С. 101.
(обратно)428
Лосев Л. История античной эстетики. М., 1963. С. 539.
(обратно)429
См.: Там же. С. 383.
(обратно)430
Там же. (Курсив мой. — Б. К.)
(обратно)431
Баткин Л. Итальянское Возрождение в поисках индивидуальности. М., 1989. С. 10.
(обратно)432
См.: Там же. С. 217–218.
(обратно)433
Баткин Л. Итальянское Возрождение… С. 236.
(обратно)434
Там же. С. 218.
(обратно)435
Лосев Л. Эсхил // Греческая трагедия. М., 1958. С. 99.
(обратно)436
Там же.
(обратно)437
Имеется в виду сборник Б. О. Костелянца «Мир поэзии драматической…» (СПб.: Советский писатель. Ленинградское отделение, 1992), откуда взята эта глава. — Примеч. ред.
(обратно)438
Фридлендер Г. Лессинг. М., 1957. С. 114.
(обратно)439
Лессинг Г. Э. Лаокоон, или О границах живописи и поэзии. М.,1957.
(обратно)440
Лессинг Г. Э. Гамбургская драматургия. М.; Л., 1936.
(обратно)441
Лессинг Г. Э. Лаокоон. С. 189.
(обратно)442
Там же. С. 423.
(обратно)443
Там же. С. 422.
(обратно)444
Лессинг Г. Э. Лаокоон. С. 109–110.
(обратно)445
Лессинг Г. Э. Гамбургская драматургия. С. 31. (22 мая 1767 г.)
(обратно)446
Там же. С. 120. (14 авг. 1767 г.)
(обратно)447
Лессинг Г. Э. Гамбургская драматургия. С. 258.
(обратно)448
Лессинг Г. Э. Лаокоон. С. 110.
(обратно)449
Лессинг Г. Э. Гамбургская драматургия. С. 303.
(обратно)450
Там же. С. 276.
(обратно)451
Дидро Д. О драматической поэзии // Собр. соч.: В 10 т. Т. 5. М., 1936. С.140.
(обратно)452
Дидро Д. О драматической поэзии. С. 405–406.
(обратно)453
Жирмунский В. М. Лессинг // Жирмунский В. М. Очерки по истории классической немецкой литературы. Л., 1972. С. 198.
(обратно)454
Фридлендер Г. Лессинг. С. 57, 39, 128, 158, 174.
(обратно)455
Скорнякова М. Г. Лессинг в Пикколо-театре // Западное искусство. XX век. М., 1992. С. 143–150.
(обратно)456
Лоусон Дж. Г. Теория и практика создания пьесы и киносценария. М., 1960. С. 54.
(обратно)457
Фридлендер Г. Лессинг. С. 168.
(обратно)458
Стадников Г. В. Лессинг. Литературная критика и художественное творчество. Л., 1987.
(обратно)459
Островский А. Н. Полн. собр. соч. М., 1949–1953. Т. 15. С. 74, 122. В дальнейшем ссылки на это издание даны в тексте с указанием тома и страницы. — Примеч. ред.
(обратно)460
Отечественные записки. 1879. № 1.
(обратно)461
Наследие Островского и советская культура. М., 1974. С. 117.
(обратно)462
Наследие Островского и советская культура. С. 116.
(обратно)463
Эдельсон Е. «Бедность не порок» // Москвитянин. 1854. № 5.
(обратно)464
См.: Поламишев А. Событие — основа спектакля. Автор и режиссер. М., 1977; Он же. Мастерство режиссера. Действенный анализ пьесы. М., 1982.
(обратно)465
Кнебель М. Поэзия педагогики. М., 1976. С. 267.
(обратно)466
Станиславский К. С. Собр. соч.: В 8 т. Т. 5. М., 1958. С. 461-^62.
(обратно)467
Варнеке Б. В. Техника Островского // Известия по русскому языку и словесности. Л., 1928. Т. 1. Кн. 1. С. 139.
(обратно)468
Журавлева А. Драматургия А. Н. Островского. М., 1974. С. 99.
(обратно)469
Там же.
(обратно)470
Пушкин А. С. Полн. собр. соч. М., 1956–1958. Т. 7. С. 72.
(обратно)471
Новый мир. 1969. № 12.
(обратно)472
Рукописный отдел Гос. библиотеки им. В. И. Ленина. Ф. М., ед. хр. 3096, л. 3.
(обратно)473
См.: Литературный критик. 1934. № 5. С. 194.
(обратно)474
Оснос Ю. В мире драмы. М., 1971. С. 318–324.
(обратно)475
Оснос Ю. В мире драмы. С. 311–317.
(обратно)476
Рукописный отдел Гос. библиотеки им. В. И. Ленина. Ф. М., ед. хр. 3096, л. 3.
(обратно)477
Лакшин В. Островский-драматург // Островский А. Н. Избранные пьесы. М., 1971. С. 3–38.
(обратно)478
Лекция В. Э. Мейерхольда была прочитана в переполненном зале Ленинградского лектория 24 октября 1935 г. В сводной афише лектория она значилась как доклад В. Э. Мейерхольда «Пушкин и драма». Стенограммы лекции не существует. Пространная анонимная статья «Пушкин: режиссер-драматург. Доклад Вс. Мейерхольда», опубликованная в газете «Литературный Ленинград» 1 ноября 1935 г., не передает стиля мейерхольдовской речи, а некоторые темы доклада, отраженные в дневниковой записи Бориса Осиповича, вообще отсутствуют. Размышления Мейерхольда о пушкинской драматургии и связанном с ней комплексом проблем изложены в других докладах режиссера, сделанных в 1936–1937 гг. (см.: Мейерхольд В. Э. Статьи. Письма. Речи. Беседы: В 2 ч. Ч. 2. М., 1968. С. 419–432).
(обратно)479
Речь идет о спектакле Ленинградского государственного академического театра драмы (бывш. Александринекого) «Борис Годунов» (постановка Б. М. Сушкевича, 1934 г.).
(обратно)480
Гвоздев Алексей Александрович (1887–1939) — выдающийся театровед и театральный критик, профессор факультета истории словесных искусств Российского института истории искусств. А. А. Гвоздев — один из основоположников отечественного театроведения, единомышленник Мейерхольда, автор трудов по методологии изучения театра, истории и теории западноевропейского театра, проблемам современного сценического искусства, в том числе — монографии «Театр Вс. Мейерхольда (1920–1926)» (Л., 1927); статьи «Ревизия «Ревизора»» в сборнике ««Ревизор» в театре имени Вс. Мейерхольда» (Л., 1927); многочисленных газетных и журнальных публикаций, посвященных творчеству режиссера (см.: Гвоздев А. А. Театральная критика. Л., 1987).
(обратно)481
Коровяков Дмитрий Дмитриевич (1849–1895) — театральный деятель, критик, педагог. Директор и преподаватель декламации первой частной драматической школы при Обществе любителей сценического искусства в Петербурге. Автор учебных пособий по сценической речи: «Искусство выразительного чтения» (СПб., 1892), «Этюды выразительного чтения художественных литературных произведений» (СПб., 1893) и «Искусство и этюды выразительного чтения художественных литературных произведений» (СПб., 1914). Эти пособия, выдержавшие несколько переизданий, в 1890-е гг. были рекомендованы Министерством народного просвещения для учебных заведений и пользовались большой популярностью. Мейерхольд резко критиковал взгляды Коровякова и близкий к ним мхатовский подход к стихотворному тексту: «В погоне за выявлением смысла в монологах и диалогах драм в стихах коровяковская система декламации требовала сугубого внимания к так называемым логическим ударениям. Но эта погоня за логическими ударениями отвлекала внимание актеров от тех элементов в стихах, которые призваны к тому, чтобы сделать стихи звучащими как стихи, то есть по законам музыкального искусства…Но у Пушкина так хитроумно расставлены в строчках слова, что логические ударения помимо воли актера отстукиваются в сознании слушателя, плывите только за поэтом по его музыкальной реке» (Мейерхольд В. Э. [О Пушкине] // Мейерхольд В. Э. Статьи. Письма. Речи. Беседы. Ч. 2. С. 431–432).
(обратно)

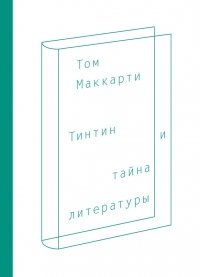
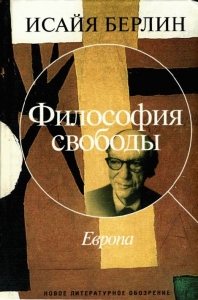
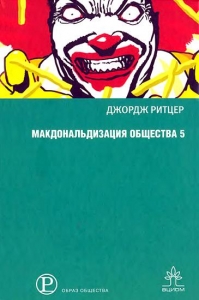


Комментарии к книге «Драма и действие. Лекции по теории драмы», Борис Осипович Костелянец
Всего 0 комментариев