Александр Генис ВАВИЛОНСКАЯ БАШНЯ Искусство настоящего времени
ПИСЬМА ИЗ ДРЕВНЕЙ ГРЕЦИИ
В самолете почти всех звали как нас: мужчин — Александрами, женщин — Иринами.
Тезки, надо сказать, и вели себя по-русски. Шумно воспитывали детей, охотно выпивали, простодушно флиртовали со стюардессами, в неположенных местах курили, во всех остальных толпились. Но главное — зычно беседовали друг с другом.
Греческая речь чем-то неуловимым близка нашей. С точки зрения лингвистики — это чепуха: фонетика у них настолько чужая, что непривычные ударения даже международные слова делают неузнаваемыми. И все же то и дело в уличном гвалте мне чудились слова родной речи, причем часто неприличные.
Иногда так оно и было. Греция забита соотечественниками, которые, как и мы, пребывают в уверенности, что за границей их понимать некому.
Чаще всего русские встречаются в музеях и на базарах. Не исключено, что это одни и те же люди. Когда-то в Риме, по дороге в Америку, мы делали то же самое. Да и торгуют они хорошо знакомым эмигрантам товаром: фотоаппараты, мельхиоровые половники, утюги, мясорубки. Весь этот ностальгический скарб помечен элегическим клеймом: «Сделано в СССР». Получается символ: осколки империи.
Попадаются, однако, и полезные вещи. Например, ложка с дырочками — пену с супа снимать. Очень удобная штука. Я две купил, и на каждой — знак качества.
С греческим алфавитом та же история, что и с устной речью: заглавные буквы — родная кириллица, зато строчной шрифт — как учебник сопромата.
Эта двусмысленная близость сбивает с толку — думаешь, что понимаешь больше, чем на самом деле. Грузовик с жирной строкой «Метафора» перевозит не слова, а мебель. Газета зовется как бабочка: «эфемерида». Печатать на машинке значит заниматься графоманией. Зато связь между обычным банком и греческим, который здесь называется трапезой, лежит на поверхности: где деньги, там и пища.
Был у меня русско-греческий разговорник — еще один имперский черепок, уморительно трактовавший тему питания. К продавцу он рекомендовал обращаться с такими вопросами: «Есть ли у вас сахар?» или «Когда завезут сосиски?» Там же советовали приставать к прохожим, допытываясь, «как пройти к центральному комитету коммунистической партии?».
Вместо разговорника я взял с собой Павсания. Этот древний, но не очень, грек восемнадцать веков назад написал подробный путеводитель по своей родине.
Грецию он застал в прекрасную пору: музеем она уже была, руинами — еще нет. Впрочем, еще неизвестно, кому повезло. Искусство, описанное Павсанием, сюжетно, как телевизионный сериал. Нам же достались загадочные остатки чужой истории. Время нарубило мрамор в капусту. Что ни фриз, то свалка плоти. Каждый музей — как анатомический театр.
История подвергла вивисекции именно античность: с египетскими пирамидами ей было не справиться, а средневековье все еще слишком близко. В результате мы научились ценить то, о чем не догадывался Павсаний, — фрагмент вместо целого: «зачем нам дева, если есть колено».
В искусстве греки ценили идеальное не меньше, чем Лактионов. Греческая статуя никуда не торопится и никогда не волнуется. Дискобол напряжен, но статичен. Твердо, как на скале, стоит возничий на несущейся колеснице. Искажено усилием тело борца, но лицо его осеняет безмятежная потусторонняя улыбка.
С той же непринужденной миной принято плясать знаменитый сиртаки. Хороший тон не позволяет, чтобы бешеный перебор ногами отражался на лице танцоров. Экстаз пополам с безмятежностью: нижняя часть тела — танец с саблями, верхняя — ансамбль «Березка». (Тут почему-то всплыло, что на родине из всех искусств больше всего ценится умение пить не пьянея.)
Варвары проявили себя талантливыми соавторами эллинов. Вырывая статуям глаза, отламывая им головы и руки, они навязывали античному покою собственный экспрессионизм.
Сегодня эта разрушенность кажется декадентской незавершенностью, пикантной недосказанностью.
В мире, состоящем «из наготы и складок», благочестивое эллинское искусство будит эстетское сладострастие.
* * *
В средние века античные руины называли marmaria. Веками тут без хлопот, затрат и угрызений совести добывали мрамор. В Афинах стоит чудная византийская церквушка, чьи кирпичные стены пестрят белокаменными вкраплениями — обломки прежней архитектуры. Христианская утилизация языческого вторсырья.
Несмотря на антикварный пиетет, мы с античностью обходимся точно так же.
Греция — бесплатный рудник богов и героев, имен и понятий, образов и метафор. Мы вертим античностью как хотим, строя из ее остатков свои мифы. Причем, как в детском конструкторе, одни и те же детали годятся для всего — от храма до вертепа.
У всякого века своя античность, и каждая из них говорит о современнике больше, чем о предках.
В Пиреях есть бюст Фемистокла, сработанный безвестным скульптором XIX века. Герой Саламина изображен там с бравыми усами. Такими, как на парадных портретах императора Франца-Иосифа. Обычные эллины брились, философы, как и сейчас, ходили с бородой, но трудно представить себе древнего грека с пышными «буденновскими» усами.
Афиняне подвергли Фемистокла остракизму; память об этом — целая груда черепков с его именем, найденных на местной агоре. Так же новгородцы поступили с Александром Невским.
Демократия похожа на тиранию тем, что старательно и последовательно избавляется от лучших. Инстинкт самосохранения учит толпу не доверять героям и гениям. Государственному величию афинская демократия предпочитала частную свободу, в чем была права. Греческое чудо — плод невиданной в древнем мире личной независимости. Демократию греки понимали как право заниматься своими, а не чужими делами.
Сегодняшняя античность не похожа на вчерашнюю. Раньше Элладу, царство ясной красоты и строгой меры, любили за Аполлона, теперь — вопреки ему.
Греция сегодня — это Гринвич-Виллидж Старого Света. Тут, на курортных островах, можно встретить сливки Европы, причем topless.[1]
В хрестоматийном рассказе Глеба Успенского «Выпрямила» герой обретает душевный покой и человеческое достоинство возле Венеры Милосской из Лувра.
А вот как выглядит тот же сюжет в современном английском фильме. Начинающая стареть домашняя хозяйка бросает опостылевшую семью и приезжает на каникулы в Грецию. Скоропалительный роман с греком-ресторатором на фоне Эгейского моря излечивает ее от хандры, и она с освеженными чувствами возвращается домой.
В первом случае героя «выпрямил» Аполлон, во втором — Дионис. Ту же тему, но с большим блеском развивает грек Зорба — и в романе, и в фильме с брутальным Энтони Куином. Английская, викторианская, буржуазная — короче, западная чопорность расплавляется под греческим солнцем. Зорба дает северянам урок чистой страсти и безудержного темперамента.
Кажется, что цивилизация и варварство поменялись местами, но это только кажется. Как говорят в чеховской «Свадьбе», «в Греции все есть!». Те же греки, что писали на статуях «ничего сверх меры», в вакхическом опьянении разрывали на части живых оленей.
Мы творим историю по своему подобию. Вернее, выбираем из прошлого то, по чему тоскуем в настоящем. Раньше нам не хватало классической простоты и ясности, теперь в цене не менее классическое безумие.
Многовековое иго Аполлона — от просветителей до марксистов- набило оскомину. Внятный, объяснимый, рациональный мир, схваченный причиной и следствием, как бочка обручами, вышел из историософской моды.
Как раз на этот случай — пресыщение разумом — у греков и был Дионис.
Могила придумавшего Зорбу Казандзакиса на его родном Крите стала объектом паломничества. Впрочем, здесь предаются не пьяным, а любовным безумствам — это ритуальное место свиданий.
* * *
Шелли говорил: «Все мы греки».
Греческое искусство так долго было образцом для подражания, что оно перестало ощущаться греческим и превратилось просто в искусство. Все новое пробивалось сквозь античный канон. Так Гете открывал готику. Колонна — знак истеблишмента. Шкловский понял, что пора левого искусства кончилась, когда в советской архитектуре появились колонны.
К XX веку накопилось столько гипсовых копий, что они стали отбрасывать пошлую тень на мраморные оригиналы. Сегодня близость к совершенству будит скорее подозрительность, нежели восторг. Поэтому как бы в пику эпигонам-академистам заиграла греческая архаика: чем дальше и проще, тем ближе и лучше.
В афинском музее кикладских статуэток собрано самое древнее из того, что вообще может быть: плоский камень-лицо с выдающимся носом, слегка намечены руки, ноги и гениталии. Это еще не человек, а только его черновик, иероглиф, примитивная схема, первый проект или детский рисунок.
Микеланджело взял в учителя Праксителя. Пикассо, Генри Мур, Модильяни подражали антропоморфным каракулям с Кикладских островов.
Собственно, греческий храм тоже предельно прост: крыша на подпорках. Дайте малышу кубики, и он неизбежно соорудит подобие Парфенона.
Хотя такую простоту и принято называть благородной, в принципе она чужда нашей культуре. («Баран прост», — с отвращением говорил один горьковский персонаж.) Западное искусство — будь то готические соборы, барочные дворцы или сталинские небоскребы — дорожит деталью. Красота здесь — сумма слагаемых. Средневековый кафедрал — это бесконечный «монтаж аттракционов». Он не соразмерен человеческой жизни — ее не хватает ни на то, чтобы его построить, ни на то, чтобы досконально осмотреть. Зато греческий храм весь как на ладони: его можно охватить одним взглядом и еще останется место на изрядную часть горизонта.
Спартанцы презирали искусство, но лаконизм роднил их с греческой эстетикой. Жителей Спарты вообще не интересовало неодушевленное. «Кадры решают все» — считали они и вкладывали все силы в воспитание нового человека. Поэтому от Спарты не осталось ничего, кроме имени, — впрочем, там ничего и не было. Однако их национальный характер и образ жизни оказались настолько специфическими, что из всех древних греков спартанцы вымерли последними.
Темные века варваров и турок они пересидели в Мани. Так называется средний из трезубцев Пелопоннеса. Этим до сих пор пустынным мысом, самой южной точкой материковой Греции, заканчивалась античная Лакония. Здесь воинственные потомки спартанцев сумели отстоять свою свободу, но, лишенные места в истории, они не могли ужиться друг с другом. Кухонные ссоры заканчивались кровавой местью, растягивавшейся на многие поколения. В результате любая деревня — памятник вековой вендетты. Каждый крестьянский дом — настоящая крепость с башнями: метровой толщины стены и оконца в размер карабина.
Многие маниоты перебрались отсюда на Корсику, где ту же кровную месть разнообразили разбоем. От них пошло популярное у романтиков XIX века племя корсиканских разбойников.
В свете сказанного стоит заглянуть в генеалогию самого знаменитого из корсиканцев: вдруг выяснится, что Наполеон был последним спартанцем?
* * *
Все знают, что «пенорожденная» Афродита вышла из моря. Другое дело — подробности. Но о них можно прочесть у Гесиода. Крон, сын Урана, «схвативши серп острозубый», оскопил отца:
Член же отца детородный, отсеченный острым железом, По морю долгое время носился, и белая пена Взбилась вокруг от нетленного члена. И девушка в пене В той зародилась.Даже подспудная память об этих драматических событиях будоражит купальщика. Море в Греции эротично. Исходящее любовной истомой, оно податливо, но упруго: наш удельный вес так точно сбалансирован с его плотностью, что можно часами лежать на спине не шевелясь.
На Корфу, разглядывая из воды соседнюю Албанию, я так и делал. Интересно, что то же ласковое море неблагосклонно к странам с коммунистической формой правления: хотя до албанского берега всего километр, пляжей там нет, зато виднеется что-то вроде цементного завода.
Но греков море любит. Наверное, потому, что они его обжили. До сих пор самый большой пассажирский флот в мире — греческий.
В здешних горах было мало толку от лошади, поэтому и всадников изображали полузверьми — кентаврами. Вместо животных греки одомашнили море — оно-то у них под рукой, возле дома. В омывающих Грецию морях плавают всегда в виду суши. И сегодня корабли, в том числе громадные океанские лайнеры, ходят по Эгейскому морю как трамваи, с частыми остановками.
Гомер сравнивал море с вином. Эгейская вода и правда темна. Она лишена малейшей балтийской белобрысости — бескомпромиссный ультрамарин. На таком фоне еще эффектнее смотрятся белые города, венчающие прибрежные скалы. Издалека они — как следы пены после бритья.
Умный контраст синего с белым, украденный государственным флагом, исчерпывает греческий колорит. Стены домов доводят известкой до белизны крахмальных сорочек, а чернильные двери и ставни глядят морскими колодцами. Греческая палитра экономит на красках. Никаких полутонов и нюансов. Древних греков мы себе представляем беломраморными статуями, современные ходят в черном, туристы не одеваются вовсе.
Море — лучшая часть греческого пейзажа. В остальном он состоит из жарких гор и колючек. Плавать здесь лучше, чем ходить. Зато с таким ландшафтом не соскучишься. У каждой долины, холма, ущелья свое лицо. Энгельс считал политеизм следствием разнообразия: на каждый ручей по нимфе.
Осматривая руины, мы, в сущности, ведем себя по-варварски: не замечая главного, путаем причину со следствием. Храмы, развалины которых нас притягивают, всего лишь рамы для той священной горы или рощи, ради которой они поставлены.
Греческие боги не нуждались в крыше над головой — они жили на природе. Вместе со всеми древними народами греки считали самоочевидной анизотропию мира: земля отнюдь не одинакова, она повсюду разная, поэтому есть места, где к богам ближе. Там-то и строили храмы. Они — как оклад в иконе.
Первым к этой топологической мистике меня приобщил Саша Соколов. Любовно показывая Вермонт, он уверял, что местные земли особые — они источают духовную энергию, так что деньги здесь меньше стоят.
Я не знаю, на что опирается эта антинаучная теория, но мне все труднее ее не разделять. В древних священных краях, таких, как Гластонбери короля Артура, Ассизи святого Франциска или Дельфы пророчицы-пифии, метафизический элемент сгущается до физического, его, кажется, можно пощупать. Тройственный союз земли, богов и людей ни для кого из них не проходит бесследно.
Верно, впрочем, и обратное. Мне всегда казалось, что в Новом Свете, где человек появился всего десять тысяч лет назад, природа еще не успела ужиться с нами. Не зря Америке так идут динозавры.
Более «допотопная» американская природа какая-то неприрученная: смерчи, торнадо, ураганы, град с голубиное яйцо (кто его, яйцо это, видел?). Фауна обильна и агрессивна, особенно комары, флора и ядовита, и неприступна, в лес не войти. Да еще в воздухе носится что-то чужое. Брат у меня, человек железного здоровья, который даже на «Солнцедар» не жаловался, в Америке превратился в хронического аллергика.
* * *
Этимология для Павсания — первая наука. Дотошно доискиваясь до истока корней, имен и названий, он связывает свою цивилизацию с тем нулевым моментом, когда она стала цивилизацией.
Греки всегда «плясали от печки». Память о первоначалах была неизбежной частью их повседневного опыта. Для нас история растворяется в безвестном прошлом: чем дальше, тем меньше мы о ней знаем. У них наоборот: самой яркой страницей была первая. Греки, как Лев Толстой, помнили себя с рождения. Каждый город чтил своего основателя. У каждой веши был свой изобретатель, у каждого закона — свой автор, у каждого обычая — своя причина. Ниже этой цивилизаторской черты уже не было ничего человеческого — там царила не история, а космология.
Твердо зная начала Вселенной, греки считали свой мир первым и последним. С нами, их наследниками, дело другое: мы-то видели, как умирала античность. То, что ее гибель совпала с рождением нашей культуры, заразило западную цивилизацию отчаянием: мы всегда то ли ждем, то ли жаждем конца истории, о котором не задумывались греки.
Они вообще мало заботились о будущем, полагая его уже свершившимся. Будущее считалось всего лишь невидимой частью прошлого.
Отсюда институт предсказаний и беспредельный авторитет пифии. Дельфийский оракул, регулировавший жизнь всей ойкумены, был гарантом их цивилизации. Здесь свершалось высшее таинство древних: здесь исчезало время.
Часы — наиболее емкая метафора любой культуры. Греки измеряли время клепсидрами: горшок с дыркой, откуда вытекает заранее отмеренный водяной ручеек. Водяные часы не управляли всей человеческой жизнью, как наши, механические, а всего лишь отмеряли в ней отдельные фрагменты. Время тут не ходило стрелками по кругу и не накапливалось пирамидками, как в песочных часах, а просто выливалось, возвращаясь в Лету. Клепсидра как бы одалживала время у вечности.
Сохранилась клепсидра, отмерявшая время для прений в афинском суде. Воды там всего на шесть минут. Не исключено, что это те часы, что «тикали» Сократу, которого этот же суд приговорил к смерти.
Сократ, которого Ницше считал родоначальником чуждой грекам эпохи «теоретического человека», говорил своим судьям: «Бог послал меня в этот город, чтобы я, целый день носясь повсюду, каждого из вас будил». Интересно, что ученик Сократа Платон изобрел будильник.
Шпенглер, описывая греков «людьми настоящего», приводит занятный пример: договор между Элидой и Гереей, который должен был иметь силу в течение «ста лет, начиная с этого года». Какой же это был год — осталось не отмеченным.
Эта детская промашка, напоминающая казарменный парадокс «копать канаву от забора до обеда», в контексте свежей истории оборачивается глубокомысленной притчей. Античная жизнь без будущего, которая так разительно отличалась от нашей устремленности к грядущему, сегодня пример для подражания.
Наделавшая шума теория конца истории на самом деле означает, что история осталась без конца. Лишившись апокалиптической точки — будь то атомная война или торжество коммунизма, наша культура осваивает новое для себя время — настоящее.
Вот мы и опять ученики античности. И может быть, самым важным даром греков окажется античное отношение ко времени.
Ренессанс, кстати сказать, начался, когда открыли прошлое. Не начнется ли другой ренессанс с открытия настоящего?
ВИД ИЗ ОКНА
Кожа времени
В конце века, который мы сейчас провожаем, я рассматриваю номер «Лайфа», вышедший в его середине: февраль 1953 года, журнал, помеченный важной для одного меня датой — днем моего рождения.
Как же выглядел, или, точнее, хотел выглядеть мир, когда мы с этим «Лайфом» в нем появились? Странно. Во всем номере нет ни одного негра, ни одного мужчины без галстука, ни одной дамы без шляпы. Банка супа «Кэмпбел» всего лишь банка супа, а не шедевр «поп-арта». Рекламные ковбои. Светлые, отдающие флуоресцентом краски холодных тонов: «красных» здесь нет, хотя Сталин еще жив. Зато есть сухощавый и невзрачный Эйзенхауэр, который в своей инаугурационной речи наставлял Америку в идеализме: «…блюсти веру отцов в бессмертное достоинство человека, гарантированное вечными нравственными ценностями и естественными правами. В этом миссия страны, назначенная ей Судьбой». Хиппи еще не появились, а битников не пускали в респектабельное общество — еще некому сбивать Америку с толку, развращая ее сомнениями.
Мне трудно представить себя в этом мире длинных автомобилей и дамских панталон. Я не мог бы быть тем веснушчатым шалопаем, который привычно складывает ладони в предобеденной молитве. И моим отцом не мог бы стать тот уверенный, слегка ироничный, деловитый, с ранней сединой мужчина, который держит рекламный стакан виски посреди всеобщего прогресса.
А где-то за обложкой обитает еще живая Мэрилин Монро. Она- высшая награда мужской Америке от женской — всегда готова отдать свою любовь скромному, работящему хозяину и добытчику, который ради нее и этих самых шалопаев каждый день на бирже и в конторе защищает свое скромное, умеренное счастье.
Странности этого безупречно причесанного и выглаженного мира оправданы тем состоянием бытийной нормы, которую безыскусно и потому искренне зафиксировал номер «Лайфа» от февраля 53-го года. Конечно же это вымышленная, иллюзорная, поверхностная норма, которая с высоты нашего времени кажется одновременно наивной и циничной.
Однако в чужом, отделенном временем и пространством опыте меня как раз и волнует поверхность жизни — ее кожа. Ощущение истории кажется мне прежде всего тактильным. Только потеревшись о шкуру эпохи, мы способны войти с ней в личный контакт. Мы двигаемся в истории, осознать которую можно лишь на ощупь. Сегодняшнюю дату определяет не газета, а воздух времени, оставляющий следы на наших внешних покровах — плащах, пиджаках, телах.
Опыт внешнего постижения мира чужд российским привычкам: мы — любители потрохов истории. В ней нас волнуют душа, смысл, предназначение, движущие силы, тайные энергии, подземные толчки, тектонические сдвиги — вечное, так сказать, de profundis.[2]
Но попади к нам путешественник из прошлого, то потрясли бы его не столько достижения прогресса, сколько выходки портных. Не этика, а этикет меняет ткань жизни, выкройку ее фасона.
Одержимая своей катастрофой, Россия погрязла теперь в прошлом не меньше, чем раньше в будущем. Известная русская болезнь — плохая ориентация во времени помешала ей заметить, что, помимо Октября, мир потрясали и другие, не менее важные и более актуальные катаклизмы. К концу века история вышла из социальных глубин на поверхность, чтобы заняться не тайным, а явным. Пока мы выгребаем против подспудных течений, мир колеблют волны житейского моря.
Наше время лишено глубины уже потому, что все главное происходит в сфере очевидного. Не слово, не речь, не спрятанный в глубь рта язык, а хищное око завоевывает мир, чтобы его ощупать — если не руками, то хоть глазами. Нынешние кризисы в Америке питаются самыми явными, самыми зримыми конфликтами, например между мужчинами и женщинами. Война полов — безнадежнее всех холодных и горячих войн — разделила общество куда более радикально, чем прежде, — не на классы, не на партии, не на поколения, а надвое.
Могли Герберт Уэллс, пугавший морлоками замороченное классовой борьбой общество, предвидеть, что в конце столетия самыми бурными проблемами Америки будут те, что рождает наша биологическая природа: аборты, особенности куртуазного ритуала, получившие юридическую кличку sexual harassment,[3] и право на добровольную смерть — эвтаназию?
История бежит от себя, возвращается вспять, чтобы заняться чуждыми ей вопросами — не об устройстве жизни, а о жизни как таковой. Теперь она решает примерно те же проблемы, что стоят перед всеми животными, начиная с амебы, — рождение, размножение, смерть. Впрочем, с такой триадой не соскучишься.
В мире, вышедшем на поверхность, все главное происходит снаружи, в области этикета, вопросами которого, например, занимается американский Верховный суд, решающий, можно ли джентльменам рассказывать дамам похабные анекдоты.
Пока остальные считают, что американцы бесятся с жиру, сами американцы говорят о конце истории. Опять трагическое несовпадение: Россия в нее еще только вступает, Америка — уже выходит.
И все же всех нас делает современниками календарь, так кстати подводящий черту и веку и тысячелетию, что невольно будит апокалипсические кошмары. Идея конца кажется потребностью индивидуального сознания, отравленного перспективой перетекания истории в биологию. Но мне всегда казалось, что прогноз экологической смерти служит эвфемизмом, скрывающим страх перед собственной кончиной. Крах и социальной, и технократической утопии вынуждает изменить масштаб предстоящего: экологическая катастрофа дает шанс не умереть в одиночку. Призрак гибели мира — последнее убежище личности, утратившей мечту о коллективном спасении. Все это — муки квазирелигиозного сознания, решившего приблизить Страшный Суд своими силами. Не худший вариант: растворить свои грехи в общих, придать смысл и завершенность мирозданию, пусть и за счет его ликвидации. В тени рукотворного апокалипсиса проще избавиться от ужаса персональной смерти.
В конце века я не верю в конец мира, потому что мне кажется это уж слишком легким выходом, избавляющим нас отличной ответственности.
Оптимизм ведь и в самом деле более ответственный склад сознания хотя бы потому, что свои трагедии труднее пережить, чем общие. Болезнь, развод, банкротство, кончина близких, а главное, скука, тоска обыденности страшнее глобальных катастроф: на миру и смерть красна.
Самое жуткое в апокалипсисе — это то, что его может и не быть. Жизнь продолжается за пределами нашего о ней представления, отказываясь раскрыть нам свой сокровенный смысл.
Вот и XX век завершается совсем не так пышно и грозно как ждали. Мир лишь потерял глубину, вывернулся наизнанку, обнажив вместо историософского нутра гладкую кожу этикета.
Толпа робинзонов
Мой любимый герой — Робинзон Крузо. И люблю я его как раз за поверхностность — суждений и привязанностей, замыслов и поступков. Средний человек, он лишен самомнения, равно присущего и тому, кто выше его, и тому, кто ниже. Его выделяют не богатство, не бедность, не воля, не характер, не гений, не злодейство — только судьба.
Самое симпатичное в Робинзоне — постоянство: оставшись один, он сумел жить так, как будто ничего не произошло. Робинзон создал иллюзорный социум — не из коз и попугаев, а из самого себя. Выжив, сохранив разум и свои прежние представления о мире, он внушил нам надежду на то, что социальные ценности имманентно присущи и каждому по отдельности. Средний человек, Робинзон Крузо репрезентативен: он достойно представляет человека перед природой как существо вменяемое, нравственное и разумное, как вполне удавшийся продукт европейской цивилизации.
Однако в XX веке с Робинзоном произошла трагическая метаморфоза. А ведь задачи ему предстояло решать знакомые — по словам Мандельштама, «задачи потерпевших крушение выходцев XIX века, волею судеб заброшенных на новый исторический материк».
Робинзон был так же одинок, как наш век в истории.
XX столетие чувствовало себя оторванным от прошлого не хронологией, а самим качеством перемен. Ощущение порога — тревожная интуиция предшествующей эпохи — полностью воплотилось в нашей. Та часть суши, которую осваивал XX век, на глобусе истории была необитаемым островом. Во всяком случае, в нашем отечестве. Не отсюда ли, между прочим, и эта идея — разрушить все до основания? Есть в ней заразительный соблазн. Ведь она обещает радость созидательной деятельности на пустом месте.
Может, не так уж и глупо было оборвать корни. Революция своего рода эмиграция. Порвать рубаху, сжечь дом, зарезать корову и пуститься за океан, рассчитывая только на себя и удачу. Азартная эмоция начать все сначала — не она ли и привлекает нас в любой робинзонаде?
Оставшись на пустом берегу, Робинзон заново ощущает ценность каждой вещи: он отстраняет предметный мир за счет дефицита. Поэтому у Дефо самые яркие герои — точильный станок и деревянная лопата.
Советский роман очень быстро нащупал эту тему. Так, например, Макаренко в своих книгах сумел подменить традиционный роман воспитания производственным романом. Посреди разрухи и нищеты вещи были и ярче, и интереснее, и дороже людей. В опустошенном революцией мире процветал культ вещей. По сути, весь советский роман — производственный. От «Цемента» до «Не хлебом единым», от Днепрогэса до Братской ГЭС, от Маяковского до Евтушенко советская культура воспевала рождение вещей. Дело было превыше всего, потому что мир без него пуст, как неподнятая целина. (Кстати, неплохо бы понять, почему революция-перестройка, обещавшая как раз тот же самый робинзоновский энтузиазм разрушения-воздвижения, увязла в апатии? Может быть, потому, что жалко было всего уже построенного? Раньше-то ломали чужое, теперь — свое.)
Однако, пока Робинзон трудится в одиночку, он подражает Творцу. Несколько Робинзонов- это Олимп. Но угрюма толпа робинзонов.
Пафос робинзонады растворился в темной воде массового общества, не различающего личного вклада. Не оттого ли американцы так любят сами строить и перестраивать свои дома, что тут труд нагляден — от начала до конца, от крыши до фундамента? Это ведь совсем не то же самое, что пахать от забора до обеда.
Человек XX века, этот обманутый Робинзон, пришел из прошлого на необжитый остров будущего как его полновластный хозяин. Как и настоящий Робинзон, он не был нищим, с ним были потрепанные, но еще годные в дело останки старой цивилизации — остов разбитого бурей корабля. Поэтому, пожалуй, самые волнующие минуты (или десятилетия) он провел за инвентаризацией. Лозунг «грабь награбленное» велик тем, что чужое добро нашло не только нового владельца, но и новое назначение и новую ценность. Есть варварская производственная поэзия в том, чтобы чинить сарай крышкой от рояля.
Не зря и наша интеллигенция с пылом принимала участие в экспроприациях. Может быть, отсюда тот духовный подъем, которым пронизаны почти все мемуарные свидетельства о самых первых послереволюционных годах. Скажем, издательство «Всемирная литература» выпустило, перевело, отредактировало и откомментировало сотни томов прошлой литературы в самое неподходящее для этого дела время — в Гражданскую войну. Видимо, разруха только подчеркивала сладость революционной робинзонады. Другое дело, что семена для посева брали из чужого урожая.
В самых радикальных порывах XX века, хоронящего ХIХ, всегда присутствовал момент подробного прощания с усопшим или убитым. Прежде чем сбрасывать классиков с парохода современности, на них бросали любопытный, если не влюбленный, взгляд. (Не той же робинзоновой алчностью питается и нынешний постмодернизм?)
Затосковал наш век только тогда, когда окончательно распорядился наследством и остался наедине с самим собой.
Стоило XX веку оглядеться, как мираж исключительности растаял на заре массового общества, где одному никак не удавалось отличиться от других. Робинзонов оказалось слишком много — они потерялись в скучной толпе себе подобных. Что и неудивительно. В конце концов, Крузо был заурядным обывателем.
Массовое общество- это толпа без структуры. ХIХ век знал суровую иерархию, застывшую в сословном и культурном каноне. Отсюда — его завидная устойчивость, явленная нам в совершенном и завершенном викторианстве. ХIХ век был ориентирован строго по вертикали. XX открыл и освоил горизонталь. «Кто был никем, тот станет всем» — эта наполеоновская модель, воодушевившая на подвиги наше столетие, не учитывает множественного числа.
Бонапарт сидел на чужом, приготовленном ему историей троне. Кухарка, управляющая государством, заняла свое место. Маленький капрал стал великим императором, маленький же человек, даже добравшись до вершины, остался маленьким человеком — той же кухаркой. Наполеон использовал в своих целях существовавшую и до него культуру. Захватившие власть кухарки, как писал Томас Манн о Гитлере, «поучительно предписывали нации культурную программу».
Тоталитарные эксперименты были попытками вернуть двухмерному горизонтальному обществу третье измерение, вернуть ему вершину.
Старая пирамида — самая устойчивая во всей геометрии фигура, которую так уверенно оседлал когда-то Робинзон, — рухнула еще в окопах Первой мировой войны понять которую мы уже не способны, потому что ее истоки целиком в прошлом. Для нас та война опутана пустыми подробностями, которые лишь маскирует грандиозное недоразумение — трагическое противоречие между старым сознанием и новой мощью.
XX век жестоко и окончательно расправился с XIX, руины которого и пришлось обживать массовому обществу. Жидкое, текучее, аморфное, оно заполняло собой пустоты, оставшиеся от некогда величественных сооружений. Мир, лишенный оформленности, тосковал по жестким конструкциям, по новой пирамиде, которая могла бы вернуть истории прежнюю надежность, предсказуемость, повторяемость.
XX век был заполнен поисками этой новой геометрии, способной смирить буйную стихию масс. Он жаждал закона — смысла как оправдания.
Хотя жажда и осталось неутоленной, похмельем она нас все же наказала. Пожалуй, только сегодня мы сможем наконец найти подходящую верхнюю точку, с которой история нашего времени читается как репортаж с неудавшегося пиршества духа.
Двое на качелях
Кафка писал: «Бесспорно мое отвращение к антитезам. Хотя они производят впечатление неожиданности, они не ошеломляют потому, что всегда лежат на поверхности». Тут слышится голос человека XIX века, который тоскует по нюансам и полутонам, по структурности жизни, потому, что Леонтьев называл «цветущей сложностью».
Однако в упрощенном и обобщенном мире XX века как раз антитезе предстояло пережить свой триумф. Тире — это родовое пятно революционного сознания — любимый знак препинания нашего столетия.
Одно из таких тире соединяет и разделяет изначальный, свойственный самой человеческой природе антагонизм сердца и ума, который во все эпохи реализуется в конфликте романтизма с классицизмом. Намертво связанные друг с другом, они тянут каждый век в разные стороны. Но наше столетие с присущим ему радикализмом попыталось разрубить этот гордиев узел.
Давайте пройдемся вдоль XX века, чтобы разобраться в тех псевдонимах, которые принимали романтизм и классицизм на протяжении его истории.
Родился XX век романтиком. Как и положено молодым, он восстал против догмы степенного прогресса, который и дальше собирался не торопясь завоевывать мир паром и электричеством. XIX век верил в учебник, задачник, справочник, энциклопедию, в периодическую таблицу, в собрание частных истин, складывающихся в общую правду. По этому прямодушию мы сегодня тоскуем, но выходцам из XIX века он не нравился. Им он, наверное, казался сухим и безжизненным, как гимназический учитель, как «человек в футляре».
Заранее разложив все по полочкам, легче искать нужное в темноте. Но новый век, устав от порядка, искал внутреннего света, смягчающего сухие прагматические сумерки. Восстав против механической сложности, он искал простоты — нового языка, на котором говорит не ум, а сердце.
Запад открывал для себя африканские примитивы, в Европе появились Матисс и Пикассо, в Америке — Голливуд и танго.
Обнаружив условность и ограниченность правды XIX века, XX рвался сквозь нее — из сознания в подсознание. Мир как на дрожжах рос и вширь и вглубь. Палитра культуры становилась ярче, экзотичнее, причудливее, капризнее. Дух науки, который культивировал XIX век, сменялся духом искусства. Даже на место добротной и прочной ньютонианской Вселенной пришла игривая и двусмысленная относительность Эйнштейна.
Во всем этом легко узнать вечные проделки шаловливого романтизма, который горазд ломать, а не строить спрашивать, а не отвечать. Но романтик пишет на полях классицизма. Поэтому XIX век легко справлялся с разбуженной романтизмом чувственностью, переламывая ее своей аскетической доблестью — верой в долг. XX век играл с куда более опасным огнем: реабилитируя голос сердца, внушая сомнения в разуме, он будил стихию, неизвестную прошлому, — массовое общество, которое новый романтизм освобождал от рациональной узды.
Вырвавшийся на волю человек XX века уже не нуждался в общей, объективной, отрезвляющей правде ХIХ века — правда у каждого была своя. Дух музыки, реявший над бывшим царством числа, зазвучал в музыке революции, той самой, которую звал слушать наш Блок.
Заботясь о симметрии, XX век нашел классицистский ответ романтическому вызову — модернизм. Оскорбляя критерии наивного правдоподобия, лелеемые Х1Хвеком, он был на самом деле его преданным учеником — не авангардом, а арьергардом истории. Пока одни отвергали монополию разума, другие пытались утвердить ее навечно. Модернисты были апостолами порядка. Они верили в торжество конечных истин с куда большим фанатизмом, чем скромные просветители ХIХ века. Модернисты искали универсальную формулу мира, которую можно вывести, рассчитать, предсказать, воплотить. Абстракционизм Кандинского и супрематизм Малевича суть рецепты, которые сводят хаос жизни к алгебре, к новой и вечной гармонии, к окончательному триумфу ума над сердцем. Рационального начала, попросту — смысла, в их картинах куда больше, чем у Репина.
Тихая наука XIX века, не устояв перед насилием художественного темперамента, преобразилась в могущественный Научный миф, который стремился подчинить мир своей правде — логике.
В этих координатах коммунизм был классицистским реваншем за романтический разгул революции. Тоталитаризм — это гипербола разума, поклоняющегося истине. Массовое общество нашло в нем себе логичную, научно обоснованную форму существования, ведь наука имеет дело с надличной правдой числа и факта.
Система против хаоса, техника против природы, государство против человека, общее благо против личного эгоизма, объективное против субъективного, деловитая магия против мистического экстаза, поэзия против прозы, фантастика против реализма, смысл против бессмыслицы, — в каждой из этих оппозиций можно проследить все ту же борьбу классицизма с романтизмом. Только для этого следует переклеить старые этикетки.
Например, сфера фантастического, принадлежавшая раньше тоскующему сердцу XIX века, стала в XX железным рычагом разума: не реалисты, а фантасты мыслили умозрительными схемами, сводя жизнь к повторяющимся, то есть наукообразным явлениям.
Другой пример — поэзия. Она — достояние классицизма, стремящегося к вечной идеальной форме, а проза — дитя романтизма, оберегающая его стихийную природу: стихи — это камень, роман — это море.
И так во всем: война жизни с расчетом, схемы со стихией, умысла с абсурдом заполнила XX век, которому повезло лишь в том, что маятник, раскачивающийся между романтизмом и классицизмом, никогда не останавливался.
Стоило тоталитаризму отвердеть и обзавестись классическим колоннами, как появился сюрреализм, свергающий власть разума. В ответ на массовую театрализацию жизни является неореализм с его установкой на естественную, а не сыгранную действительность. Технократическое насилие над природой встречает отпор со стороны «благородных дикарей», в том числе и наших «деревенщиков». Холодная война, логично разделившая Добро и Зло по классицистскому сценарию, взрывается молодежным бунтом, открывшим романтический третий путь в своем психоделическом бегстве.
Конечно, кажется, что на стороне разума — сила: пушки секретная полиция и концентрационные лагеря, а на стороне чувства — одни пустяки, цветочки. Но это не так. Классицизм питается воздухом абстракций, а романтизм, как Антей, припадая к земле, набирается от нее сил — не столько для прямой схватки, сколько для хитроумного обходного маневра.
В результате логика постоянно проигрывает все сражения: смысл растворяется в бессмыслице. И если подводить итог этой долгой битвы, то победителем окажется не классицистская «правда», а романтическая «свобода», которой XX век нашел свой синоним — абсурд.
Война со смыслом
Даниил Хармс в стихотворении «Молитва перед сном» просил у Бога: «Разбуди меня сильного к битве со смыслами».
Посреди державы и эпохи, подмявшей под себя бессмыслицу, Хармс сумел поставить веку диагноз и назначить лечение.
Давайте воздадим должное противникам. Ведь логика действительно логична. Ведь за каждым безумным проектом XX века — от орошения пустынь до осушения морей, от поворота истории до поворота рек, от строительства коммунизма до его перестройки — стояла Причина. Во всем этом был смысл, наглядный и доказуемый — как в формуле «социализм плюс электрификация». Чем больше тракторов, тем больше хлеба. Чем больше школ, тем больше умных. Чем больше сеять, тем больше жать. Чем больше — тем лучше.
Это экспансионистское мышление несет в себе благородное зерно, под которое было не жаль распахивать любую целину — классицистскую мудрость здравого смысла.
Возразить тут можно только одно: не работает. Жизнь не подчиняется ни сложению, ни умножению — в конце концов, не она, а мы придумали арифметику.
Абсурд — это убежище от непомерной власти таблицы умножения — оттенял собой весь XX век. На каждый его ответ абсурд находил свой вопрос. Разрушая, он строил, внося свой позитивный вклад в культуру нашего столетия.
История абсурда — это хроника отчаянной борьбы с хаосом, причем на его, а не наших условиях. Только абсурд был до конца честен в своей претензии отразить мир таким, каков он есть, а не таким, каким нам хотелось бы его видеть. Внося смысл во Вселенную, мы ее беззаботно упрощаем. Укладывая аморфную жизнь в любое прокрустово ложе, мы пытаемся приспособить к делу только те ее проявления, которые поддаются наблюдению и классификации.
Эта методология XIX века дорого обошлась XX, который всеми силами пытался упростить мир: придумав электрический утюг, он думал, что усмирил молнию. Но гроза, как говорят физики, слишком сложное явление, чтобы наука могла ее описать. Все утюги одинаковые, а все грозы — разные. Жизнь в отличие от ученого не имеет дела с повторяющимися явлениями — только с уникальными.
Сколько раз мы уже натыкались на эту антиномию, принимая свои законы за общие, фантазию за правду, поэзию за прозу. Представление о мире как книге, в которой уже есть все ответы, — величественное лирическое заблуждение, которое превращает Бога в писателя, а нас в читателей. Тем не менее в поисках адекватного прочтения XX век провел почти весь отмеренный ему срок (пока наконец не разлюбил читать вовсе). Только абсурд постоянно мешал ему углубляться в книгу бытия, утверждая что смысл мира лежит не в его глубине, а на той поверхности, которую мы населяем.
Камю говорил: «Покончить с собой — значит признаться, что жизнь сделалась непонятной».
Абсурд учил не умирать, а жить в непонятом мире. Каждый раз, когда очередное объяснение оказывалось ложным, он подхватывал отчаявшегося человека, брошенного здравым смыслом.
Не трагическими, а освобождающими кажутся открытия абсурда, история которого ведет нас от одной пропасти в другую, подхватывая на лету.
Чеховский герой не знал, что делать, но думал, что кто-то, в будущем, узнает, и был за эту веру наказан бесплодностью. Герой Кафки расплачивается за то, что он живет в мире, который ему непонятен. Персонажи Беккетауже и не задают вопросов, ибо твердо знают, что ответов нет и быть не может. И все же никто из них не отказывается от жизни, лишенной смысла. Может быть, потому, что смерть — это следствие разочарования в иллюзии смысла, которую абсурд и разоблачает? Абсурд нас удерживает на поверхности мира тем, что мешает заглянуть в его глубину.
В этом смысл и той «борьбы со смыслами», которую вел Хармс. Ведь строительство социализма велось над бездной, принимаемой за прочный фундамент. Попытка прорваться за пределы принципиально горизонтального и потому двухмерного мира XX века оборачивалась провалом; путь вверх вел вниз: вместо небоскреба Хлебникова получался котлован Платонова — яма в бытии, ставшая ему могилой.
Массовое общество обтекает землю, как океан, заливая собой все пустоты. Оно растекается по поверхности полого шара, не имеющего истинной глубины. Те, кто в детстве играл с лентой Мёбиуса, имеющей только одну сторону, могут себе представить эту топологическую ловушку, реализовавшуюся и в социальном и в культурном пространстве нашего века.
С первых дней в Америке меня преследует навязчивый образ вот такого двухмерного, плоского мира, лишенного объема: мир всегда повернут в профиль, он весь — как театральные декорации, где перспектива всего лишь уловка сценографа. Нарисованная, мультипликационная жизнь, которая вся исчерпывается поверхностью, — бутафорские гири, этикетные чувства, вежливый мир. Его можно пощупать, но нельзя прочесть; изобразить, но не постичь; увидеть, но не узнать. Его тайна лежит на поверхности, она внешняя, а не внутренняя.
Но именно этот мир сумел справиться с хаосом, заставив его вещами, — он меблировал пустоту. Это его способ обжить бездну, обставив и даже украсив ее клумбами. Он усвоил и освоил трагические уроки абсурда, приспособив себя к жизни, лишенной смысла. С основанием не доверяя опыту XX века, он стремится продолжить XIX, подражая его внешности, но не его внутреннему содержанию, ибо тут содержания нет вообще — одна форма.
Суть этого мира — образ, а не слово. Глаз, а не язык пророк его. Кино и телевизор вытесняют книгу, потому что ей больше нечего сказать в мире, лишенном языка. Слово рвется внутрь. Оно содержит в себе память, прошлое. Язык — это склад невостребованных смыслов, который обратился в кладбище с тех пор, как не поэт, а актер, лицедей стали героями эпохи. Извините за плоский исторический каламбур, но вспомним Рейгана.
Впрочем, только актеру и место в декоративной вселенной массового общества. Причем если тоталитарные режимы культивировали театр, то демократии ближе кино. Театральная роль — маска, в кино личина приросла к лицу. Она и есть единственная реальность: за белым экраном ничего больше нет — одна стена. Зато каждая роль уникальна, а не универсальна.
Как велика пропасть между «Черным квадратом» и Голливудом! Авангард вел нас в глубь бытия, к его умозрительному пределу, тогда как пошлая реалистическая поделка масскульта всего лишь скользит по его поверхности. Модернисты вкладывали в жизнь содержание, щедро наделяя ее смыслом. Боевик или телесериал тщится отразить реальность в ее самых поверхностных проявлениях. Но как раз этим он близок абсурду, который создавал текст без подтекста, искусство, защищенное от интерпретации.
Абсурд так же условен, легковесен и бестелесен, как современные поп-звезды, променявшие свою плоть на вечную целлулоидную или эфирную жизнь. Кафкианский герой типологически близок протеичному Майклу Джексону, который так легко меняет свой внешний облик, потому что внутреннего просто нет. Это утрированный Йозеф К., человек без свойств, чья неповторимость рождена пластической хирургией.
Набоков как-то заметил, что у Грегори Замзы был выход: воспользоваться превращением и вылететь в окно на подаренных ему автором крыльях. Упустив эту возможность — безмозгло порхать, он отказался от свободы. Внешнее превращение не затронуло его человеческое нутро. А вот XX век сумел вывернуться из-под ярма смысла, используя метаморфозу себе на пользу в вывернутом наизнанку мире.
Однажды я беседовал с американцем о том, кто больше всех изменил наш век — Ленин, Гитлер, Сталин. Мой собеседник пожал плечами и сказал, что в его мире единственную революцию произвели «Битлз».
И ведь правда — электрогитара и магнитофон, телевизор и Голливуд вышли победителями из схватки и с XIX, и с XX веком. Масскульт, презревший глубину, ушел в сторону от вечного спора романтизма с классицизмом, став новой движущей силой истории.
Отсюда и перестройка. С тех пор как внешнее вытеснило внутреннее и мир надел джинсы, у коммунизма не осталось шансов. В массовом обществе капризы моды накатывают как волны и никаким государственным волнорезом с ними не справиться: они ведь возмущают поверхность вод, а не их глубины. Вот и коммунизм победили по-абсурдистски: с ним просто перестали спорить. Каждый женатый человек знает, что лучший аргумент в семейной перебранке — молчание.
Умирая, XX век наконец усвоил урок: любая попытка упростить мир за счет внесения в него схемы натыкается на хаотическую игру неоформленной, дикой жизни. Именно поэтому нельзя снять боевик на все времена. Именно поэтому любой халиф — на час, и бестселлеры живут неделями, и газетные сенсации доживают лишь до следующего утра. Произвол стихии всегда одолевает устроенный человеческой волей порядок.
Но разве не об этом предупреждали абсурдисты, которые, обнажая хаос, учили доверять только тому, что лежит на поверхности жизни, заклиная нас не лезть в потроха Вселенной?
Парадокс абсурда в том, что, будучи предельно безжалостным к человеку, он по-своему гуманен. Ведь, оставляя нас без надежды на общую правду, он освобождает личность: если больше доверять некому, остается доверять только себе.
Как-то я заметил, что в окружающем мире дороже всего мне бессмыслица. Или, говоря иначе, мне кажется имеюшим смысл лишь то, что честно признается в своей беспомощности его найти. С одной стороны, это великие книги XX века, которые тем и отличаются от остальных, что оставляют читателя наедине с хаосом. С другой — то, что маскирует этот хаос жалкими и оттого трогательными подделками. Хуже всего претензия на универсальность своего опыта осмысления мира, не позволяющего с собой так обходиться и потому выдающего автора с головы до ног.
Искусство нашего времени может быть либо откровенно беспомощным, либо откровенно фальшивым. Все остальное — от лукавого.
Вид из окна
То, что мы видим, выглядывая из окна в конце века, весьма похоже на пейзаж, открывавшийся человеку, жившему в его начале. Наше столетие как бы само себя вычло. Все его дикие выходки незаметно растворились в серых исторических буднях. Вроде все обошлось. Во всяком случае, прощального ядерного фейерверка не предвидится.
То, что осталось, уже было. Глобус теперь делит не идеология, а геополитика с ее прежними атрибутами — национализм, суверенитеты, религиозные распри, торговые войны, спорные границы, сферы влияния, баланс сил.
Но сходство между будущим и прошлым, как все в наше время, внешнее, а не внутреннее. XX век лишил нас стремления к глубинному преображению жизни, к духовной революции, способной изменить и ход истории и качество ее материала.
Тут очень кстати пришлась перестройка. Эта капсула XX века сумела в убыстренном, как в кино, темпе прокрутить всю его историю, чтобы последовательно отказаться от всех заблуждений, связанных с не реалистически завышенной оценкой человека. Смешно вспоминать, но ведь успехи перестройки отсчитывались публикациями запрещенных книг, каждой из которых приписывалась судьбоносная роль. Провал перестройки даже больше, чем крах коммунизма, убедил окружающих в том, что правда еще не свобода. Может быть, поэтому и победа в холодной войне вместо упоения принесла тревожную растерянность, которая стерла последнюю тень утоп и и с лица XX века.
Мир, оставшийся без перспективы, нашел себе утешение в эскапизме.[4] Жизнь, слишком голая, чтобы на нее можно было смотреть прямо, заставляет нас обвешивать себя бахромой. Закон, хорошо известный порнографическим журналам: обнаженная женщина слишком нага, чтобы будить вожделение, так прикроем ее кружевными чулками. Вместо того чтобы оголять реальность, украсим и занавесим ее. Вместо того чтобы срывать мишуру, приумножим декорации — спрячем обыденность под ритуалом, заменим этику этикетом, отольем мираж в бронзе, обернем пустоту в шелка и бархат.
Вот так, пудрой и помадой замазывая трещины в бытии, наш век впадает в детство. Сейчас он наклеил себе чужие усы и играет во взрослое, надежное, основательное и добропорядочное XIX столетие.
1992
ХОРОВОД
Пролог
Прежде всего не будем торопиться. Трудно поверить, что такой тонкий и, по убеждению многих, деликатный человек, как Чехов, опускался до дидактических афоризмов. Скорее уж мы как раз из пошлой любви к ним упрощаем Чехова. Краткость бесспорно сестра таланта. Одна из сестер в этой громадной семье, где одних муз девять душ.
Многословием, конечно, часто маскируют пустоту, но ведь и торопящее читателя тире обычно появляется там, где автору сказать нечего. Оно соединяет края пропасти, которая разверзается между двумя мыслями. Не будь хлипкого мостика-тире, писателю пришлось бы заполнять бездну содержанием до тех пор, пока читатель не переберется на другую сторону. Этим как раз и занимались Толстой с Достоевским, напрочь лишенные добродетели лаконизма. От лаконцев, кстати, в литературе остались одни героические афоризмы, как бы написанные мечом-тире.
Чеховский совет, похоже, рожден телеграфом: точка-тире, точка-тире. Не уважение ли к электричеству, которое так ценил Чехов, привило писателям склонность к эллипсам и прочим литературным аббревиатурам? Раз за каждое слово надо платить, следует избавляться от ненужных слов.
Между тем литература является как раз искусством ненужных, лишних слов. История работает с необходимыми словами: приказы, лозунги, законы, литература — с теми, которые остались. Понятно, что вторых, необязательных слов больше, чем первых. В любой библиотеке толстых книг больше, чем тонких.
Однажды в типографии, где я работал метранпажем, случился пожар, повредивший линотипы. Остались только старинные наборные кассы с допотопными, вплоть до ижицы, шрифтами. И вот мне пришлось вручную, как Ивану Федорову, набирать передовую в свежий номер газеты. Тут я убедился, что цена каждого слова изрядно возрастает, если его составлять из литер. Кажется, один Розанов жалел своих наборщиков, что и ему не помешало сочинить полсотни томов.
Впрочем, раньше труд был дешевле, а слова дороже. Как-то в музее мы с одним поэтом осматривали средневековое Евангелие. Я опрометчиво высказался насчет самомнения автора, чей текст переписчики выводят золотом на пергаменте. На что поэт, по-моему не без зависти, заметил, что не видит в этом ничего странного, если учесть, Чьи слова в данном случае составляли текст.
Однако речь о другом. Когда я только учился водить машину, меня всегда беспокоила дорога. Очень хотелось знать, что за поворотом, в каком ряду ехать, где затормозить, где обогнать — и так до самого конца. Перед тем как сесть за руль, я пытался проиграть в уме сценарий всей предстоящей поездки, что, конечно, невозможно. Дорога так велика, так длинна, так обильна неожиданностями, что не стоит даже делать вид, будто карта ее заменяет. Но как-то вдруг я почувствовал — не понял, на это-то меня и раньше хватало, а именно почуял, — что дело не в дороге, а в машине. Пока она в порядке, ни о чем не надо беспокоиться — надо просто гнать зайца дальше. (Тут, конечно, намечается аналогия с литературой, хоть и не совсем точная. И хорошо, ибо с некоторых пор я с подозрением стал относиться ко всему, что делится без остатка.) У опытного водителя вместо плана предстоящего пути брезжит лишь адрес: из пункта А в пункт В. Посередине опять спартанское тире, на которое совсем не похожа настоящая дорога, обильная виражами, приключениями и переживаниями. Но мы даже себе боимся наскучить подробностями.
Впрочем, и афоризм обманчив: его мнимая решительность больше обнажает автора, чем скрывает его от нескромного взгляда. Надо только чуть приглядеться к отточенной до лаконизма мысли, чтобы увидеть за ней голого, дрожащего мыслителя. Увы, и афоризм — вид исповеди, не рискующей поделиться с читателем подробностями.
Таким сплошным афоризмом, кстати, был коммунизм, который «квантовался» лозунгами, призывами, манифестами, стихами и любыми другими текстами, куда можно вставить тире. Даже тех, кто спорил с ним, он соблазнял той же пунктуацией, провоцируя на обобщения. Власть упрощала литературные задачи: правду ведь можно сказать только о том обществе, которое ее скрывает. Культура, вынужденная отказаться от антитезы «правда-ложь», обнаружила на ее месте пустоту, которую предусмотрительный Набоков давно предложил заполнять подробностями, этим «аристократическим элементом в государстве общих понятий».
Особо хороши подробности у талантливых интерпретаторов. Трактуя чужой текст, исследователь, честнее сказать — соавтор, строит концепцию из готовых кирпичиков, обращаясь с оригиналом с величайшим произволом. В этом он подражает автору, который ведь тоже своевольничает со своим материалом — жизнью.
И все же для захватывающих, пленяющих воображение и заражающих духом соперничества интерпретаций требуются универсальные концепции с претензией на конечную правду, на единый все объясняющий принцип. Идея свести разнообразие к единству покоряет тем, что обещает упростить мир до того предела, за которым мы уже сможем с ним справиться и сами. В этом красота и прелесть всех великих гипотез: от марксизма и фрейдизма до бахтинского карнавала и ОПОЯЗовского формализма. При этом сама теория стремительно теряет убедительность. Интеллектуальный монолит разрушают исключения, которых накапливается столько, что и правила не остается. Сложность разъедает простоту. Тем не менее конкретная интерпретация от этого поразительным образом не страдает. Вероятно, она, трактовка текста, и есть главный результат теории. Последняя служит лишь опорами, строительными лесами для возведения первой. Наверное, нечто похожее знают и точные науки, где неверные, ошибочные, заведомо неполные теории дают «работающие» результаты в виде машин и приборов.
Интерпретация на самом деле не объясняет тексты, а множит их. (Ну почему беззаботным беллетристам позволен тот авангардный произвол, который запрещен авторам, пишущим не о жизни, а о ее культурных отражениях? Где «филологический» роман, в котором автору доставляется такая же свобода говорить безответственные и недоказуемые вещи, что и персонажам художественной литературы? Писатель прячется за спины вымышленных героев, а тут прятаться не за кого, как на бруствере: рвануть рубаху на груди — стреляй, кому не лень. Всем лень.) И все же интерпретатору нужна претензия на универсальность его метода, чтобы справиться с хаосом культурного феномена. Эстетика тут играет роль просодии — это способ организации протоматерии культуры, попытка найти в ней закономерность, установить иерархию, раскрыть структурность. Поэтому со временем, когда эстетическая теория обнаруживает свою ложность, интерпретация сохраняет ценность. Критика бывает либо талантливой, либо бездарной, но никогда-правильной. Претензия на научную достоверность приводит к появлению исключительно скучных трудов, неинтересных во всех своих деталях. То-то структуралисты сами себя читают с тоской. Их ученость — демонстрация методологических возможностей, упрямая, но не ведущая за собой читателя.
Проблема интерпретации неизбежна для любой культуры, ибо так она приручает и воспитывает своих клиентов. Ренессанс начался с интерпретации античности, а значит, его первый герой не художник, а критик, не творец, а истолкователь, не писатель, а читатель.
Казалось бы, многозначительная параллель с нашим неоалександрийским веком. Однако тогдашние читатели и почитатели антиков были куда самостоятельнее, а попросту наглее в своих трактовках классиков. Мы не столько интерпретируем, сколько укладываем и упаковываем. Они хотели пустить в дело, а мы — заморозить и в музей.
Все-таки Ренессанс любил свою эпоху больше чужой, поэтому художники всегда наряжали древних в современные костюмы. Это все равно, что играть Гамлета в джинсах — практика хоть и распространенная, но не повсеместная.
Однажды в Ассизи я встретил веселого францисканца. Указывая на варварски смытую фреску собора, он объяснял, что раньше не относились к искусству с трепетом — всегда можно было позвать другого художника, чтобы тот сделал роспись еще и лучше. Обычно это оказывалось правдой. Старое тогда не считалось заведомо лучше нового.
Бернини, чтобы отлить папский престол в соборе святого Петра, ободрал бронзовую крышу с римского Пантеона. Какой же самоуверенностью обладал художник, посчитавший, что он использует античную бронзу с большим толком.
Конечно, можно вспомнить, как развалили свои столицы Сталин и Мао, но тут ведь еще дело и в художественной да и житейской бездарности режима. Одно дело — если по старинной иконе пишет Леонардо, другое — Лактионов.
Некоторая доля хамства, которое с таким азартом прививали XX веку футуристы, пожалуй, научила бы нас с большим достоинством и уважением относиться к сегодняшнему дню. Антикварный дух не красит любую культуру, отравляя ее неприязнью к современности. Когда подобные восторги преобладали над нормальным цинизмом в античности, шедевром греческой словесности стал подробный путеводитель Павсания.
Явление героя
Для меня современность начинается с развилки, разделившей культуру на два враждующих лагеря. Этот роковой перекресток охраняет один из самых важных литературных героев — Шерлок Холмс. Он стоит у завершения долгой и славной традиции. Учитывая его рост, это даже не точка, а восклицательный знак, который европейская словесность поставила на полях мировой культуры. Рассказы о Холмсе — свернувшаяся в клубок литературная вселенная, ее белый карлик.
Выродившийся космос просветительского, романтического и реалистического романа наделил детектив своей энергией, но не способностью к продолжению рода. Поэтому хороший детектив всегда должен сохранять хронологическую дистанцию между читателем и героем. Этот ностальгический жанр — пришелец из мира иной психологии. Любая подробность холмсианы ценна, как пыль веков, как черепок, как руины рухнувшего храма, который тем нам дороже, чем меньше мы верим в свою способность его отстроить. Холмс — последний холм на покатой равнине. Его мир ещё работает как часы. Ни разу не опоздал ни один из тех бесконечных поездов, на которых сыщик разъезжает в каждом рассказе. Ни разу не задержалась телеграмма, не было случая, чтобы не оказалось под рукой кеба, или полицейского, или свежего выпуска газеты, или чистого воротничка. В критическую минуту Холмс всегда может положиться на свою цивилизацию. Как писал верный друг Холмса Честертон, тот, кто борется с преступниками, защищает цивилизацию от анархии. В этом — романтический пафос детектива, ибо «нет приключений романтичнее и мятежнее, чем сама цивилизация». Однако романтизм детектива рационалистический: тут ничего не остается на долю случая, судьбы, рока.
У Достоевского все случайно встречаются друг с другом. В «Докторе Живаго» без таких случайных встреч, происходящих с уже комическим постоянством, не осталось бы сюжета. А вот Шерлок Холмс сидит на месте и ждет звонка в дверь. Преступление здесь отклонение от нормы, которое лучше всего подчеркивает ее этическое и эстетическое достоинство.
В сочинениях доктора Уотсона последний раз расцвел идеал внятной и разумной вселенной, этой блестящей утопии XIX века, которую сплетали железнодорожные рельсы и телеграфные провода. То-то Холмс не отходит далеко от почты и вокзала. Зато отдыхать он отправляется в Корнуолл: дикая глушь, холод, туман, непогода, безлюдье, а главное — торфяные болота. Ну что может быть здесь заманчивого для открывших комфорт британцев? И все же Холмса так и тянет к этим торфяникам. Наверное, на заболоченных пустошах, где единственное жилье — пещеры неандертальцев, Холмс острее чувствует центральную оппозицию своей культуры — антитезу между природой и цивилизацией. Природа для него враг. Он не просто горожанин — он воинственный защитник города, его рыцарь.
Тот же Честертон назвал детектив первоисточником городской поэзии. Романтизм Холмса связан не с пейзажем, а с ведутой.[5] Греется он не у костра, а у камина, охотится не в лесу, а в трущобах — в свете фонаря, а не луны. Природа была для Холмса языческим эпосом, архаическим преданием, заповедником звериных страстей. То-то в торфяниках бродит чуть ли не динозавр — собака Баскервилей!
Холмс — памятник психологическому роману. Он отпочковался от того вида эпического реализма, который больше всего интересовался сюжетом, видя в нем метафору, если не слепок человеческой жизни. Холмс — это эпилог к Бальзаку и Диккенсу. В нем сконцентрировалась повествовательная энергия XIX века, нескромно, но и не без оснований считавшего себя вершиной истории.
Детектив — признак как социального, так и литературного здоровья. Он удобен тем, что обнажает художественные структуры. В принципе любое преступление — это идеальный в своей наготе сюжет. Каждая следственная версия тождественна психологическому мотиву. За нашим жадным любопытством к уголовным процессам стоит надежда проникнуть в тайну личности — и чужой, и своей. Сама процедура сыска есть философский дискурс вроде сократического диалога, где методом проб и ошибок выясняется истина о человеке.
К тому же детектив питается уликами, что вынуждает читателя не пренебрегать подробностями. Здесь все плотно увязано в один узел. Никаких не стреляющих ружей — любая деталь может оказаться решающей и для жизни, и для сюжета. Для своего «Улисса» Джойс мечтал о читателе с неизлечимой бессонницей, но мог бы удовлетвориться и любителем детективов, который, уподобляя себя либо сыщику, либо преступнику, не спускает с автора глаз, справедливо ожидая подвоха в каждом абзаце.
Эта повышенная алертность уходит в прошлое вместе с самим детективом. Новое поколение слишком быстро утомляется сложным сюжетом. Оно предпочитает полицейскую драму, где от зрителя ничего не скрывают. В Америке детектив становится респектабельным жанром — на нем даже заиграли отблески благородной старины: хрусталь, серебро, голые плечи, застольные манеры. Однажды я видел постановку Агаты Кристи, где довоенный английский быт реконструировался с такой изысканной точностью, что даже мусор в фильме был подчеркнуто серым, бесцветным, удивляя современного зрителя, привыкшего к ярким и аляповатым оберткам.
Увы, любование фоном, окраиной текста, как всякая стилизация, предвещает жанру близкую смерть.
Поиски жанра
Шерлок Холмс относился к сверхъестественному с демонстративным безразличием. Зато сам Конан Дойл с неукротимой энергией проповедовал веру в контакты с потусторонним миром. Он считал спиритизм отраслью науки, которая наконец соединит реальность физическую с метафизической.
Конан Дойл писал: «Вместо ада и рая спиритизм предлагает концепцию постепенного подъема по лестнице бытия без тех падений и взлетов, которые мгновенно превращают человека либо в ангела, либо в демона». По сути, тут изложена программа развития человека, перешагивающего через смерть, чтобы продолжить свое существование в иных мирах. И программа эта — в викторианском духе — эволюционная. Спор души с телом рассматривался как практическая задача, решением которой и занимались медиумы на своих спиритических радениях.
Когда мой отец лежал в больнице с инфарктом, умер его сосед по палате — пожилой полицейский. Но врачам удалось вернуть его из состояния клинической смерти. Тут же прибежали люди с магнитофонами, которые записали посмертные впечатления пациента. Оказывается, в каждой американской больнице есть особый отдел, собирающий такие сведения в надежде превратить метафизику в экспериментальную науку. А пока информацией о посмертном опыте пользуются врачи, психологи, священники и гробовщики. Тот полицейский, кстати, посоветовал моему отцу не бояться смерти — сам он теперь к ней готов, только вот за машину надо еще год выплачивать.
Несмотря на прагматический, утилитарный дух, по-прежнему отличающий англосаксонскую цивилизацию, и эта больница, и этот полицейский никак не укладываются в мир детектива. Похоже, что наклонностям нашего века больше соответствует другой жанр — фантастика, сохраняющая, отчасти лукаво, отчасти по простоте, эпитет «научная».
Если детектив — это паразит на теле реализма, то фантастика родилась из модернистской литературы, из ее интереса к «дегуманизированному» (по отнюдь не обвинительному термину Ортеги-и-Гасета) искусству. Ведь, в сущности, единственная тема фантастики — контакт с неземным разумом. В переводе с научно-фантастического жаргона получается теологическая проблема — кто кого сотворил по своему подобию: человек Бога или Бог человека? Фантастика, стремясь избавиться от антропоморфизма, заражала читателя мечтой о диалоге. За популярностью этого жанра стоит страстное желание вырваться из человекоподобного мира, из своей судьбы, из нашей шкуры и — оглянуться, посмотреть на себя со стороны чужими глазами. Для того и надо найти другого и наладить с ним контакт.
Метафизика для бедных, фантастика питается остатками целостного религиозного сознания, которое она противопоставляет позитивизму детектива. Как XX век перечеркивает XIX, так фантастика разрушает детектив. Нагляднее всего этот процесс там, где один жанр прямо на глазах читателя становится другим. Как раз такую книгу и сочинил классик НФ Станислав Лем — это повесть «Следствие», написанная в утрированно детективном жанре. Не исключено, что Лем забавлялся мыслью спародировать Шерлока Холмса. Во всяком случае, дело происходит в Англии, герой — сотрудник Скотланд Ярда, погода, естественно, туманная.
Фабула повести затейлива, но ясна. В маленьких моргах возле сельских кладбищ обнаружены трупы в неестественных позах. Создается впечатление, что кто-то их пытался передвигать либо, что, конечно, интригует куда больше, трупы двигались сам и. Итак; в центре повествования, как и положено, мертвецы. Но если в обычном детективе автора интересуют причины смерти героев, а значит, их жизнь, то тут главные действующие (в прямом смысле слова) лица — трупы. Дальше, как и положено, Лем устраивает парад версий, каждая из которых как будто копирует «дедукцию» Холмса, и только в финале книги происходит концептуальный взрыв, разрушающий и отменяющий сам жанр.
Детектив имеет дело с конечным процессом; общий набор версий включает и правильную — здесь всегда есть виновник, он же преступник. Фантастика стоит перед беспричинным миром, в котором вместо реальностей одни мнимости. Лем перебирает вереи и не для того, чтобы найти истинную, а для того, чтобы убедиться в их ложности.
На схожем приеме построен удивительный московский театр Анатолия Васильева, где действие происходит не только на сцене, но и в зрительном зале, и в коридоре, и в фойе, и за кулисами. Актеры продолжают играть, когда на них не смотрят, потому что в сценическом действе нет определенного, уникального смысла, к которому бы и сводилась постановка. Театр Васильева — это стрельба веером, так как неизвестно, где мишень.
Впрочем, у Лема все ружья не стреляют — все версии не работают. Более того, неизвестно, был ли преступник и было ли преступление. Автор последовательно выдвигает и частично (но только частично!) опровергает серию объяснений феномена «воскрешений»: злоумышленники-маньяки, особый вирус, заставляющий двигаться мертвое тело, пришельцы, изучающие на трупах человеческие реакции. Все эти версии отрабатываются, насколько это можно, но доказать их не удается.
Тогда вместо криминальных и научно-фантастических гипотез выдвигаются метафизические. Трупы «оживают» по воле Бога, который последний раз проявлял ее таким образом две тысячи лет назад в Палестине. Тут Лем выдвигает вызывающе оригинальную концепцию спорадически являющегося Бога, — Бога, который существует «иногда». Но и такая версия, этакое евангелие агностиков, тоже неокончательная. И тогда Лем предлагает еще один, самый провоцирующий вариант: в обычном детективе преступают законы юридические, в этом — физические. Почему мы, собственно говоря, решили, что трупы не должны двигаться? Потому что это противоречит нашим представлениям об устройстве Вселенной? Ну и что? Герой-сыщик, то ли наследник, то ли антипод Шерлока Холмса, в припадке теологического экстаза восклицает: «Математическая гармония Вселенной — это наша молитва, обращенная к пирамиде хаоса. Во все стороны торчат куски бытия, лишенные всякого смысла, но мы считаем их единственными и едиными и ничего другого не желаем видеть». Между тем мир — это игра статистики, «извечная мозаика случайных узоров».
Лем спихнул читателя с удобного кресла в дикую Вселенную статистических флюктуаций. Из мира детектива, где торжествовала причина, он выгнал нас в пустоту, где не существует ничего определенного, ничего постоянного, ничего повторяющегося. Здесь «все позволено» не только в моральном, но и в физическом смысле.
Детектив — апофеоз разумной воли, у Лема же весь пафос — в беспомощности. Мало того, что ни одну версию нельзя окончательно доказать, — автор не дает и любую из них окончательно опровергнуть. Лем утверждает, что мы не можем познать окружающий мир, ибо он не похож на нас. Только наша слабость, страх, комплексы заражают Вселенную антропоморфизмом. Это все равно, что искать часы под фонарем, а не там, где они потерялись.
Детектив способен решить только те задачи, которые он сам себе задает. Это сборник упражнений с ответами. Фантастика силится представить себе загадки, заданные другими, загадки без разгадок.
Детектив оптимистично обещает, перебрав все возможное, найти искомое. Фантастика заранее обречена на неудачу, так как она пытается исчерпать неиссякаемое. Ее рационалистские иносказания скрывают тягу к инобытию. Под наукообразными эвфемизмами таится надежда на мистическое преображение. Фантастика — это попытка бегства из антропоморфной Вселенной в настоящую.
Впрочем, детектив с открытом концом, который Лем использовал для демонстрации своего иронического солипсизма, можно превратить и в занятную игрушку. В популярном американском фильме «Основной инстинкт» совершается ряд убийств, но неизвестно кем. Улики подобраны таким образом, что позволяют обвинить каждого из героев, составляющих любовный треугольник. Есть и еще одна, кажется, незамеченная публикой возможность: преступников может быть несколько, в том числе и тех, о которых не знает зритель, ибо они остались за пределами сюжета. Тайна этого преступления захватила страну. Мне даже приходилось видеть данные социологического опроса — личность убийцы и развязка голливудского детектива определялись всенародным голосованием.
Забавный этот трюк, конечно, жанру не поможет. Детектив не приспособлен к жизни в статистической Вселенной, он не может иметь дело со случайным миром — ему нужна бесспорная причинно-следственная связь, которую наш век обеспечить не в состоянии. Как постоянно пишет тот же Лем, эпоха, открывшая массовый терроризм, сняла кардинальную для детектива проблему преступных мотивов: жертвы, например заложники, выбираются случайно.
Детектив, плод взыскующего точных знаний разума, волнуют те же вопросы, что и ученых: кто, как, где, когда. Единственный вопрос, занимающий фантастику, заимствован у религии и запрещен наукой — ПОЧЕМУ.
На этом разделении сфер с грандиозным успехом сыграл Умберто Эко. В книге «Имя розы» он соединил метафизическую атмосферу с детективным сюжетом. Это роман о приключениях ясного (чистого?) разума в теологическом тумане. Сквозь него, тщательно огибая религиозные истины, и продирается рациональная мысль. В борьбе со злом она доказывает свою бесспорную, хотя и ограниченную поимкой злоумышленника пользу.
Однако в книге Лема «Следствие» под сомнением как факт преступления, так и наличие преступника. В счастливом мире Шерлока Холмса всегда можно найти виноватого, у Лема все безнадежно, ибо виновных нет. Мир тут мучается поиском смысла, постоянно спрашивая вместо пустого «как» роковое «почему».
Детектив проблему зла перекладывал на плечи преступника — фантастика возвращается к первоисточнику. Всекулярном, в» обезбоженном», по выражению Хайдеггера, мире нет оправдания зла. Об этом написан лучший роман Лема «Солярис», который можно толковать и как апологию Бога. Контакт невозможен, поскольку не только человек, стремясь к Богу, не способен постичь Его, но и Бог не может постичь человека. Отсюда рождается трагический образ Бога-импотента, невсемогущего Бога, Бога-неудачника, ущербного Бога, «мука которого не обещает искупления, который никого не спасает, ничему не служит, просто есть».
Метафизический пейзаж
Конечно, фантастика, как уже было сказано, богословие для бедных, теология толпы. Массовое общество породило не только свое искусство — поп-арт, но и свою поп-религию. От неоязычества до «научной» религии, от восточного мистицизма до волшебных исцелителей, от телепатов до пришельцев- поп-религия включает в себя все, что стремится уйти от монополии рационализма. Это ответ «фантастики» «детективу», подсознательный протест нашего века против механической Вселенной, против до конца объясненного мира, против жизни без тайн.
Небрезгливая тотальность поп-религии вызвана тем, что в секулярном мире все норовит обернуться богоискательством. Кризис рационализма, который, как пишет Лем, был всего лишь «модой, а не методом», оставил нас в подвешенном состоянии. Вера же, как гравитация, придает жизни вес и вектор. Вот мы и мечемся в неосознанных поисках религии, норовя обнаружить под каждой маской теологическую проблему. Это и позволяет расслышать в поп-арте голос поп-религии, обнаружить ее метафизические построения в масскульте, что, естественно, проще всего там, где он гуще всего, — в Голливуде.
Как на витражах и иконах, как на церковных фресках, этих катехизисах для неграмотных, которые нам дороже всей ученой схоластики, в кино, в свете волшебного фонаря, рождаются мифы массового общества. За каждым грандиозным успехом Голливуда, вроде того, который выпал на долю «Инопланетянина» или «Бэтмена», кроются тайны не ремесла и не искусства, но мифотворчества. Художники поп-арта, вроде лояльного до дерзости Энди Уорхола, почуяв мощь массовой культуры, отдались на ее волю, как в «серфинге», — они, кто долго, кто коротко, балансировали на волне. Но и «поп-артист», тиражируя имиджи кумиров, оставляет вопрос «почему» поп-религии, этой народной вере, метафизике супермаркета, суеверию электронного века.
Супермен, ушастый инопланетянин, человек-летучая мышь — все это кванты той мифологии массового общества, внутри которой работают и самые серьезные художники. Почему взыскательный и религиозный Андрей Тарковский постоянно обращался к низкому, «поп-артовскому» жанру — фантастике? Потому что именно в этой сфере осуществляется массовый выход за пределы «физики» в метафизику, то есть самую прямую, самую элементарную мета-физику, — туда, где все возможно. Тут Тарковский мог найти живое религиозное переживание, тревожную эмоцию ожидания и предвкушения встречи со сверхчувственным. Может, его «Солярис» и «Сталкер» еще войдут в канон поп-религии этакой новой Сикстинской капеллой.
Я впервые понял, насколько огромен мифотворческий потенциал кино, когда попал вместе с другими паломниками в голливудские студии. Лос-Анджелес, как медуза на песке, лишен четких очертаний. В этом куске пустынь, гор и пляжей, густо или даже негусто застроенном домами, нет центра и окраины, нет исторической памяти, нет ощущения городской цельности — ни городской стены, ни городской черты. У протеичного слизняка Лос-Анджелеса различимо только сердце — Голливуд. Пронизывая энергетическими токами всю местную жизнь, он придает ей торжественный и суетливый характер храмового города. Наверное, так же чувствовал себя грек в Дельфах. Эманация кино нисходит даже на туристов, которые начинают мыслить кинематографическими образами — вставляют каждый пейзаж в рамку видоискателя, ищут в каждом встречном персонаж, в каждом происшествии — сюжет.
За всю свою историю человек еще не сталкивался с искусством в столь концентрированном виде, как в Голливуде. Никогда еще искусства не было столь много, и никогда оно не было так могущественно. Знаком этого величия кажется готовность, с которой Голливуд выдает чужакам свои секреты. Зрителю — бывшему и будущему — охотно демонстрируют все способы, при помощи которых его надувают фальшивыми землетрясениями, липовыми пожарами и фиктивными наводнениями. Фокус с разгадкой — нонсенс, разоблачение трюка уничтожает его смысл. А в Голливуде все секреты — на продажу. Бесстыдно обнажая перед туристами свое устройство, он уверен, что зритель все равно никуда не денется. Голливуд как бы перерос самого себя. С достигнутых им заоблачных высот уже безразличны мелкие секреты его внутреннего устройства — махинации жрецов не компрометируют величия их божества. Голливуд так охотно выдает свое секреты потому, что они не имеют отношения к его тайне. Пусть мы узнаем, как делается кино, но сумма приемов еще не исчерпывает целого — фильма.
В каждой из тех американских картин с многомиллионными бюджетами, которые с педантичной регулярностью завоевывают мировые экраны, мне видится наследник средневековых кафедралов. Голливудские боевики рождаются в дружном акте коллективной творческой воли. Ну у кого хватит терпения досидеть до конца бесконечных титров, куда все равно не попали главные его авторы — зрители, оживившие своим сопереживанием этот призрачный монумент?
Успешный фильм — как сын полка, выбившийся в Наполеоны. Он является народу в сопровождении торжественной процессии жрецов — актеры, режиссеры, сценаристы, продюсеры. К нему тянутся журналисты, критики, интервьюеры, адвокаты и сплетники, его окружают мелкие бесы коммерции, торгующие киношными амулетами — значками, майками, игрушками. Но все это лишь строительные леса, пристройки, которые нужны, чтобы возвести грозящую небесам вавилонскую башню — фильм, который подчинит и объединит миллиарды разноликих и разноязыких зрителей.
Что с того, если голливудский боевик заклеил пустоту дешевыми штампами? Голливуд — пряничный домик в сто этажей, это настоящий небоскреб, построенный из леденцов. Именно так: с одной стороны из леденцов, но с другой — настоящий, с окнами, стенами, лифтом и водопроводом.
В этом парадоксальном сочетании банальности с гигантоманией — источник чудотворной энергии, преображающей комикс в миф. Секрет успеха в масштабе — даже снобу трудно назвать пошлой пирамиду Хеопса. В фильме, достигшем критических размеров боевика, начинается неуправляемая мифотворческая реакция: картина сама по себе наращивает мифологемы.
На моих глазах такое произошло с приключениями человека-летучей мыши, с «Бэтменом», обе серии которого надолго приковали к себе внимание страны — во всяком случае, иракскую войну забыли скорее. Для американцев Бэтмен вроде Буратино — он был всегда, его никто не придумал, он самотеком пробрался в их детство, чтобы расти вместе с ними, приспосабливаясь к ходу прогресса. У Бэтмена и не может быть автора, потому что он продукт слишком убогого воображения. Так и должно быть: великие писатели создают великие образы, слишком индивидуальные, чтобы раствориться в массовом искусстве и стать всенародным достоянием. Евгений Онегин принадлежит Пушкину, Петрушка — всем. Только забытым, второстепенным художникам дана способность зачать мифических героев: Дракулу, Франкенштейна, Шерлока Холмса, Тарзана, Бэтмена — всех тех, кто шагнул из книжных переплетов в вечную жизнь.
Так или иначе два «Бэтмена», оправленные миллионами и талантами, превратились в новозаветную и ветхозаветную притчу о природе зла. Первый фильм психологизировал комикс, введя в него христианский мотив личной свободы и экзистенциального выбора. Злодей-джокер (в исполнении лучшего актера страны — Джека Николсона) — это мятущийся дух, порабощенный богатством и причудливостью своего интеллекта. Зло тут так сложно, диалектично и запутанно, что добру и делать нечего. Зло гибнет под гнетом внутренних противоречий — оно жаждет поражения, как расплаты и освобождения. Николсон, безжалостно усложняя свой плакатный первоисточник, выводит его из поля мифологической образности в психологию — он играет Свидригайлова.
Злодей из второго «Бэтмена» близок «венецианскому купцу». Человек-Пингвин, живущий в зоопарке, питающийся сырой рыбой, говорящий (с настоящими пингвинами) на птичьем языке, он заведомо чужд нашему миру. Но, как и Шейлок у Шекспира, способен все же вызвать сострадание — до тех пор, пока прикидывается таким же, как мы. В этом варианте «Бэтмена» зло — порождение не свободы, а необходимости, обрекающей героя на преступления. Пингвин лишь притворяется человеком, на деле он другой, чужак, пришелец, птица без перьев, волк в овечьей шкуре. В сопровождении библейских аллюзий, вроде казней египетских с убиением первенцев, Пингвин врывается в мир новозаветных ценностей, обуреваемый суровой ветхозаветной жаждой мести.
Юн г говорил, что любой миф несет в себе важные психологические истины. Отсюда следует, что американскому обществу отнюдь не безразлично, какой серией «Бэтмена» оно увлекается. Впрочем, куда важнее его общая расположенность к мифологическому сознанию, к поп-религии. Сила ее в том, что она поддерживает существование параллельной вселенной искусства — пространство мифа, где, как указывал все тот же Станислав Лем, мир всегда либо дружествен, либо враждебен герою. Здесь, в темных зрительных залах наших храмов, мы находим убежище от подлинного, то есть безразличного, мира, просто не замечающего присутствия человека. Мир, лишенный умысла, кажется столь чужим и холодным, что, может быть, наша экологическая агрессия лишь попытка дать ему о себе знать, вызвать его реакцию.
Вселенная, подчиняющаяся второму закону термодинамики, движется к распаду, к энтропии — организованная энергия преобразуется в неорганизованную, порядок сменяется анархией. Мифы поп-арта, иллюзорные чудеса поп-религии — одна из немногих преград на этом безнадежном пути сползания в хаос.
На фоне народа
Хоть и не сразу, но ощущается нелепость словосочетания «массовая культура». Что-то с этим не так. Ведь культура — это нечто вроде озонового слоя, защищающего нас от голой природы. Культура, как воздух, не может не принадлежать массам.
Уничижительный характер термина связан скорее со способом производства культуры, чем ее потребления. Образ фабрики, открывшей путь в современную цивилизацию, по-прежнему тиранит наше воображение, хотя само конвейерное производство маскируется нынче куда более затейливо, заменяя индустрию сервисом.
И все же суть «фабричной» идеи, основанной на нашей взаимозаменяемости, остается прежней: мир рассчитан на одинаковых людей, с простыми, алгоритмующимися потребностями, которые так просто и удобно удовлетворять конвейеру. Только благодаря ему современная жизнь приобрела специфическое качество — дешевизну. Автоматизация охватила все сферы — быт, досуг, туризм, кухню, секс. Все составляется из готовых, фабричного изготовления блоков, как телевизор или компьютер. Даже чинить ничего не надо, только менять.
Конвейерность жизни приводит к тому, что обеспечивает личности много дешевых способов разнообразить жизнь. В реальности выбор этот во многом мнимый, ограниченный ассортиментом, бедность которого скрывают декоративные завитушки. И все же из-за дешевизны массовое общество может позволить себе постоянно структурировать время — расчленять жизнь на все более мелкие фрагменты и заполнять ими дни и годы. Конвейер и время сумел поделить на аккуратно упакованные порции, как бы приватизировал его, предоставив каждому индивидуальную делянку, на которых мы возделываем свое «время дел» и свои «часы потехи», свои будни и свои праздники.
Конвейерность, серийность приносит душевный комфорт, потому что возвращает и преумножает ритуализацию жизни. А ритуал — это покой, это замаскированная неволя, отказ от выбора и связанной с ним ответственности. Сидевшие люди часто выглядят моложе как раз на те годы, которые они провели в тюрьме, лишенные возможности что-либо выбирать. Похоже, сильнее невзгод и испытаний нас старит свобода, избавиться от которой и помогает ритуал. Сладость этого рабства знает каждый, кому приходилось обмениваться подарками или украшать новогоднюю елку.
И вот в глубинах этого стандартизованного и ритуализованного массового общества происходит культорогенез — величественный акт рождения массового искусства.
Масскульт, творческой протопоплазмой обволакивающий мир, — это и тело и душа народа. Здесь, еще не расчлененное на личности, варится истинно народное искусство, анонимная и универсальная фольклорная стихия. Уже потом в ней заводятся гении, кристаллизуется высокородное искусство. Художник-личность, этот кустарь-одиночка, приходит на все готовое. Он — паразит на теле масскульта, из которого поэт черпает вовсю, не стесняясь. Ему массовое искусство точно не мешает.
Осваивая чужие формы, художник, конечно, их разрушает, перекраивает, ломает, но обойтись без них не может. Форму вообще нельзя выдумать: она рождается в гуще народной жизни; как архетип национальной или даже донациональной жизни, она существует вечно.
Стоит лишь изменить привычный угол зрения, чтобы за колебаниями вкусов увидеть загадочную и могучую стихию массового сознания. Неправда, что какие-то ловкие продюсеры лепят аудиторию по своему подобию:
Голливуд — раб толпы. Все боевики растут прямо из земли, из почвы — успешный фильм свидетельствует об очередном торжестве народной мифологии над интеллектуальными претензиями атеистов и скептиков. Только толпа способна продуцировать мифы, облаченные в образы и символы поп-культуры. У массового искусства нет автора: оно принадлежит народу, воплотившему в нем свои чаяния и идеалы. Культура предлагает свой огромный прейскурант толпе, которая, отсеивая и отбирая, формирует искусство для себя.
В рыночной, а значит, вероятностной системе ни предсказать, ни подстроить успех невозможно. Боевик или бестселлер нельзя изготовить сознательно — он рождается так же таинственно, как человек. Только в условиях несвободы можно и даже нетрудно благодаря подсказке цензуры высчитать и оседлать успех.
Скудость и однообразие советского искусства объяснялись не столько идеологическим диктатом (отнюдь не новость в мировой истории), сколько отсутствием рынка, свободного выбора, обратной связи, без которой сложилась искореженная и порочная картина массовой культуры.
Странно, что советская власть сумела отрезать литературу от народа успешнее, чем сословные границы старой России, аристократия которой изолировала себя от масс даже на уровне лингвистики. Французский язык русских дворян был бегством в другую культуру, в другое сознание, которое они знали как раз только по языку и которое им при ближайшем рассмотрении не нравилось. Фонвизин, Карамзин, Гоголь, Герцен, Достоевский Запад не полюбили и в его пользу от России не отреклись. Было в России нечто такое, что перевешивало западные радости. Может быть, красота русского быта? Может быть, та фольклорная подкладка отечественной культуры, что выражается не в постоянных эпитетах и заплачках Некрасова, а в подовых пирогах и кулебяках, в пейзажах, просторах, комфорте, в братском барстве, так красившем наших самодуров, вроде Обломова, в охоте, рыбалке, дорожных приключениях, покойных перинах, сапогах со скрыпом, трактирном угощении? Весь этот народный фон, на котором разворачиваются мучения лишнего человека, обладает чарующей притягательностью и для писателя и для читателя.
Набоков утверждал, что лучшие русские книги ничем не отличаются от лучших европейских книг — мол, и те и другие написаны европейцами. Но фон у наших все же другой. В нем все и дело — в заднике, в декорациях того спектакля, который представляет автору и культуре народ, ставший в XX веке массовым обществом. Собственно говоря, все самое важное происходит на заднем плане, где — между стеной и экраном — разворачивается картина культуры в ее первозданном, не предвзятом виде. Понять язык массового искусства — значит научиться читать задник.
Беда нашей литературы в том, что ее оторвали и от своего и от мирового масскульта, поставляющего художнику формы. Может быть, сегодняшней русской культуре Микки-Маус с Джеймсом Бондом нужнее Фолкнера с Джойсом. В конце концов, русский писатель XIX века прекрасно знал вагонную беллетристику Европы и не стеснялся, как Достоевский — Эженом Сю, пользоваться ею по назначению. Зато в XX веке Россия выпала из того необходимого круговорота культуры, который вынуждает массовое общество переводить фольклорную, почвенную культуру в масскульт.
Отсюда, из уже ставшей универсальной, всемирной массовой культуры, рождается штучный мастер, художник (точно так же, как из устной традиции появились Софоклы и Аристофаны). Он обживает и осваивает форму, созданную масскультом: форма получается народная, а содержание — авторское.
Приключения сюжета
Конфликт между поэтом и толпой — противоречие между содержанием и формой — можно представить и как проблему «рамы».
Культуре необходима оправа, куда можно вставить накопленное ею добро хоть в каком-то порядке. Однако любая рама коверкает материал, любая форма подчиняет себе содержание. Освободить содержание от формы, выпустить его на волю намного сложнее, чем наоборот.
Впрочем, автор может выиграть только в борьбе между своим содержанием и чужой формой. Причем чем она жестче, тем лучше. Канон, икона, пирамида, классицистическое единство, сонет, меню, газета, эпистолярный жанр — что бы ни было, главное, чтобы что-то было. Перед автором всегда стоит задача навязать себе вериги, чтобы постоянно ощущать сопротивление — перо должно входить туго. Только внутри чужой формы, только круша изнутри балки и потолки, можно вырваться на свободу. Вялая, разношенная, дармовая свобода никому не нужна.
Смысл художественных средств в том, чтобы обуздать писательскую свободу, накинуть на волю автора узду в виде персонажей, сюжета и описаний природы. «История», которую его вынуждают рассказывать, становится клеткой, тюремной камерой. Автору приходится ее взрывать, чтобы потом критики говорили: «Дело, конечно, не в сюжете». Но дело как раз в нем — в том, каким образом сюжет преодолен. Искусство по обыкновению требует невозможного: быть сразу и внутри и снаружи.
Как выбраться из этого тупика, блестяще показал Набоков, создавший в романе «Отчаяние» образ литературы per se.[6] В этой книге разыгрывается сугубо писательская драма мнимого отражения, неверного зеркала, фальшивого сходства. Герой убивает своего двойника, надеясь получить страховую премию и совершить гениальное преступление — он переодевает жертву в свой костюм, чтобы выдать его за себя, и скрывается в ожидания триумфа. Но в финале искусно построенного преступления-сюжета выясняется, что изначальная посылка была ложной: никакого сходства между убийцей и жертвой не было, оно лишь привиделось герою. В «Отчаянии» Набоков виртуозно продемонстрировал возможность сохранить и разрушить фабулу в пределах одного и того же романа. Содержание «Отчаяния» — акт самопознания литературы как процесса одновременного создания и разрушения иллюзии.
Характерно, что набоковский герой ненавидит зеркала, этот любимый критикой инструмент художественного познания. Конечно, можно считать, что ненависть убийцы к зеркалам происходит оттого, что он в них разуверился: они его круто подвели. Однако книга не исключает и другой, более провокационной трактовки: герой, обладающий подозрительным умением писать двадцатью пятью почерками, — человек без лица, который не может отражаться в зеркалах, потому что у него нет своей внешности, он, как автор, растворен в тексте. Если так, то сходство оказалось фальшивым, потому что у копии не было оригинала. «Отчаяние» — роман-каламбур, дающий истинный образ мнимого сходства. Это метафора зазеркальной жизни литературы, не признающей никаких аналогий с жизнью. Но все может обернуться еще и более радикальным отрицанием. В конце концов, откуда мы знаем, что Набоков отрицает литературу, а не саму жизнь? Не зря, выделяя из всех муз Мнемозину, Набоков столько раз искушал нас вопросом: память — это зеркало или жизнь, отражение или реальность, прошлое или настоящее?
Однажды я сидел в баре и спокойно глядел перед собой, думая, что смотрю в зеркало. После минутного замешательства, стоившего мне сильного испуга, я заметил, что не отражаюсь в зеркале. И еще через мгновение страха я с облегчением обнаружил свою ошибку: никакого зеркала не было, я смотрел в соседний зал сквозь проем в стене.
В подобное замешательство впадает зритель, которому художник демонстрирует жизнь вместо своего произведения. Как-то мне пришлось посетить инсценировку «Палаты номер шесть», сделанную московскими авангардистами в жанре «реального театра». Один из санитаров мочился на сцене так натурально, что брызги долетали до зрителей. Тут режиссер гениально упростил себе задачу, устранив всякие преграды между искусством и жизнью. Его можно понять. Отечественная цензура поставляла столь обильные запреты, что у художников появились преувеличенные представления о своих возможностях. Вместо того, чтобы налагать на себя вериги формы, они пользовались безвозмездно предоставленными государством веригами содержания — запрещенными темами. Падение цензуры оказалось столь болезненным для отечественной литературы, что она бросилась нарушать оставшиеся табу, практикуясь в сексе и насилии. Писателю спокойно живется только на минном поле, которое для него постоянно обновляет общество. Разрешая одни запрещенные темы, социальный этикет тут же табуирует другие. С ходом истории количество эвфемизмов только растет. Раньше, до Гитлера, было проще писать о евреях, до Мартина Лютера Кинга — о неграх, до феминисток — о женщинах, до «политической корректности» — о сексуальных и других обделенных меньшинствах: коротких, длинных, толстых, некрасивых. В определенном смысле прогресс есть эскалация лицемерия.
Содержание произведения определяется в борьбе с социальным этикетом, форма — в конфликте с культурой. Современный художник остро нуждается в новых формальных ограничениях взамен тех, что растранжирил XX век. Тут и появляется на сцену анонимная стихия массового искусства, поставляющая готовые формы творцу, который их переосмысливает, выворачивает, взрывает.
Фантастика, полицейская драма, комиксы, мыльная опера — все они вырабатывают строгий жанровый канон — как в Голливуде, где каждый сценарист знает, на какой минуте он должен убить злодея и повернуть сюжет. А потом приходит Борхес или Маркес, чтобы взорвать жанр и порезвиться на его руинах: не союз с массовым искусством, а антагонизм с ним, отчаянная война, которую художник ведет на его территории по навязанным ему правилам. Все лучшее в современном искусстве питается живительным конфликтом массового искусства с творческой личностью. Без одной части этого уравнения не будет и другой: либо содержание останется без формы, либо форма без содержания.
Апофеоз формы
Хорошо рассуждать о форме в европейских городах. Путешествие в Старый Свет всегда означает возвращение к городу. Город и Европа — синонимы. Тут все начиналось — от водопровода и борделей до гражданских свобод и свободных искусств. Город — это триумф культуры в ее борьбе с природой. Но город — это еще и стихотворение, ибо в его устройство заложены хитрые законы ритма и метра. Здесь всегда есть та ограничивающая цивилизацию стена, которая обычно материализуется крепостным валом. Город — это скала в океане природы, причудливый, но жесткий коралловый риф среди приволья полей и лесов.
Именно поэтому самый прекрасный город в мире — Венеция. Ей посчастливилось родиться в условиях максимального принуждения, предельной несвободы. Она появилась на свет из крайней нужды — завелась в фантастической, небывалой тесноте. В этих утрированных, доведенных до абсурда географических условиях проявилась замечательная самодисциплина западной культуры, ее духовный аскетизм и изворотливость, умудряющиеся всадить богатое содержание в крошечную табакерку.
Конечно же Венеция — игра, ребус или кроссворд, заставляющий мастера вписывать дома и дворцы в строчки каналов. Если транспонировать этот образ чуть выше, получится, что Венеция — сонет, даже венок сонетов. Добровольные или наложенные необходимостью градостроительные ограничения обернулись огромным удельным весом культуры. Венеция — это якорь, который увяз в ее болотистой лагуне и не дает нам вырваться из карнавального, насмешливого, роскошного и роко-кошного плена культуры, явившего здесь свое чудо: апофеоз формы.
Не зря футуристы, ополчившиеся на ее ветхие прелести, мечтали взорвать Венецию. Они верно чувствовали в ней вызов свободе их самовыражения. Бомбой тут, конечно, не поможешь. Все равно каждый художник обречен сидеть на двух стульях, решая конфликт между формой и содержанием, между «Венецией» и свободой. Не отсюда ли идет неистребимая потребность даже самых плодовитых писателей оставлять дневники? Не оттого ли, что их сочинения оставляют авторов разочарованными? Ведь написанная книга лишь жалкое подобие той, что задумывалась. Вот писателя и подмывает сочинить что-то настоящее, то есть он втайне даже от себя рассчитывает, что прямое, искреннее, приватное, не смиренное страхом перед публикой слово вынесет его за пределы формы к свободе.
Понятно — Розанов, который на этом сделал себе карьеру. Но ведь и все остальные играют в эту игру, тайно надеясь на посторонний взгляд. Уничтоженных дневников не так много, как должно было бы быть. Значит, жалко — каждый надеется: вдруг искреннее, частное и честное слово сумеет проболтаться там, где умысел формы его сдерживает.
И ведь авторы дневников были правы. Их записки — почти любые! — действительно интереснее романов и повестей. Эти строчки я пишу в конце года, главными литературными событиями которого американские критики признали публикацию дневников и писем Курбе, Эйнштейна, Рассела, Швейцера, Сартра, Ивлина Во, Ясперса и так далее. Дневники, записные книжки, письма, бесспорно, стали нашим любимым чтением, как будто читатель чувствует: шедевр писателя — он сам. В дневниках хороши даже ошибки, вплоть до грамматических. Они придают тексту естественную противоречивость, которая и составляет живую, не отредактированную, целостную картину мира. Завершенность, лессировка тут ощущалась бы жульничеством и цинизмом по отношению к читателю, которого автор подверг бы унижению, принимая за доверчивого идиота.
Однако, если литература мечтает освободиться от навязываемой ей формы, не перевернуть ли пирамиду? Лучше всего записи к роману, потом наброски, черновики, первая корректура и, наконец, готовый текст, в необходимости которого уже можно усомниться. Читателю важно не как сделано произведение, а как оно НЕ сделано. Его интересует самосознание жанра в процессе его появления на свет, стриптиз текста, даже любование его эмбрионом. Так, например, прекрасна стилистика авторских планов, позволяющих отложить на завтра решение задачи. Великое счастье планирующего — в том, что придет другой, постаревший и поумневший, и сделает то, что сейчас неизвестно как делать. Черновик в этом смысле — план наоборот, это после-план, заготовка к нему с другой, послетекстовой стороны, это выжимки из того, что должно получиться. Таким образом, читатель пропускает все ступеньки, настигая текст в самые интересные моменты — смерти или зачатия.
Казалось бы, кому нужна середина, с ее механической, а значит, ложной цельностью. Дробность органичнее передает биение мысли. Фрагменты переживают целое, как руины долговечнее, а может, и прекраснее не разрушенных храмов.
Но значит ли это, что автор дневника действительно сумел избавиться от диктата формы? Ни в коем случае. Недаром Набоков считал дневник низшей формой литературы. Ему, писателю с обостренным самолюбием, особо претила жесткость искусственной композиции, навязанной календарем.
Дневник, с его не авторской организацией текста — писать по датам — художественный прием, который позволяет выйти за пределы одной формы в другую, заменив умышленную авторскую композицию объективной календарной последовательностью. Автор, пользуясь вынужденностью, навязанностью манеры, избавляется от любых других обязательств. Получается парадокс — форма одновременно и твердая и жидкая. Автор в поисках освобождения от сношенных литературой форм как бы берет на себя повышенные обязательства: в интересах свободы он заключает себя в каземат. Это тоже своего рода «Венеция», чья жесточайшая организационная структура не мешает величайшему авторскому произволу.
Лучшие из таких «венецианских» книг пишет Мило-рад Павич: роман-словарь или роман-кроссворд, текст, построенный по псевдообъективному принципу, который только развязывает руки писателю. (Что может быть более абсурдным, чем том энциклопедии, расставляющий предметы, имена и понятия в мнимом порядке или — что тоже самое — в вопиющем беспорядке?) Романы Павича - это уже литература второго уровня, — литература, уже успевшая отказаться от завоеванной свободы и добровольно подставившая шею под новое ярмо. «Все книги на земле имеют эту потаенную страсть — не поддаваться чтению» — проговаривается он в конце своего головоломного «Пейзажа, нарисованного чаем». И правда, Павич пишет иероглифами, каждый из которых сам по себе затейлив и увлекателен. Общая картина складывается из таких отдельных фантастических микрорассказов, составляющих генеральный сюжет, который не поддается пересказу. В книгу вставлен разрушительный механизм, мешающий выстроить текст в линейное повествование.
В обычном романе есть история, хотя бы ее контуры, которые автор наносит беглыми чертами, а затем заполняет объемы красками в меру изобретательности и таланта, что-то вроде детской раскраски. У Павича же сюжет — как музыка: его надо переживать в каждую минуту чтения. Процесс разворачивания текста предусматривает сосредоточенное погружение в настоящее время — во время чтения. Стоит только на мгновение отвлечься, и мы неизбежно заблудимся в хоромах этой дремучей прозы. Личное время читателя включено во время романа. Читатель как актер, который и играет и проживает положенные ролью часы на сцене, старея ровно на столько, сколько длится спектакль.
Пока мы следим за каждым узором-предложением, общее — «история» — теряется: за деревьями мы не видим леса. Мало этого, «дерево» ведет нас не только вдаль, но и вверх — на него можно взобраться, чтобы взглянуть на открывающуюся панораму. Каждый элемент прозы Павича — саженец, причем бамбука — уж больно быстро растет. В любом из его сравнений — замысловатая притча, в эпитете — намеченная сказка, в абзаце- свернувшийся фантастический рассказ. Все это гротескное изобилие срастается в одну массивную криптограмму: печь из изразцов, каждый из которых одновременно и картинка, и часть живописного панно.
Еще больше романы Павича похожи на архитектуру — готические соборы или мечети. Его книги можно обойти с разных сторон, их можно бегло осмотреть, а можно сосредоточиться на какой-нибудь детали: портал, химера, каменная резьба. Избыточное содержание тут так велико, что у зрителя или читателя еле хватает сил и воображения держать в памяти картину целого. Тут-то автор и приходит на помощь, предлагая читателю кристаллическую решетку в форме словаря или кроссворда. Для писателя соблазн этих структур — в том, что они позволяют вогнать материал в жесткие рамки, не выстраивая при этом линейного сюжета. Композиция здесь задана не автором, а чужой, существовавшей до него формой. И, чем она жестче, тем больше свободы у автора и его героев. Он строго соблюдает не им придуманное правило — следит, чтобы герои в нужных местах пересекались. Зато в остальном он волен — повествовательная логика, сюжетная необходимость, законы развития характера, психологическая достоверность, даже элементарная временная последовательность «раньше»-«позже» — всего этого у Павича нет. Он счастливо отделался от презумпции реализма, которая создает из книги иллюзию мирового порядка — с началом, серединой и концом — и навязывает автору изрядно скомпрометированную роль всемогущего творца.
Все это не мешает романам Павича демонстрировать связь с семейными сагами «мыльной» оперы. Бесконечно запутанный клубок родственников, людское тесто, которое автор месит прямо-таки со злорадным азартом. Семейная клетка разбухает во все стороны света, по всем направлениям — герои плодятся, раздваиваются, повторяются, отражаются, превращая текст в генетическую шараду.
Не просто добиться от этого генеалогического бань-яна ответа на простые вопросы — кто кого родил, кто кого любил и кто кого убил. Нам трудно уследить за героями и уж тем более понять их потому, что их приключения разворачиваются не только в пространстве, но и во времени. Созданная Павичем литературная форма требует организации текста на другом, более сложном хронотопическом уровне, таком, который способен наделить временные координаты пространственными характеристиками. Герои тут могут жить во вторнике или в пятнице — не когда, а где. Павич, разделяя общую для XX века страсть, ищет ответа — истины, порядка, гармонии, Бога — не в пространстве, а во времени, не на небе. Земле или в преисподней, а во вчерашнем, сегодняшнем и завтрашнем дне.
Конфликт хаоса с космосом
Затея Милорада Павича — включать в структуру текста семантически пустые элементы, например клеточки кроссворда, — связана с самой фундаментальной пропорцией искусства: соотношением шума и звука.
Эволюция, чтобы не сказать прогресс, искусства ведет к тому, что художник отвоевывает все новые ареалы у шума, у неорганизованных, неупорядочных колебаний среды, обнаруживая там неведомые раньше участки гармонии. Так появляется атональная музыка, или заумь, или экспрессивный абстракционизм, или театр абсурда, или концептуализм, или соц-арт. Эстетизируя сырую реальность, искусство, как прореха на ткани бытия, расползается во все стороны. Однако чем шире становится спектр частот, воспринимаемых как нечто значащее, тем больше появляется сомнений в самом существовании гармонии, которая, честно говоря, есть лишь еще один псевдоним Бога. И здесь эстетика опять опасно близко подходит к теологии.
Где-то у Бродского сказано: есть только две возможные трактовки искусства — либо как акт чистого самовыражения, либо как восстановление изначальной гармонии. Другими словами, или это субъективное занятие, содержащее критерий внутри авторской личности, или — объективное, предусматривающее оценку слушателя-читателя, даже если это — Бог.
Однако есть еще третий вариант: автор не только пытается восстановить вечную, присущую самому мирозданию гармонию, но и регистрирует хаос, который присущ этому самому мирозданию уж точно не меньше, чем порядок.
Всякое произведение искусства — коктейль космоса с хаосом. Самое интересное тут — как включается элемент, разрушающий порядок, куда и в какой концентрации вводится яд анархии — клетка раковой опухоли в здоровое тело текста.
Так, например, в моем любимом пушкинском стихотворении «Не дай мне Бог сойти с ума» сюжетным поворотом, меняющим весь смысл, служит та строка, где безумец мечтает: «Я забывался бы в чаду / Нестройных, чудных грез. / И я б заслушивался волн, / И я глядел бы, счастья полн, / В пустые небеса». Значит, пока небеса не пусты, в мире царит разум, который и сажает «на цепь дурака». Пустые небеса — это свободная стихия, дикая, неорганизованная природа, буря, хаос, а разумный порядок — это «брань смотрителей ночных, / Да визг, да звон оков». Одним словом — «Палата номер шесть».
В нашем веке коктейль становился все крепче — порция хаоса в космосе постоянно повышалась, пока не достигла критического предела. Художник всегда стремился замазать дыру в стихию, в природу, в бездну. Искусство было тем блестящим щитом, в который, чтобы не встретиться взглядом с хаосом, глядел Персей во время битвы с Медузой Горгоной. Метр, гармония, ритм — все это испытанные средства для строительства космоса. Но современный художник стал сомневаться в прочности получающегося сооружения: как ни старайся, космос все выходит нарисованным, вроде театральной декорации.
Художественный процесс XX века понуждал автора срывать все больше масок с Космоса, чтобы вглядеться в Хаос.
Между прочим, попутно выяснилось, что воспроизводить хаос труднее, чем имитировать гармонию. Опыт обэриутов показывает, чего стоит «борьба со смыслом». Текст норовит сложиться в привычный порядок, «впасть в неслыханную простоту», мудро названную ересью, ибо преодоленная сложность и есть хаос — неискусство.
Неудивительно, что последним итогом этого мучительного разоблачения становится голая, неосмысленная, а значит, предельно правдивая жизнь. В лучшем случае художник предлагает зрителю любоваться пейзажем через окно, приглашает слушателей на концерт тишины, устраивает вместо спектакля хэппенинг. Но ведь и это уловка: рама — след умышленности и произвола. У честного художника есть только один способ вырваться за пределы фальшивого порядка к беспорядку истины: самоубийство, отказ от творчества.
Искусство обречено упираться в стенку, надеясь, что накопление новых текстов и новых приемов приведет к метафизическому взрыву, дающему возможность вновь вырваться из хаоса в космос. И рассчитывать тут скорее стоит не на честного художника, замкнувшегося в отчаянном молчании, а на художника «нечестного», коммерческого и уже потому чуткого к здравому смыслу толпы.
Однажды поздней осенью и поздним вечером я проезжал по пустынной окраине Вермонта. Жилье там, как, впрочем, и во всей Америке, стоит довольно редко, вокруг — унылые поля, перелески, пустоши какие-то — одним словом, «дрожащие огни печальных деревень». Но Лермонтов смотрел на них глазом то ли хозяина, то ли дачника, да еще и по пути из столиц на Кавказ и обратно. А вермонтским ездить некуда и незачем — они и так дома: каждый навечно укрылся в своей индивидуальной американской мечте, отгородившись от соседа вместо забора непреодолимой зоной «прайвеси».
И вот тут, в унылой пустоте, я вдруг почувствовал, что этот одинокий, разобщенный ранними сумерками мир пронизывает объединяющее и умиротворяющее электромагнитное излучение. Как мусульмане в намаз, все обитатели этих домов глядят в свой голубой угол: представить только — десятки миллионов американцев, которые в одну и ту же минуту смотрят один и тот же телесериал.
Пожалуй, не столько конституция, сколько самое массовое из искусств — телевидение — соткало эту страну в одно лоскутное одеяло, в любимый Вермонтом «килт». И одеяло это укрывает всех: бедных и богатых, черных и белых, старожилов и пришельцев. Мирное, ненасильственное, добровольное объединение, дающее всем равный статус, сливающий все голоса в один хор, вкрадчиво берущий индивидуальность напрокат ради общего блага. По-моему, это — «соборность» массового искусства, которую нам мешают распознать гордыня и презрение к сегодняшнему дню.
Уж больно трудно вписать современность в контекст истории. Как оценить нашу культуру на фоне остальных? Куда отнести эти самые телесериал, комикс, рекламу, боевик, Шварценеггера и Мадонну? Внутренне мы не ощущаем себя готовыми к оценке окружающей нас культуры из-за несовместимости будничного «сегодня» с пышным историческим временем — блестящим прошлым или сияющим будущим.
Драма массового искусства — в том, что оно не может найти себе прецедентов. Если бы мы сумели найти масскульту постоянный адрес в истории культуры, многое бы изменилось. Но для этого необходимо чувство укорененности во времени, хотя бы такое, которое помогало Честертону увязывать масскульт, того же Шерлока Холмса, с вечностью. Достойная любого автора задача — рационализировать окружающее, сделав его пригодным для употребления. Интеллектуальный повар, который из сырых продуктов — случайной, неопределенной, бессмысленной голой реальности факта — готовит блюдо. Уже сама по себе организация информации порождает иллюзию ее осмысления. Все, что мы можем уложить в структуру, даже выдуманную на голом месте, дает нам надежду справиться с очередным вызовом бессмысленного хаоса.
Не философ, не священник, не политик, не ученый, а автор, лицо без определенных занятий, лучше всего подходит для рационализации повседневности. У него есть огромное, недоступное профессионалам преимущество: он — дилетант, человек с улицы, такой же, как мы. Если и он может понять мир, если и ему доступно тайное знание, которым распоряжаются жрецы эзотерической мудрости, то надежда и покой нисходят и на остальных невежд, составляющих человечество. Но если художник признается в своем провале, в своей беспомощности рационализировать тайны повседневности, то тоже неплохо: раз он не справился, то и другим не дано. Действует не хуже валерьянки и проповеди.
XX век, окружив нас непостижимой технологической средой и тем самым превратив всех в дилетантов, доверил говорить от лица народа художнику. Он берет на себя отчаянную роль понять и осмыслить то, что происходит, со своей дилетантской позиции — не эксперт, а пробный камень, подопытный кролик эпистемологии,[7] на котором изучается возможность познания мира.
Раздвигая пределы сегодняшнего дня в прошлое и будущее, вставляя факты в систему, вплетая единичное в тенденцию, распознавая в элементарном, повседневном, будничном сложное, сущностное, вечное, художник утрамбовывает, укладывает, усложняет и упрощает мир.
Где? Пожалуй, в газете, которая умеет захватывать врасплох текучую современность и наделять ее внутренним достоинством. В той газете, где, между прочим, так естественно себя чувствовали Бердяев и Розанов, Сартр и Камю, Умберто Эко и Сюзан Зонтаг.
Интересно, что Герман Гессе, один из главных врагов XX века, именно за это, за «газету», на него и обрушился, назвав «фельетонной» эпохой, которая гордо несет символ своей тупости — кроссворд. И это несмотря на то, что кроссворд, в сущности, послужил прообразом игры в бисер его «кастальцев». Эти оторванные от газет аскеты-интеллектуалы неспособны разрешить конфликт между вечным и историчным: будущего они лишены, настоящего не знают и комфортабельно чувствуют себя лишь в прошлом. Так культура, питающаяся ностальгией, лишает значительности современность. Печать неуважения к ней легла на наши лица. Если сравнить их с фаюмскими портретами, или средневековыми немецкими купцами, или со снимками XIX века, то отличия разительны. У тех была в облике важность и начисто отсутствовал юмор, что, конечно, объяснялось еще и ситуацией — портрет с натуры. Мы-то слишком привыкли к размножению образов, чтобы ценить их. Но больше всего современным лицам недостает как раз значительности: общая печать незрелости и моложавости, из-за которой седина всегда кажется преждевременной, как будто только мы и открыли юность. В воспоминаниях Стефана Цвейга «Вчерашний мир» описана противоположная ситуация: всеобщее недоверие к молодости. Каждый старался выглядеть старше, ибо опыт ценился больше таланта и лишь возраст обеспечивал доверие и кредит.
Моложавость XX века, в которой Ортега-и-Гасет еще видел благородный спортивный дух, сегодня стала ощущаться натужной. Поссорившаяся сама с собой современная культура потеряла к себе уважение и оставила искусство без больших взрослых тем. Лучше всего нам удаются низкие, вспомогательные жанры: гениальные комиксы и кулинарные книги, словари и энциклопедии, журналы и эссе — все это квинтэссенция эпохи, формула которой — замах на рубль, удар на копейку. Копейки, правда, выходят золотыми, но на них не купишь вожделенной значительности, цена ее — цельность искусства.
Эпилог
Высшим достижением демократии называют пульт дистанционного управления, который позволяет переключать каналы, не вставая с кресла. Благодаря этому маленькому аппарату зритель вернул себе контроль над голубоглазым монстром. Он, например, не позволяет подвергать себя демонстрации «коммершлс», перепрыгивая с рекламы на другой канал, которых уже сейчас в Америке с полсотни, а скоро будет с полтысячи. Вот на этом бескрайнем видеополе и резвится зритель с пультом в руках. Это называется «зэппинг» — порхать с канала на канал, нигде надолго не задерживаясь.
В безумии «зэппинга» есть своя система: вместо реки с сильным течением зритель как бы погружается в океан, в море, обтекающее его со всех сторон. Так зритель вырывается из рук автора — зрелище отобрали у его создателя.
Произошел демократический переворот, и истинным автором программы стал ее зритель. Манипулируя переключателем каналов, он из обрывков и фрагментов собирает сам себе персональное развлечение.
Конечно, тут важен не результат, который вряд ли будет вразумительным, а сам бунт против чужой, авторской, воли, важен протест против насилия формы.
«Зэппинг» в литературе — чтение ста книг разом, что, в сущности, равнозначно толстой газете, вроде воскресной «Нью-Йорк тайме». Другой вариант- книга, которая задумана так, что ее можно и нужно читать не подряд, а как попало. Все тот же Павич, недаром уже названный писателем XXI века, сумел превратить роман в самый подходящий объект для читательского «зэппинга», написав «Хазарский словарь», книгу без конца и начала.
Разрушая ставшую ложной целостность, мы разнимаем мир на фрагменты, элементы, «фантики», обращаем вазу в черепки, храм в руины, книги в отрывки. Пафос этого вандализма — созидательный, ибо за ним — надежда на новую цельность, такую, которая упразднит пагубное противостояние поэта и толпы и объединит их в творческом акте.
Гете, описывая римский амфитеатр в Вероне, говорил, что ее архитектура рассчитана на зрителей — они главное украшение. Толпа, выполняя декоративную функцию, создает из себя произведение искусства, которым сама же и любуется. Такая игра с массами, воспринятыми как эстетическое сырье, стала особенно популярной на последних олимпиадах, где зрители превращают стадион в сложные многоцветные картины. Массовое общество повсюду, где его собирается достаточно много, производит эстетические эффекты — будь то рок-концерт, праздничные шествия, фестивали, стадион или марафонский бег, собирающий миллионы горожан. «Хоровое» начало — непременная данность массового искусства. Так, в самой универсальности успеха американского кино чувствуется таинственная сила, источник которой прячется вдыхании мировой толпы. Голливуд, возвышающийся над языками, странами и народами, предстает посланцем третьей из тех могучих сил, что объединяют мир, — вслед за церковью и наукой приходит черед искусства. Первые две уже устроили свои революции в области духа и тела; может быть, пришла пора третьей революции — революции искусства?
Арнольд Тойнби, предваряя свое монументальное «Постижение истории», напоминает читателю, что процесс «постижения» состоит из двух фаз: собирание эмпирических данных и их обобщение, которое неизбежно опровергнут новые факты. В этом заколдованном колесе мы обречены крутиться вечно, потому что Вселенная разомкнута в бесконечность. Однако вселенная искусства отнюдь не разомкнута, художник только и делает, что замыкает вселенную, стараясь, чтобы концы не болтались. Чем больше этих болтающихся концов, тем ущербнее выходит картина мира. И так продолжается до тех пор, пока искусство не сдается. Тут-то и происходит великий раскол между художником, опустившим руки перед хаосом, и художником, прикрывающим нам руками глаза, чтобы мы этого самого хаоса не видели.
Покончить с этим расколом призвана новая целостность искусства, которую оно сможет обрести, преодолев на новом витке спирали и насилие гармонии, и свободу хаоса.
Что-то подобное уже происходит в кино, искусстве, по Сюзан Зонтаг, закрытом для интерпретации и потому с непонятной легкостью распоряжающемся в нашей душе. Кино, еще слишком молодое, чтобы страдать рефлексией, не изучает мифы, а творит их. Попадая в мифологическое поле кинематографа, мы ощущаем на себе живительные токи архаического синкретизма, умеющего властвовать, не разделяя высокое и низкое, вымысел и факт, сон и явь, форму и содержание, толпу и поэта.
Кино, пожалуй, приблизилось ближе других к главным эстетическим конфликтам нашего века, готовясь разрешить их не ответом, а примером, не мыслью, а чувством, не компромиссом, а парадоксом. Именно таким финальным парадоксом современной культуры мне представляется творчество Феллини, сумевшего дальше многих пройти и по пути хаоса, и по пути космоса.
Первая дорога завела его в «Сатирикон». В этом фильме все снято без перспективы: кадры — как плоские фрески на манер помпейских, взор постоянно упирается в стену — тут не существует будущего. Феллини отрезал античность от христианства с его эсхатологическим измерением, предусматривающим целенаправленный путь к эпилогу Страшного Суда. Мир «Сатирикона» живет без надежды на осмысление, по которому он, впрочем, и не тоскует, не зная, что потерял. Это нам, зрителям, жутко следить за долгой чередой эпизодов-приключений, за невнятной и бесцельной игрой фортуны, которая — единственная — управляет жизнью. Нам страшно жить в таком мире, и в этом победа Феллини, который, изобразив античность враждебной и чуждой, оправдал свой — наш — мир.
Хаотической вселенной «Сатирикона», где все говорят на непонятных языках, где жизнь — фрагмент без конца и начала, Феллини в своих исповедальных картинах — от кризисного «Восьми с половиной» до почти прощального «Интервью» — противопоставляет ироническую, ущербную, незначительную, пустячную, но все-таки цельность.
Если «Сатирикон» — монументальный портрет хаоса, то «Интервью» — застенчивая попытка гармонии. Чтобы пробиться к ней, Феллини бросил свое искусство вместе с героями, образами, сюжетами. Само кино принесено тут в жертву одной затаенной, робкой страсти: срастить экран с залом, найти, изобразить, воплотить душевную общность, соединяющую режиссера со зрителями. Это теплое чувство родственной близости, которая ни к чему не ведет и ничему не служит, возникает в чеховских пьесах, смягчая духовный разлад героев душевным родством их с автором. Но у Феллини автора уже нет — отказываясь от своей роли, от прав и обязанностей художника, маэстро нисходит в кадр. Он наравне со всеми вступает в хоровод, которым так триумфально и трогательно завершается «Восемь с половиной» и который так бесхитростно и отчаянно занял собой всю картину «Интервью». Встав в общий круг, Феллини зовет и нас, зрителей, занять место в хороводе, чтобы замкнуть собой Вселенную — отгородить своими спинами от хаоса теплый космос искусства.
1993
ЛУК И КАПУСТА
Во время Второй мировой войны Юнг писал, что перерождение Германии для него не было сюрпризом, потому что он знал сны немцев.
Мы не знаем русских снов (хотя, говорят, уже появился первый журнал, скупающий и изучающий сновидения соотечественников), но в нашем распоряжении есть нечто другое — искусство, которое, как утверждает тот же Юнг, «интуитивно постигает перемены в коллективном бессознательном».[8] Сегодня стал очевидной неизбежностью такой «тектонический» сдвиг, вызывающий смену парадигм, а значит, наборов ценностей, типов сознания, мировоззренческих стратегий и метафизических установок. Попробуем разобраться в происходящем, прибегая к свидетельству культуры и жизни не только художников и писателей, но и зрителей и читателей, ибо не меньше поэтов в формировании «картины мира» участвует толпа, выбирающая именно те произведения искусства, на которых играют блики времени. Книжный развал — это тоже портрет эпохи.
Советская метафизика
Коммунизм чрезвычайно похож на язык. Как любой язык, он состоит из элементов, расположенных на двух уровнях, на двух этажах. Нижний (означающее) — это цвет светофора, верхний (означаемое) — смысл, который светофор вкладывает в этот цвет.
Если сравнить в этих терминах коммунизм с демократическим обществом, то получится, что демократия — это общество возможного, а коммунизм — царство должного: одна — плод случайных связей, другой явился на свет благодаря расчету и умыслу. Поэтому язык демократии — нестройный, случайный, необязательный и невнятный уличный говор. Источник организации, «грамматики» общества — свободнорожденный знак. Демократия хранит родовую память о том первоначальном моменте, когда в результате свободного волеизъявления знаки получили свою маркировку (продолжая аналогию со светофором, это момент, когда красный цвет назначили запретительным, а зеленый — разрешительным сигналом).
Как в космологическом «большом взрыве», «родившем» пространство и время, так и в этой своей отправной точке демократия раздала знакам их смыслы, их означающие и означаемые. Демократия постоянно сверяется с начальными условиями игры, которые были заключены в результате общественного договора (в США эту роль играет конституция). Этот кардинальный «нулевой» момент ограничивает демократию в прошлом, но в будущее она разомкнута до бесконечности. Поэтому «книга», написанная языком демократии, лишена сюжета. Это язык, существующий на уровне словаря как совокупность всех возможных слов, которые актуализируются, реализуются только в конкретной и неповторимой речевой ситуации.
Коммунизм строился от конца. Историческая необходимость лишала его свободного выбора, без которого вообще невозможно будущее. История, в сущности, уже свершилась, исполнилась, а произвол, каприз, случай — всего лишь псевдонимы нашего невежества, продукт неполного знания или непонимания мироздания, где все учтено неодолимой силой эволюции. Для фаталиста, как для свиньи, естественная, не предопределенная смерть-непостижимая абстракция.
Космологическая «нулевая» точка коммунизма помешалась не в прошлом и не в будущем, а в вечном. Поскольку финал был известен заранее, история приобретала телеологический характер, а все жизненные коллизии становились сюжетными ходами, обеспечивающими неминуемую развязку.[9]
Тут, как в хорошем детективе, не было ничего лишнего — все пути, даже обратные, неизбежно вели в Рим. В таких парадоксальных координатах уже непонятно, какой маршрут приближает, а какой — отдаляет от цели.
Коммунизм — это светофор-параноик, одержимый манией преследования и бредом сверх ценных идей: какой бы свет на нем ни загорался, он всегда означает одно и то же.
На этой параноидальной основе и строилась советская метафизика, позволявшая осуществлять повседневную и повсеместную трансценденцию вещей и явлений. Каждый шаг по «земле» — вспаханный гектар или забитый гвоздь, прогул или опечатка — отражался на «небе». Жизнь превращалась в тотальную метафору, не имеющую ценности без своей скрытой в вечности сакральной пары.
Подобное мироощущение близко к средневековому:
«Представление о небесной иерархии сковывало волю людей, мешало им касаться здания земного общества, не расшатывая одновременно общество небесное ‹…›. Ведь реальностью для него было не только представление о том, что небесный мир столь же реален, как и земной, но и о том, что оба они составляют единое целое — нечто запутанное, заманивающее людей в тенета сверхъестественной жизни»[10]
В системе советской метафизики любое слово наделялось переносным значением, любой жест делался двусмысленным, любая деталь превращалась в улику. Жизнь протекала сразу в двух взаимопроникающих измерениях: сакральном и профанном. Вечное пропитывало сиюминутное, делая его одновременно и бессмысленно суетным и ритуально значимым. История перетекала в священную историю, физика — в метафизику, проза — в поэзию, философия — в теологию, человек — в персонаж, биография — в фабулу, судьба — в притчу.
В эсхатологических координатах коммунизма не было ничего постороннего Концу, той «нулевой точке», которая раздавала знакам смысл. Поэтому в языке коммунизма существовало только одно означаемое, у которого были мириады означающих.
Собственно, вся партийная система, дублирующая хозяйственную администрацию, занималась тем, что осуществляла коммунистическую трансценденцию — отыскивала связь любых означающих с этим единственным означаемым. Миллионы профессиональных толкователей приводили жизнь к общему метафизическому знаменателю, переводя тайное в явное, случайное в закономерное, временное в вечное, профанное в сакральное, хаос в порядок.
При этом само означаемое уже не имело собственного смысла. Это был окончательный, неразложимый, утративший свою знаковую бинарность абсолют. Поскольку о нем нельзя было сказать ничего определенного, он и воспринимался как «запредельная» земному бытию данность, не нуждающаяся да и не терпящая определенности.
Конечно, в разное время и в разных кругах у «абсолюта» были свои имена: коммунизм, коммунизм с человеческим лицом, правда, народ, демократия, родина. Важно не содержание всех этих часто взаимоисключающих трактовок абсолюта, а готовность считаться с ним. Главное _ вера в нечто несоразмерное личности, нечто заведомо большее, чем она, нечто такое, что наделяет смыслом слова и поступки, жизнь и историю.
До тех пор пока коммунизм был закрытой тоталитарной системой, он обеспечивал не только друзей, но и врагов таким метафизическим обоснованием, позволяя и вынуждая каждого сражаться — либо с собой, либо за себя.
Разоблачения тоталитарного режима не становились для него роковыми, потому что они одновременно увеличивали его мифотворческий потенциал, преумножая количество означающих для все того же одинокого, уникального в своей неописуемости означаемого.
Эмпирическая реальность считалась состоявшейся только после того, как она соотносилась с реальностью идеальной, вечной, параметры которой определяла конечная цель. Как сказал молодой философ И.Дичев, «прошлое тут заменял отчет, а будущее — план».[11] Факт приобретал подлинное существование благодаря воссоединению со своим обозначаемым, когда обнаруживал скрытый смысл, то есть когда становился метафорой.
Главное в советской метафизике — методика метафоризации бытия. Истинной признавалась только реальность, «описанная» в планах и отчетах или романах и стихах.
В этом заключалась демиургическая претензия социалистического реализма, стремившегося «записать» мир, заменив его собой. Мечта соцреализма — знаменитая карта из рассказа Борхеса, которая изготавливается настолько полной и точной, что в конце концов заменяет собой страну, изображением которой она задумывалась.
Соцреализм, как и соответствующий ему тип сельского хозяйства, признавал лишь экстенсивное развитие, поэтому он вынужден был лихорадочно догонять жизнь, «записывая» все новые ее ареалы. Любая «незаписанная» тема ощущалась прорехой в самой ткани бытия.
Показательна история гласности, успехи которой отсчитывались по тому, насколько успешно покрывались текстом «голые» участки эмпирической реальности. Охота за тематической целиной, будучи особой формой спекуляции недвижимостью, создавала ощущение бума, ложность которого обнаружилась, когда стремительно канули в Лету многочисленные бестселлеры перестройки.
Не критика режима, а открытие его границ привело к краху советскую метафизику, которая могла функционировать лишь в закрытой системе. Эту замкнутость гарантировала цензура, причем не ее конкретные проявления, а сам факт существования запретов. Табу ограничивают пространство мифа, создавая необходимое напряжение между верхом и низом — между имманентной и трансцендентной реальностью.
Сколь бы «дырявыми» ни были цензурные границы, пока их можно было нарушать, советская метафизика сохраняла способность к воспроизводству. Так, уже в 1990 году тот же И. Дичев спрашивал: «Что будет, если нам скажут, что о всем можно писать? Тогда реальность в книгах самых смелых писателей испарится, иерархия ценностей распадется и кучи целлюлозы повиснут в бытийном вакууме. Значит, даже наиболее смелые не заинтересованы в снятии табу».[12]
Понятно, почему понуждаемая инстинктом самосохранения советская метафизика тщилась либо не заметить падения цензуры, продолжая разоблачения павшего режима, либо вынуждена была нарушать другие табу (секс, мат, насилие, расизм). Здесь же следует, видимо, искать и причину идейного перерождения многих диссидентов, не вынесших пребывания в «бытийном вакууме».
Перестройку можно сравнить с Реформацией, которая, как писал Юнг, оставила человека наедине с «десимволизированным миром». Крушение коммунизма лишило общество наработанного им символического арсенала и обрекло его на метафизическое сиротство. Из аксиологической[13] бездны доносится мучительный вопрос: «Во имя чего?»,[14] подразумевающий, что жизнь без ответа на него не стоит продолжения.
Утратив свое означаемое, коммунистический язык умер. Знаки, став одномерными, потеряли способность выражать что-либо стоящее за ними. Светофор опять сошел сума, но на этот раз у него шизофрения: в его расщепленном сознании красный цвет может в любую секунду поменяться смыслом с зеленым, а значит, связь означающего с означаемым становится произвольной.
В качестве примера такой «шизофренической» знаковой «системы, сконструированной на единственном уровне обозначения», отец структурализма К. Леви-Строс приводил нефигуративную живопись. Поэтому можно сказать, что постсоветское общество из картины Лактионова переехало в картину Кандинского.
В литературе такую «шизореальность» воссоздает Владимир Сорокин. Так, один из его нескольких неопубликованных романов — «Норма» — целиком посвящен миру распавшихся знаков.
Первая часть книги — монотонные зарисовки банальной советской жизни. В каждой из них есть сцена поедания таинственной «нормы», которая при ближайшем рассмотрении оказывается человеческими экскрементами. Естественно, что читатель тут же прибегает к неизбежному в рамках советской метафизики аллегорическому уравнению: если обозначающее — испражнения, а обозначаемое — условно говоря, советская власть, то содержание текста — общеизвестная скатологическая метафора: «Чтобы тут выжить, надо дерьма нажраться».
Но тут-то Сорокин и применяет трюк: метафора овеществляется настолько буквально, что перестает ею быть: означающее — норма, обозначаемое — экскременты, никакого подспудного, то есть «настоящего», смысла в тексте не остается.
В других частях этого объемистого романа происходят новые приключения того же героя — утратившего универсальное означаемое знака. Например, Сорокин с той же настойчивостью материализует метафоры из хрестоматии советских стихов, лишая ключевые слова переносного, фигурального значения. Вот отрывок «В походе»: «Конспектирующий « Манифест коммунистической партии» мичман Рюхов поднял голову: — И корабли, штурмуя мили, несут ракет такой заряд, что нет для их ударной силы ни расстояний, ни преград. Головко сел рядом, вытянул из-за пояса « Анти-Дюринг»: — И стратегической орбитой весь опоясав шар земной, мы не дадим тебя в обиду, народ планеты трудовой. Рюхов перелистнул страницу: — Когда же нелегко бывает не видеть неба много дней и кислорода не хватает, мы дышим Родиной своей.
Вечером, когда во всех отсеках горело традиционное « ВНИМАНИЕ! НЕХВАТКА КИСЛОРОДА!», экипаж подлодки сосредоточенно дышал Родиной. Каждый прижимал ко рту карту своей области и дышал, дышал, дышал. Головко- Львовской, Карпенко- Житомирской, Саюшев — Московской, Арутюнян — Ереванской…»[15]
Это не соцартовский китч. Сорокин вовсе не стремится к комическим эффектам. Его тексты посвящены не пародированию, а исследованию советской метафизики. Он изучает ее устройство, механизмы ее функционирования, испытывает пределы ее прочности.
Пример такого опыта — написанный под классиков фрагмент «Нормы». По отношению к остальному, специфически советскому тексту этот «красивый отрывок», воскрешающий чеховский быт, тургеневскую любовь и бунинскую ностальгию, должен был бы исполнять роль подлинной жизни, являть собой естественное, исходное, нормальное положение вещей, отпадение от которого и привело к появлению кошмарной «нормы». Но тут Сорокин искусным маневром вновь разрушает им же созданную иллюзию. Неожиданно без всякой мотивировки в этот точно стилизованный под классиков текст прорывается грубая матерная реплика. Она «протыкает», как воздушный шарик, фальшивую целостность этой якобы истинной вселенной.
Так, последовательно до педантизма и изобретательно до отвращения Сорокин разоблачает ложные обозначаемые, демонстрируя метафизическую пустоту, оставшуюся на месте распавшегося знака. Этой пустоте в романе соответствуют либо строчки бесконечно повторяющейся буквы «а», либо абракадабра, либо просто чистые страницы.
Проследив за истощением и исчезновением метафизического обоснования из советской жизни, Сорокин оставляет читателя наедине со столь невыносимой смысловой пустотой, что выжить в ней уже не представляется возможным.
История реальности
Французский философ Жан Бодрийар пишет, что эволюция образа проходила через четыре этапа:
— на первом — образ, как зеркало, отражал окружающую реальность;
— на втором — извращал ее;
— на третьем — маскировал отсутствие реальности:
— и наконец, образ стал «симулякром», копией без оригинала, которая существует сама по себе, без всякого отношения к реальности.[16]
Действенность этой схемы можно продемонстрировать на материале отечественной культуры:
— «зеркальная» стадия — это «честный» реализм классиков;
— образ, извращающий реальность, — авангард Хлебникова, Малевича или Мейерхольда;
— искусство фантомов (социалистическое соревнование, например) — это соцреализм;[17]
— к симулякрам, образам, симулирующим реальность, можно отнести копирующий не существовавшие оригиналы соц-арт, вроде известной картины В. Комара и А. Меламида «Сталин с музами».
На каждой ступени этой лестницы образ становится все более, а реальность все менее важной. Если сначала он стремится копировать натуру, то в конце обходится уже без нее вовсе: образ «съедает» действительность.
Эту центральную тему современной культуры подробно разработал поп-арт, изучающий жизнь образа, оторвавшегося от своего прототипа, чтобы начать пугающе самостоятельную жизнь. Так, на одной из ранних картин Энди Уорхола «Персики» изображены не сами фрукты, а консервная банка с фруктами. В этом различии пафос всего направления, обнаружившего, что в сегодняшнем мире важен не продукт, а упаковка, не сущность, а имидж.
Поп-арт произвел не столько художественный, сколько мировоззренческий переворот. Об этом говорит и историческая ошибка Хрущева, не заметившего своего истинного врага. Как раз в расцвет поп-арта, в начале 60-х, он обрушился на безопасный абстракционизм. Конечно, не элитарные эксперименты, а именно поп-арт угрожал советской. метафизике, которую он в конце концов и лишил смыла. Значение поп-арта как раз в том, что он зафиксировал переход от абстракционизма, занятого подсознанием личности, к искусству, призванному раскрыть подсознание уже не автора, а общества. С тревогой вглядываясь в окружающий мир, художник поп-арта старается понять, что говорит ему реальность, составленная из бесчисленных образов космонавтов и ковбоев, Лениных и Мэрилин Монро, Мао Цзэдунов и Микки-Маусов.
Проблематика поп-арта, в сущности, экологическая. В процессе освоения окружающего мира исчезает не только девственная природа, но и девственная реальность. Первичная, фундаментальная, не преобразованная человеком «сырая» действительность стала жертвой целенаправленных манипуляций культуры. Мириады образов, размноженные средствами массовой информации, загрязнили окружающую среду, сделав невозможным употребление ее в чистом виде.
У нас нет (а может, никогда и не было[18]) естественного мира природы, с которым можно сравнивать искусственный универсум культуры. Современная философия склонна видеть мир «плодом сотрудничества между реальностью и социальным конструированием. Реальность есть не предмет для сравнения, а объект постоянной ревизии, деконструкции и реконструкции».[19]
Как и экологический, кризис реальности, вызванный развитием массового общества и его коммуникаций, универсален, но Россию он приводит к особо радикальным переменам. Здесь дефицит реальности ощущается острее, чем на Западе. Не только из-за того, что заменяющие ее суррогаты, как водится, хуже качеством, но и потому, что советская метафизика всегда ставила перед искусством задачу изобразить как раз ту истинную, бескомпромиссно подлинную реальность, которую, вероятно, и имел в виду как Сталин, рекомендовавший писателям писать только правду, так и призывавший «жить не по лжи» Солженицын.
Стратегии этой «правды», конечно, различались. Если сервильные писатели к изображению «натуры» прибавляли ее «платоническую» идею, то оппозиционные ту же идею разоблачали и из натуры вычитали. Но в результате что одной, что другой арифметической операции «натура» переставала быть сама собой, неизбежно превращаясь в метафору. О чем бы ни говорило такое искусство: о передовиках, трубах или репрессиях, подразумевает оно всегда нечто другое.
Попытки вырваться из этой модели за счет введения новых тем приводили, как уже говорилось, лишь к ее расширению: советское искусство, поглощая антисоветское, росло как на дрожжах, заполняя собой все новые ареалы городской и деревенской реальности.
Путь из этого тупика вел через другое измерение: хаос.
Коммунизм одержим порядком. Он видел себя силой упорядоченного бытия, которая постепенно «выгрызает» из океана хаоса архипелаг порядка.[20] Космология коммунизма строилась на идее последовательной организации вселенной, в которой к «нулевому моменту» не останется ничего стихийного, случайного. В статье-манифесте «Пролетарская поэзия» молодой Платонов писал: «Историю мы рассматриваем как путь от абстрактного к конкретному, от отвлеченности к реальности, от метафизики к физике, от хаоса к организации. ‹…› Мы знали только мир, созданный в нашей голове. ‹…› Мы топчем свои мечты и заменяем их действительностью. ‹…› Если бы мы оставались в мире очарованными, как дети, игрою наших ощущений и фантазий, если бы мы без конца занимались так называемым искусством, мы погибли бы все».[21]
Поскольку процесс коммунистического строительства давал прямо противоположные результаты, советской метафизике приходилось все энергичнее замазывать пропасть между теорией и практикой. Чем меньше порядка было в жизни, тем больше его должно было быть в искусстве. Этим объясняется нарастающая нетерпимость коммунизма к «неорганизованному» искусству — от разгрома авангарда и статьи «Сумбур вместо музыки» до хрущевских гонений на абстракционистов и брежневской «бульдозерной» выставки. Не случайно из всех символов советской метафизики самым долговечным оказался «порядок». Меняясь и приспосабливаясь, он по-прежнему узнаваем в мечтах о «регулируемом рынке» и «сильной руке».
Порядку, этой последней утопии советской метафизики, противостоит хаос. «Открытие» хаоса точными науками, которое по значению сравнивают с теорией эволюции и квантовой механикой, начинает оказывать сильное влияние и на гуманитарную мысль. Позитивная переоценка хаоса рождает новую картину мира, в которой, как пишет один из основателей «хаосологии», нобелевский лауреат Илья Пригожин, «порядок и беспорядок представляются не как противоположности, а как то, что неотделимо друг от друга».[22] Хаос становится не антагонистом, а партнером порядка: по Пригожину, «анархия хаоса стимулирует самоорганизацию мира».[23]
Чтобы воспроизвести простейшую ситуацию хаоса, говорят ученые, достаточно привесить к одному маятнику другой. Амплитуду ординарного маятника описывают элементарные законы механики, но график колебания двойного маятника становится непредсказуемым.
В искусстве создание «хаосферы»[24] требует введения в текст абсурдного элемента, который и выполняет роль второго маятника — становится «генератором непредсказуемости».
Инъекция непонятного переводит диалог читателя с текстом на другой язык, схожий с «умопостижимым и непереводимым"(Леви-Строс) языком музыки. (Именно таким языком пользуется вся рок-культура.)
Как написал Джон Фаулз, ставший сейчас одним из самых модных иностранных писателей в России, « перед лицом неведомого в человеке дробится мораль, и не только мораль ‹…› неведомое — важнейший побудительный мотив духовного развития».[25]
Изучая эту проблему, Ю. Лотман в своей последней книге — « Культура и взрыв» — пишет: « Искусство расширяет пространство непредсказуемого — пространство информации — и одновременно создает условный мир, экспериментирующий с этим пространством и провозглашающий торжество над ним». Искусство « открывает перед читателем путь, у которого нет конца, окно в непредсказуемый и лежащий по ту сторону логики и опыта мир». Такое искусство из мира необходимости способно « перенести человека в мир свободы». Лотман называет и перспективный жанр, в котором это « свободолюбие» способно развернуться: « Движение лучших представителей фантастики второй половины XX века пытается перенести нас в мир, который настолько чужд бытовому опыту, что топит тощие прогнозы технического прогресса в море непредсказуемости».[26]
И ведь действительно, как убеждает упомянутый вначале книжный развал, из очень немногих авторов, переживших обвальный кризис советской литературы, выделяются феноменально популярные братья Стругацкие. Не потому ли, что осторожные эксперименты с хаосом они начали еще во времена расцвета советской метафизики?
В первую очередь тут следует сказать об их лучшей книге « Улитка на склоне». Эта написанная в 1965 году повесть состоит из двух отдельных текстов, которые цензура даже не разрешила печатать вместе. Как объясняют сами авторы, одна часть, « Лес», — это будущее, другая, « Управление», — настоящее. Идея книги в том, что « будущее никогда не бывает ни хорошим, ни плохим. Оно никогда не бывает таким, каким мы его ждем».[27]
Разрыв между настоящим и будущим разрушает причинно-следственную связь, создавая одну из знаменитых своей изощренностью «хаосфер» Стругацких. Свою роль тут играют специально встроенные в текст « генераторы непредсказуемости» — текстуальные машины хаоса:
« Ким диктовал цифры, а Перец набирал их, нажимал на клавиши умножения и деления, складывал, вычитал, извлекал корни, и все шло как обычно.
— Двенадцать на десять, — сказал Ким. — Умножить.
— Один ноль ноль семь, — механически продиктовал Перец, а потом спохватился и сказал: — Слушай, он ведь врет. Должно быть сто двадцать.
— Знаю, знаю, — нетерпеливо сказал Ким. — Один ноль ноль семь, — повторил он. — А теперь извлеки мне корень из десять ноль семь…
— Сейчас, — сказал Перец».[28]
Ясно, что высчитанное таким образом будущее не будет иметь ничего общего с настоящим. « Врущий» арифмометр» — это мина, заложенная под бескомпромиссный детерминизм советской метафизики. Не зря «Улитку» десятилетиями не пускали в печать.
Роль хаоса становится еще заметнее в сотрудничестве Стругацких с А.Тарковским в фильме «Сталкер». Длинный ряд отвергнутых режиссером сценариев «Сталкера» показывает, что в исходном тексте — повести «Пикник на обочине» — Тарковского интересовал исключительно «генератор непредсказуемости» — Зона. Нещадно отбрасывая весь научно-фантастический антураж, режиссер вытравливал из своего фильма «логику» метафоры, способную спихнуть картину в обычное русло советской метафизики. Можно сказать, что в «Сталкере» Тарковский переводил произведение Стругацких с языка аллегорий на язык символов в том смысле, который вкладывал в эти понятия Юнг:
«Аллегория есть парафраза сознательного содержания; символ, напротив, является наилучшим выражением лишь предчувствуемого, но еще неразличимого бессознательного».[29]
Зона у Тарковского — это «поле чудес», или «пространство непредсказуемости» Лотмана. Здесь может произойти все что угодно, потому что в Зоне не действуют законы, навязываемые нами природе.
Если вселенная советской метафизики предельно антропоморфна — она сотворена по образу и подобию человека, — то Зона у Тарковского предельно неантропоморфна. Поэтому в ее пределах и не действует наша наука.
«Сталкер» — это фильм о диалоге, который человек ведет с Другим. Для их общения язык советской метафизики не годится, потому что у собеседников не может быть общего означаемого. Понять друг друга они могут только на языке самой жизни. Посредник между человеком и Зоной — Мартышка, дочь Сталкера, которая ведет этот диалог напрямую: Зона, отняв у Мартышки ноги, лишила ее свободы передвижения, но взамен научила телекинезу, способности передвигать предметы силой мысли.
По свидетельству Бориса Стругацкого, главная трудность работы с Тарковским заключалась в несовпадении литературного и кинематографического видения мира:
«Слова — это литература, это высокосимволизированная действительность ‹…› в то время как кино — это ‹…› совершенно реальный, я бы даже сказал — беспощадно реальный мир».[30]
«Беспощадность» кинематографического реализма заключается, видимо, в том, что кино, как писал Тарковский, способно остановить, «запечатлеть» время, обратив его в матрицу реального времени, сохраненную в металлических коробках надолго (теоретически навечно)».[31]
То есть кино, по Тарковскому, отбирает у советской метафизики источник смыслов — эсхатологический «нулевой момент».
Вяч. Иванов вспоминает высказывания режиссера о замысле фильма «Зеркало», где главную роль должна была исполнять мать Тарковского:
«Из материала, фиксирующего в этом идеальном случае целую человеческую жизнь от рождения до конца, режиссер отбирает и организует те эпизоды, которые в фильме передают значение этой жизни. Из современных ему режиссеров мысли, почти слово в слово совпадающие с этой основной концепцией кино у Тарковского, высказывал Пазолини. Согласно Пазолини, монтаж делает с материалом фильма то, что смерть делает с жизнью: придает ей смысл».[32]
Тарковский делал нечто прямо противоположное Пигмалиону — пытался обратить Галатею (живого человека, в данном случае свою мать) в произведение искусства.
На первый взгляд эта практика отнюдь не чужда советской метафизике, которая всегда требовала «воплощать» реальных героев в художественных образах. Но разница, и грандиозная, в том, что в прототипе ценилось не индивидуальное, а типическое. Человек мог стать персонажем лишь тогда, когда он обобщался до типа: скажем, превращался из конкретного Маресьева в метафорического Мересьева. Художественный тип — это и есть «упорядоченная», «организованная» личность, вырванная из темного хаоса жизни и погруженная в безжизненный свет искусства.
Тарковскому был нужен не типичный, а настоящий человек (как ему нужна была и настоящая корова, которую он якобы сжег живьем на съемках «Андрея Рублева»). Этот неповторимый человек с маленькой буквы был единицей того алфавита, на языке которого Тарковский разговаривал с Другим.
Концепция жизни, непосредственно перетекающей в искусство, активно осваивается Голливудом, где сегодня дороже всего не сценарии, а настоящие судьбы. В цене именно неповторимость личности, чья живая индивидуальность — гарантия от превращения биографии в сюжет.
Логика искусственного порядка убивает живое, превращая его в образ. Но в искусстве, работающем с той «хаосферой», которую каждый из нас носит в себе, обращенное в образ живое не перестает быть живым. Если вернуться к схеме Бодрийара, то можно сказать, что на этом пути образ достигает пятой ступени своей эволюции: он вступает в новые, если угодно мистические, отношения с реальностью. В погоне за реализмом образ создает «гиперреализм» — искусство не отражающее, а продуцирующее действительность.
Лук и капуста
Коммунизм — это инверсия религии откровения. Его безгрешный эдем, или бесклассовый «золотой век», не исходное, а конечное состояние мира. Однако эта переориентация сакральной «стрелы времени» не отменяет представления об истине, скрытой под глыбами темного, не проясненного смыслом бытия.
Вся советская метафизика построена на непрестанном поиске истинных слов и мотивов, на срывании масок и раскрытии личин. Маниакальная подозрительность коммунизма — от недоверия к жизни, не окрыленной умыслом и не омраченной замыслом. Его инквизиторский пафос направлен на то, чтобы открыть человеку истинный смысл своей судьбы. Потому признание и считалось «царицей доказательств», что критерий вины был скрыт в душе подсудимого.
При всем том процедура духовного сыска укладывается в культурную парадигму, в пределах которой пыточный подвал можно представить версией пещеры Платона, где поиски подлинной реальности велись опытным путем.
Советская метафизика делила со своими предшественниками представление о некоем резервуаре смыслов, составляющих в совокупности идеальную гармонию. Восстановить ее — цель художника. Он не творит, а открывает существующую в вечности истину. Булгаковская диалектика — «рукописи не горят», ибо сгореть могут лишь их тусклые и неверные копии — временные версии нетленного инварианта, универсального пратекста, растворенного во Вселенной. Творческий акт — это возвращение временного к вечному. Поэтому постулируемое коммунизмом «творческое» отношение к истории ведет к ее прекращению.
Такую мировоззренческую систему можно назвать «парадигмой капусты»: снимая лист за листом слои ложного бытия, мы добираемся до кочерыжки — смысла. Духовное движение тут центростремительное. Вектор его направлен в глубь реальности, к ее сокровенному ядру, в котором и содержится центральное откровение всей культурной модели.
По отношению к этому сакральному ядру все остальные слои реальности в принципе лишние: они только мешают проникнуть к смыслообразующему центру.
Классический пример «парадигмы капусты» — повесть Толстого «Смерть Ивана Ильича». В ней, как известно, Толстой разоблачает «нормальную» жизнь с ее карьерой, семьей, бытом, как ложную, неистинную, испорченную лицемерием цивилизации. Только смерть открывает глаза человеку, заставляя отвечать на главный — последний и единственный — вопрос, от которого нельзя спрятаться за «ширмами» культуры.
«И что было хуже всего — это то, что она отвлекала его к себе не затем, чтобы он делал что-нибудь, а только для того, чтобы он смотрел на нее, прямо ей в глаза, смотрел на нее и, ничего не делая, невыразимо мучился.
И, спасаясь от этого состояния, Иван Ильич искал утешения, других ширм, и другие ширмы являлись и на короткое время как будто спасали его, но тотчас же опять не столько разрушались, сколько просвечивали, как будто она проникала через все, и ничто не могло заслонить ее»[33]
В этом абзаце — квинтэссенция «центростремительной» философии: если все — «ширма», то зачем ради нее стараться, зачем семья, зачем хозяйство, мебель, гардины, погубившие Ивана Ильича? Да и откуда возьмутся эти самые гардины и прочая «материя» жизни? Зачем работать, копить, строить, созидать? Зачем культура, зачем хитроумно устроенная машина цивилизации? «Незачем», — отвечал Толстой, призывая мир опроститься. Освободив личность от фальши, Толстой ставит ее в тот единственный «момент истины», когда подлинная, естественная, «внезнаковая» реальность лишается спасительных «ширм» культуры и человек остается наедине со смертью.
Революционное искусство использовало в своих целях такой метод «апофатического»[34] приближения к сакральному центру. «Обдирание листьев в поисках кочерыжки» — вот формула таких знаменитых произведений, как «Облако в штанах» Маяковского или «Хулио Хуренито» Эренбурга.
Начиная с «Оттепели» того же Эренбурга искусство вновь — сквозь «листья» уже другой культуры — пробивается к центру. Только крах коммунизма показал, что это «дорога никуда». Те, кто все-таки решились добраться до ядра, обнаружили там пустоту, которую с таким холодным отчаянием изображает Владимир Сорокин.
Здесь исчерпавшая себя «парадигма капусты» уступает место другой парадигме, в которой культура строится как раз на губительной для своей предшественницы пустоте.[35] Ролан Барт говорил о слоеном пироге без начинки, но нам — в пару капусте — лучше взять в метафоры лишенную сердцевины луковицу.
В «парадигме лука» пустота не кладбище, а родник смыслов. Это — космический ноль, вокруг которого наращивается бытие. Являющаяся сразу всем и ничем, пустота — средоточие мира. Мир вообще возможен только потому, что внутри него — пустота: она структурирует бытие, дает форму вещам и позволяет им функционировать. Это та «творческая пустота», на которую опирается даосский канон: три десятка спиц сходятся в одной втулке, от пустоты ее зависит применение колеса. Формуя глину, делают сосуд, от пустоты его зависит его применение. Прорубая двери и окна, строят дом, от пустоты их зависит использование дома. Ибо выгода зависит от наличия, а применение — от пустоты.[36]
Эта, казалось бы, экзотическая ссылка отнюдь не случайна. В «парадигме лука» много близкого даосским мотивам. Так, в центральном монологе Сталкера у Тарковского цитируется 76-й параграф «Книги пути и благодати» Лао-Цзы:
«Когда человек родится, он слаб и гибок, когда умирает, он крепок и черств. Когда дерево растет, оно нежно и гибко, а когда оно сухо и жестко, оно умирает. Черствость и сила — спутники смерти, гибкость и слабость выражают свежесть бытия»;[37]
Эта проповедь слабости противостоит волевому импульсу, столь важному в «парадигме капусты». Если путь к сакральному ядру разрушает внешние, «неистинные» слои бытия, то заповедь юродивого, блаженного Сталкера у Тарковского вполне даосская — это смиренное недеяние. Ему, безусловно, чужда мысль разрушить старый мир ради нового, потому что новый мир сам рождается или вырастает из старого. Надо только не мешать ему расти.
Если в «парадигме капусты» хаос снаружи, а порядок внутри, то в «парадигме лука» хаос — зерно мира, это «творящая пустота» Пригожина, из которой растет космос. Поэтому движение тут не центростремительное, а центробежное, направленное вовне: смыслы не открываются, а выращиваются. Для Тарковского ценность слабости — в том, что она признак роста и спутник перемен. В «парадигме лука» незащищенность, уязвимость, даже убогость — исходная точка, необходимое условие, резерв роста.
На этой основе возникла целая плеяда «смиренных» писателей, чьим патриархом по праву может считаться Венедикт Ерофеев. Его «слабость» — ангелическое пьянство Венички — залог трансформации мира. В поэме «Москва- Петушки» алкоголь выполняет функцию «генератора непредсказуемости». Опьянение — способ вырваться на свободу, стать — буквально — не от мира сего. (Вновь любопытная параллель с даосскими текстами:
«Пьяный при падении с повозки, даже очень резком, не разобьется до смерти. Кости и сочленения у него такие же, как и у других людей, а повреждения иные, ибо душа у него целостная. Сел в повозку неосознанно и упал неосознанно».[38])
Водка в поэме Ерофеева — повивальная бабка новой реальности, переживающей в душе героя родовые муки. Каждый глоток омолаживает «черствые», окостеневшие структуры мира, возвращая его к неоднозначности, протеичности, аморфности того беременного смыслами хаоса, где вещи и явления существуют лишь в потенции.
Главное в поэме — бесконечный поток истинно вольной речи, освобожденной от логики, от причинно-следственных связей, от ответственности за смысл. Веничка вызывает из небытия случайные, как непредсказуемая икота, совпадения: все здесь рифмуется со всем — молитвы с газетными заголовками, имена алкашей с фамилиями писателей, стихотворные цитаты с матерной бранью. В поэме нет ни одного слова, сказанного в простоте. В каждой строчке кипит и роится зачатая водкой небывалая словесная материя. Пьяный герой с головой погружается в эту речевую протоплазму, дурашливо признаваясь читателю: «Мне как феномену присущ самовозрастающий логос».
Логос, то есть цельное знание, включающее в себя анализ и интуицию, разум и чувство, «самовозрастает» у Венички потому, что он сеет слова, из которых, как из зерна, произрастают смыслы. Он только сеятель, собирать жатву — читателям, которые «реализуют» в акте чтения существующую в потенциальном поле поэму.
Слабость как категория культуры по-своему отразилась в творчестве самых разных авторов новейшей литературы, но всех их объединяет демонстративный инфантилизм, осознанно выбранный писателями в качестве художественной позиции. (Этим он и отличается от специфической «детскости» соцреализма, который ее категорически не замечал, искренне считая себя взрослым искусством.)
Обратив себя в ребенка, автор «смиренной плеяды» возвращается из безнадежно завершенного взрослого мира в то промежуточное, подростковое состояние, где есть надежда вырасти, обрести смыл, нарастить «метафизический жирок».
Один из самых характерных авторов этого направления Э. Лимонов, романы которого — исповедь неудачника, «лепет» невыросшего ребенка. Параметры этой прозы определяются двумя цитатами: «Все, кто шел мне навстречу, были больше меня ростом» («Дневник неудачника») и «Я ‹-…› не предал ‹…› мое милое ‹…› детство. Все дети экстремисты. И я остался экстремистом, не стал взрослым…» («Это я — Эдичка»).
Совершенно иначе ту же категорию «слабости» использовал С.Довлатов. Описывая несовершенный мир, он смотрит на него глазами несовершенного героя. Слишком слабый, чтобы выделяться из окружающей действительности, он, искусно обходя метафизические глубины, скользит по ее поверхности. Принимая жизнь как данность, он не ищет в ней скрытого смысла. Довлатов завоевывает читателей тем, что он не выше и не лучше их. (Тут можно вспомнить китайское изречение о том, что море побеждает реки тем, что расположилось ниже их.)
В популярной на Западе интерпретации даосизма,[39] где основы учения объясняют персонажи из сказки А. Милна, самым мудрым оказывается Винни-Пух, потому что у него нет заданной автором роли. Если Иа-Иа — нытик, Пятачок — трус, Тигра — забияка, то Винни-Пух просто существует, он просто «есть». Таким Винни-Пухом в русской литературе и был Довлатов.
Тему «слабости» широко разворачивает гений самоуничижения, мнительный и болезненный, как заусеница, Дмитрий Галковский. Страх и неприязнь к сильному, «настоящему», взрослому миру — движущий мотив его «Бесконечного тупика». Вся книга разворачивается как подростковая фантазия, где автор берет реванш над своими обидчиками.
Еще дальше в этом сквозном для «парадигмы лука» сюжете зашел другой молодой автор — Виктор Пелевин: он и силу переосмысливает как слабость. В повести «Омон Ра» Пелевин разрушает фундаментальную антитезу тоталитарного общества: «Слабая личность — сильное государство». Сильных у него вообще нет. Из могучей «империи зла» он разжаловал режим в жалкого импотента, который силу не проявляет, а симулирует. В посвященной «героям советского космоса» повести эту симуляцию разоблачают комические детали, вроде пошитого из бушлата скафандра, мотоциклетных очков вместо шлема или «лунохода» на велосипедном ходу.
Демонстрация слабости нужна Пелевину отнюдь не для сатирических или обличительных, а для метафизических целей: коммунизм, неспособный преобразовать, как грозился, бытие, преобразует сознание. Единственное место, где он еще одерживает победы, — это пространство нашего сознания, которое он и пытается колонизировать: «Пока есть хоть одна душа, где наше дело живет и побеждает, это дело не погибнет. Ибо будет существовать целая вселенная ‹…›. Достаточно даже одной чистой и честной души, чтобы наша страна вышла на первое место в мире по освоению космоса; достаточно одной такой души, чтобы на далекой Луне взвилось красное знамя победившего социализма. Но одна такая душа хотя бы на один миг необходима, потому что именно в ней взовьется это знамя».[40]
Обнаружив свою слабость, коммунизм неожиданно выворачивается из «парадигмы капусты», превращаясь из врага чуть ли не в союзника. Он вступает с действительностью в уже знакомые нам из истории образа мистические отношения: реальность оказывается не данностью, не внешним объектом, а итогом его целенаправленных усилий.
Строя действительность по своему образу и подобию, коммунизм разрушает собственную основу. Вместо эволюции с ее неизбежной сменой общественных формаций появляется концепция множественности миров, множественности конкурирующих между собой реальностей.
Этот «коперниковский» переворот в советской метафизике отобрал у нее смысл, но не метод. Напротив, в «парадигме лука» с огромным интересом присматриваются к коммунистическому опыту «миростроения» и освоения «пространства души». Ведь эту практику легко связать с концепцией «рукотворной» реальности, к восприятию которой тоталитарный режим подготавливает лучше демократического.
Вот как этот тезис, полемизируя, кстати сказать, со мной по поводу «метафизического аспекта совковости», развивает тот же В. Пелевин:
«Советский мир был настолько подчеркнуто абсурден и продуманно нелеп, что принять его за окончательную реальность было невозможно даже для пациента психиатрической клиники. И получалось, что у жителей России, кстати, необязательно даже интеллигентов, автоматически — без всякого их желания и участия — возникал лишний, нефункциональный психический этаж, то дополнительное пространство осознания себя и мира, которое в естественно развивающемся обществе доступно лишь немногим.‹…›
Совок влачил свои дни очень далеко от нормальной жизни, но зато недалеко от Бога, присутствие которого он не замечал. Живя на самой близкой к Эдему помойке, совки заливали портвейном « Кавказ» свои принудительно раскрытые духовные очи…»[41]
Метафора «лишнего этажа» крайне характерна для центробежной культурной модели, которая не ищет скрытой сути мира, а создает себе смыслы в специально «надстроенной» для этого реальности. В России крах коммунизма освободил этот дополнительный «психический этаж», который и торопится захватить «парадигма лука».
Обратясь в очередной раз к свидетельству книжного развала, мы обнаружим там недостающие компоненты мировоззренческой модели «парадигмы лука» — это популярные сейчас сочинения двух мистиков: русского Петра Успенского и американского Карлоса Кастанеды. Такая неожиданная избирательность вкусов, вероятно, объясняется тем, что их учения пересекаются в одной, отправной точке — той, где реальность трактуется как ее интерпретации.
В предисловии к «Путешествию в Икстлан» Кастанеда пишет:
«Дон Хуан убеждал меня в том, что окружающий мир был всего лишь описанием окружающего мира, воспринимаемого мною как единственно возможное, потому что оно навязывалось мне с младенчества. ‹…›
Главное в магии дона Хуана — осознание нашей реальности как одного из многих ее описаний».[42]
По-своему, но об этом пишет и Успенский. Его сложные мистико-математические конструкции строятся на том, что мы воспринимаем мир, налагая на него «условия времени и пространства»:
«Следовательно, мир, пока мы не познаем его, не имеет протяжения в пространстве и бытия во времени. Это свойства, которые мы придаем ему. Представления пространства и времени возникают в нашем уме ‹…› пространство и время — это категории рассудка, то есть свойства, приписываемые нами внешнему миру. Это только вехи, знаки, поставленные нами самими. Это графики, в которых мы рисуем мир».[43]
Отсюда следует, что стоит изменить представление о пространстве и времени, как изменится и реальность. Именно к этому и ведет Успенский, призывая научиться воспринимать «непрерывную и постоянную» действительность.
Из этой важной преамбулы, которая, видимо, перекликается с представлениями сегодняшнего естествознания,[44] культура «лука» может сделать радикальный вывод: реальность есть плод манипуляций над пространством и временем. Однако формы их восприятия различны в разных культурах и эпохах. Модели времени и пространства открывает, разрабатывает, наконец, изобретает духовная культура. Сегодня эту привилегию практически узурпирует искусство.[45]
В «парадигме капусты» искусство было инструментом познания реальности, которую оно, собственно говоря, и должно было найти.
В «парадигме лука» искусство — вид магии, это механизм, вырабатывающий реальность, — все мы живем в придуманном им мире.
Хронотоп миража
Различия между двумя парадигмами вытекают из их разного отношения ко времени и пространству.
Для «парадигмы капусты» главным было, бесспорно, время. Коммунизм, вооруженный верой в историческую неизбежность эволюции, знал, что оно работает на него. Но поскольку в его эсхатологической модели история имела начало и конец, то время стремились побыстрее изжить. Ведь время ощущалось конечным, его можно было исчерпать, как песок в песочных часах: чем меньше его останется сверху, тем скорее завершится история и наступит вечность. Вечная спешка («Время, вперед!»), объяснялась тем, что любая остановка, от простоя до застоя, это предательство будущего. Время торопили все — от Маяковского, обещавшего «загнать клячу истории», до Горбачева, начавшего перестройку призывом к «ускорению». Чтобы время прошло быстрее, его даже уплотняли, укладывая в пятилетки, которые потом выполнялись досрочно в четыре года, что позволяло еще на год сокращать путь в вечность.
Если ко времени в «парадигме капусты» относились горячо, с лихорадочным нетерпением, то к пространству — скорее прохладно. Оно было семантически нейтральным, гомогенным и равнозначным в каждой своей части. Пафос равенства такого пространства выражали как слова песни «Мой адрес не дом и не улица, мой адрес — Советский Союз», так и название сборника Бродского «Остановка в пустыне».
Пространство считалось первичным сырьем, складом простора, предназначенным для дальнейшей переработки, которая должна была обставить его вещами, придав ему смысл. Поэтому его и не жалели. Напротив, необработанное, «дикое» пространство представлялось хаосом, пустотой, разъедающей сплошную «окультуренную» реальность.
В «парадигме лука» прежде всего изменилось отношение ко времени: вместо песочных часов — циферблат со стрелками. Линейное время, текущее из прошлого в будущее, уступает место циклическому времени, в котором постоянно воспроизводится настоящее. Поскольку конечная точка исчезла, сменился и масштаб: из макромира, где время мерилось историческими эпохами и экономическими формациями, оно «перебралось» в микромир, где счет идет на секунды. Время важно не прожить, а продлить за счет структурирования постоянно уменьшающихся отрезков времени. Чистая длительность сменяется «разбухающими» мгновениями, которые растут на стволе «сегодня», как кольца на дереве.
В «парадигме лука» подход к пространству такой же, как ко времени: оно тоже структурируется, делится на все более мелкие части. Вместо чистой протяженности «простыни» — лоскутное одеяло. Обособление, обживание своих «лоскутов» приводит к размножению границ.
В «парадигме капусты» граница была одна — государственная. Выполняя универсальную…функцию, она обладала всей полнотой смыслов — от политических до метафизических. При этом, как пишет Лотман, объясняя устройства подобных «семиосфер», «оценка внутреннего или внешнего пространства не задана».[46]
В «парадигме лука» граница меняет свое значение. Важно не только то, что происходит по ту или другую сторону границы, — важна и сама граница. Она утрирует любые различия — политические, национальные, религиозные, культурные, художественные.
Чем больше границ, тем больше и площадь пограничного пространства. Фрагментация пространства ведет не столько к изоляции, сколько к интенсификации контактов. Мир становится одновременно все более тесным и все более разным.
Если в «парадигме капусты» эта «разность» считалась препятствием на пути к универсальной общей цели, то в «парадигме лука» она объект углубленной медитации. Все важное происходит на рубеже между странами и народами, наукой и религией, искусством и жизнью, природой и культурой, мужчиной и женщиной, сознанием и подсознанием, но главное — между разными реальностями.
Поскольку реальность в «парадигме лука» — искусственного происхождения, то ничто не мешает ее «производству» по детально разработанным искусством методам. Но раз так, то реальности могут быть разными, и они неизбежно будут бороться за влияние, за души, за «психические этажи». В эпоху массовых коммуникаций эта война будет происходить в эфире. Собственно, она уже идет. Не зря лилась кровь на телецентрах Бухареста, Вильнюса, Москвы. Войну выигрывают не пушки, а образы, во всяком случае с тех пор, как они научились не отражать, а создавать реальность.
В категориях «парадигмы капусты» с этим трудно примириться: ведь тут телевизор считался «окном в мир». Но в «парадигме лука» телеобраз податлив, как глина. Из него можно лепить все что угодно, и вслед за ним будет послушно изгибаться реальность…
Кто знает, понравится ли XXI веку жить в мире, где у реальности появится множественное число, в мире, где миражи не отличаются от действительности, в мире, который, чтобы выжить, должен будет себя придумать?
1994
ГЛАЗ И БУКВА
На Бродвее, возле Колумбийского университета, есть роскошный книжный магазин, который я посещаю чаще других. Здесь торгуют не только самым изысканным, но и самым свежим товаром. Новые издания вытесняют старые с такой стремительностью, что магазин напоминает газетный киоск. А ведь книги, как слоны или черепахи, всегда были рассчитаны на долгую, во всяком случае превышающую авторскую, жизнь. Поэтому размножающиеся, как амебы, книги душат самих себя. Перенаселение понижает ценность отдельной особи. Чем гуще толпа, тем труднее из нее выбраться. Книжная гора оседает под своим весом и превращается в песок, в Сахару, где не найти и не отличить одной книжной песчинки от другой.
«ВИДЕОКРАТИЯ» — это власть видеообраза, власть глаза. Термин этот возник в противовес другому, давно известному — «логократия», то есть власть слова. (О том, какой она бывает, лучше всего знают соотечественники. Могущество логократии иллюстрирует известная теория Синявского, утверждавшего, что Октябрьская революция в России победила из-за трех удачно найденных слов: «большевик», «чека» и «Совет».)
Антагонизм глаза и слова уходит в давнюю древность. В языческом мире главным был глаз — зримые образы, воплощенные в преимущественно пластическом античном искусстве. Восточные монотеистские религии: иудаизм, христианство, ислам — открыли миру силу слов.
Радикальность этого новшества до сих пор ощущается на Востоке. Лучшее украшение мечети — несколько вырезанных на камне строк из Корана. Они резко контрастируют со строгой орнаментальной симметрией интерьера. Слово пророка — как прорыв из царства обыденного в небо. Слово-откровение, слово как магическое орудие преображения мира — единственный свободный элемент исламского искусства. Арабская каллиграфия — убежище асимметрии в царстве монотонных видеообразов орнамента.
В христианстве, особенно после Гутенберга, слово настолько завладело воображением западной культуры, что она представила мир одной великой книгой, где таятся все нужные слова. Достаточно лишь открыть правильную страницу, чтобы прочесть на ней тайны бытия.
Власть слов стала настолько абсолютной, что мы перестали ее замечать. «Рыба ничего не знает о воде», — говорил по этому поводу Маршалл Маклюэн. Но, как писал тот же пророк электронной эры, ситуацию в корне изменило кино: оно развалило стены индивидуализма, воздвигнутые печатным станком; изменило наше восприятие времени и истории, сделав все времена непосредственно настоящим; оно вернуло нас на три тысячи лет назад, в дописьменный мир, построенный на визуально-акустических метафорах.
В этом мире еще не нужно было постоянно сверять реальность с ее культурной репрезентацией. Такая потребность родилась только вместе с письменностью, создавшей абстрагированную, оторванную от конкретных реалий бытия символическую вселенную. С тех пор каждая эпоха, тоскуя по интегральной цельности, присущей устной культуре, надеялась, что любимое ею искусство возьмет на себя объединяющую роль. В XIII веке — архитектура, в XVI — живопись, в XIX — музыка. В XX, писал Эйзенштейн, таковым стало кино: «Для всех искусств, вместе взятых, кино является действительным, подлинным и конечным синтезом всех их проявлений, тем синтезом, который распался после греков».
За сто лет кино вместе с другими порожденными им электронными искусствами изменило не только геометрию и оптику нашего мира, но метафорическую и метафизическую ориентацию человека в нем.
Расплодившиеся камеры никогда не оставляют нас без свидетелей. Мы уже приспособились к прозрачности мира, в котором мы все всегда под стеклянным колпаком. (О том, чту происходит, когда об этом забывают, говорит трагическая история Родни Кинга. Заснятая случайным прохожим на видеокамеру сцена избиения лос-анджелесскими полицейскими задержанного ими за превышение скорости Кинга привела к потрясшим всю Америку расовым беспорядкам.) Видеократия заражает зрителя как вуайеризмом, так и эксгибиционизмом — мы всегда готовы и на других поглазеть, и себя показать. Бодрийар пишет: «Не только ты смотришь телевизор, но и он смотрит на тебя». Не потому ли самые популярные — те передачи, где, как во всевозможных шоу и телеиграх, главное действующее лицо — зритель?
Под всевидящим оком камеры мир вновь обрел глубину и объем, он вернул себе трехмерность. Привыкнув к тому, что предмет можно обозреть со всех сторон, мы потеряли жестко фиксированную точку зрения: теперь мы всегда знаем, что происходит у нас за спиной. Мир вновь стал таким, каким он был раньше: он не впереди — он вокруг нас. Вселенная изменила свою конфигурацию — из реки с сильным течением нас пересадили в бассейн, из царства линейной перспективы, навязанной нам письменностью, мы попали в сферу — в сферу устной, дописьменной культуры.
О ней пишет Ю. Лотман в одной из своих статей («Несколько мыслей о типологии культуры»). Письменность — это форма коллективной памяти, и история — один из побочных результатов ее возникновения. Но существование бесписьменной цивилизации инков в Южной Америке доказывает, что возможна лишенная истории устная культура, в которой «на первый план выступают не летопись или газетный отчет, а календарь, обычай и ритуал, позволяющий все это сохранить в коллективной памяти». Самый интригующий абзац в статье Лотмана — последний, где он пишет о том, что вторжение в современную культуру средств фиксации устной речи кардинально меняет нашу письменную культуру.
ВТОРАЯ ПАМЯТЬ. Одним из самых неожиданных последствий вмешательства кинематографа в нашу цивилизацию стала «приватизация» кино.
Распространение видеокамер как бы удвоило нашу жизнь. За каждым тянется шлейф заснятых образов. Ценность нашего непосредственного переживания во многом определяется возможностью его сохранить — мы живем с оглядкой на зрителя, то есть на постаревших самих себя. Как белки на зиму, мы создаем запас радостных воспоминаний. Память становится важным вкладом душевного, да и обыкновенного капитала — она придает вес и солидность мимолетному впечатлению. Время перестает «течь» — оно становится дискретным и обратимым: видеозапись позволяет путешествовать в прошлое, обретающее авторитет и убедительность подлинного документа.
Другие мнемонические знаки: открытки, дневники, сувениры — всего лишь протезы памяти, они лишь напоминают о происшедшем, но пленка узурпирует власть над действительностью, показывая, «как было на самом деле». Видеообраз не отражает реальность — он, как сама память, является ею.
Отсюда наша ненасыщаемая страсть к имиджам, образам. Они обеспечивают нас онтологической страховкой. Видеообраз помогает отличить подлинное бытие от мнимого (раньше вампиры не отражались в зеркале, теперь они не проявляются на пленке).
Эта «запасная» жизнь, электронная память — завершающий этап той революции, которую начал кинематограф и подхватила электронная медиа. Впервые за последние три тысячи лет найдена альтернатива письменности. На ее место приходит архаическая устная культура, которую описывал Лотман.
Собственно, мы давно уже живем в ней. Так, в рамках советской цивилизации все важное — отрешений политбюро до «кухонного диссидентства», от «телефонного права» до магнитофонной поэзии — происходило вне письма.
Сфера устной культуры расширяет свои владения с каждым днем. В Америке, скажем, перестали читать стихи — но не слушать! Напротив, рэп — напевный речитатив, урбанический раешник — популярнейшая часть нынешней рок-культуры. Да и романы теперь часто выходят сразу в двух вариантах: книгой, и на магнитофонной ленте, чтобы слушать в машине. Приспосабливаясь к новым условиям, литература возвращается туда, где родилась, — к ремеслу сказителей, бардов, аэдов.
Вместе с письменностью исчезают из нашего обихода даже ее следы. Скажем, электронная почта, в отличие от обыкновенной, не сохраняет писем. Этот процесс ускорится в сотни раз, когда компьютер наконец научится понимать человеческую речь, что вообще освободит нас от сладкого плена букв.
Как каждый пишущий, я с ужасом всматриваюсь в перспективу устной, бескнижной, бесписьменной, а может быть даже и невербальной, бессловесной культуры. Рыба узнает про воду только тогда, когда оказывается на суше, но без этого не было бы эволюции.
Другое дело, что приспособиться к грядущим переменам нам будет не проще, чем этой самой рыбе. Речь идет о глобальных сдвигах: меняются не художественные стили, а типы культур.
Казавшийся столь неизбежно прямым путь прогресса стал все сильнее и заметнее сворачиваться в кольцо: будущее становится прошлым. Футурология все больше нуждается даже не в истории, а в археологии, этнографии, антропологии. Неудивительно, что культурным героем сегодня вновь стал «благородный дикарь».
Во всем этом есть простая логика вычитания: чем стремительнее ход научно-технического прогресса, тем дальше в прошлое он нас переносит. Если постисторическая цивилизация напоминает доисторическую, а постписьменная культура — дописьменную, то будущее следует искать в глубокой архаике.
«АРХАИЗМ» происходит от «arch», что означает не просто древний, а начальный, даже первоначальный. Поэтому в отличие от обычных экскурсов в историю, столь любимых нашей постмодернистской эпохой, архаизм требует изменения не костюма, а ментальности. Возвращение в архаику связано с путешествием к истоку и культуры и человека, это попытка вообще все начать сначала.
Примером тут может служить состоявшийся летом 1994 года второй (а значит, уже традиционный) рок-фестиваль в Вудстоке. Это была мистерия, возрождающая таинства архаической культуры. Тут ритуально воспроизводился оргиастический акт слияния с природой. Яркая деталь — знаменитая вудстокская грязь, которой сотни тысяч паломников с радостью мазали себя. Стирая индивидуальные черты, она помогала «личности объединиться с изначальным бытием» и избавляла ее от «состояния индивидуации как источника и первоосновы всякого страдания» (Ницше).
Рок с его иррациональными, дионисийскими страстями дает представление о том исходном, дорациональном мироощущении, утрату которого оплакивал Ницше в своем «Рождении трагедии». (Характерно, что эта книга стала настольной для электронщиков-программистов, работающих с виртуальной реальностью и «компьютерным театром».)
Мистерия Вудстока разыгрывает начальный акт творения культуры. Американский антрополог Джон Пфейфер в своей книге «Культурный взрыв» (1988) утверждает, что это случилось в эпоху верхнего палеолита. К этой эпохе относят появление наскальных рисунков на стенах пещер. Это следы магических обрядов, которые впервые позволили человеку выйти за пределы обыденного существования, столкнув его с тайным, сакральным инобытием. Пещеры с рисунками были храмами и театрами кроманьонцев. Пфейфер считает, что детонатором «культурного взрыва» стала особая «технология изменения восприятия» («perception-altering technologies»). Этот гибрид религии и искусства и породил цивилизацию.
От каменного века до нас дошли только камни. Между тем как раз сохранившиеся остатки архаической культуры случайны. Люди палеолита не знали истории и не заботились о будущем. Их интересовало искусство настоящего времени, то, что меняет восприятие настоящего. Архаическое искусство — это искусство направленного эмоционального воздействия, искусство оркестровки переживаний, искусство манипуляции чувствами, воображением, воспоминаниями. Оно должно было обеспечить полную вовлеченность тех, к кому оно обращалось. Поэтому архаическое искусство всегда «литургично»: здесь не было «рампы», не было посторонних, не было зрителей — только участники.
НЕОАРХАИКА.
Если использовать реконструкцию первобытной культуры в качестве контурной карты будущего искусства, то на нее уже можно нанести первые имена и названия.
В фундаменте неоархаики — концепция «конца истории». Дело не столько в нашумевшей политико-философской теории Фрэнсиса Фукуямы, сколько в уловленной им универсальной для нашего времени интуиции. Это чувство глубокой исторической усталости, недоверие к историософскому активизму, страх перед утопизмом. Разочарованный в социальных проектах, запуганный бешеным ходом прогресса, современный человек предпочитает менять не мир, а свое восприятие мира.
Не этим ли объясняется безудержное распространение наркотиков, способных «остранить» действительность, вывести человека за пределы повседневности?
Задача неоархаического искусства — найти свой ответ на вызов, брошенный обществу психоделической революцией 60-х. Решить ее должны новые технологии, позволяющие манипулировать сознанием, — своего рода «машины воображения».
Это может оказаться совсем не так страшно, как звучит. Например, можно представить себе искусство управляемых сновидений. (Эксперименты с так называемыми люсидными снами уже ведутся в Институте снов в Калифорнии.)
Подобные структурные изменения — перенос акцента с произведения искусства на его восприятие — происходят во всех областях. Если в книжной культуре «текст» автономен, он может существовать и без читателя, скажем в ящике стола (рукописи, как известно, не горят), то объект неоархаического искусства не «текст», а «читатель», тот, кто его воспринимает. Задача художника — оркестровка эмоций. (Хороший пример — фильм «Бульварное чтиво» американского режиссера Квентина Тарантино, который работает не столько с актерами, сколько с залом, виртуозно дирижируя зрительскими реакциями.)
В безысторическом культурном пространстве от художника не требуются вечные творения. Умение жить сегодняшним днем — горациевское «carpe diem»[47] — требует искусства настоящего времени, основанного на эффекте присутствия, существующего только до тех пор, пока мы его переживаем.
Принцип настоящего времени — приоритет процесса над результатом — может быть перенесен и в другие культурные сферы.
Возможны, например, «органические» произведения искусства, которые будут умирать вместе со своими авторами или владельцами. (Первый опыт «смертного» искусства явила публике безнадежно больная американская художница Сэнди Голд. Она расписала фресками стены род-айлендской библиотеки, а потом сама же их и смыла. Древние образцы бренного, «умирающего» искусства — песчаные мандалы тибетских монахов.)
Весь мир вещей в неоархаической культуре может изменить свою роль. Чем ближе вещь к человеку, тем больше его свойств она перенимает.
Американский психолог Уинникот назвал такие предметы транзитными объектами. Это своеобразный буфер между личностью и внешним миром. Лучший пример тут — плюшевый мишка для ребенка, но, в сущности, транзитные объекты — это вещи-фетиши: трубка, белье, дом, автомобиль. Полуодушевленные, полуживые вещи-кентавры способны вести диалог со своим владельцем. (У Бродского есть немало таких разговоров с окружающими поэта стульями, шкафами, одеждой.) На этом пути вещь теряет бездушную серийность и в противовес ей выявляет свою органическую природу: наши вещи стареют вместе с нами, но если они нам по-настоящему дороги, то их ценность лишь растет со временем. (Такие, рассчитанные на старение вещи изготавливает изобретатель «регрессивного биоморфного дизайна» художник Женя Шеф.)
Однако главная черта неоархаического искусства, которая теснее всего сближает его с началами нашей культуры, — это его «литургическое» начало, объединяющее массы в акте коллективного творчества.
В этом направлении мир толкает электронная революция. Компьютеризация вынуждает общество развиваться парадоксами: с одной стороны, «мировая деревня» Маклюэна — все разбрелись по своим «пещерам», но с другой — .все сплелись в невиданный раньше клубок. В США компьютерная информационная сеть уже сегодня связывает четырнадцать миллионов человек. Каждый из них сидит перед экраном своего персонального компьютера, и в то же время каждый — частичка этого добровольного, невидимого, анонимного, аморфного, стремительно разбухающего сообщества.
Сам по себе размах, небывалый масштаб этого явления говорит о том, что в этой сфере происходит нечто таинственное и судьбоносное. В пространстве информационных сетей решаются научные, технические и социальные (в том числе и российские, между прочим, проблемы), проходят конференции, выставки, сочиняются истории, рождаются легенды. Здесь, в «киберспейсе», справляют свои ритуалы многочисленные и разнообразные архаисты от кибернетики, которые тщательно артикулируют родство своей нарождающейся культуры с ее древним прообразом — тем первобытным синкретизмом, который обусловливал единство поэта и толпы.
Не об этой ли «эфирной соборности» писал мечтавший воскресить архаическую культуру Вячеслав Иванов, когда он пророчествовал о «синтетическом искусстве всенародного действа»?
Впрочем, если такое искусство состоится, врядли оно сохранит свое имя. Первобытные народы не знают этого понятия. Когда аборигенов спрашивали про искусство, они не понимали смысла вопроса. «Мы просто все стараемся делать хорошо», — отвечали они.
Архаическое творчество направлено на создание не произведений искусства, а среды в целом. Искусство, как воздух, окружает человека со всех сторон. Оно неразличимо, потому что его единственным объектом является сама реальность архаического человека: он, как, впрочем, и мы, живет в мире, сотворенном воображением.
В поисках такого цельного, одушевленного, «очарованного» мира мы и обращаемся к предкам. У них мы ищем ответа на тот мучительный вопрос, который задал нам Ницше: что делать, когда. Бог умер?
Архаический человек сотворил бы себе новых кумиров.
1994
ВАВИЛОНСКАЯ БАШНЯ
Было это в Гластонбери, одном из самых священных мест Британии. Считают, что здесь стоял «круглый стол» короля Артура, да и могилу его показывают туристам в развалинах аббатства.
Другая, еще более загадочная достопримечательность расположена в нескольких километрах от города. Это — гластонберийский Тор, высокий, массивный и крутой холм, а может быть, и курган, насыпанный в незапамятные времена. Наверх по жесткому дерну среди низкого северного кустарника ведет петлистая тропинка. Кренделя, которые она выписывает, возможно, часть первобытного лабиринта. Строго на вершине подозрительно правильного конуса — отсюда и легенда об искусственном происхождении Тора — руины очень старой церкви святого Михаила. По-моему, именно ее описал в «Бесплодной земле» Элиот:
There is the empty chapel, only the wind's home. It has no windows, and the door swings, Dry bones can harm no one.[48]
Впрочем, не церковь придает этому месту святость. Гластонберийский Тор был связан с религиозными культами задолго до христианства. Кельты верили, что здесь расположен вход в подземное царство. Но и они получили Тор вместе с его преданиями по наследству от еще более древних народов — люди здесь жили с четвертого тысячелетия до нашей эры.
Легенда утверждает, что в недрах Тора хранится чаша Грааля. Иосиф Аримафейский, тайный последователь Иисуса, собрал в нее кровь Христа на Голгофе и после долгих скитаний привез драгоценную реликвию на Британские острова. Но как она попала в Гластонбери и где ее там искать, уже неизвестно. К тому же чаша Грааля — более древний символ, который был переосмыслен церковным преданием и рыцарским романом.
Так или иначе, многие верят, что именно из скрытой в Торе чаши Грааля бьет очищающий душу и лечащий тело источник. Не пересыхая в самые свирепые засухи, он источает воду, обладающую слабой естественной радиоактивностью. В глубоком гроте, откуда вытекает родник, торгуют кристаллами, ароматическими снадобьями и кельтскими сувенирами со звериными узорами, но сама вола бесплатна. Молодежь приезжает за ней на мотоциклах и набирает в пузатые бутыли из-под «кока-колы». Остальное течет в сад, где вдоль ручья устроены клумбы с душистыми цветами и травами — здесь практикуют завещанную теми же кельтами «аромотерапию» — лечение запахами.
В таких странных и покойных местах мне и повстречалась эта компания. Пока я стоял на вершине Тора, наслаждаясь прекрасным, но тревожно безжизненным видом, на холм вскарабкались симпатичный парень и несколько девушек. Их лица и тела украшали «серьги» — не только в ушах, но и в носу, на губе, у пупка кожу прокалывали колечки из тусклого металла. Одетые то ли в развевающиеся, то ли просто в драные одежды, они были густо покрыты замысловатой татуировкой — в многоцветном узоре настойчиво повторялся образ свивающихся змей. Сопровождали ребят дружелюбная дворняга без поводка и изящная черная козочка. Переговариваясь, лая, смеясь и блея, весь этот выводок бродил по тесной вершине Тора, а потом, угомонившись, расположился на склоне. Одна из татуированных девиц достала дудочку и заиграла на ней что-то простое, остальные тихо смотрели на опускающееся солнце.
Я жадно глазел, пытаясь понять смысл увиденного. Будь это в Нью-Йорке или тем более в Сан-Франциско, на них можно было бы и не обратить внимания. Но на вершине гластонберийского Тора этим по-английски прохладным летним вечером среди уединенных болот и вересковых пустошей посторонними были не они, а я. Мы с ними не совпадали во времени: они сюда пришли из другой эпохи — толи из прошлого, толи из будущего.
Часы с кукушкой
Когда я был маленьким, будущее меня увлекало больше прошлого. Я мечтал об «алюминиевом» царстве грядущего в духе Веры Павловны и придурковатой сталинской фантастики. Неопытное воображение пленялось тем, что у них там все было бесплатно. Деньги водились только у академиков с красивыми фамилиями (Алмазов). На них они покупали предметы роскоши: икру и ковры. Я бы дорого дал, чтобы вспомнить имя писателя, но за верность деталей ручаюсь. Среди прочего авторы этих книг изобрели фантастический процесс — «анабиоз». Эта русская версия «большого скачка» позволяла проспать лет сто, чтобы сразу очутиться в коммунизме.
На заре 60-х, кроме нас с Хрущевым, будущее любили и на Западе. Об этом говорит история с замороженными стариками, которые доверчиво ждут в криогенных склепах, когда их разморозят потомки, видимо — мы.
Когда я вырос, мне стало нравиться прошлое — фантастики и в нем хватало. Но теперь мне кажется, что интереснее всего смотреть по сторонам. Сейчас обретает ценность настоящее — оно становится загадочным. Неизвестно где и как, но понятно, что везде; неясно когда, но точно, что недавно, — мы переехали из одного мира в другой.
Старый был несравненно понятнее нового. Не нам — не мне — понятнее, а понятнее вообще, в принципе. То, чего не знали мы, знали другие. А если еще не знали, то скоро узнают. А если не скоро, то когда-нибудь. В одном из безумных романов моего детства советский ученый Пайчадзе (в этих книгах обязательно присутствовал положительный грузин) произносит такую фразу: «Никто необъятного объять не может». А потом добавляет: «Я, конечно, шучу».
Сегодня на место старой Вселенной, состоящей из частично разгаданных загадок, приходит еще более старый мир, круто замешенный на неведомом. Это не жизнерадостное неизвестное школьной науки и пионерских журналов, а именно что вечно и безнадежно непостижимое.
Следить за медленным наступлением тайны — что-то вроде солнечного затмения — занятие увлекательное и волнующее. На наших глазах одна реальность «наезжает» на другую. Происходит это повсюду — на витринах, экранах, трибунах и пластинках, в газетах и книгах, в тех бесконечных деталях, которые образуют окружающее.
В повести Битова «Человек в пейзаже» это центральная мысль, которая не дает покоя ни автору, ни герою. Камни и деревья не знают о соседстве друг друга: пейзажем они становятся лишь в глазах человека, который, в сущности, и является если не автором, то соавтором пейзажа.
Реальность — плод коллективного воображения, поэтому всякий прохожий может стать свидетелем таинства рождения. Перед каждым из них — нас — стоит задача: составить из мириада отдельных фактов картину, выстроить отдельные, вроде бы и не связанные между собой элементы в сюжет.
Американские психологи провели опыт: не подозревающим подвоха людям читали выбранные наугад цифры. Все участники эксперимента немедленно обнаруживали в перечне заведомо не существовавшие в нем закономерности — они их себе просто придумали.
Природа не терпит пустоты, человек — хаоса. Наше сознание устроено таким образом, что мы воспринимаем окружающее только тогда, когда оно укладывается в какую-нибудь историю. (Одна из них — собственно история.)
Истории могут меняться, устаревать, умирать, возрождаться, они могут сосуществовать, соперничать, враждовать, высмеивать друг друга. Невозможно только одно:
жить без «истории» вовсе, ибо из нее и состоит наша действительность; реальность — это история, которую мы себе рассказываем.
Смена эпох — это смена «историй». Раньше ее писал миф, потом — церковь. Последние три века нашу историю писала наука, поэтому ученые, в первую очередь обладатели точных знаний, — жрецы реальности, хранители фундаментальных образов, на которых покоится наша картина Вселенной.
Это отнюдь не значит, что мы все читали рассказываемую наукой «историю». Нам хватало того, что ее понимали авторы и толкователи. Пока они охраняли объективную, научную реальность, она казалась если даже и не единственно возможной, то наиболее надежной версией мира. Наука была золотым запасом, гарантирующим устойчивость нашей онтологической валюты.
Наука впустила человека в механический универсум, который можно разбирать и собирать заново. Вселенная стала одновременно и строительным «сырьем», и строительной площадкой. Природа, как говорил Базаров, не храм, а мастерская. Отсюда и начался триумфальный путь прогресса, у колыбели которого стояли четыре отца.
Первый — Галилей. Вслед за Пифагором он считал, что природа объясняется с человеком фигурами и числами. Поэтому ученые должны пользоваться исключительно математическим языком, а значит, изучать только те свойства природы, которые можно измерить. Так за пределами классической науки осталось все, что не поддается исчислению, — запах, вкус, прикосновение, эстетическая и этическая чувствительность, сознание в целом.
Второй — Фрэнсис Бэкон, научивший науку не объяснять, а переделывать мир. Ему мы обязаны как технологической мощью современной цивилизации, так и ее мичуринской идеологией.
Третьим — и самым сегодня нелюбимым отцом — был Декарт. Он разделил единое существо — человека — на две части: тело и разум. В основе картезианского анализа лежит знаменитое «cogito ergo sum» — мыслю, точнее, рационально, логически, аналитически рассуждаю и планирую — следовательно существую. Истинной реальностью является лишь наше мыслящее Я. Все остальное — под вопросом. Человек, по Декарту, — это голова профессора Доуэля (еще один инвалид из книг моего детства), мозг, запертый в телесную клетку, про которую ничего не известно наверняка. Картезианский человек ощущает собственное тело нагрузкой. Он говорит «у меня есть тело», вместо того чтобы сказать «я есть тело».
Декарт отрезал человека от его тела, а значит, и от всего окружающего мира. Природа осталась снаружи, по ту сторону сознания. Исследуя внешний мир, мы забыли о той природе, которая заключена в нас. Природа стала объектом изучения, а человек — изучающим ее субъектом. За нерушимостью границы между ними — между неодушевленной материей и сознанием — была приставлена следить наука. Она отучила западного человека «мыслить» всем телом. Он потерял примитивные, а можно сказать — естественные навыки телесного контакта с миром.
Японцы часто говорят о «фуку» — «вопросе, адресованном животу». Если голова отделена от тела, то включающий всю систему внутренних органов «живот» символизирует целого человека. Конфуций, видя в согласной мерной пляске урок социальной гармонии, каждый день танцевал с учениками. И Заратустра у Ницше говорил: «Не доверяй богам, которые не танцуют».
Как каждого автора, меня всегда волновали следы телесного в духовном. Рука пишущего не слепой, бездушный механизм, которым управляет разум. Она, позволяя прорваться телесности в текст, силится воссоздать исходную целостность человеческого опыта.
Сегодня материальностью письма с энтузиазмом занимаются гуманитарии, избавляющиеся от «интеллектуализации дискурса». Виртуоз такого анализа- московский философ Валерий Подорога. У Хайдеггера, скажем, его больше всего интересует дефис. Он увлеченно описывает, как эта маленькая черточка, вынуждая работать губы и язык, соединяет телесность с мысленным процессом, возвращает слово в речь, заставляя произносить его вслух. Дефис навязывает читателю ритм произнесения:
слово «становится событием мысли: оно произносится так, как оно когда-то рождалось».[49] В записках Эйзенштейна Подорогу интересует моторика — скорость движения пера по бумаге. У Кафки — каракули на полях рукописей, которые сближают акт письма с процессом сновидения.
На Востоке, где не было картезианского развода души с телом, внешняя сторона сочинительства никогда не обособлялась от содержания. В Японии существовал особый прозаический жанр — «дзуихицу», что означает «вслед за кистью». Лучшая книга такого рода — «Записки у изголовья» средневековой придворной дамы Сэй-Сёнагон, которая завершила их таким пассажем: «Я получила в дар целую гору превосходной бумаги. Казалось, конца ей не будет, и я писала на ней, пока не извела последний листок».[50] Если читателя поразит связь творческого процесса с качеством бумаги и письменных принадлежностей, то всякий писатель оценит уважение к материальности письма. «Самый процесс сочинения, — говорил Бунин, — заключается в некоем взаимодействии, в той таинственной связи, которая возникает между головой, рукой, пером и бумагой».[51]
Декарт страстно увлекался механическими игрушками — модными тогда заводными автоматами. Животные были для него роботами, а человеческое тело — часами: здоровое — исправными, больное — сломанными, нуждающимися в ремонте. Впрочем, не только человек, но и вся картина мира в ходе картезианского анализа распалась на элементы, кубики.
Правила их сборки открыл Ньютон. После него во Вселенной все стало на место, она приобрела вид механизма, части которого идеально пригнаны друг к другу, так, чтобы не осталось лишних винтиков. Как говорил Витгенштейн, если какая-то деталь машины не работает, она не является деталью машины.
Во Вселенной Ньютона не было ничего лишнего. Он придал окончательную завершенность, красоту и — что особенно важно — лаконичность научной модели мира. Отточенная таким авторитетом бритва Оккама (принцип средневековой науки, требующий не умножать сущности без необходимости) стала незаменимым инструментом не только в философской полемике, для чего она, собственно, и была изобретена, но и в обычной жизни. Выросшие на школьных примерах, мы с доверием тянемся ко всему, что делится без остатка. Элегантность простоты соблазняет упрощать окружающее, подгоняя его под умозрительную модель.
Однако бритва Оккама — обоюдоострая. Призванная освобождать разум от одних иллюзий, она порождает другие. Чтобы совместить сырую реальность с лаконичным образом мира, нам приходится постоянно избавляться от подробностей. За это в «Даре» Набоков ополчился на Чернышевского, который «не видел беды в незнании подробностей разбираемого предмета: подробности были для него лишь аристократическим элементом в государстве общих понятий».
На основании математических закономерностей Ньютона был создан самый авторитетный со времен Возрождения образ мира: Солнечная система. Эта аккуратная схема из шариков-планет на концентрических кружочках-орбитах запечатлена не только в школьных учебниках, но и в нашем сознании. Подспудно мы считаем ее эталоном научного (а значит, правильного) устройства жизни, в которой все можно предсказать, потому что в ней ничего не меняется. Завороженные примером Солнечной системы, мы не заметили, что она скорее исключение, чем правило. Только сегодня мы обнаруживаем, что она не годится в метафоры для той повседневной практики, где огромную роль играет не только река, но и водопад, не только климат, но и погода, не только порядок железнодорожного расписания, но и хаос автомобильных пробок.
Бесспорность этого тезиса привела нас всех, включая и тех, кто об этом не подозревает, на край мировоззренческой бездны. В регулярном мире Ньютона человеку было спокойно, как кукушке в часах. Но стоило лишь как следует оглядеться, выяснилось, что большая часть окружающего — от погоды и биржи до политики и истории — находится, как говорят теперь ученые, за «горизонтом предсказуемости». Нас выпихнули на волю, где может произойти все что угодно.
Кукушка без часов
Смена вех — это смена реальностей. Создают реальность метафоры. Как любые слова, образы, мысли, они, хоть и кажутся нематериальными, обладают громадным энергетическим потенциалом. Юнг говорил, что такая неосязаемая субстанция, как коммунизм, убила больше людей, чем вполне материальный возбудитель «черной чумы», уничтоживший половину средневековой Европы.
Каждая эпоха выбирает себе свои излюбленные метафоры, на которые опирается ее реальность.
С XIX века огромным влиянием пользовались, например, архитектурные метафоры, которыми среди прочих оперировал и Карл Маркс. Не тонкости политэкономии, а как раз их образная мощь и привела миллионы к марксизму.
Общество у Маркса — дом. Оно не состоит из нас и не растет в нас, а нами строится. Сперва — базис, фундамент. Это экономика, производственные отношения, потом — надстройка, то есть идеология, культура, искусство, мораль. Но если общество — дом, то его всегда можно снести и построить заново. Дом нуждается в ремонте, иногда в капитальном, иногда в косметическом. Перестройка, кстати сказать, последняя в ряду архитектурных метафор.
Начиная с 60-х годов XX века стали появляться другие метафоры. Видимо, в этом и был подлинный смысл духовных, да и политических, потрясений бурного десятилетия. Результатом многочисленных революций 60-х — социальной, религиозной, молодежной, сексуальной, психоделической — стала новая постклассическая, постиндустриальная, постмодернистская парадигма, основанная на органических метафорах.
Тут мир уже не составлялся из картезианских кубиков, а рос, как растение или животное. На место механистического приходит экологический принцип системности, взаимосвязанности. Мертвый мир науки оживает. Если центральным образом ньютоновской космологии был «первый толчок»: кто-то завел часы или пустил в ход мотор универсума, — то «сегодняшняя» расширяющаяся Вселенная растет, как живая.
Если мир похож на часы, то его можно разобрать и собрать заново. Но с человеком или даже амебой такое уже не получается: разобрать — сколько угодно, собрать — ни за что. Когда части соединяются вместе, к ним должно присоединиться еще нечто таинственное — жизнь.
Художник-архаист Женя Шеф рассказывал, что к концепции одушевленных вещей он пришел на уроках рисования в морге, когда обнаружил, что трупы совершенно не похожи на людей.
Органические метафоры постепенно разъедают классическую научную парадигму. Оказалось, что достаточно впустить в мир тайну, как начинает разваливаться вся наша картина мира.
«Культура, построенная на принципе науки, — предсказывал Ницше, — должна погибнуть, как только она начинает становиться нелогичной». Что и понятно: если часы пробили тринадцать раз, скорее всего, не только последний удар был лишним.
Новое сегодня вырастает из старого, причем очень старого. Вселенная опять срастается в мир, напоминающий об архаическом синкретизме, не умеющем отделять объект от субъекта, дух от тела, материю от сознания, человека от природы. Эта близость стала отправной точкой для диалога новой науки с древними мистическими учениями. Одним из первых его начал физик, специалист по высоким энергиям Фритьоф Капра. Славу ему принесла книга «Дао физики». В ней доказывается, что картина мира, которую рисует постклассическая физика, чрезвычайно близка представлениям всех мистических, а восточных в особенности, религиозно-философских систем — индуизма, буддизма, даосизма и дзэна. В третьем издании «Дао физики» Капра формулирует ряд критериев, которые отличают старую парадигму от новой. Мир — это не собранное из отдельных элементов-кубиков сооружение, а единое целое; Вселенная состоит не из вещей, а из процессов; объективное познание невозможно, ибо нельзя исключить наблюдающего из процесса наблюдения; во Вселенной нет ничего фундаментального и второстепенного, мир — это паутина взаимозависимых и равно важных процессов, поэтому познание идет не от частного к целому, а от целого к частному.
В последнее десятилетие диалог науки с мистикой вступил в новую фазу, чему способствовало появление нескольких радикальных теорий в разных областях знания. Одна из самых ярких и перспективных использует метафорическую образность голограммы. Хотя голография была изобретена еще в 1948 году, лишь после появления лазеров в 60-х годах ученым из Мичиганского университета удалось получить первые объемные фотографии — голограммы. А еще два десятилетия спустя, в середине 80-х, голограмма становится одним из центральных образов экологической парадигмы.
Самая странная особенность голограммы в том, что в каждой ее части заключено целое. Если мы отрежем голову у голографического изображения собаки и увеличим этот фрагмент, то получим не большую голову, а всю собаку.
Нейрохирург Карл Прибрам использовал голограмму, чтобы объяснить работу мозга.[52] На основе этой модели Прибрам строит «волновую теорию реальности»: мозг конструирует картину нашего «конкретного» мира, интерпретируя излучения другого, первичного уровня реальности, существующего вне времени и пространства.
Концепцию такого — «свернутого» — мира выдвинул ыдающийся физик Дэвид Бом, сотрудник Эйнштейна. Бом, который не только работал с Эйнштейном, но и дружил с Кришнамурти (отсюда многие мистические аллюзии в его теории), считал, что на «свернутом», «доквантовом», недоступном наблюдению уровне реальности мир теряет все знакомые свойства. Тут становятся бессмысленными понятия «дальше-ближе», «прошлое-будущее», «материя-сознание».
Поясняя свою теорию, Бом говорил о корабле, который плывет, подчиняясь сигналу радара. До тех пор пока судно принимает сигнал, расстояние не играет роли. Подобным образом, согласно Бому, устроено особое информационное поле, которое делает мир единым. Все категории нашего «развернутого» уровня реальности, включая пространство и время, — плод работы сознания. Мы смотрим на мир сквозь очки, искажающие истинную картину. мира. Поскольку без очков нам вообще ничего не видно, с ними примирились. Но Бом вслед за восточными мистиками считает возможным проникнуть по ту сторону так строго очерченной Кантом границы. Дорогу к «свернутой» реальности указывает не логическое размышление, а освобожденное от причинно-следственной связи озарение. Мысль для Бома — окаменелость духа, скованная временем и пространством. Между тем добраться до изначального, «нормального», а не искаженного нашими представлениями, о нем мира может только «пустое» сознание, отказавшееся от своего «я» и ставшее каналом, соединяющим два мира.
Прибрам инкорпорировал теорию Бома в свою концепцию сознания. Он считает, что мозг способен интерпретировать реальность либо как поток частиц, либо как волну. Когда мозг работает в первом режиме, мир воспринимается аналитически, интеллектуально. В этом случае реальность предстает «развернутой», дискретной, состоящей, как говорят китайцы, из «десяти тысяч вещей», существующих в пространстве и времени. Но мозг может работать и в другом — интуитивном — режиме. Тогда он способен голографически воспринимать описываемый Бомом «свернутый» уровень реальности, на котором Вселенная предстает единым целым, существующим вне пространства и времени.
С другой стороны поиск «протореальности» ведет английский биолог Руперт Шелдрейк. Его теория «морфологического резонанса» тоже предлагает концепцию единой Вселенной. Все сущее в ней помогает друг другу «учиться» — эволюционировать. Этот универсальный принцип заставляет все в мире развиваться — законы природы, галактики, планеты, кристаллы, животных и человека. Шелдрейк утверждает, что цельным мир создает еще не обнаруженное наукой поле, объединяющее Вселенную в единое информационное пространство.
Отсюда делается простой и даже весьма практичный вывод: чем больше в мире знаний, тем легче они усваиваются людьми. Мозг работает как телевизор. Он воспринимает излучение этого поля и вступает с ним в контакт, который называется «морфологическим резонансом». Им объясняются такие странные совпадения, как частые случаи одновременности открытий: стоит одному добиться успеха, как другим он дается легче.
Процесс ненамеренного дистанционного обучения Шелдрейк демонстрирует простым, но весьма наглядным экспериментом. Он отвозил в Ливерпуль лондонские газеты с кроссвордами, где их должны были отгадывать студенты. Выяснилось, что по вечерам они справлялись с задачей лучше, чем по утрам. Шелдрейк объясняет это тем, что к концу дня эти самые кроссворды уже решили сотни тысяч лондонцев, чем и облегчили задачу ливерпульским студентам.[53]
Шелдрейк пытается «буквализировать» известную метафору: «идея витает в воздухе». Он ищет способ зафиксировать этот эффект и использовать его на практике. В Калифорнии уже существуют общины, исповедующие «морфологический резонанс» как своего рода альтруистскую религиозную доктрину.
Многие представления новой науки созвучны размышлениям Юрия Лотмана о природе и культуре. В поздних работах он развивал тезис о том, что «природа есть создаваемая культурой идеальная модель своего антипода». То, что мы зовем «природой», на самом деле — искусственная конструкция, это АНТИкультура, а не то, что было ДО культуры.[54] Истинная природа вообще недоступна познанию, ибо она непрерывна, тогда как культура всегда дискретна: познавая, мы выделяем объект из сплошного потока бытия, выводя его из сферы природы в зону культуры. В своей последней статье Лотман писал о «необходимости примирить недискретность бытия с дискретностью сознания». Культура тут предлагает свои способы: в сфере мифа это идея цикличности, на смену которой пришел линейный образ смерти-возрождения. Лотман пишет: «Все, что не имеет конца, не имеет и смысла».[55]
Не следует ли отсюда, что выход к непрерывному уровню свернутой реальности надлежит искать по ту сторону смысла, за пределами логики, вне рационального суждения, так, как требуют правила дзэновских парадоксов-коанов?
В отличие от Запада Восток не соблазнился образом разъятой на части Вселенной. Этим, кстати, Гейзенберг объяснял успехи японцев в современной физике. Восточные религии всегда стремились выйти к переживанию единой, непрерывной реальности, преодолев изначально присущую культуре дискретность. Причем на Востоке ее преодолевают вместе с самой культурой. Для этого здесь веками разрабатывали медитативную технику, позволяющую переживать абсолютное единство всех вещей — «сингулярность мира».
Популяризатор дзэн-буддизма на Западе доктор Судзуки пишет: «Уход от реальности неизбежно ведет к разделению ее на бесчисленные составные части. Такая раздробленность является свойством не природы, а разума, который за счет расщепления всего, что имеется в природе, на две части, делает ее познаваемой, пригодной для работы и использования для наших практических человеческих целей».
Суть же всякого мистического мировоззрения, как утверждал уже западный мыслитель Альберт Швейцер, состоит в том, чтобы вернуться от дуализма к монистическому сознанию, ибо только оно позволяет «человеку духовно приобщиться к бесконечному бытию, которому он принадлежит по природе».
Древнее мистическое мироощущение лучше сохранилось на традиционалистском Востоке. Поэтому для Запада обращение к Востоку, законсервировавшему общечеловеческую мудрость, — это возвращение и к истокам собственной культуры.
Поиски такого мироощущения неизбежно возвращают нас к первобытной древности, ибо, как показал в своих классических трудах антрополог Люсьен Леви-Брюль, всем архаическим культурам свойственна исключительно «мистическая психическая деятельность». Впрочем, она не чужда и современному человеку. Тот же Леви-Брюль предваряет свою главную монографию «Первобытное мышление» многозначительной оговоркой: «Не существует двух форм мышления у человечества, одной пралогической, другой — логической, отделенных одна от другой глухой стеной, а есть различные мыслительные структуры, которые существуют в одном и том же обществе и часто, быть может всегда, в одном и том же сознании».[56]
Внутри каждого из нас дремлет «благородный дикарь», которого будит органическая парадигма, ибо как раз его донаучное и пралогическое сознание способно воспринять реальность такой, какой ее хочет видеть новая наука, — единой и неделимой.
Близость архаического мышления к представлениям современной науки иллюстрирует необычная, похожая на притчу история балийских рисунков.[57] В 1931 году на расположенном в индонезийском архипелаге острове Бали, жители которого известны своей сложной религией и красочными ритуалами, поселились два европейских художника.
Кстати, один из них, немец Вальтер Шпис, долго жил в предреволюционной России, где открыл для себя Шагала и народную наивную живопись. Его собственные картины напоминают работы Пиросмани, которые Шпис мог видеть на Кавказе — его туда интернировали во время Первой мировой войны.
Восхищенные артистизмом балийцев, европейцы научили их пользоваться тушью и бумагой. До тех пор туземцы не знали искусства в нашем понимании — эстетика у них была неразрывно связана с религиозными церемониями. Результаты первых же опытов получились ошеломляющими.
Балийцы, овладев техникой западного натуралистического рисунка, изобразили мир таким, каким они его воспринимают. Каждый рисунок- как бы «фотография» той древней, первобытной, магической вселенной, в которую был закрыт доступ человеку XX века. Впрочем, лучше эти рисунки сравнить с рентгеновскими снимками, так как авторы на одном листе совмещают видимую часть мира с невидимой. Наряду с людьми и животными их картины населяют божества, духи, демоны. Сверхъестественные персонажи появляются не только в иллюстрациях к мифам, но и в сценах из повседневной жизни. Балийцы рисовали невидимых демонов потому, что точно знали о их неизбежном и повсеместном присутствии. Точно так же мы не видим, но знаем о существовании радиации или радиоволн. Чтобы понять балийского художника, можно представить западного живописца, который к реалистическому пейзажу присоединяет те изображения, что витают вокруг нас в эфире, прежде чем материализоваться на телевизионных экранах.
Однако эта аналогия не объясняет другой феноменальной особенности архаического сознания: отсутствия в нем категории времени в нашем понимании. Вместо того чтобы запечатлеть на картине, как это делают на Западе, «остановленное» мгновение, островитяне рисовали сразу и прошлое, и будущее своих героев. Для балийцев все события одновременны, они живут только в настоящем времени — в вечном «теперь». Их вселенная вместе с человеческой судьбой спрессовала в одно целое пространство и время — все происходит «здесь и сейчас».
Намечающийся альянс мистики с физикой, а потом и другими областями знания больше всего волнует широкую публику, которая ждет от науки легитимации всего того, что она же объявила предрассудками. Сегодня гороскопов составляют больше, чем триста лет назад, каждый третий американец верит в реинкарнацию, каждый четвертый — в ангелов, и почти все остальные сомневаются в способности науки создать убедительную картину мира.
Авторитет классической науки страдает не только от профанов, но и от постмодернистских философов, отрицающих абсолютность любых, в том числе и научных, истин. Ученые считают, что шарлатаны загнали их в угол и пришла пора, защищая разум от напора иррациональных сил, перейти к контратаке. Так, в 1995 году Нью-Йоркская академия наук собрала двести известных ученых, включая трех нобелевских лауреатов, чтобы защитить истинную науку от ложной.
В целом академический мир скорее раздражен, чем заинтригован открывающимися перспективами. Как объяснил автор теории парадигм Томас Кун, именно так и должна вести себя наука накануне очередной концептуальной революции. Ученые избавляются от разрушительных вопросов, объявляя их ненаучными. Задача ученого — искать не причины, а следствия, вынося проблему о природе реальности за пределы физики — в метафизику.
Уязвимость «сдержанной» концепции науки в том, что она лишает науку главной, на посторонний взгляд, ценности: способности заменять религию.
Когда Америка окончательно запуталась с вьетнамской войной, Линдон Джонсон пригласил для совета ядерных физиков. Это значит, что президент признавал ученых, изучающих основы бытия, хранителями трансцендентной, возвышающейся над политикой мудрости.
Но если наука ограничивает себя в мировоззренческих притязаниях, она стремительно теряет престиж и статус. В начале 90-х в Америке горячо обсуждалось строительство сверхмощного ускорителя. Физиков волновала наука, политиков — деньги, но остальных занимали метафизические перспективы проекта: сможет ли циклопическое девятимиллиардное устройство найти место для Бога или объяснить мир без него. Ничего определенного ученые не обещали, строительство ускорителя было остановлено, а грандиозный туннель, уже прорытый для него в Техасе, остался предостережением традиционной науке, теряющей для нас свой жреческий авторитет.
Современный человек жаждет сверхъественного не меньше, чем всегда. Но путь в живой, одушевленный, «очарованный» мир предков лежит через науку. Ученые — рассказчики нашей версии мира — хранят онтологические устои жизни. Физики без метафизики нам не хватает, но и метафизика без физики нам не нужна.
Если цель средневековой науки — понять смысл и значение вещей, то наука Нового времени хотела предсказывать явления природы и контролировать их. Этот тип науки развился из магии, которая стремилась к активному воздействию на окружающий мир. Уже ученые Возрождения понимали науку как могущественную магическую практику, которая позволит человеку подчинить себе природу и уравняет его с Богом. С церковью ученых ссорили демиургические претензии науки. Магия с ее пафосом покорения природы родила нацеленную в будущее концепцию прогресса.
Мистические склонности сегодняшней науки ведут ее не вперед, а назад. Мистика ведь всегда ориентирована на возвращение к исходному состоянию мира, к той непрерывной реальности, которая предшествует дискретному, разъятому на фрагменты миру. Пытаясь — вслед за мистикой — проникнуть к истокам бытия, новая наука доходит до того логического предела, за которым меняются ее цели: вместо информации — трансформации, вместо знания — мудрость.
На обратном пути
Органическая парадигма заявила о себе в 60-х, когда философия хиппи, идеология «зеленых», практика восточных религий и психоделических опытов соединились в сложный духовный конгломерат, получивший в Америке одиозное имя контркультуры.
Почему это произошло именно в 60-х?
Потому что тогда во взрослую жизнь вступило первое поколение, выросшее в беспрецедентном достатке и благополучии. Из-за этого пусть относительного, но все же невиданного раньше покоя и процветания перед нашим рациональным и секулярным веком открылась онтологическая бездна, которую безуспешно пытались завалить товарами в угоду простодушному консьюмеризму. Не то чтобы раньше бездны не было, но в эпоху депрессий и воин ее доверху заполняли страх и повседневная борьба за существование. Бурные политические потрясения той эпохи были не столько причиной, сколько результатом онтологического томления, породившего феномен 60-х.
Этот хронологический рубеж весьма условен. Совпав в Америке с вьетнамской войной, а в России с процессом десталинизации, «шестидесятые» двигаются по миру, настигая каждую страну в тот момент, когда в ней вырастает первое сытое поколение.
Сейчас, кажется, приходит очередь Японии. Свидетельство тому — террористический акт в токийском метро, учиненный весной 1995 года членами секты «Аум Синрикё», в которую входили сливки японского студенчества. Объясняя происшедшее, японская писательница Рейко Хацуми рассказывала, как биологи поселили на изолированный остров птиц и предоставили им вдоволь корма. Вместо того чтобы наслаждаться сытой жизнью, птицы стали вести себя воинственно: драться, и грабить гнезда, и уничтожать яйца.
Природа — минималистка, она не рассчитывает на излишки, о них должна позаботиться культура. А когда она с этим не справляется, за дело берется контркультура.
Универсальная черта, свойственная шестидесятникам всех времен, — происхождение: они всегда появляются на обочине исторической магистрали.
Контркультура, не приемля всякую тотальность, отрицает саму идею столбовой дороги, по которой — либо в одном, либо в другом направлении — должна маршировать цивилизация. Восстав против культа безудержной рациональности, шестидесятники начали поиск обходных путей. Прогрессом они считали развитие не техники, а сознания, эволюцию чувств, расширение ментальных горизонтов. В этом и заключалась суть того своеобразного духовного движения, которое можно было бы назвать психоделическим марксизмом.
Маркс считал, что мир надо не объяснять, а переделывать. «Не его, а себя», — говорили в 60-х, заменяя классовую борьбу ЛСД и рок-музыкой. Хиппи предпочитали экспериментировать со своим сознанием, а не с чужим бытием. Они верили, что реальность не снаружи, а внутри и каждый может ее устроить себе по вкусу.
Понятно, почему в этой среде родиласьдоктрина «когнитивного релятивизма». Суть ее лучше всех объяснил еще Лоренс Стерн, который в «Тристраме Шенди» вспоминает, что древние германцы все важные решения обсуждали дважды — пьяными и трезвыми. Мир меняется в зависимости оттого, какими глазами мы на него смотрим. Нормальное, «трезвое» восприятие — одно из многих возможных. Да и сама «нормальность» достаточно условна, ибо она детерминирована воспитанием. Осознав реальность продуктом своей, именно и только своей культуры, шестидесятники не могли устоять перед искушением выйти за ее пределы.
Как только жизнь без лишений стала нормой, а не исключением, 60-е столкнулись с тоской будней. Чтобы преодолеть рутину, нужно было «остранить» мир, изменив и расширив свое восприятие. Чарльз Тарт, один из отцов трансперсональной психологии, известный своими экспериментами с измененным сознанием, писал: «Я глубоко верю в науку как в единственную силу, под воздействием которой границы нашей условной реальности постоянно пересматриваются; наука позволяет нам внимательно всматриваться в трещины космического яйца, сквозь которые видны новые горизонты в бесконечности. И все же наш жизненный путь в гораздо большей степени, чем нам бы хотелось, ограничен колеёй колеса, механически катящегося по дороге повседневного бытия».[58]
Так шестидесятники на своих условиях пытались вписаться в научно-техническую революцию. Переориентируя прогресс с объектов на субъекты, они сеяли семена новой органической парадигмы, плоды которой созрели лишь поколение спустя.
Еще недавно казалось, что все начинания «детей цветов» поросли травой (что может быть грустнее лысеющего хиппи, зашедшего погреться в вестибюль банка). Смутные 70-е и деловитые 80-е так основательно проветрили мир, что и духа 60-х вроде бы не осталось. Но на самом деле идеи, образы, метафоры 60-х ушли в глубь общества, растворились в нем, чтобы исподволь изменить ткань сегодняшней реальности.
Выведя из обихода язык жесткой идеологической конфронтации, внеся смуту и душевный разброд в общественное сознание, заразив его сомнениями, они изменили ригористический дух времени. Не приемля бинарных оппозиций (третьего не дано), они расчистили путь нынешнему культурному да и геополитическому плюрализму.
Конечно, идеи 60-х проросли и вышли на поверхность не такими, какими были, да и не там, где их сажали.
Пауль Клее, говоря об искусстве, сравнивал его с деревом: окружающее — корни, художник — ствол, крона — его произведения. Сходство между корнями и ветками есть, но весьма отдаленное.
Впрочем, мне больше нравятся кулинарные сравнения. Скажем, жизнь — как суп. Из десятков ингредиентов возникает цельность, которую обратно, в первоэлементы мяса и овощей, уже не вернуть. Вот так и 60-е почти незаметно и часто анонимно растворились в «бульоне» времени. Они придали навару эпохи свой аромат и крепость, похоронив в нем свое лицо и имя. Тридцать лет назад круг идей 60-х воспринимался экстравагантной крайностью, духовным капризом, инфантильной прихотью, а часто и социальным вывихом, граничащим с духовной болезнью или криминальной практикой. Шестидесятники были несовместимы с обществом до тех пор, пока они сами им не стали. Но тогда они уже перестали быть шестидесятниками. Теперь, когда выдохся их эпатирующий и деструктивный дух, они влились в общий идеологический поток, текущий и по коридорам власти.
Чтобы одна реальность сменила другую, новые метафоры должны объединиться с властью, которая берет их на вооружение, ими вдохновляется, пытается их овеществить, претворить в социальную ткань. Похоже, что это и происходит сегодня, когда консервативная революция 90-х, расправившись с либеральной революцией 60-х, завладела ее наследством.
Видимо, этим объясняется парадоксальный и судьбоносный переворот 1994 года в Вашингтоне. С одной стороны, к власти в Конгрессе пришли ярые критики контркультуры. Но, с другой стороны, возглавивший консервативный переворот спикер Конгресса Ньют Гингрич выдвинул грандиозную футурологическую программу в духе рожденной в тех же 60-х органической парадигмы.
К концу XX века, считает Гингрич, Америка попала в ту же ситуацию, в которой она была накануне своей революции. Тогда ей предстояло перейти из аграрного общества в индустриальное, сейчас страна должна совершить скачок в информационный век. Только совершив структурные технологические, политические, а главное — психологические, ментальные преобразования, Америка сможет удержаться на гребне потока постиндустриальных перемен, уже омывающего земной шар.
Эта радикальная программа опирается на концепцию футуролога Олвина Тоффлера,[59] который, несмотря на старинную дружбу с Гингричем, вовсе не разделяет мечту республиканцев о возвращении в старую добрую Америку 50-х. Он вообще не верит в политику. «Президент кричит в трубку, — пишет Тоффлер, — но на другом конце никого нет». Политики — о чем говорит любая газета — утрачивают способность управлять жизнью, которая стала слишком сложной. Старая политическая система не справляется с «квантовыми эффектами» планетарной цивилизации. Мы незнаем наверняка, чем аукнется то или иное решение. Причинно-следственная связь стала гротескной, ибо ничтожные причины рождают грандиозные последствия — ошибка невыспавшегося оператора привела к чернобыльской катастрофе.
Демократическое общество опиралось на образ составленной из аккуратных кирпичиков-избирателей пирамиды. Но постиндустриальный мир предлагает иную метафору — паутину. Чтобы научиться ею пользоваться, мы должны принять неизбежные перемены.
«Индуст-реальность» — по каламбурному термину Тоффлера — собиралась из отдельных деталей, как автомобиль на конвейерах Форда. Соответственно и все ее элементы должны были быть стандартными, взаимозаменяемыми, как сталинские «винтики». Продукт массового общества, созданная массами и для масс, она обоготворила фабрику. Но в центре постиндустриальной цивилизации производство уже не вещей, а информации, поэтому собственно на «фабрике» сегодня работает лишь десятая часть американцев.
Постиндустриальная реальность создает себя, меняя фундаментальные параметры — время и пространство.
Возьмем, скажем, гордость индустриальной эры — город, который Ле Корбюзье называл «мастерской духа, где создаются лучшие произведения вселенной». Современный мегалополис — шедевр тонкого искусства обращения с пространством. Ведь город требует управления миллионными толпами, а значит, и создания сложной дорожной сети, распределения транспортных потоков, архитектурного членения районов. Однако это искусство ни к чему информационной цивилизации. Если вместо людей и товаров производится и перемещается по эфиру информация, то нет такой уж надобности ни в дорогах, ни в городах. Перепись 1990 года в США впервые зафиксировала превышение пригородного населения над городским.
То же самое происходит и со временем. Постиндустриальная цивилизация не нуждается в синхронизации трудовых усилии, поэтому она упразднила главную добродетель своей предшественницы — пунктуальность. Люди постепенно заменяют механическое время более удобным им биологическим. Все меньше ниточек привязывает нас к жесткому расписанию труда и досуга. На смену социальным ритмам машинной цивилизации приходят новые темпоральные структуры, основанные на индивидуальном ощущении времени. Каждый живет в своей временной капсуле, по своим часам, со своим ощущением длительности.
В информационной цивилизации и время и пространство каждый кроит по себе. Поэтому если промышленная эра с ее массовым производством и массовым потреблением требовала коллектива, то теперь общество распадается на мириады особей, каждая из которых защищает и культивирует свою инакость в интимной среде-у себя дома.
Если «индуст-реальность» строилась вокруг фабрики, то центр информационной цивилизации — дом, обыкновенный частный дом, который может стоять где угодно. Если раньше дом находился рядом с работой, то теперь десятки миллионов американцев берут работу на дом. Комфортабельные электронные «пещеры Маклюэна» так размножились, что уже изменили американский бытовой ландшафт. Домашняя жизнь, становясь единственной, дает большую свободу маневра, возвращает в распорядок дня плавность, легче вписывается в круговорот природы и вообще способствует тому неспешному патриархальному быту, который сплавлял воедино труд и досуг.
Средневековый ремесленник работал не восемь, а четырнадцать часов в день, но — не выходя из дома. Более того, цеховой устав требовал от него сидеть у окна, чтобы прохожие могли оценить усердие в работе.
Эта аналогия скорее многозначительна, чем случайна. Постиндустриальная цивилизация оказывается похожей на доиндустриальную. Самые яркие ее черты: децентрализация, деурбанизация, демассификация — одновременно свойственны и самым передовым, и самым отсталым странам. Это дает шанс «третьему миру» догнать остальных, минуя хотя бы часть индустриальных кошмаров.
Кризисы индустриальной цивилизации можно перечислять без конца, но можно и просто взглянуть на Магнитогорск или Детройт. Мы уперлись в стену, которую нельзя преодолеть простой силой: жизнь не делается лучше оттого, что в мире становится больше станков, танков или инженеров.
Связанное с прогрессом экологическое перенапряжение привело нас к ситуации, напоминающей дзэновский коан: вопрос без ответа. Коан призван остановить безвольное брожение мысли по наезженной колее логичных, а значит, банальных решений. К ответу можно прийти только духовным прыжком, ментальным кульбитом.
Конец холодной войны как раз и стал таким коаном для истории. Падение коммунизма, которое в эйфорическом припадке приняли за последнюю и потому окончательную победу просвещения, на самом деле оказалось фатальным кризисом всей «индуст-реальности». В сущности, ведь две идеологические силы, противоборствовавшие большую часть XX века, спорили лишь о деталях одного и того же светлого будущего. Не идеалы, а методы отличали их друг от друга.
Решая этот коан, история ответила на вызов парадоксом — сегодня идти вперед можно только пятясь.
Идея цикличности истории, всевозможные версии возвращения — общая интуиция нашего времени. Вновь актуализировались теории Освальда Шпенглера и Арнольда Тойнби. В этом же ряду можно рассматривать и нашумевшую теорию конца истории Фрэнсиса Фукуямы, который заканчивал свое построение предсказанием: завершив историю, люди — хотя бы из непереносимой скуки — начнут ее снова.
Новые сторонники появляются и у «триады» Питирима Сорокина, которая особенно популярна среди апостолов органической парадигмы. Сорокин разделял историю на три периода: идеациональный, идеалистический и чувственный.[60] Каждому из них соответствует своя реальность, которая отличается от других «количественным составом» — долей божественного в человеческом. Исчерпав возможности триады, — а мы, по Сорокину, при помощи Сталина и Гитлера этого уже добились, — история должна начать все сначала.
Идея возвращения — оптимистический поворот. Добравшись до края, мы не погибнем в космической катастрофе, к чему нас так долго готовили, а мирно вернемся обратно. Что ж, второгодником быть лучше, чем трупом.
Без будущего
Парадоксы исторической арифметики ставят перед нами новый вопрос: как-жить без будущего?
Впрочем, нового тут мало. Будущее ведь недавнее изобретение. Большую часть своей истории человек обходился без него.
Когда миссионеры открыли школы в Австралии, выяснилось, что труднее всего аборигенам давалась западная концепция времени. Охотники и собиратели, они не знали земледелия и животноводства. Поскольку аборигенам не приходилось ждать урожая или приплода, они не интересовались будущим. Аборигены жили сегодняшним днем в полном согласии с девизом Горация «сагре diem».[61]
Такая жизнь лишает смысла детальное планирование, расписание, пунктуальность. Австралийский антрополог Адольф Элкин пишет: «Даже если в месте последней стоянки должна состояться встреча для совершения ритуала и торговли, абориген не будет спешить на нее как на назначенное мероприятие. Для него расписание не является решающим. Тот, кто приходит первым, ждет. В промежутке каждый занят своими обычными делами и заботами, поскольку неважно, где ими заниматься — здесь или там».[62]
Безразличие аборигенов к будущему достойно зависти. Это «все равно где жить» не хуже благородной максимы Марка Аврелия: «Всюду, где можно жить, можно жить хорошо». Меня, скажем, как и всех соотечественников, немало помучили очереди, но абориген вряд ли бы понял причину наших огорчений. Ведь в очереди можно делать то же, что и вне ее: все существенное в жизни происходит либо везде, либо нигде.
Культура Нового времени построена на ожидании будущего, которое нам всегда было дороже настоящего. Но сегодня, когда стал сгибаться в кольцо упершийся в стену вектор прогресса, постиндустриальная культура вынуждена обратиться к архаическому переживанию настоящего времени.
«Конец истории» возвращает нас к ее началу: доисторическое бытие — это бытие вне истории. Такому вне-историческому существованию Клод Леви-Строс призывал нас учиться у «холодного», то есть неизменяющегося, недоступного прогрессу первобытного общества.
Главное достижение внеисторического бытия — долговечность его культуры. Именно этого нам и не хватает. Мы ведь дети чрезвычайно хрупкой, крайне неустойчивой индустриальной цивилизации, сравнительно быстро исчерпавшей свои возможности. Поэтому задача нарождающейся сейчас культуры — соединить прогресс индустриальной эры со стабильностью традиционных обществ, которые мерят свое существование не веками, а тысячелетиями.
Палеолит занимает девять десятых истории человека как вида. Неолитическая научно-техническая революция, принесшая земледелие, государство и письменность, произошла всего лишь около десяти тысяч лет назад. Это не мешает нам судить о большей части истории человека с наших позиций, навязывая архаическому обществу свои, обусловленные привычкой к прогрессу суждения и оценки. Из-за этого мы катастрофически недооцениваем достоинства и достижения первобытной культуры.
В 1995 году во Франции, возле городка Валлон-Пон-д'Арк французские археологи открыли пещеру Шове, в которой были найдены самые старые в мире наскальные рисунки. Один из них, как показал изотопный анализ, сделан 30340 лет назад. Раньше считалось, что на такой ранней стадии развития человек не умел рисовать. Мастерство палеолитических художников из Шове подрывает веру в эстетическую эволюцию, которая хоть и с оговорками, но все же приучила нас к мысли о развитии искусства от более к менее примитивным образам.
Казус с пещерным искусством — намек на то, что мы совершенно напрасно впрягаем чужую историю в свое поступательное движение вперед. Конечно, такая операция автоматически делает нас венцом прогресса, но мешает понять прошлое. В нем мы ценим то, что есть в настоящем (скажем, науку), не умея увидеть того, чего у нас нет. Осознав это упущение, антропология XX века обратилась к изучению вымирающих первобытных традиционных культур в надежде перенять их опыт. Прежде всего, опыт борьбы с историей, опыт жизни без будущего.
Самое ценное в традиционных обществах — сама традиция. Разрыв с ней лишает смысла существования целые племена. Так, в процессе открытия Северного полюса адмирал Пири двадцать лет сотрудничал с эскимосами, вознаграждая их за работу оружием и лодками. В этих малонаселенных местах даже скромные дары западной цивилизации — сотня ружей и несколько баркасов — нарушили и социальный, и экологический баланс, поставив эскимосов на грань вымирания.
Суть традиции — преемственность. Архаическая культура не знает конфликта отцов и детей, ибо каждое поколение получает в наследство ответы на все экзистенциальные вопросы. Все знают: смысл жизни в том, чтобы просто быть на своем месте в мироздании, участвуя в космической игре жизни и смерти. Цель традиционной культуры — органично вписаться в круговорот времен, не выпасть из него. Пафос такой культуры — в регулярности. Все силы направлены на то, чтобы в сотрудничестве с природой обеспечить собственное воспроизводство.
В Северной Америке довольно популярна игра лакрос (вид гандбола с клюшками), которую колонисты переняли у индейцев. Хотя правила остались теми же, но белые играют в нее совсем иначе. У индейцев команды делились на «живых» и «мертвых». Победа первых над вторыми была заранее предопределена. Выявлять победителя в лакросе индейцам казалось бы так же нелепо, как нам выяснять, кто из двух партнеров победил в вальсе. И для белых, и для индейцев лакрос — игра, но для одних это спортивное состязание, соперничество, конкурентная борьба, а для других ритуальное действо.
В центре нашей, построенной на агонических началах культуры — спор, поединок, единоборство. В основе архаической культуры — ритуал, цель которого — спастись от хаоса, смирить случай, в конечном счете — избавиться от будущего. Традиционная культура ходит по кругу, как стрелки по циферблату.
Маклюэн считал, что будущее появилось вместе с письменностью, которая превратила событие в фиксированное во времени происшествие. Четкий хронологический адрес имеет смысл только тогда, когда счет времени увязан с эсхатологическими координатами, когда есть куда торопиться или чего бояться. Летопись появилась не от хорошей жизни: в нее записывали лишь чрезвычайные происшествия — войны, мор, грозные предзнаменования. Спокойному времени русский летописец отводил всего два слова: «тишина бях». Точно так же исландские саги всегда рассказывают только о распрях. Древнему, как, впрочем, и современному, автору казалось нелепым описывать обычный распорядок вещей. Предметом рассказа могло быть лишь происшествие, нарушающее традицию. Мирная жизнь протекала вне истории и не нуждалась в письменности.
«История, — пишет Лотман, — один из побочных результатов возникновения письменности. Для того чтобы письменность сделалась необходимой, требуются нестабильность исторических условий, динамизм и непредсказуемость обстоятельств». Путь из истории идет в обход письменности. На это Лотман тоже намекал, говоря, что «вторжение в культуру средств фиксации устной речи вносит существенные сдвиги в традиционно письменную европейскую культуру, и мы, возможно, станем свидетелями интересных процессов в этой области».[63]
По-настоящему интересными они, пожалуй, станут тогда, когда компьютер научится понимать нашу речь. Это кардинально сузит сферу применения письменности, которая станет скорее роскошью, чем необходимостью.
Впрочем, уже сегодня устная культура развивается быстрее и успешнее письменной. (Я заметил, что за то, что говорю, например, по радио, получаю больше, чем за то, что пишу, например, в газетах.)
Вся сегодняшняя культура строится вокруг эффекта присутствия, который обеспечивает становящийся все более оперативным и все более вездесущим телевизор. Письменность заготавливает культуру впрок: книги — это консервы, рассчитанные на долгое хранение. Устная культура имеет дело со скоропортящимся продуктом. В принципе рассчитанная на немедленное употребление, она даже в записи воспроизводит момент непосредственного восприятия: слушая музыку, мы оказываемся вне времени.
Письменность создает протезы памяти. Она накапливает опыт поколений, который тратит устная культура. Письменная культура живет в прошлом и будущем, устная — исключительно в настоящем.
Такое сращенное с прошлым настоящее напоминает метафору времени у Борхеса — библиотеку. В сознании читателя прошлое превращается в настоящее каждый раз, когда он открывает книгу. При этом последовательность авторов — кто был раньше, кто позже — теряет смысл. Читать книги в хронологическом порядке так же невозможно, как и в алфавитном.
Как-то, когда я стыдил моего родившегося уже в Америке сына за то, что он не читал Достоевского, наш друг художник Бахчанян все испортил, сказав, что это неважно, потому что Пушкин, например, тоже не читал Достоевского.
Анахронически сопрягая в нашем сознании писателей, мы отменяем историю литературы. Борхес видел в этом «подобие вечности» и восхищался восточной мудростью, сделавшей всех авторов современниками и тем отменившей «зло истории».[64]
Если с будущим Борхес расправился, считая, что оно уже было, то прошлое у него отменяли те же анахронизмы. Спрашивая, кем бы был Марло без Шекспира, он говорил, что писатели создают себе не только последователей, но и предшественников.[65]
Культурное пространство библиотеки Борхеса близко мироощущению австралийских аборигенов: прошлое тут существует только в настоящем.
Цель разворачивающейся в настоящем времени культуры — нагрузить мгновение смыслом, придать ему максимальный удельный вес. Такую задачу в архаических обществах выполняет ритуал. Он уплотняет настоящее время, устанавливая тождество повседневного с непреходящим. Ритуал побеждает историю, замыкая время.
Однако для того, чтобы постиндустриальная культура вновь освоила язык ритуала, она должна разучиться говорить, во всяком случае по-нашему.
Если история коренится в письменности, то время спрятано в языке, который, как говорит тот же Борхес, порождает время: «Язык — воплощение времени, для разговора о вечном, вневременном он малопригоден». Этим объясняется наша неспособность достичь взаимопонимания с первобытными народами: архаическая вселенная в принципе сложнее и разнообразнее нашей, потому что в ней очень мало универсальных категорий, приводящих к общему знаменателю разнородные предметы. Леви-Брюль пишет: «Европеец пользуется абстракцией, почти не задумываясь над этим, а простые логические операции настолько облегчены для него языком, что не требуют усилия. У первобытных людей мысль, язык имеют почти исключительно конкретный характер».[66]
В пример Леви-Брюль приводит «раковинные» деньги меланезийцев, которые в отличие от наших вовсе не являются универсальным орудием обмена. Лишенные представления об общих понятиях, туземцы употребляют свои раковины лишь для приобретения жен и уплаты пени за убитых.
Узнав об этом, я улучшил семейный бюджет, «опредметив» деньги: теперь у нас дома все зарабатывают не вообще, а на что-то.
Тему архаического языка развивает соблазнительная теория Джамбаттисты Вико, возрожденная литературой XX века (на его концепции построена, например, книга Джойса «Поминки по Финнегану»). Каждому из трех этапов, на которые Вико делил историю всякого общества, соответствовал свой язык. Первый — теократический — пользовался языком метафор: слово становилось делом, оно обладало непосредственной магической силой, которая превращала изображенное в изображаемое. Второй этап — аристократический — говорил на языке метонимий: слово не становилось реальностью, а заменяло ее. Третий язык — демократический — пользуется словами-терминами. Когда круг завершается, когда магия слов полностью истощается, все начинается сначала. Сегодня мы вновь стоим на пороге теократического века, вступить в который нам мешает язык. Его-то и предстоит сменить занятой освоением настоящего времени постиндустриальной культуре.
Эта двусмысленная задача вновь напоминает дзэновский коан. Время коренится в языке, поэтому, чтобы сбежать из истории, чтобы научиться жить в настоящем времени, а точнее, обходиться без времени вовсе, надо говорить без языка.
Борхес разрешает этот парадокс, обнаруживая подлинную, бытийную, а не культурную вечность в тождестве мгновений. Рассказывая о своем переживании вневременного состояния, Борхес в «Истории вечности» пишет: «Это чистое соположение однородных вещей — тихой ночи, светящейся стены, характерного для захолустья запаха жимолости, первобытной глины — не просто совпадает с тем, что было на этом углу столько лет назад, это вообще никакое не сходство, не повторение, это то самое, что было тогда». Попасть в такую вечность, вкусить ее мы можем, лишь забывая себя, путь в нее лежит через «безличные» ощущения, особые состояния. «Самые элементарные из них, — указывает Борхес, — физическое страдание и физическое удовольствие, миг сильного душевного напряжения и душевной опустошенности, когда засыпаешь и когда слушаешь музыку».[67]
Вызывать такие состояния и оперировать ими — призвание искусства настоящего времени.
В отличие от других, многократно переселявшихся народов, китайская цивилизация развивалась на одном и том же месте по меньшей мере шесть тысяч лет. Китайская культура — живое ископаемое, поэтому она способна донести до нас черты той архаической ментальности, которая обеспечила ей беспрецедентное долголетие.
Разительнее всего Китай отличает от Запада ориентация во времени. Если мы помещаем будущее перед собой, а прошлое позади себя, то для китайцев прошлое обозначается словом «шан» — «верх», то есть время для них течет сверху вниз. Поэтому в Китае утопии были ретроспективными, а реформы — консервативными, восстанавливающими старый порядок. Китайскому мышлению чужда идея прогресса, концепция линейного времени, западное представление о вечности.
ИсторикЛю Шусянь пишет: «… в Китае не знали концепции абстрактного, абсолютного времени Ньютона, поэтому время и пространство составляли для них нерасторжимое единство, неотделимое от реального содержания событий материального и духовного мира. Они не вышли за пределы мира изменений, где царят и время и временность. Из-за этого китайцы никогда не разделяли стремления древнегреческих и христианских мыслителей к неизменному и вечному».[68]
Запад прельстился потусторонним образом неподвижной и нетленной вечности — будь то золотой век Гесиода, царство платоновских идей, христианский рай или светлое будущее коммунизма. Китайцы жаждали физического бессмертия, но не интересовались вневременным, потому что их картину мира образовывал и создавал принцип постоянных изменений, сформулированный в одной из самых старых в мире книг — «И цзин».
Наиболее могущественный бог античной мифологии Крон/Сатурн отождествлялся со временем, потому что он пожирал своих детей. В китайской мифологии время — не враг человеку, и смерть здесь не изображалась с часами. Если Фауст мечтал остановить мгновение, перегородив реку времени, то китаец стремился раствориться в ней. Китайское время не абстрактный принцип, с которым можно воевать. Время не может быть чем-то внешним по отношению к людям, потому что у него нет неизменяемой, адекватной самой себе личности. «Я» — это череда состояний, беспрестанно сменяющих друг друга. Вчерашнее «я» не то же самое, что завтрашнее. «Я» — всегда существует только в настоящем времени.
Китайская культура создавалась в непривычных нам темпоральных координатах. С одной стороны, китайцы жили без будущего: идти вперед означало возвращаться, а с другой — они не знали вечности, в которой можно скрыться от бега времени и хода истории.
Эта парадоксальная ситуация похожа на ту, которая возникает сегодня. Если ознаменовавший прекращение социального прогресса «конец истории» отрезал нас от будущего, то он отнюдь не избавил от бесконечных перемен, вызванных прогрессом техническим. Получается, что мы должны меняться, стоя на месте.
Как раз этому и учила китайская культура, в совершенстве овладев этим искусством. Цель человека- вписаться в череду перемен, совместить колебания своей судьбы с космическим ритмом. Меняясь вместе со временем, мы перестаем ощущать его движение.
Так мы попадаем в то вечное настоящее, которое повторяется, не повторяясь. Закат всегда означает одно и то же, но не бывает двух одинаковых закатов. Мы не останавливаем мгновения, а вглядываемся в них — это те темпоральные капсулы, которые путешествуют вместе с нами по миру. Мгновения не бегут, сменяя друг друга, а набухают, расширяются, раздвигая наше восприятие, впуская в себя новые чувства и мысли. Человек ведет себя как флора, а не фауна — его сознание разрастается. Эту внутреннюю метаморфозу направляло традиционное китайское искусство — искусство настоящего времени par excellence.[69]
Со старинными постройками на Востоке до сих пор обращаются с шокирующей европейцев бесцеремонностью. Япония полна храмами, которые могли бы считаться самыми старыми деревянными сооружениями в мире, если бы их постоянно не обновляли и не восстанавливали. Обычно это делается точно так же, как и раньше. В Киото, например, канаты для подвесного моста древнейшего в Японии буддистского храма до сих пор плетутся из женских волос. Поэтому тут нельзя ответить на вопрос о возрасте сооружения — то ли ему несколько веков, то ли несколько недель. Так даже архитектура на Востоке умудряется жить сегодняшним днем.
На Западе художник творил в надежде, что его шедевры смогут соперничать с вечностью. Гораций сравнивает свои стихи с самым долговечным из всего, что он знал, — с «царственными пирамидами». Автор китайского аналога «Памятника» поэт Су Ши называет свои сочинения «большим полноводным потоком, который стремится вперед, выбирая неведомый путь».[70]
Вечность пирамиды не та же, что вечность реки: пирамида — вызов времени, река сама символизирует время. Вторая вечность больше, надежнее первой, точно так же, как мягкая вода сильнее твердого камня. Су Ши пишет:
Нет циньской державы, а персик цветет, и речка, как прежде, бежит.[71]
Все искусственное обречено умереть, все естественное — возродиться.
Наше искусство — плод культуры, которая расчленяет природную непрерывность мира, чтобы остановить — и запечатлеть — мгновение. Вспомним еще раз Лотмана: что не дискретно, то не культура. Но вот что пишет художник XI века Го Си: главное, чтобы «при взгляде на обрамление гор соснами возникала идея непрерывности».[72] Восточное искусство возвращает дискретной культуре непрерывность природы, избавляясь от их мучительного и противоестественного антагонизма. Художник проявляет и артикулирует тождество окружающей нас природы с той природой, что мы носим в себе. Каждый шедевр — это резонанс внешнего с внутренним.
Сочиняя эту книгу, я специально пошел изучать «су-миэ» — восточную живопись тушью. На первом же уроке я не столько понял, сколько ощутил, что по своему внутреннему устройству это искусство больше всего напоминает спорт. Задача художника — уловить в себе эхо окружающего, вписаться в колебания природы, найдя им соответствия в ритмах собственного организма. Кисть, выводящая стволы бамбука на бумаге (мое первое задание), должна двигаться в такт дыханию, соответствовать биению сердца. Поэтому китайская живопись не только искусство, но и физкультура — успех требует такого же слияния духа с телом, как каратэ.
Восточному искусству чужд западный реализм. Когда в конце XVIII века английский посол Маккартни преподнес богдыхану гравюры, изображающие членов английской королевской фамилии, китайцы приняли светотень на портретах за следы ранений.
Только контакты с Западом заставили Восток усомниться в своей эстетике. Так, в том же XVI 11 веке японский художник Сиба Кокан с завистью писал: «Западная живопись стремится выяснить значение всего существующего. Японская и китайская живопись — это игрушка, не имеющая практического применения. Если живопись не изображает действительный облик, то от нее нет пользы».[73]
Если пафос объективности сближал западное искусство с наукой, то восточное оставалось видом религии. Художник тут стремился подражать не природе, а ее творцу.
Судзуки пишет: вместо того чтобы совершенствоваться в создании плоских имитаций, которыми является любая живопись, художник «творит живые предметы из своего воображения. Поскольку все мы принадлежим к одной и той же Вселенной, наши творения могут некоторым образом соответствовать тому, что мы называем объектами природы».[74]
Картина — сама реальность, а не ее копия.
Непрерывность восточного искусства мешает ему стать завершенным — оно продолжает жить и меняться в восприятии зрителя. В своей принципиальной недосказанности оно всегда оставляет место для сотворчества. Представление современного постструктурализма о бесчисленных пластах смыслов, содержащихся в каждом тексте, было всегда близко китайской поэзии.
Если мы, обращая внимание только на смысл, не замечаем букв, то китайцы, во всяком случае когда они обращаются к старым поэтам, запинаются на каждом иероглифе. Чтобы по-настоящему насладиться стихами, их переписывали. Это все равно, что снять копию с полюбившейся в музее картины.
Кстати, потребность приобщаться к стихам, переписывая их, знакома и нам. Эдуард Лимонов рассказывал, как в молодости он скопировал от руки пятитомник Хлебникова. Как каждому, кто работал в школе, мне приходилось видеть множество девичьих тетрадей с Надсоном и Есениным.
Многозначность и семантическая расплывчатость иероглифов в восточной поэзии не позволяет говорить о существовании последней авторской редакции стихотворения. Скорее мы имеем дело с бесконечными версиями каждого поэтического текста. Запись не столько раскрываетсмысл, сколько намекает на него. Все это требовало от читателя не автоматического чтения, а углубленного тол кован и я. Су Ши пишет:
Наслажденье стихами дается тяжкой ценой, это занятие вкушенью ершей сродни: радости мало, очень много возни.[75]Такое чтение можно сравнить с нотами музыкального произведения, оживающего только тогда, когда его играют. Китайские стихи, как наша музыка, рассчитаны на талант исполнителя.
Китайская поэзия — дневник самых мимолетных ощущений. Отсюда подробные названия, которые дают исчерпывающий временной и пространственный «адрес» запечатленного в стихотворении эмоционального переживания. Например, двенадцатистрочное стихотворение танского поэта Ван Вэя названо так: «Весенней ночью в бамбуковой беседке преподношу чиновнику Цяню, который возвращается в Ланьтянь».
Китайской поэзии чужд эпический размах. Вместо этого поэт учит раздвигать до бесконечности эфемерные мгновения, уплотнять и расширять настоящее время, жить, широко раскрыв глаза, он учит нас оглядываться по сторонам, когда мы плывем в реке времени.
Воспитание читательской восприимчивости сродни медитативной практике, которой обучают в буддийских монастырях. Не случайно три величайших поэта Китая:
Ли Бо, Ду Фу и Ван Вэй — принадлежат той же танской эпохе (VII–VIII вв.), когда в стране возникла секта китайского дзэн-буддизма — Чань.
Одна дзэнская притча рассказывает об ученике, который, придя к наставнику, оставил у входа зонтик и башмаки. Учитель спросил его, слева или справа от башмаков тот поставил зонтик. Ученик не смог вспомнить и устыдился: утратив бдительность, он упустил мгновение.[76]
Воспитывая в читателе постоянную напряженность и открытость чувств, поэзия должна до отказа наполнять каждую минуту нашей жизни. Китайские стихи — искусство не остановленного, а продленного мгновения.
Стремясь к такому эффекту, китайцы создали поэзию мнемонических знаков, способных зафиксировать невербальный чувственный опыт. Автор не описывает то, что видит, а выделяет детали пейзажа, звуки и запахи, пытаясь вызвать у читателя те же невыразимые словами переживания, которые испытал он сам. Это общение словами без слов.
Лао-цзы говорил: «Ловушка нужна, чтобы поймать зайца: когда заяц пойман, про ловушку забывают. Слова нужны — чтобы поймать мысль: когда мысль поймана, про слова забывают».
Китайская поэзия — это словесное искусство, преодолевающее слова.
Метафизика масскульта
Сартр говорил, что у каждого в душе — дыра размером с Бога. Правда, в XX веке мы впервые решили, что сможем обойтись без Бога, но еще не успело завершиться столетие, как выяснилось, насколько мы ошибались. Сегодня религиозная жизнь так бурна и яростна, что многие пророчат XXI веку бесконечные религиозные войны.
Особенно важно, что на смену традиционным, устоявшимся институализированным конфессиям приходит целы и букет новых вер. Об этой варварски пестрой теологической эклектике американский, точнее, калифорнийский (там будущее начинается раньше) журналист Майкл Вентура пишет: «Нынешняя раскаленная религиозная атмосфера напоминает ту, которая царила в первом столетии до рождества Христова. Называйте этот век Новым или как вам угодно, но грядущая вера соединит восточную философию с теорией относительности, кибернетику с суфизмом, францисканский мистицизм с языческим анимизмом, астрономию с эллинским политеизмом, биологию и племенные ритуалы с юнгианской и гештальтпсихологией[77] в одно всемирное движение, целью которого будет утверждение новой мировой религии».[78]
Такая религия может сложиться в русле органической парадигмы, сплавляющей мистику с наукой. Но чтобы пестрый конгломерат вер вырос в более или менее стройное религиозное мировоззрение, необходим перевод, ибо язык и науки и мистики слишком темен и эзотеричен — он доступен лишь посвященным. Чтобы войти в массовое сознание, новая парадигма должна быть переведена на язык массового искусства. Только эта — третья после церкви и науки — мировая сила истории способна совершить переориентацию возникающей сейчас постиндустриальной культуры.
Массовая культура всегда пестовала свою, специфическую религиозность, которая лучше вписывается в восточную, чем западную, традицию.
Эта та религия, которая, как пишет Судзуки, «позволяет избежать банальности мирской жизни». Та религия, которая, как говорят тибетские монахи, дает шанс прожить обычную жизнь необычным образом. Та религия, о приходе которой рассуждает автор популярной на Западе «Истории Бога»: «Только Бог мистиков созвучен атеистическому настрою нашего секулярного общества с его недоверием ко всем сомнительным образам Абсолюта. Вместо того чтобы видеть в Боге объективный факт, который может быть подтвержден наукой, мистики ищут Бога в таинстве субъективного переживания. Путь к такому Богу лежит через воображение — его можно считать произведением искусства, схожим с другими великими художественными символами, передающими невыразимую тайну, красоту и ценность жизни».[79]
Такой мистический Бог особенно близок массовому искусству, потому что оно изначально, по самой своей природе близко к первобытному пралогическому миросозерцанию. Популярное искусство никогда далеко не отходило от общего архаического источника нашей культуры. Оно было резервуаром мифологических образов и представлений. Это своего рода отстойник, куда стекали иррациональные отходы цивилизации, по мере того как она становилась все более рациональной.
Там, в нижнем, подвальном этаже культуры, скопились ненужные атрибуты мистического мировоззрения — суеверия и приметы, обряды и ритуалы, слухи и легенды. Отсюда массовое искусство черпает архетипические мифологические образы, которыми оно щедро засеваетсвои угодья — комиксы, кинобоевики, телесериалы, бульварную прессу, витрины, гороскопы, видеоклипы, рекламу, моды.
Богатый набор символов перешел по наследству от церкви массовой культуре, которая пятится от протестантского иконоборчества к языческому идолопоклонству. По мере того как религия, очищаясь от суеверий, сублимировалась в интеллектуально-нравственные формы, останки древней веры скапливались в менее рациональных, но более грубых, более чувственных, более живых сферах общественного бытия.
Жорж Батай писал: «Мы привыкли отождествлять религию с законом, мы привыкли отождествлять ее с разумом. Но если придерживаться того, что лежит в основе всей совокупности религии, мы должны отвергнуть этот принцип. Религия требует по меньшей мере чрезмерности. Она требует праздника, вершиной которого является экстаз».[80]
Если не праздником, то уж чрезмерностью массовое искусство всегда дарит своих почитателей. Его неоспоримое могущество, очевидная витальность и бесспорная универсальность подсказывают, что именно здесь происходит таинственное брожение, вызревание новой культуры. Верно оценить судьбоносную важность этих процессов нам мешает их — опять-таки чрезмерная — наглядность:
труднее всего заметить то, что бросается в глаза.
Механизм такой аберрации зрения иллюстрирует история русских вывесок, этого массового искусства дореволюционной России. Неграмотная страна нуждалась в огромном количестве вывесок. Их по строгому канону писали мастера из особых, подобных иконописным, артелей. Недошедшие до нас вывески — они стали жертвой революционной разрухи — придавали русским городам самобытный, живописный и «аппетитный» облик, напоминающий о фламандских натюрмортах. Как ни странно, это буквально бросающееся в глаза искусство полностью игнорировали все ведущие русские художники XIX века. Передвижники любили народ, но не его архаическое искусство. Открыли живописную вывеску лишь художники-футуристы.[81]
Для этого потребовалась не просто смена вкусов, а кардинальный пересмотр самих границ эстетики, что и случилось в начале XX века, когда бастионы западного искусства начало подмывать мощное архаическое течение. У «дикарей» учились многие художники той поры.
В середине 80-х Нью-Йоркский музей современного искусства продемонстрировал связь авангарда с архаикой особой выставкой. На ней прославленные картины, такие, как полотно Пикассо «Авиньонские девушки», которым принято открывать историю живописи XX века, экспонировались вместе с образцами первобытного искусства, вдохновившими художников. Сходство — иногда очевидное до двусмысленности — оказалось бесспорным.
Подобную экспозицию устроил афинский музеи кикладской скульптуры, поместивший статуэтки трехтысячелетней давности рядом с работами Бранкузи, Генри Мура и Модильяни.
Пример непонятой русской вывески поможет увидеть в массовой культуре острую духовную проблему. Ведь раскол искусства на две ветви — одно из самых странных и многозначительных событий нашего времени.
Противоречие между высокой и низкой культурой можно свести к конфликту психологии с метафизикой. Психология, как писал дерзкий реформатор театра Антонен Арто, — это «стремление уменьшить неизвестное до известного». Между тем подлинная задача искусства — оставить все как есть: не раскрывать тайну, а благоговейно к ней прикоснуться. Искусство должно обращать быль в сказку, переплавлять физику в метафизику, оно, по выражению Пауля Клее, не отражает видимое, а создает его. Арто стремился развернуть искусство от рационального к иррациональному. Он мечтал о зрелище, в котором «действие сожрало бы психологию».
Таким задумывался знаменитый «театр жестокости» Арто, концепция, которая вновь завораживает сегодняшнюю эстетику. Чтобы метафизика могла прорваться сквозь огрубевшую кожу зрителя, нужно возбуждающее, пугающее, экстатическое искусство. Страх дает ощущение полноты жизни, реальности переживания. (У меня был знакомый, который любил повторять: «Пока голодный — не скучно».)
Как наш Лермонтов, когда он писал про опричника Кирибеевича, Арто считал, что вялые современники должны учиться у предков, у дикарей, всегда живущих в восторге и ужасе. Такую архаическую восприимчивость может вернуть искусство, которое должно «дать нам все то, что можно найти в любви, в преступлении, в войне или безумии».[82] Осуществлением этого проекта занялось массовое искусство. В сущности, Голливуд и есть «театр жестокости». Отсюда беспрестанные и неистребимые сцены насилия на экране. Жестокость метафизична. Она старше нравственности, потому общественная мораль и не способна навязать искусству этические нормы.
Массовое искусство, как и первобытный синкретический ритуал, строится вокруг зрителя, а не художника. В кино, причем не в изощренном, авторском, а в массовом, рассчитанном на широкую аудиторию, режиссер выполняет роль колдуна, шамана, дирижирующего реакциями зала. Успех фильма зависит от того, насколько умело он управляет зрителями.
В этом секрет Спилберга, самого популярного в истории любого искусства художника. Своей цели он достигает за счет столь же механических и столь же неизбежных эмоциональных реакций, как на «американских горках».
Другой, более оригинальный прием применяет Квентин Тарантино. Свой фильм «Бульварное чтиво» он сконструировал на эмоциональных диссонансах, завораживая зал не столько ошеломительными, сколько совершенно неожиданными эффектами.
Впрочем, квант всякой голливудской картины — не мизансцена, не кадр и не сюжетный поворот, а цельное зрительское переживание. Такое кино обращается к «тотальному зрителю», восприятие которого не расчленено на интеллектуальный и эмоциональный уровни.
Этим феноменом чрезвычайно интересовался Эйзенштейн. В статьях о дальневосточном театре он писал об «основанном на недифференцированности восприятий архаическом пантеизме». Под ним он понимал слипшееся восприятие, позволяющее «услышать» картину и «увидеть» музыку. Эта способность, считал Эйзенштейн, роднит старое восточное искусство с кинематографом.
Там же Эйзенштейн сравнивал театр Кабуки с футболом: «Голос, колотушка, мимическое движение, крики чтеца, складывающаяся декорация кажутся бесчисленными беками, хавбеками, голкиперами, форвардами, перебрасывающими друг другу драматургический мяч и забивающими гол ошарашенному зрителю».[83]
Массовое искусство, будь то кино, рок-концерт или рекламный клип, как и футболистов, заботят не средства, а результат — эмоциональный гол, потрясение чувств, метафизическое в своем пределе переживание, способное вывести зрителя за пределы обыденности и границы реальности.
Джим Моррисон, основатель легендарной рок-группы «Doors», говорил, что люди ходят на его концерты в надежде прикоснуться к сакральности, которой им катастрофически недостает в обычной жизни.
Освоение сакральной зоны массовым искусством происходит неосознанно, даже вынужденно. Иерархия культуры последовательно выдавливала на обочину все, что не поддавалось рациональному анализу. В результате «неразъясненным остатком» стали распоряжаться массы. Они и сохранили пережитки первобытного мистического мировоззрения до нынешних времен.
И раньше, и заметнее всего возвращение мистики сказалось в спорте. В своих мемуарах «Вчерашний мир» Стефан Цвейг пишет: «… если в годы моей молодости по-настоящему статный человек бросался в глаза на фоне толстых загривков, отвислых животов и впалых ребер, то теперь, следуя античным образцам, соревновались между собой гибкие, распрямленные спортом тела. Между ними и нами лежат не сорок, а тысячи лет».[84]
Спорт переводил часы XX века назад. Атлетизм вновь «склеивал» человека, разделенного на две заведомо неравные части — дух и тело. Спортсмен доверяет не только знанию, но и интуиции, полагается не только на чужой опыт, но и на свой инстинкт. Он знает, что тело не клетка для ума: он ведь привык им, телом, думать.
Вместе с телом спорт возвращает человеку искусство невербального общения.
Наш язык приспособлен к описанию культурных явлений, но попробуйте внятно рассказать о бане. Пожалуй, вообще все лучшее в жизни — от секса до заката — невозможно выразить словами. Это и понятно: мир говорит с нами на своем, а не на нашем языке.
Спорт обходит эту преграду, вовлекая нас в непосредственное общение. Единица «телесного» языка та же, что и в других видах массовой культуры. Это — целостное переживание, такое, например, как спортивный азарт.
Толпа знает, что делает, выбирая себе кумирами атлетов. В спорте произошел самый массовый и наиболее успешный переход от «научного» к «мистическому» мировоззрению.
Доказательством тому служат стремительно растущие достижения спортсменов. С научной точки зрения история рекордов скандальна: она ежедневно переписывается, оставаясь необъясненной. Мы привыкли к тому, что рекорды все время обновляются, но ведь совершенно непонятно, почему люди от поколения к поколению да и из года в год становятся быстрее и сильнее.
Прекрасно помню — тогда я был еще в том возрасте, когда рекорды, выраженные числительными, вызывают особый энтузиазм, — прыжок Боба Бимона на Олимпиаде в Мехико в 1968 году. Тогда много писали о том, что в прыжках в длину этот рекорд — 8.90 — будет последним. Он и правда держался дольше других, но два десятилетия спустя все вошло в обычную колею. В 91-м американец Майк Паул прыгнул на 5 сантиметров дальше Бимона, а в 95-м и этот рекорд побил кубинец Иван Педросо.
Как-то я следил по телевизору за соревнованиями по триатлону — недавнее изобретение, объединяющее три марафона: бег, плавание и велосипед. Глядя на этих могучих амфибий, я думал, что бы сказал о них Ницше, так презиравший своих заморенных культурой современников.
Атлетический прогресс нельзяобъяснить появлением новых снарядов, синтетических материалов и прочими техническими усовершенствованиями. Главную роль играет развитие другой техники — ментальной. Тут иногда осознанно, а чаше бессознательно произошло массовое возвращение к древним психофизическим практикам, связанным с концентрацией «жизненной энергии». Американские ученые документировали 4500 случаев паранормального опыта у профессиональных атлетов.
В сущности, спорт стал йогой Запада. Об этом после неудачной для него драки интересно рассуждает герой романа Роберта Музиля «Человек без свойств»: «Феномен почти полного устранения сознательной личности или прорыва сквозь нее — это, в сущности, сродни утраченным феноменам, которые были знакомы мистикам всех религий, а потому это в какой-то мере современный заменитель вечных потребностей, пусть скверный, но все-таки заменитель; и, значит, бокс и подобные виды спорта, приводящие все это в рациональную систему, представляют своего рода теологию».[85]
Тема мистической атлетики ярче всего прозвучала в монументальном фильме «Олимпия», который сняла на Берлинской олимпиаде 1936 года любимица Гитлера Лени Рифеншталь. (Кстати, когда Рифеншталь было уже за 90, она вновь стала звездой — по всему миру проходят ретроспективные просмотры, опубликованы ее обширные мемуары, в Германии сняли большой биографический фильм.)
Рифеншталь, профессиональная балерина и выдающаяся альпинистка, прекрасно понимала язык тела, поэтому в «Олимпии» ей удалось запечатлеть жизнь в предельные, экстатические мгновения. Внутренний сюжет картины — прорыв к одухотворенной телесности. У Рифеншталь зритель всегда угадывает победителя, потому что камера еще до финиша выявляет слагаемые триумфа: выигрывает тот, кто созвучен среде.
Заметнее всего такой эффект проявляется в прыжках в высоту. С этими съемками операторы долго мучились — одну из камер даже зарыли в яму с песком, куда приземлялись спортсмены. Рифеншталь показывает прыжки как левитацию. Сомнамбулические, бессознательные движения спортсменов — долговязые, как цапли, и нервные, как арабские скакуны, они подолгу раскачиваются перед прыжком, ловя невидимые нам, но ощущаемые ими колебания среды. Если атлету удается совместить свой ритм с ритмами природы, сила резонанса переносит его через планку.
Спорт у Рифеншталь — это медитация в действии.
Ее «Олимпия» близка дзэну, единственному, кажется, религиозному учению, которому удалось соединить спорт с философией.
Берлинская олимпиада проводилась в утрированно архаическом стиле. Не случайно там впервые со времен Эллады был зажжен — по предложению Гитлера — переданный по эстафете олимпийский огонь. (Сейчас этот стиль опять входит в олимпийскую моду: в 92-м на зимней Олимпиаде в норвежском Лиллехаммере символами всех видов спорта служили стилизованные наскальные рисунки.) В «Олимпии» архаика толковалась как возвращение к античной гармонии — фильм начинается с того, что греческая статуя на глазах у зрителя перевоплощается в немецкого спортсмена.
Однако идеал Рифеншталь был все-таки не классический, а доисторический. Отлученная после войны от кино, она нашла себе новых героев в Судане. Оттуда Рифеншталь привезла фотографии африканских борцов.
Дух мистического атлетизма находил себе выход и в искусстве. Об этом много писал Ортега-и-Гасет, которого как раз спортивность XX века привела к мысли разграничить жизнь на две сферы: «Труду противоположен другой тип усилия, рождающийся не по долгу, а как свободный и щедрый порыв жизненной потенции: спорт». Этой бескорыстной игре сил подчинено, утверждает Ортега, и современное искусство: «Новый стиль рассчитывает на то, чтобы его сближали с праздничностью спортивных игр и развлечений. Это родственные явления, близкие по существу».
При тоталитарных режимах мистическая «спортивность» вела в окопы, в демократических странах ее поглощало и использовало массовое искусство. Немцы играли в войну, американцы — в индейцев.
Соседство с «дикарями» своеобразно отразилось на общем строе американской культуры — больше, чем в других западных странах, она оказалась восприимчивой к архаическим влияниям. На протяжении нескольких веков индейцы служили американцам живым примером альтернативного мышления. Индейская культура оказалась если не мостом, то бродом, по которому Запад мог перебраться поближе к Азии, где то же мистическое мировосприятие хранили традиционные религии Востока.
Это стремление к евразийскому контакту ярко проявилось уже у американских трансценденталистов. Горячо увлекавшиеся Востоком Эмерсон и Торо предвосхищали ту самую смешанную «евразийскую» мультикультуралистскую философию жизни, за и против которой борется сегодняшняя Америка.
Исподволь архаические элементы так глубоко вошли в состав американской культуры, что их можно обнаружить на всех ее уровнях. Взять, например, центральную сцену всех вестернов — ковбойскую дуэль. Она всегда проходит в напряженной тишине и мучительно замедленном темпе. Это — единоборство двух воль, соперничество не в ловкости, быстроте или меткости, а в духовной силе. Тут нет решительно ничего общего с усладой[86] европейского авантюрного жанра — мушкетерской дуэлью, построенной на веселом мельтешений шпаги и языка. Ковбойский поединок намного ближе японской борьбе сумо. Главное тут, как и в вестерне, происходит еще до начала поединка, когда, как пишет мастер дзэна Сэкида Кацуки, противники «собирают все свои силы в состоянии наивысшего внимания, чтобы бросить против соперника всю свою мощь, когда она достигнет максимального уровня».[87] Кстати, в Голливуде уже собираются снимать американо-японский вестерн, описывающий приключения борца сумо на американском фронтире.[88]
Черты восточного мировоззрения легко узнать в теории подтекста Хемингуэя. Его метафорический айсберг — прямой аналог чаньской (китайский дзэн) словесности. Предлагая русскому читателю ее образцы, переводчик В. Малявин пишет: «Среди последователей чань вошли в моду отрывистые, ломаные диалоги, в которых каждое высказывание застает собеседника врасплох и требует от него непроизвольной, лишь интуицией подсказываемой точности ответа».[89] Не меньше китайских афоризмов эта формула подходит к хемингуэевскому диалогу. В «Фиесте» интуитивность речи — черта, отделяющая новое, «потерянное» поколение от предыдущего, довоенного: граф жалуется, что Брет Эшли, разговаривая с ним, не завершает фразы.
Более решительный — еще и потому что сознательный — шаг к Востоку сделал, конечно, Сэлинджер. После ряда блестящих и все более дзэновских рассказов он замолчал на два десятилетия, видимо для того, чтобы найти, как говорит чаньское изречение, «выход, лежащий за пределами речи и молчания».
Я специально ездил посмотреть на его нью-гэмпширский городок. В нем нет даже почты. Единственный муниципальный атрибут, позволяющий Кэмдену считаться городом, — пожарная охрана, которая однажды спасла от пожара дом и, как многие надеются, но никто не знает наверняка, новые рукописи Сэлинджера.
90-е годы, которые не только игрой цифр напоминают 60-е, стали временем все более решительного перехода западного общества в русло органической парадигмы. Сегодня ее ценности разделяют миллионы.[90] Однако куда важнее, что и остальные не видят в них ничего принципиально чуждого, враждебного, пугающе экзотического.
Яснее всего об этом говорит подсознание общества — Голливуд. Он стал самым могучим, хотя далеко не единственным проводником мистического мироощущения в массы. Не случайно многие голливудские звезды, такие, как Ричард Гир, Гаррисон Форд, Роберт де Ниро, Ума Турман, десятилетиями практикуют обильный богами и демонами тибетский буддизм.
Впрочем, если сверхъестественные существа населяют современное кино так же густо, как и мир первобытного человека, то это говорит о вкусах, пристрастиях и убеждениях не авторов картин, а их зрителей. Голливуд — раб толпы: по ее заказу он экранизирует старые мифы и снимет новые. Поэтому кинематографическая мистика Голливуда свидетельствует о тихих, но судьбоносных переменах, которые свершаются в нашей душе. Триллеры с оборотнями и вампирами, любовные драмы с духами и привидениями, комедии с ангелами, боевики кун-фу о спиритуалистских боевых дисциплинах Востока, «зеленые» вестерны, экологические притчи — вся эта голливудская метафизика создает фольклорный перегной, образную почву, плодородный художественный гумус, на котором прорастет не только постиндустриальная, но и постсекулярная культура XXI века.
Конь в кармане
Третий фараон XIX династии Рамзес II, прозванный египтологами Великим, правил своей страной в XIII веке до н. э. До нас дошла не только его слава, но и его тело. Но как только оно было выставлено на показ в музее, мумия, хранившаяся тридцать с лишним столетий, стала стремительно разрушаться. Ученым пришлось принимать отчаянные меры, чтобы хоть приостановить процесс разложения мумии.
Размышляя над этой наделавшей много шума историей, Жан Бодрийар приходит к выводу: всему виной наше неуважение к тайне. Именно она так долго хранила тело фараона. И именно неуважение к ней оказалось столь разрушительным для мумии.[91]
Построенная на позитивистской парадигме, цивилизация не умеет обращаться с тайнами — она путает их с загадками.
Однако сегодняшняя наука вынуждена считаться с фундаментальным различием между загадками и тайнами, ибо прогресс не только расширяет наши знания, но и яснее ограничивает их пределы.
Этот парадокс наглядно демонстрируется «открытием» хаоса. Ученые надеялись, что внедрение компьютеров позволит строить надежные математические модели всевозможных физических, социальных, экономических процессов, что, в свою очередь, даст возможность предсказывать будущее. Сотрудничество с электронным мозгом должно было упрочить каузальность нашего мира, включить в зону жесткого детерминизма все более широкие области жизни. Среди жертв этой иллюзии была и советская власть. Отказавшись от борьбы с кибернетикой, она с ее помощью тщетно пыталась решить свою центральную проблему — всеобщее планирование.
На самом деле развитие компьютеров как раз и вынулило науку осознать, сколь огромную роль в нашей жизни играют так называемые «нелинейные» системы. Внутри них прогнозирование возможно лишь на очень короткий срок, причем чем детальнее предсказание, тем больше ошибка.
Эта ограниченность не следствие несовершенства нашей науки и техники, а фундаментальное свойство природы. Просто так устроен мир, по которому нам остается передвигаться короткими перебежками, чаще оглядываясь назад, чем заглядывая вперед.
Все это больше напоминает бег на месте, чем знаменитые «большие скачки», которыми грезила индустриальная эпоха. Ее утопии строились на мифе научной организации жизни, избавлявшей от всего иррационального, случайного, непредсказуемого. Новая наука, вместо того чтобы справиться с хаосом, декларирует его неизбежность. Сегодняшняя наука учится скромности.
Получается, что прежде мы жили с нерешенными проблемами, теперь — с нерешаемыми.
Концепция принципиальной непознаваемости мира вновь обрекает нас на сосуществование с тайной. Ее вторжение не только в физику и математику, но и в политику, социологию, психологию, искусство вынуждает западную цивилизацию заново осваивать забытое умение жить в таинственном, а не просто загадочном мире. Как писал Юнг, в сознании современного человека «возникает новая установка, которая приемлет также иррациональное и непонятное — просто потому что они происходят».[92]
Возвращение тайны вновь придает нашей светской цивилизации религиозное измерение. Ведь тайна, как (вслед за мириадами других) говорил Честертон, — имя Бога.
Такое предельно широкое определение ограждает рождаюшуся культуру от всякой конфессиональной узости. Ее религиозность проявляется в готовности ввести в свой состав элемент непознаваемого — случай, абсурд, хаос.
Рецепт постиндустриального искусства — сплав явного с тайным.
Шутки ради гроссмейстеры любят играть в шахматы с «конем в кармане». По этим изуверским для дилетанта правилам игрок имеет право поставить коня на любую клетку доски. Партнеры все время держат в уме вторжение лишней фигуры, постоянно грозящей смешать планы.
«Конь в кармане» — разрушитель предопределенности, посланец случая, генератор хаоса. Как и настоящий конь, он становится символом свободной стихии.
Таким «конем в кармане» служит искусству тайна. Речь идет, конечно, о настоящей тайне, а не игрушечной, о «мистической» тайне, а не «детективной» загадке.
Тайна — это не абракадабра. Тайна — это тайна.
А искусство — это уравнение с иксом, значение которого известно, но не нам.
Выше всех искусств в Китае ценили живопись, потому что здесь художник достиг совершенства в обращении с тайной, которую даосы называли «сюй» — «пустотой».
Китайский пейзаж часто занимает лишь четверть листа.[93] Оставляя незаписанной большую, а иногда и большую часть работы, художник заменяет фрагмент, которым является любая картина, целым, которым является каждый ландшафт. Пустота возвращает нарисованный пейзаж к его источнику.
Пустота в картине — устройство, позволяющее преодолеть «квантовый» коан искусства. Чтобы изобразить непрерывную природу, мы должны ее остановить. Но китайский художник не вычленяет пейзаж из природы, а оставляет его в ней. Пустота заменяет ему раму, которая на западной картине ограничивает культуру от природы.
Художник Нисикава Сукэнобу наставлял коллег: «Когда пишут траву и деревья, рисуют ветви, густо сажают листву, но изображают только то, что мы видим, — получается не настоящее дерево или цветок, а что-то полобное узору на женском платье, и это до крайности низкопробно».[94]
На Востоке только недописанная картина может считаться законченной. Тайна недосказанности — соединительная ткань, которая позволяет искусству не противопоставлять культуру природе, а сотрудничать с ней.
При этом восточный художник помнит и о той природе, которая окружает нас, и о той, что содержится в нас. Пустота входит в его живопись, как природа в его тело.
В композиции картины пустота — либо невидимое продолжение видимого, либо его источник. В последнем случае это «дырка от бублика», та конструктивная пустота, о которой говорил Лао-цзы: «Формуя глину, делают сосуд: от пустоты его зависит его применение» (гл. 11).
Другая пустота — та, что осталась от того, что было. Китайский художник непременно скроет от зрителя часть изображенного. Пейзаж тут невозможен без скрадывающего его тумана. Художник Фу Дао, как утверждает легенда, даже растворился в изображенном им тумане.
Тайна — это вычитание, а вычитание — способ познания мира за счет его изменения, преобразования. Это не бердяевское «творчество из ничто», а творчество при помощи ничто.
Одна из самых известных дзэн-буддистских притч рассказывает о соперничестве двух садовников. Проигравший вырастил прекрасный сад; зато победитель сорвал все цветы, кроме одного стебля повилики.
Мастерство тайны — это манипуляция ограничениями. Ради углубления зрительского переживания автор ампутирует одни наши чувства, парализует другие и связывает третьи. (Говорят, лучшие любовники — слепые.)
Введение тайны в искусство переворачивает обычную логику: меньше тут больше. Мы меняем восприятие мира, не только обогащая свои ощущения, но и обедняя их.
Тайна — это шоры, которые зоркостью компенсируют ограниченность кругозора.
Тайна — это вериги, которыми искусство укрепляет свой дух и изощряет свое мастерство.
Такими «веригами лица» служат маски в японском театре Но. Они лишают актера самого важного изобразительного средства — мимики. Изъятие из театрального арсенала такого сильнодействующего орудия, как лицо актера, переводит представление с психологического на метафизический уровень. Театр, лишенный возможности создавать достоверные психологические портреты, заменяет их другими средствами — движением, звуками, декорациями.[95] Поэтому Запад, уставший от психологического реализма, увидел в театре Но долгожданную гиперболу театральности.
Окольные пути вернее ведут вглубь. Тайна не только вводит в искусство недосказанность, но и культивирует всякую неразрешимую неясность, неоднозначность, неточность.
Если загадка — это преграда перед развязкой, то тайна — ее замена.
Как это делается, лучше всех показал Беккет. Его искусство «беременного молчания» напоминает не только о китайских даосах, призывавших «забыть слова», но и о принципиальной неопределенности квантовой механики. Чем пристальнее мы вглядываемся в беккетовскую драму, тем меньше способны ухватить ее смысл. Чем больше говорят его персонажи, тем меньше мы понимаем-о чем. Тот же эффект производит проза Кафки: чем ярче и четче детали, тем более расплывчатым становится общий смысл происходящего. Искусство тут ушло так далеко вглубь, что достигло квантового порога, за которым уже нет ничего, кроме тайны.
Западные мастера абсурда, включая тайну в текст так же, как впускавший пустоту в свою картину восточный художник, не копировали природу, а соревновались с ней. Сотрудничество с тайной меняет сущность искусства — вместо того чтобы подражать жизни, оно само становится живым. Су Ши писал:
Рассуждают: картины в зерцала даны естеству. Подобное мнение недомыслием назову — Кисть Бянь Луаня живыми творила птах.[96]Восточная концепция искусства сохраняет архаический взгляд на целостную Вселенную, в которой нет деления на естественное и сверхъестественное, настоящее и ненастоящее, подлинное и вымышленное, оригинал и копию, искусство и не искусство.
Художественное произведение, как все живое, замкнуто на самом себе. Его смысл — оно само. «Идея» такого произведения та же, что у каждого из нас, — это тайна существования.
Искусственная, созданная художником вещь не отличается от любой другой. Все они, пишет Судзуки, «появляются из неизвестной пропасти таинственного, и через каждую из них мы можем заглянуть в эту пропасть».
Тайна в вещи — дыра, что позволяет глядеть в пропасть.
«Вещи с дырой» — это знаки иного языка, принципиально чуждого тому, на котором мы говорим. Наши слова складываются из букв, каждая из которых — чистая условность, лишенная всякой предметности абстрактность. Из-за слов мы путаем названия вещей с вещами, но в словах не осталось ничего от тех вещей, которые они обозначают.
Другое дело- иероглифы.
Иероглиф — это наглядный результат обобщения окружающего до символа, в котором все еще можно распознать его вещественный источник. Западная этимология кончается либо мифом, либо заимствованием. Восточная идет до предмета, породившего знак.
Иероглиф — незарастающий колодец в древность. Это машина времени, которая позволяет связаться с ее изобретателями, проникнув в их ментальность.
Став письменностью, иероглифы сохранили свою более древнюю ипостась мнемонических знаков. Они не столько заменяют предмет, сколько о нем напоминают.
Поэтому чтение стихов требует от китайцев несравненно большего, чем от нас, усердия, подготовки и мастерства. Прежде чем прочесть стихотворение, надо его перевести с письменного языка на устный. О буквальном переводе тут не может идти и речи. Каждый читатель создает свою, сугубо индивидуальную версию. Грандиозная, не идущая в сравнение с западной полисемия иероглифического письма делает текст лишь смутной тенью стихотворения. Навести его на резкость может только сам читатель.
Китайские стихи, в сущности, не поддаются тиражированию — тут ведь нет пригодного к размножению оригинала. Стихотворение как бы рождается заново в момент чтения или, точнее, в процессе переписывания.
Традиция китайского образования обязательно включала переписывание классических текстов. Такая практика сродни копированию известных полотен художниками или переписыванию нот композиторами. Бах от руки, ноту за нотой переписал почти всего Вивальди.
Фундаментальная неточность иероглифа теснее связывает слово с вещью. Он содержит ту же тайну, что и вещи, им обозначаемые, поэтому иероглиф и неисчерпаем, как они. Иероглиф ведь и сам по себе вещь — его можно повесить на стенку.
Маклюэн говорил: если речь — это остановленные мысли, то письмо — это остановленная речь. Но архаическая предметность восточной письменности не дает иероглифу окостенеть в неподвижности. Принадлежа и миру знаков, и миру вещей, он передает текучесть, изменчивость Вселенной.
Иероглиф — пример, если не ключ к постиндустриальной культуре. Чтобы научиться жить во вновь ставшем зыбким и безнадежно таинственном мире, она должна освоить его язык.
Стремление передать цельность и неисчерпаемость мира требует другого языка — того, которым пользуется сама природа.
В 80-х годах опытами такого рода прославился Ансельм Кифер, ученик основателя «зеленого» движения знаменитого немецкого художника Йозефа Бойса. Кифер соединил экологическую поэтику своего учителя с языческой мифологией своей родины. Пафос его искусства — в отрицании культуры как насилия над естественным.
Культура — искусственна, природа — органична. Культуру строят, лес — растет. Все, что производится вопреки природе, — ложно, в том числе и творчество, если оно ведет к преобразованию мира. Следуя за природой, Кифер мечтает о творчестве свободном и неизбежном, случайном и неповторимом.
Образцы такого искусства — его «книги бытия», как бы написанные самой природой. Их страницы покрыты пеплом, глиной, песком, землей. По сути, в них изображен сам мир, а не его отражение в зеркале культуры. Эти книги нельзя читать, так же как мы неспособны «прочесть» долину, гору, реку, лес.
Кифер работает не столько кистью и красками, сколько стихиями. Например, прибегает к «тактике выжженной земли»: сжигает вещи и выставляет на обозрение результат — угли, пепел, головешки. Художник тут не раб или соперник природы, а ее соавтор: объединившись, как мужчина с женщиной, они создают нечто новое и неповторимое.
Индустриальной эпохе присущ пафос тиража. Сама по себе способность к механическому копированию может быть объектом рефлексии ее культуры.
Бодрийар замечает, что архитектурная изюминка нью-йоркского Всемирного торгового центра в том, что его составляют сразу два небоскреба.[97] Они настолько неотличимы, что нельзя было решить, на крышу какого из них установить телевизионную антенну. Чтобы выйти из этого «буриданового» затруднения, пришлось один надстроить на тридцать футов. Отражаясь друг в друге, эти самые высокие, а может быть, и самые красивые здания Нью-Йорка прославляют демократический принцип серийного искусства, упраздняющего оригинал.
Постиндустриальная культура, пресытившаяся таким самоповторяющимся искусством, ищет выход из зеркального лабиринта симулякров. Эти копии без оригиналов, как компьютерный вирус, заполняют собой пространство культуры бесконтрольно размножающимися образами.
Лекарство от симулякров, заразивших собой наш мир, — живое искусство. Чтобы освободиться от их власти, на смену копиям без оригинала должны прийти оригиналы без копий.
Постиндустриальную уникальность не следует путать с музейным раритетом, который как раз легко поддается фальсификации. Скорее тут надо говорить о первобытной оригинальности, которая препятствует тиражированию естественным образом. Тот же Бодрийар рассказывает, что больше всех вещей, увиденных у белых путешественников, африканцев поразили два экземпляра одной книги — они никогда не видели совершенно одинаковых вещей.[98]
Кино, в котором вообще не существует оригинала, всегда было заворожено эффектом двойников. Отсюда тема близнецов, от которой никогда не уставал кинематограф.
Но именно потому, что кино недоступна аристократическая уникальность театрального представления, оно открыло для себя иной источник неповторимости — актера.
Об этом, объясняя, чем ему нравятся американские фильмы, пишет Ортега-и-Гасет: «Кинофильм с красивыми исполнителями можно смотреть бесконечно, не испытывая ни малейшей скуки. Неважно, что происходит, — нам нравится, как эти люди входят, уходят, передвигаются по экрану. Неважно, что они делают, — наоборот, все важно, лишь поскольку это делают они».[99]
Кинозвезда сильнее амплуа — она «съедает» и жанр и сюжет. Роль всегда вынуждена выгибаться под актера. Кино — это мозаика из лиц, каждое из которых может рассказать свою, независимую от сюжета историю, даже не открывая рта. «Я выбираю нужное мне лицо, — признавался Феллини, — потому что именно оно станет персонажем. Это все равно что взять кота на роль кота, а он вдруг станет спрашивать, что и как ему делать. Но он ведь кот!».[100]
У Феллини, собравшего в своих фильмах непревзойденную коллекцию лиц, каждый актер — живой иероглиф, полисемический символ, в котором вибрируют неисчерпаемые и потому таинственные смыслы.
Залог успеха символа — его органическая природа. Это семя смысла, которое прорастает в нашем сознании. Символы неадекватны самим себе, ибо, как все живое, они подвержены непрестанным изменениям.
Создать символ — значит обратить вещь в процесс и тем спасти ее от повторения. Размножить нельзя только то, что беспрестанно меняется, — например стареет.
Мы привыкли считать, что создающее нетленные шедевры искусство спасает от бега времени. Но стоит убрать установку на вечность, как различие между процессом и вещью становится весьма условным.
Упразднив результат, можно обратить искусство в ритуал.
В 1989 году в Нью-Йорке впервые на Западе состоялась презентация «Калачакры» — песчаной мандалы. В течение двух недель монахи в соответствии с детально разработанными правилами древнего обряда насыпали из разноцветного песка огромную буддийскую «икону», богатую не только философскими, но и красочными оттенками. Как только этот вдохновенный и кропотливый труд был завершен, мандалу смешали, а пошедший на ее изготовление песок ссыпали в Гудзон.
С западной точки зрения это равнозначно уничтожению произведения искусства, с восточной — шедевром был не результат, а процесс.
Смертное искусство вписывается в органическую парадигму- ведь умереть может только живое. Открыв свое произведение ходу времени, воздействию среды, произволу случая, художник берет в союзники жизнь. Следы изношенности — трещины, патина, ржавчина — придают вещи неповторимость. Ведь только естественное, как учил Чжуан-цзы, нельзя изменить.
Вещь, обращенная в процесс, расплывается, теряет твердость, жесткость своих контуров. Перестав быть окончательной, она «размазывается» по времени, не обретая себе в нем окончательного пристанища.
Стремительность технического прогресса сделала всякую вещь «живой», «текучей», лишив ее основательности и стабильности.
Скажем, наши персональные компьютеры так быстро устаревают, что владелец вынужден их постоянно достраивать и обновлять. Компьютер открыт в будущее. У него нет набора неизменных качеств и свойств. Мы не знаем, на что он окажется способным завтра, более того, мы даже не знаем, на что он будет похож. Поэтому мы вынуждены описывать компьютер не как вещь, а как процесс.
Достигнув постиндустриального этапа, прогресс не удаляет технологию от природы, а приближает к ней. Наша среда становится все более живой, в том числе и в прямом смысле.
Так, многие сегодня предсказывают великое будущее биоиндустрии, основанной на эксплуатации биологических ресурсов, то есть жизни напрямую. Например, американцы рассчитывают приспособить питающиеся нефтью бактерии для очищения загрязненного океана. Другие микроорганизмы японцы используют в качестве катализатора при изготовлении пластмасс. Третьи — за их внедрение была присуждена Нобелевская премия 1993 года по медицине — стали незаменимыми в диагностике.
Перспективы тут такие, что советник Смитсоновского института Томас Лавджой пишет: «В XXI веке экономическое могущество страны будет оцениваться не по запасам ее полезных ископаемых, а по богатству и разнообразию ее биологических ресурсов».[101]
Биоиндустрия не самая новая, а самая старая отрасль хозяйства, благодаря которой на свет появились хлеб и вино. Эта технология учит нас обходиться с природой как раньше: не покорять и даже не подражать, а сотрудничать с ней.
Мы не знаем, что такое жизнь. Мы не умеем ее изготовлять, но это вовсе не мешает нам пользоваться живым, не понимая его устройства.
Научная парадигма приучила нас к машинам, принципы работы которых ей известны. Но до того как человек построил машину, он уже умел пользоваться тем, чье таинственное устройство он не понимал, — например, кошкой.
Искусство настоящего времени
Один режиссер говорил мне, что берется экранизировать любое китайское стихотворение. В это легко поверить. Дело в том, что восточному поэту показалось бы бессмысленным обычное для его западных коллег описание чувств. Вместо эпитетов, которые прилагаются к тому или иному эмоциональному состоянию, китайский поэт изобразит обстоятельства, вызывающие это чувство.
Китайское стихотворение написано не звуками (иероглифы можно читать на разных языках) и не словами, а обстоятельствами места и времени, эмоциональными «натюрмортами», составленными из предметов, которые можно услышать и увидеть. Композицию такого стихотворения образует своего рода монтажная рифма перекликающихся образов.
Вот шедевр танского поэта Ван Вэя (701–761) «Осеннее»:
Стоит на террасе. Холодный ветер Платье колышет едва. Стражу вновь возвестил барабан. Водяные каплют часы. Небесную Реку луна перешла, Свет — словно россыпь росы. Сороки в осенних деревьях шуршат, Ливнем летит листва.[102]Стихотворение построено на цепочке внутренних «водяных» рифм. С водой последовательно сравниваются время — капли водяных часов, звезды Млечного Пути «Небесная Река», свет — «россыпь росы» и, наконец, листья — «ливнем летит листва».
Так в стихотворении совершается, если употребить формулу из учебников моего детства, «круговорот воды в природе». Водная стихия — то настоящая, то метафорическая, то одинокими каплями, то целой рекой — омывает изображенную им картину, замыкая и растворяя ее в себе. В поэзии Ван Вэя общий, взаимопроникающий ассоциативный ряд — манифестация единства природы с человеком. Он вписывает духовный микрокосм своей тоскующей героини в физический макрокосм мироздания.
Если бы речь шла о Тургеневе, мы бы сказали: пейзаж соответствует эмоциональному состоянию персонажа, «сопереживает» ему. Но на Востоке человек и есть природа — она грустит в нем, а не с ним. Тут нет человека вне природы, нет и природы вне человека. Су Ши пишет:
Вслед за мной облака Устремятся на северо-запад. Освещая меня, Луч луны никогда не умрет.[103]В старом Китае мир засыпал и просыпался вместе с людьми. Тот же Су Ши:
Вот ударили в гонги — И день начинается снова. И поплыл, просыпаясь, Над горой караван облаков.[104]Метафорически рифмующийся монтаж, причем часто с теми же «водяными» образами, постоянно применял в своих фильмах Андрей Тарковский. Вода — то речная, то дождевая, то замерзшая — появляется у него всякий раз, когда режиссер изображает то, чего нельзя увидеть, и то, что нельзя сказать.
Этот «восточный» прием характерен не только для часто цитировавшего хокку и Лао-цзы Тарковского. В кино все невидимое и немое говорит на языке природы, на языке стихий. Поэтому китайское искусство, изъясняющееся не словами, а предметами и пейзажами, принципиально близко кинематографу, наиболее синкретическому и в этом смысле наиболее архаическому виду искусства.
Кино работает с довербальной, не опосредованной языком реальностью. Кино строится не из «универсальных атомов», таких, как буквы нашего языка, а из готовых, причем не нами созданных объектов. Кино — утилизация вторсырья: оно имеет дело с материалом, уже бывшим в употреблении, — с вещами, пейзажами, людьми.
Эйзенштейн писал, что кино «заставляет участвовать в действии самую реальную действительность. « У нас запляшут лес и горы» — уже не просто забавная строчка из крыловской басни, но строка из « роли» пейзажа, обладающего такой же партией в фильме, как все остальные».[105]
Кино не столько преобразует природу (в культуру), сколько организует ее с целью сконструировать в сознании зрителя то или иное переживание. Кино не описывает чувства, а вызывает их.
Это же можно сказать и о восточном искусстве, где всякое художественное произведение — эмоциональная икебана, чувственный иероглиф, импрессионистская криптограмма. Это — зашифрованная инструкция к переживанию того невербального опыта, который позволяет зрителю и читателю преодолеть расстояние, время и культурные барьеры, чтобы вступить в мгновенный контакт с художником и поэтом.
Неизбывная «предметность» кино — врожденное свойство и восточной культуры, которой чужда абстрактность.
Еще в начале XX века китайские паркетчики, незнакомые с концепцией масштаба, высчитывали количество потребного материала, склеивая бумажные листы в размер пола, который им предстояло настелить.
Китайские географические карты не только отвлеченные схемы местности, но и попытка передать ее реальные черты — с горами, водами, домами и деревьями. Такие увлекательные карты напоминают те, что раньше сопровождали приключенческие романы.
Феноменально консервативная китайская культура донесла до нас ту конкретность мышления, которую Леви-Строс считал как основным качеством, так и основным отличием первобытного разума от современного.[106]
Аборигенам трудно дается наша арифметика. Они не понимают, как можно получить общую сумму, складывая деревья с людьми.
В эскимосском языке есть сорок семь терминов, обозначающих разные состояния снега, но нет общего слова для «снега» как такового. Такую же первобытную конкретность восприятия будит в зрителе кинематограф — тут ведь тоже не может быть «снега вообще».
Кино возвращает возникающим в недрах языка умозрительным символам их первоначальную предметность.
Торжество кинематографа, ставшего ведущим искусством нашего времени, привело нас, как утверждал Маклюэн, на 3000 лет назад, в довербальный мир визуально-акустических метафор.[107]
Войдя во всеобщий и повседневный обиход, кино стало устройством для массового перевода нашей культуры на архаический язык. С изобретения кино началась архаизация искусства.
Сегодня процесс этот зашел уже так далеко, что сумел повлиять на самую фундаментальную пропорцию нашей культуры — соотношение личности и общества в ней.
Западная цивилизация привыкла считать личность своей квинтэссенцией и итогом. Искусство — плод труда великих одиночек. Романтическая концепция оставляла художника наедине с вечностью. Зритель тут, в сущности, посторонний, незваный гость.
Однако героический индивидуализм западной культуры не смог выжить в XX веке — он так и не сумел оправиться от шока Первой мировой войны. В неразборчивую эпоху тотальной мобилизации и оружия массового уничтожения личность утратила свой прежний смысл и статус. В окопах Вердена родилось сознание массового общества и погиб культ романтического художника.
Закат индивидуальности острее всего чувствуют сами художники. Так, король поп-арта Энди Уорхол, уподобляя себя машине, демонстративно назвал свою студию «фабрикой». Сегодня художник уже не хозяин, а слуга механически размножающихся и постоянно сменяющих друг друга образов. Стремительный и могучий поток имиджей топит любую индивидуальность, не давая ей проявить своеобразие и оригинальность.
Художник — медиум культуры, которой, в сущности, все равно, через кого вещать. Все тут в равном положении, поэтому Уорхол и обещал каждому свои пятнадцать минут славы.
Такая слава напоминает аттракцион уличных фотографов — фанерное чучело с дыркой для головы. В массовом обществе слишком тесно от звезд, чтобы осталось место для гениев.
Ностальгия по прекрасному XIX веку, который Черчилль называл вершиной всей западной цивилизации, мешает нам примириться с исчезновением Художника. Между тем они нужны далеко не всякой культуре. Большую часть своей истории человечество обходилось искусством, у которого автора не было вовсе.
Мы не знаем имен древних мастеров, потому что за них творила традиция.
У массового искусства нет авторов, потому что за них творит культура.
Сравнительно ненадолго выйдя из анонимности, искусство вновь ныряет в нее. Герман Гессе считал, что будущее возрождение духа, которое должно положить конец нашей «фельетонной» эпохе, начнется как раз с такого — бескорыстного и безымянного — искусства.
XX век изменил соотношение между художником и культурой в пользу последней. Искусство возвращается туда, откуда вышло — в культуру.
В Нью-Йорке тысячи китайских ресторанов, но ни одной школы китайских поваров. Каждый китаец умеет готовить. Вернее, за него готовит культура, в данном случае многовековая утонченная, разветвленная и кодифицированная китайская кулинарная традиция, которая, как, скажем, китайский язык, является общим достоянием всех, кто им владеет.
Традиция может быть талантливее человека, поэтому она не нуждается в гениях, чтобы создавать прекрасное.
В Киото я оставил в гостинице несколько апельсинов, из которых горничная, убиравшая номер, составила столь изысканную композицию, что мы их не решились съесть.
Искусство культуры отличает от искусства личности отношение ко времени. У культуры его несравненно больше, поэтому готические соборы строились многими поколениями.
Мироощущение средневековых зодчих, твердо знавших, что они не доживут до окончания строительства, становится близким и нам. Только причина тут не долговечность, а, напротив, мимолетность нашей архитектуры.
Древнеримский закон требовал, чтобы любой акведук был рассчитан на двести лет эксплуатации. Любая из современных построек устареет задолго до этого срока. Мир слишком быстро меняется для той величавой монументальности, которую тщетно пытались имитировать все тоталитарные режимы.
Люди, веками возводившие соборы, всегда жили рядом со стройкой. Мы живем рядом с пере-стройкой. Но нам, как и им, доступна лишь та часть обшей картины, которая укладывается в краткий промежуток человеческой жизни.
Сознание несоизмеримости культуры с личностью не только подавляет, но и снимает с нас бремя собственной значительности. Свобода от обязательств перед вечностью раскрепощает дух.
Личность перестает быть основанием нашей цивилизации, во всяком случае ее незыблемым основанием. Чтобы обрести утраченное онтологическое равновесие, мы должны приспособить свое «я» к тому парадоксальному миру, который постоянно меняется, стоя на месте. Тут немудрено заболеть морской болезнью.
Несколько веков прогресса привили нам вкус к предсказуемости своей судьбы, к стабильности как основанию достойной жизни.
О таком «золотом веке надежности» с горечью вспоминает Стефан Цвейг: «Чувство надежности было наиболее желанным достоянием миллионов, всеобщим жизненным идеалом. Тот, кто мог спокойно смотреть в будущее, с легким сердцем наслаждался настоящим. XIX столетие в своем либеральном идеализме было искренне убеждено, что находится на прямом и верном пути к « лучшему из миров».[108]
Но всего несколько лет спустя Запад открыл для себя совершенно иное измерение жизни. Его описывает знаменитая метафорическая формула Мандельштама: « …европейцы выброшены из своих биографий, как шары из бильярдных луз».[109]
Чтобы выжить в постоянно меняющемся мире, нужно приспособиться к переменам. Причем это не те осмысленные перемены, что вели нас к цели по дороге прогресса. Эти перемены никуда не ведут, они как рябь в океане судьбы. В бурлящем мире современности нет ничего неподвижного, нам приходится вести стрельбу по движущейся мишени.
На радиофакультете Киевского университета, который закончил мой отец, не преподавали тех технических дисциплин, которым он посвятил свою жизнь. Филологический факультет Латвийского университета, который закончил я, перестал существовать вместе с государством, в котором он находился. Чему будут учить в университете, куда поступает мой сын, уже совсем неважно, потому что ему, по предсказаниям социологов, предстоит раз в семь лет переучиваться заново.
Век перемен сместил нашу линейную метафизическую ориентацию — мы попали в броуновское движение вне-исторического существования. В густом, непрозрачном « супе», где слиплись причины со следствиями, старая концепция личности перестает работать. Тут нужна не сильная индивидуальность, умевшая приспосабливать под себя окружающий мир, а мягкая протеичная личность, умеющая к нему приспосабливаться.
Твердое слишком хрупко — оно легко ломается, если его сгибать слишком часто. Не камень, а вода. Не мол, а пробка. Волны ведь можно резать, а можно на них качаться.
Такую « текучую» личность Запад может найти опять-таки на Востоке, где к нашему « я» относились с большим смирением или трезвостью.
Даосский афоризм из книги « Гуань инь-цзы» гласит: « Мои мысли меняются с каждым днем, движет же ими не мое « я», а судьба».[110]
Восточная мудрость учит сочетать череду « я» с вечными переменами Вселенной. Твердая, неподвижная, принципиальная личность не попадает в ногу с миром, но, научившись меняться в одном ритме с его колебаниями, мы вовсе перестаем замечать движения.
Опять « Гуань инь-цзы»: « Ногти отрастают, волосы становятся длиннее. Естественный рост вещей нельзя остановить ни на миг. Мудрый доверяет переменам, чтобы пребывать в неизменном».[111]
Обнаружив противоречивость, изменчивость и непостоянство собственного « я», мы не только растеряны, но и захвачены открытием.
Усложнение окружающей жизни усложняет и нашу концепцию личности. Интуитивно ощущая, что в меняющемся мире постоянство из добродетели стало обузой, мы приветствуем все, что дестабилизирует и расщепляет наше « я». Любой — а в случае наркотиков и огромной — ценой мы пытаемся выйти за пределы себя.
Если в гордом XIX веке главным считалось стать самим собой, то сегодня важнее умение быть другим. Поэтому мы осваиваем искусство конструирования (лучше сказать — выращивания) альтернативных, игровых личностей.
В 1994 году « Нью-Йорк таймс мэгэзин» устроил на своих страницах диспут между лучшими дизайнерами мира о тенденциях современной моды.[112] Но затея не удалась, так как выяснилось, что им не о чем спорить: сегодня всё в моде. Мода стала всеобъемлющей, а значит, в нее нельзя не попасть. В ней ценится не стиль, а эклектика, не вкус, а беспринципность, не самовыражение, а утонченный обман. Вместо того чтобы маскировать наши недостатки, подчеркивать достоинства и выражать дух эпохи, мода учится расщеплять индивидуальность, создавая фантомные личности.
Мы хотим быть разными, отличаясь не только друг от друга, но и от самих себя. Задевая все более интимные части нашего « я», мода становится по-настояшему тотальной. Она меняет не только одежду или прическу, но весь наш облик. (Пока я это писал, открыли ген, определяющий цвет волос. Так что скоро начнут продавать препарат, позволяющий не красить, а выращивать волосы любой, самой причудливой расцветки.)
В сегодняшней моде множество первобытных черт. Не зря « городскими индейцами» назвали панков, открывших самую радикальную страницу в истории моды. Это и переживающее на Западе бурное возрождение искусство татуировки, и продетые сквозь кожу « колечки» и « серьги», и сложные волосяные узоры, выстриженные на полувыбритых головах.
Впрочем, и вне эпатажа остается простор для всевозможных экспериментов с телом. Утратив постоянство форм, оно стало восприниматься изменчивым. Тело — не судьба, а первичное сырье, нуждающееся в обработке. Мы чувствуем ответственность за то, как распоряжаемся своей внешностью.
Сегодня каждый второй американец пытается похудеть и чувствует свою вину, когда ему это не удается. Пациенты, прошедшие через мучительную хирургическую операцию по удалению жира, говорят, что в Америке лучше быть слепым, чем толстым.
Наиболее эффектная форма самоэволюции — культуризм, который точнее описывает американский термин body-building. Критик и искусствовед Камилла Палья с восхищением пишет о культуристах как о « новых рыцарях, давших обет отрастить себе латы из мышц».[113] В этом постоянно набирающем силу движении есть и чисто эстетический аспект — культуристы сознательно делают из себя копию знаменитых статуй.
Телесной изменчивости соответствует и протеичность психическая. Сегодня можно строить себе не только другое тело, но и другую душу. Компьютерные цепи Интернета, позволяющие миллионам людей общаться, не видя, не слыша и не зная друг друга, открыли путь к созданию вымышленных электронныхличностей. Эти кибернетические фантомы позволяют нам дурачить не только других, но и себя, примеряя разные личности, как платье.
Когда всевозможные разновидности телесного творчества « body-art» соединятся с электронным психическим протезированием, на свет появится « self-art» — « искусство себя». Вместо того чтобы потреблять чужое искусство, мы станем производить его сами и из себя.
В постиндустриальном искусстве толпа берет реванш над поэтом, растворяя его личность среди мириадов соавторов.
« Караоке» — так называется родившаяся в Японии забава, которая позволяет посетителям ресторана петь вместе с рок-звездами, то есть вторить с эстрады записям их песен. Этот незатейливый вид самодеятельности уже покорил и американские бары, где « караоке» стало популярнее стриптиза.
Современное искусство стремится к сотворчеству. Всеми силами оно пытается втянуть нас в свою орбиту. Компьютеры, предусматривающие « интерактивные» развлечения, грозят выжить самый популярный вид досуга — телевидение. Новые театры, выставки, книги, телепередачи навязывают нам все более активную роль.
Аудитория теперь должна не сочувствовать, а соучаствовать. Художник, соблазняющий нас тем, что зовет в соавторы, больше не певец, он — запевала. Его искусство сводится к провокации нашего воображения, к организации не своего, а нашего художественного творчества.
Современное искусство перестает им быть. Оно уходит в фольклор, возвращая нас к первобытной эстетике, которая не знала разделения на автора и исполнителей. На танцы не смотрят — танцы танцуют.
« Литургическое», всех объединяющее искусство становится ритуалом.
Такая метаморфоза созвучна духу настоящего времени: ритуал сворачивает линейное время в кольцо, лишая его будущего.
Заменяя неизвестное известным, позитивизм укрощал случай детерминизмом. Ритуал не укрощает, а приручает случаи, заменяя неизвестное привычным. Проще всего предсказать, что вы будете делать в новогоднюю полночь.
Ритуал умеет повторять, не повторяясь. Рождество может надоесть только Скруджу. Про Моцарта нельзя сказать, что мы его уже слышали. И борщ всегда одинаковый и всегда разный.
Замкнутая в настоящем времени жизнь ходит по кругу — она не развивается, а углубляется. А ритуал, преображая будни в праздники, следит за тем, чтобы повторяемость не вырождалась в монотонность.
На этом построена не только культура постиндустриального общества, но и его экономика. Благодаря рекламной экспансии, мы постоянно живем накануне праздника.
Даже на моих глазах американская торговля за два десятилетия существенно усугубила сезонность нашей жизни. Между Хэллоуином, Днем благодарения и Рождеством уже не осталось коммерческих промежутков. Предпраздничные торговые кампании дышат друг другу в затылок, так что календарь распродаж уподобился змее, кусающей себя за хвост.
Но сам ритуал бескорыстен, ибо самодостаточен. Его цель — он сам. У него нет итога, нет результата, нет того материального остатка, который служит искусству оправданием перед вечностью. Не поддаваясь ни сохранению, ни имитации, ритуал живет только до тех пор, пока он живой.
Ритуал предельно конкретен, ибо происходит « здесь и сейчас», и нематериален, ибо существует только в сознании тех, кто его отправляет. Искусство, бывшее или ставшее ритуалом, не оставляет следов.
В книге « Миф машины» Луис Мамфорд пишет, что мы несправедливо оцениваем достижения первобытных народов, потому что умеем судить о них лишь по материальным достижениям их цивилизации — руинам примитивных сооружений или остаткам утвари и орудий труда. Между тем главные успехи архаической культуры слишком эфемерны, чтобы сохраниться. Это песни, пляски, религиозные церемонии, бытовые обряды.[114]
« Живые» виды архаического искусства нельзя пересказать. Записанные на бумагу или пленку, они так же похожи на оригинал, как рентгеновский снимок на человека.
Ритуалы вообще не поддаются объективному изучению. По-настоящему они существуют лишь для тех, кто в них участвует. Чтобы оценить их незаменимую важность, судить о них необходимо изнутри.
Всем, кто пережил СССР, история дала шанс оценить горечь ритуала, ставшего « немым».
Перебирая в памяти достижения советской цивилизации, мы всё с большим трудом находим то, чем будут гордиться наследники. Слова ее кажутся незрелыми, образы — наивными, сооружения — шаткими. Все обаяние советской культуры — а без него не обходятся и самые темные эпохи — сосредоточилось в наших ритуалах.
Общественная энергия, лишенная выхода вовне, создала внутренний, независимый от государства образ жизни с прочными традициями и строгими табу, с иерархией и этикетом, с легендам и и мифами, с ритуалами и обрядами.
Одних эта — неофициальная — культура дарила счастьем, другим — помогала выжить, третьим — сохранить достоинство, у четвертых, пришедших со стороны, она вызывала зависть, у пятых — ностальгию. Но главное в том, что, когда эта богатейшая и разветвленная культура окончательно умрет, она сохранится лишь в памяти последнего советского поколения.
Как живое существо, ритуал не только умирает, но и рождается. Повивальной бабкой ему служит художник. Он своего рода церемониймейстер, изобретающий, точнее, зачинающий ритуалы.
Их судьбу — чахнуть им или расти — определяет уже не художник, а мы. Сегодняшний художник в отличие от вчерашнего создает не « картины», а « рамы» для творчества толпы.
Устройством таких ритуальных рам занимается один из самых чутких к духу настоящего времени художников — английский режиссер Питер Гринуэй. Сейчас поэтапно осуществляется его грандиозный, рассчитанный на десятилетие проект. Гринуэй составил маршрут особых экскурсий по Риму, Токио, Москве и другим столицам. В каждом городе он намерен обстроить колоннами, лестницами и пирамидами ряд точек-ракурсов, с которых открывается фиксированный вид на окрестности. По этому маршруту в определенной временной и пространственной последовательности должны передвигаться участники ритуального шествия. Объяснить значение всего этого странного действа Гринуэй отказывается, и правильно делает.
У ритуала нет смысла, но есть цель. В данном случае это реставрация древней практики паломничеств, попытка сакрализовать туризм.
Если цель туризма — новые впечатления, то цель паломничества — новые переживания.
Вместо беглого и хаотического осмотра достопримечательностей наши впечатления организуются и структурируются определенным, заданным традицией образом.
В сущности, ту же цель преследует « отрицательное зодчество» национальных парков, этой экологической версии « священных рощ». Роль художника-архитектора тут сводится к организации и охране незагрязненного проводами и дымовыми трубами оптического пространства. В Америке такие парки, которые посещают по триста миллионов в год, стали огромными, захватывающими по нескольку штатов рамами для первозданной природы.
Для научной парадигмы мир всюду одинаков, для органической — нет. Она возвращается к архаической концепции пространства, умеющей структурировать мир, выделяя и сохраняя в нем сакральные зоны. Поэтому превращение туризма в паломничество восстанавливает неоднородность, зернистость пространства.
Попятный путь от туризма к паломничеству идет через искусство. Художник тут становится « устроителем шествия», организатором зрительских эмоций. Череда видов, разделенных медитативными паузами, должна срастаться в « туристскую симфонию».
В создании такого тотального произведения участвуют как культура, так и природа, как прошлое, так и настоящее, как чужой умысел, так и свой душевный настрой. И исполняется такая « симфония» прямо в душе путешественника.
Такое искусство пишет не красками, а нашими эмоциями, не на холсте, а на нашем восприятии. Не оставляя внешних следов, оно хранится в нашей памяти. Нет у него и настоящего автора — только соавторы, в которые может попасть каждый, кто захочет.
Ритуализация туризма — хороший пример нового искусства, потому что от старого в нем почти ничего не осталось. Зато тут представлены главные черты бесписьменного, невербального, тотального, синкретического, ритуального, мистического, литургического и, конечно, массового, рассчитанного на миллионы, искусства настоящего времени.
На противоположном конце постиндустриального спектра расположено сугубо личное, предельно индивидуальное искусство, рассчитанное уже не на миллионы, а на миллиарды, точнее на всех. Это искусство сновидения.
Сны, конечно, снились всегда и всем, но разные культуры по-разному с ними обращались.
Научная парадигма относится ко сну либо безразлично, либо прагматично.
В первом случае она его игнорирует как « бессвязную комбинацию дневных впечатлении» (этому меня учили в школе). Во втором — пытается употребить в дело как источник информации о состоянии нашей психики.
Тут сон рассматривается как полуфабрикат сознания, нуждающийся в дальнейшей обработке. В процессе ее вместо сна нам достается его описание. Выраженное словами сновидение становится литературным произведением или историей болезни.
Анализируя пересказы снов, Лотман пишет, что, чем рациональнее язык, на который переводится сон, тем иррациональнее нам кажется его содержание. Между тем « повествовательные тексты, какие мы находим в современном кинематографе, заимствуя многое у логики сна, раскрывают нам его не как « бессознательное», а в качестве весьма существенной формы другого сознания».[115]
Но всякий диалог с другим сознанием сохраняет свой смысл только до тех пор, пока это сознание остается другим.
Сон — единственное доступное абсолютно всем переживание иной, альтернативной действительности. С дневной точки зрения это неразлепленный, первородный хаос образов, свернутая реальность, существующая вне наших категорий пространства, времени, причинности. Однако, пока мы спим, сновидческая вселенная кажется нам не более странной, чем мир яви, когда мы бодрствуем.
Сон — пример, если не источник любой метафизической модели. Он позволяет нам двойную жизнь — более того, обрекает нас на жизнь сразу в двух мирах, которые ведут в нас свой беспрестанный немой диалог.
Шопенгауэр, сочувственно цитируя Веды, пишет, что сон, как Майя, покрывало обмана у индусов, « о котором нельзя сказать ни что оно существует, ни что оно не существует».[116]
Впрочем, о сне вообще ничего нельзя сказать, ибо этот невербальный опыт так же бесполезно выражать словами, как, например, утреннюю зарядку. Словами мы можем лишь передать порядок движений, методику упражнения, но не его содержание — рожденному безногим не объяснишь, что значит « приседание».
Сон нельзя пересказать, но это еще не делает его бесполезным. Если считать сон не полуфабрикатом, а готовым к употреблению продуктом, то его можно использовать так, как он есть, — непереведенным, неразгаданным и непонятым.
Обычно сны выполняют в искусстве практическую роль — они предсказывают развитие сюжета. Автор такого литературного сна играет по отношению к своему герою роль всезнающего Бога или Судьбы. Такой сон — художественный аналог пророческих сновидений, в которых содержится зашифрованная от непосвященных информация. Литературные сны — загадка, разгадка которой в руках автора.
Но кино позволило не пересказывать сны, а воплощать их на экране. Кинематограф ведь тоже имеет дело со свернутой реальностью. Прошлое и будущее тут, как во сне, соединяются в настоящее время непосредственного зрительского восприятия. Кино, по выражению Маклюэна, « разрушило стены, разделяющие сон и явь».
После смерти Феллини в Риме был выставлен дневник его снов, который он вел с начала 60-х годов. Многие из них вошли в его фильмы.
Обретая призрачную кинематографическую плоть, сны — не только Феллини, но и Бергмана, Тарковского, Куросавы — остаются самими собой. Это не загадки, а тайны, у которых разгадки нет вовсе. Литературный сон — аллегория, кинематографический — символ.
Такими нерасшифрованными символами часто разговаривает сегодняшнее искусство. Так, рок-канал американского музыкального телевидения MTV уже пытался скупать сны своих зрителей, чтобы снимать по ним видеоклипы.
Коммерциализация снов показывает, что постиндустриальная цивилизация обнаружила новый — « потусторонний» — вид ресурсов.
Впрочем, сны могут быть не сырьем для искусства, но и самим искусством.
В одном рассказе Гессе писателю приснился прекрасный сон. Он пытается передать его на бумаге, но понимает, что его литературный дар не идет в сравнение со сновидением. Он не в силах конкурировать с ним, то есть с самим собой, но находящимся во сне. И тут его осеняет мысль: « Разве не чудо, что можно увидеть в душе подобное и носить в себе целый мир, сотканный из легчайшего волшебного вещества?!». Поняв это, он « отказался от своих замыслов и попыток, осознав, что должен довольствоваться малым: в душе быть истинным поэтом, сновидцем».[117] Так, отдавая приоритет сну перед текстом, Гессе демократизирует искусство, отбирая его у художника, чтобы отдать всем.
Сны надо не пересказывать, не толковать и даже не экранизировать, а смотреть. Снами вовсе не обязательно делиться — это искусство из себя и для себя.
Успех в этом всем доступном искусстве зависит не столько от таланта, сколько от адекватности культурной среды.
В древности сны играли несравненно более важную роль, чем теперь. « Библией дикаря» называл их Леви-Брюль.[118] Борхес считал сны « наиболее древним видом эстетической деятельности».[119] В « Рождении трагедии» Ницше предполагает в снах древних греков « смену сцен, совершенство коих дало бы нам, конечно, право назвать грезящего грека Гомером».[120]
За этими метафорами и поэтическими догадками стоит вполне реальная практика. Все традиционные общества создавали особые благоприятные условия для сновидений. С их точки зрения, мы бездарно и безрассудно транжирим свои ночи, пренебрегая той детально разработанной « экологией сна», которую тысячелетиями развивали и поддерживали архаические культуры.
В Древней Греции больные в поисках исцеления проводили ночи в таинственных храмах Асклепия, необычная атмосфера которых способствовала ярким снам.
В тибетском буддизме к снам относятся как к « ночной работе», исполнять которую помогает особая « сновидческая йога».
Индейским племенам, живущим на Севере-Востоке США, известно особое устройство — dreamcatcher (« сноловка») — обруч с перьями, забранный паутиной из кожаных шнуров. Паутина нужна, чтобы хорошие сны, запутавшись в ней, снились опять, перья же служат своего рода громоотводом для кошмаров. Без такой « ловушки для снов» до сих пор не обходится не один индейский дом. Такую сноловку и я купил на пенсильванском « pow-wow» (индейском фестивале) и повесил, как положено, у кровати.
На Западе отношение к снам, как и все остальное, стало меняться в 60-х, когда начала формироваться переживающая сейчас бурный расцвет наука о снах — онейрология. В 80-х в Америке возникли первые крупные центры по изучению снов, в которых идет и работа по практическому освоению сновидческой техники.
Так, с 1988 года в Станфорде работает Институт люсидных снов, который основал психолог Стивен Лаберж. Сочетая новейшие нейрофизиологические исследования с психическими упражнениями тибетской йоги сна, здесь разрабатывают методику управляемых снов.[121]
Эти опыты вызывают огромный интерес, что и понятно. Люсидные сны — редкое, ни с чем не сравнимое, но трудноописуемое переживание. Во время такого сновидения вы становитесь хозяином ситуации — властелином вымышленного вами мира. Явь и сон сливаются в некую гибридную реальность. При этом люсидный сон позволяет пережить то, к чему всегда стремится искусство — ощутить себя как другого. Для этого нужно проснуться во сне — понять, что спишь, и, не выходя из этого состояния, взять контроль над ситуацией на себя. Тут уже можно делать что угодно — летать, превращаться в зверей, навещать покойников. Вы понимаете, что дело происходит во сне, но это не мешает реализму переживаний.
Все это звучит невероятно, однако многие, особенно в детстве, переживали состояние люсидности. Вопрос в том, как научиться входить в него по вашему желанию и оставаться в нем достаточно долго, чтобы насладиться открывающимися возможностями.
Люсидному сну можно научиться. Я, например, посещал занятия нью-йоркского психолога Майкла Каца, который в соавторстве с буддийским монахом (нередкое в сегодняшней Америке сочетание) выпустил книгу практических рекомендаций по искусству сновидений.[122] После нескольких месяцев самостоятельных упражнений мне удалось достичь люсидности. В первый раз это случилось, когда мне приснился бокал с пришедшим из блоковского стиха « золотым как небо аи». Тут я понял, что сплю, но усилием воли сумел во сне превратить плескавшееся в стакане вино в лягушку — и тут же проснулся от радостного удивления.
Так на собственном опыте я убедился, что управлять снами возможно, но очень трудно. Это требует долгой тренировки, психической дисциплины и удачи. Но тут на помощь может прийти современная техника. В Гарварде, например, группа крупнейшего в США исследователя физиологии сна Аллана Хобсона соорудила простое устройство — « nightcap» (« ночной колпак»). Следя затем, как двигаются глаза спящего под веками, оно позволяет определить, когда человеку снится сон. Если в этот момент начнет действовать раздражитель точно отмеренной — чтобы не разбудить — интенсивности, скажем вспышка света, то можно войти в состояние люсидности.
Даже этот грубый прибор помогает каждому пятому. Так что развитие онейрологии может привести к тому, что простые, дешевые и надежные аппараты управляемых снов сделают их доступными всем. И тогда начнется эра подлинного сновидческого искусства, для которого у нас еще нет названия.
На первый взгляд такое техническое решение отдает аттракционом. Однако это тот путь, по которому всегда шла западная цивилизация. Артур Уайли, один из первых популяризаторов дзэн-буддизма, писал: « Маловероятно, чтобы на Западе удовлетворились традиционными восточными методами самогипноза. Если некоторые состояния сознания являются действительно более ценными, нежели те, к которым мы привыкли в обыденной жизни, тогда мы должны добиваться их любыми средствами, какие сумеем изобрести».[123]
По пути в постиндустриальную культуру с искусством происходят судьбоносные метаморфозы. Главные из них — это переориентация:
— с произведения на процесс,
— с автора на читателя,
— с искусства на ритуал,
— с личности на культуру,
— с вечного на настоящее,
— с шедевра на среду.
Наука и техника помогут совершаться этому перевороту. Ведь прогресс отвечает только на те вопросы, которые ему задает культура. Если старая парадигма довела до совершенства искусство обращения с объектом, то парадигма органическая фокусирует свое внимание на искусстве субъекта — на том искусстве, которое будет твориться в нас, нами и из нас.
Вавилонская башня
На всей земле был один язык и одно наречие. Двинувшись с Востока, они нашли в земле Сен-наар равнину и поселились там. И сказали друг другу: наделаем кирпичей и обожжем огнем. И стали у них кирпичи вместо камней, а земляная смола вместо извести. И сказали они: построим себе город и башню, высотою до небес; и сделаем себе имя, прежде нежели рассеемся по лицу всей земли. И сошел Господь посмотреть город и башню, которые строили сыны человеческие. И сказал Господь: вот, один народ, и один у всех язык; и вот, что начали они делать, и не отстанут они от того, что задумали делать. Сойдем же, и смешаем там язык их, так чтобы один не понимал речь другого. И рассеял их Господь оттуда по всей земле; и они перестали строить город. Посему дано ему имя: Вавилон; ибо там смешал Господь язык всей земли, и оттуда рассеял их Господь по всей земле:
Бытие, 11, 1-9В этих девяти стихах содержится все, что сказано в Библии о Вавилонской башне. Но это далеко не все, что мы о ней знаем.
Сказание о Вавилонской башне возникло не позднее начала II тысячелетия до н. э., то есть почти за тысячу лет до библейского текста. Это предание было известно многим народам, прежде всего самим вавилонянам. Об этом свидетельствует греческий писатель Полигистор, черпавший сведения из туземных источников. В Британском музее хранятся вавилонские плиты с остатками клинописи, позволяющей воспроизвести общий смысл текста. В нем говорится, что в Вавилоне было начато построение какой-то твердыни, но Бог в гневе своем порешил навести на них страх, сделал странным их язык и тем затруднил дальнейший успех дела.
Самый интересный и самый фантастический аспект этого предания — лингвистический — получил неожиданную поддержку у сегодняшней науки. Анализ ДНК у представителей разных этнических групп делает вполне реальным предположение о том, что люди произошли из одной генетически родственной группы. Отсюда следует, что все современные языки могут восходить к тому, на котором говорили внутри этого небольшого сообщества.
Воодушевленные этим открытием лингвисты с новой силой продолжают попытки реконструировать предшествующий всем другим праязык. Если он действительно существовал, то это и есть тот язык, на котором говорили ДО вавилонского столпотворения.
Вавилонской башней Библия называет зиккурат — монументальную ступенчатую пирамиду из тех, которые сооружались в Шумерии, Вавилонии и Ассирии между 2700 и 500 годами до н. э. Останки двадцати пяти этих знаменитых культовых сооружений Двуречья дошли до наших дней.
Прямым прообразом библейской башни был, по всей вероятности, вавилонский зиккурат, расположенный на восточном берегу Евфрата, в месте, которое до сих пор называется по-арабски Бирс-Нимруд, то есть Башня Нимрода. Этому могущественному, вавилонскому царю, внуку Хама, традиция приписывает сооружение башни.
Полтора тысячелетия спустя в нововавилонском царстве Навуходоносора этот зиккурат был заново отстроен. Он производил грандиозное впечатление на греков, в том числе и на описавшего его Геродота, который посетил Вавилон в 458 году до н. э. Александр Македонский пожелал восстановить башню, но не успел осуществить этот проект. Известно, что только на предварительную расчистку мусора 10 000 человек потратили два месяца.
Современная археология располагает точными данными. Ученые определяют высоту семиэтажного зиккурата — главной храмовой башни Этеменанки — в 91 метр. Такой же была длина каждой из сторон. На его постройку пошло около 35 миллионов кирпичей. Как все зиккураты, внутри он был сплошным. Снаружи он раскрашивался охрой и облицовывался поливной глазурованной плиткой синего цвета.
Огромные размеры зиккуратов создавали эффектную перспективу — Геродот назвал Вавилон самым красивым городом из всех, какие он видел. Однако эстетическая ценность собственно зиккуратов, с точки зрения современных искусствоведов, сомнительна: « Зиккурат является плодом еще неразвитого архитектурного вкуса. Элементарность архитектурных форм, тяжеловесность и даже грубость пропорций, отсутствие выразительных абрисов и, наконец, примитивная простота в орнаментации и лепке».[124]
Рассказывая о башне. Библия ясно указывает на мотивы ее строителей: они желали увековечить память о себе — « сделать себе имя». Внутренний драматизм этого эпизода- в том, что люди впервые решились покуситься на прерогативу Бога — память. До этого только Бог мог творить мнемонические знаки. Давая благословение Ною, прадеду царя Нимрода, Яхве скрепил его радугой: « …когда Я наведу облако на землю, то явится радуга (Моя) в облаке; и Я вспомню завет Мой…» (Бытие, 9, 14–15).
Лотман приводит именно этот пример для того, чтобы охарактеризовать бесписьменную внеисторическую культуру.[125] Действительно, радуга, как всякое повторяющееся явление, не фиксирована во времени. Вписанная в круговорот природы, она втягивает в него и человека. При этом радуга напоминает о завете Богу, а не людям. Увидев ее, они могут быть спокойны за свою судьбу, ибо знают, что Бог их не забыл. Радуга — это не столько память о прошлом событии, сколько гарантия настоящего, залог стабильности.
В противовес радуге Вавилонская башня должна была стать настоящим мемориальным монументом. Ее решили построить « прежде нежели рассеемся по лицу всей земли», значит, она была задумана памятником, отмечающим в жизни людей уникальный, судьбоносный, переломный и неповторимый момент.
Другими словами. Бог наказал строителей Вавилонской башни за то, что они изобрели историю.
Самые древние из дошедших до нас записей показывают, что сперва в Двуречье не существовало даже хронологии — у годов не было номеров, они обозначались просто по каким-либо памятным событиям. Только при Хаммурапи (время возникновения предания о башне) вавилонская монархия приобретает статус первой мировой империи. Для того чтобы объяснить судьбу порабощенных Вавилоном царств и причины их гибели, необходимо было связное описание событий и интерпретация их. Для своего религиозного, нравственного и идеологического обоснования империя нуждалась в истории, на место рождения которой указывают руины Вавилонской башни.
Причины, побудившие строителей начать возведение башни, Библия объясняет яснее, чем обстоятельства, помешавшие его завершить. Обычно толкователи сходятся в том, что Бог наказал людей за спесь, высокомерие, гордыню, за тот общий для всего человеческого племени грех, который евреи называли « chutzpah», а греки — « hubris».
Забыв о своей бренности, люди затеяли дело, несоразмерное отведенному им сроку. Они покусились на чужое, принадлежащее не им, а Богу, время. Строительство « башни до неба» выводило их, с колыбели приговоренных к смерти, за отведенный им горизонт бытия.
Теме близорукой гордыни посвящена хранящаяся в Вене « Вавилонская башня» Питера Брейгеля — лучшая из живописных версии этого популярного у средневековых живописцев сюжета.
Башня Брейгеля напоминает тело в разрезе. В глубине оно окрашено « мясным» красным цветом, но чем ближе к поверхности, тем заметнее проступает мертвенная желтизна. Эта архитектурная вивисекция производит жуткое впечатление: башня еще не достроена, но она уже труп.
Зато жив соразмерный человеку уютный город, занимающий задний план картины. Если он и уместен и разумен, то башня нелепа, даже безумна. Она лишена назначения — это производство ради производства, индустриальная метафора, предвещающая платоновский « Котлован».
С обычной для него энциклопедичностью Брейгель изобразил всю строительную технику своего XVI века. Выписывая множество орудий труда и тысячи работающих ими строителей, он разоблачает дурное разнообразие « 10 000 вещей», лишенных объединяющего принципа.
Чувство обреченности, наполняющее трагизмом « Вавилонскую башню», порождено несоизмеримостью масштабов. Группа с царем Нимродом, расположенная на переднем плане, не сопоставима с занимающей практически все полотно постройкой. Но вместо гордости задело рук человеческих Брейгель подчеркивает тщетность людских усилий: башня недостроена безнадежно.
Снизу, оттуда, где стоит гордый собой Нимрод, это не так очевидно. Упоенный властью, он замечает лишь то, что уже сделано. Но нас, зрителей, художник, ставит в положение того, кто осматривает строительную площадку сверху. И с этой точки зрения нельзя не увидеть, что до конца стройки как до неба. К тому же башня — опять-таки незаметно для строителей — заваливается назад. Ясно, что с каждым новым этажом крен будет все увеличиваться, пока башня не опрокинется, погребя под своими обломками город… И виноват в провале вовсе не Бог, который, как всегда у Брейгеля, ни во что не вмешивается. Не гнев и не ревность мстительного ветхозаветного Господа, а неумолимое и безразличное к человеку время обрекает спесивую вавилонскую затею.
Слово « зиккурат» означает « святая гора». В плоском краю заболоченных равнин они действительно заменяли горы. Так, в сохранившейся надписи царь Ассурбанипал с гордостью говорит о храме Шамашу: « Я воздвиг башни, подобные горам».
Зиккураты строились из сплошной массы кирпичей — никаких внутренних помещений в них не было. Поэтому все таинства вавилонской религии отправлялись снаружи. Встреча людей с Богом должна была происходить на верхнем этаже башни. Рукотворные горы зиккуратов были своего рода мостами, связывающими землю с небом и людей с богами. Поэтому Вавилонскую башню можно трактовать как инструмент насилия над тайной. Самовольно и самодовольно башня вторгается в заповедную зону, пересекая священную границу между людьми и богами. Стремясь достичь неба, вавилоняне оказались чрезмерно прямолинейны в выборе направления.
Их современники египтяне пошли другим путем — не вверх, а вглубь. В отличие от зиккурата пирамида, как пишет искусствовед М.Алпатов, « исполнена тайны, так как в ее внешности не выражено ее внутреннее устройство».[126] Как бы велики ни были египетские пирамиды, они всего лишь футляры для еще более величественной тайны смерти. Не она ли и обеспечила пирамидам ту долговечность, на которую тщетно претендовали строители Вавилонской башни?
Копившиеся сорок веков интерпретации этого предания сливаются в столь емкий символ, что Вавилонскую башню можно счесть универсальной метафорой прогресса: чем она выше, тем опаснее.
Об этом думали и раньше. Так, ученый-иезуит XVII века Афанасий Кирчер (его называли последним человеком Ренессанса) высчитал, что, если бы Вавилонская башня и впрямь достигла неба, она бы перевернула Землю. Неудивительно, что в мормонской Библии по башне к людям спускается сам дьявол, который для того и надоумил их ее возвести (Helaman, 6, 28).
Экологические тревоги делают пугаюше своевременными именно эти, наиболее зловещие трактовки древнего сюжета. Сегодня мы понимаем, что вряд ли доберемся до неба, поднимаясь к нему по ступеням научно-технических революций. Но это, конечно, не значит, что мы в силах забыть о своей башне. Просто сейчас меняется « геометрия строительства»: на место дерзкой вертикали приходит смиренная горизонталь.
Венский художник и архитектор Хундертвассер создает дерзкие и заманчивые градостроительные проекты, в которых покрытые дерном крыши домов становятся настоящими полями и лугами. Хундертвассер провозгласил горизонталь священной собственностью природы. Мы можем пользоваться ею, но обязаны вернуть, что взяли. Вторая горизонталь засаженных зеленью крыш и есть отдача долга.[127]
Впрочем, намного раньше и куда заметнее горизонталь взяла реванш в Америке, которую совершенно напрасно считают страной небоскребов. В Старом Свете жизнь веками норовила вскарабкаться вверх. Дух запертых в городских стенах европейцев всегда рвался ввысь — по пути, указанному готическими шпилями. Зато в не стесненном традицией и историей Новом Свете подозрительная к иерархической вертикали демократия расцвела в иных координатах. В американской среде обитания выросла приспособленная к точке зрения сидящего за рулем человека « приземистая» культура.
Приоритет горизонтали — центральная тема в зодчестве влиятельнейшего архитектора XX века Франка Ллойда Райта. Пророк деурбанизации, предтеча пригородной революции, Райт с энтузиазмом осваивал измерение, которое он назвал « горизонталью свободы».
Вкус к горизонтали сближал Райта с Востоком, где он работал с особым успехом. В Токио Райт построил знаменитый отель, который устоял в землетрясении 1923 года.
В Азии горизонталь всегда доминировала над вертикалью — и в традиционной жилой застройке, и в дворцовых комплексах. Императорские резиденции Пекина и Киото состоят из череды низкоэтажных зданий, разделенных огромными дворами и широкими проходами. Такой ансамбль — продукт изощренной социально-религиозной инженерии. Восточные дворцы — скорее декорации, задник, помогающий « ставить» знаменитые китайские церемонии. Это своего рода лабиринт, чье назначение — дирижировать потоками людей, выполняющих сложные и красочные обряды.
Если западную архитектуру называют застывшей музыкой, то восточную можно назвать застывшим ритуалом. Привязанная к человеку, она в большей степени и соразмерна ему.
Грандиозные пропорции Запретного города определяет не монументальность дворцов, а его громадная (720 000 кв. м) территория, способная вместить несметные толпы. В первой снимавшейся там картине — фильме Бертолуччи « Последний император» — это обстоятельство постоянно обыгрывается: пекинский дворец просто создан для массовок.
Горизонтальность восточной архитектуры — выражение того целостного, не противопоставленного природе первобытного сознания, которое не знает дуализма земли и неба.
Традиционному обществу чужда трансцендентная вертикаль, потому что священным для него может быть все.
Восточная версия Вавилонской башни — Великая китайская стена. Горизонтальная башня — оксюморон, коан, решение которого требует пралогического, а значит, архаического мышления.
В Библии рассказ о Вавилонской башне завершает первобытную историю. Это позволяет воспользоваться ею как вехой, определяющей тот момент, к которому стремится в своем попятном движении постиндустриальная культура, — архаика кончается столпотворением.
Помимо очевидного, тут есть и подспудный смысл: языки не только разделили людей — язык разделил человека. Согласно классическому определению Аристотеля, речь — репрезентация разума. Это значит, что она дает высказаться не всему человеку, а лишь его сознательной, разумной, рациональной части.
Язык — первое орудие труда, первая машина, помогающая человеку преобразовывать мир. Проделывая за нас логические операции, он и служит человеку, и порабощает его.
Вавилонская катастрофа — расплата за излишнее доверие к языку. Поэтому новая башня может вырасти только в том мире, который научиться уважать вневербальную культуру. Без языка иногда договориться проще.
Конец холодной войны ознаменовался падением не только Берлинской стены, но и той непреодолимой политической преграды, которая проходила по Берингову проливу и разделяла коренных жителей Сибири и Северной Америки. С упразднением искусственного препятствия между этими народами начались интенсивные контакты, которым не мешали ни культурные, ни языковые барьеры.
Люди, жившие в столь разных странах, как СССР и США, нашли общего посредника — таинства своей древней культуры. Методы шаманов удивительно похожи во всем мире, даже у народов с совершенно различными культурами. Это и понятно: шаманы имеют дело не столько с культурой, сколько с общими для нас всех психическими структурами. И чем они древнее, тем, как утверждал Юнг, ближе к бессознательному, к непереводимым тайнам нашей жизни. Выраженные словами, они теряют универсальность. Мы перестаем понимать друг друга, как только язык отрезает нас от общего источника.
Вавилонская башня — « большой скачок», революционный прорыв в будущее. Потому она и осталась незавершенной, что ее строители отказались от наследства — от своего первобытного прошлого.
Чтобы не повторить судьбы своей предшественницы, новая, постиндустриальная башня должна строиться не только индустриальной, но и архаической культурой, владеющей искусством создавать в нас целостные, нерасчлененные словами переживания.
Леви-Строс говорил, что два типа мышления — первобытное и современное — оперируют двумя видами грамматики. В зависимости от того, какой из них человек пользуется, он оказывается либо в архаическом, либо в современном мире. Цель постиндустриальной культуры в том, чтобы создать из двух грамматик третью.
Архаизация означает конечно же не прямое возвращение к прошлому, а насыщение настоящего архаическими элементами. Оттого что древнее прорастает сквозь современное, меняется и то и другое.
Две главные предпосылки к строительству новой башни — специфика пространства и времени постиндустриальной цивилизации, ее анахроническая природа и планетарный масштаб. Правда, и та и другая черта нас скорее пугают, чем обнадеживают. Привычка к эволюционному мышлению вынуждает нас считать планетарную цивилизацию простым продолжением колониализма — агрессией сильных против слабых, развитого индустриального общества против неразвитого, « первого мира» против « третьего», Запада против Востока. На самом деле перспектива унифицированной культуры, замазывающей глобус серой « американской» краской, — призрак, рожденный больной совестью. Это все то же « бремя белого человека», отягченное чувством вины.
Дорог, ведущих только в одну сторону, не бывает. Рождение планетарной цивилизации — обоюдный процесс, в котором Восток влияет на Запад и модернизация сочетается с архаизацией. Встречная волна перемен с такой силой обрушивается на Запад, что все стремительнее подмывает его устои.
Почти двадцать лет я живу на одном месте, зато переехал сам Нью-Йорк. Ориентальная ментальность так глубоко проникает в тело города, что меняется даже его « градостроительный метаболизм».
Сегодня, когда на рынке американской недвижимости чуть ли не каждый третий клиент — с Дальнего Востока, все американские архитекторы вынуждены знакомиться с древним китайским искусством « ветра и воды» — « фэн-шуй». Согласно его законам, все сооружения должны находиться в гармонии с пятью первоэлементами: водой, огнем, деревом, металлом и землей. Удача, здоровье и достаток человека зависят от того, как сориентировано в пространстве его жилище. Даже расстановка мебели в офисе влияет на успех тех, кто тут работает. В грамотных с китайской точки зрения постройках нет острых углов, во всех проходах стоят зеркала, обманывающие злых духов, повсюду, даже в банках, устроены фонтаны и бассейны — вода приносит мир, покой и богатство.
Как бы странно это ни звучало, но сегодня без консультации даосов не обходится почти ни одно крупное строительство в США. Дональд Трамп, например, начиная реконструкцию своего знаменитого небоскреба Трамп-тауэр, обратился за помощью к самому известному в нью-йоркском Чайнатауне геоманту Тин Суну.
Помимо прямого вторжения Востока, на ориентализацию и архаизацию Запада работает пятая колонна — « зеленые». Пытаясь углубить экологическое движение, придав ему религиозный характер, они вновь оживили один из самых устойчивых в западной цивилизации мифов — о « благородном дикаре».
В Америке эту роль, естественно, играют индейцы. Неофиты их языческих верований следуют старинным обрядам, поклоняются духам земли и воды, медитируют, участвуют в праздничных церемониях, совершают паломничества в священные места, ищут совета и руководства у шаманов. Теперь в каждом американском торговом центре можно найти магазинчик, торгующий индейскими амулетами, травами, книгами целителей, ритуальными изображениями, музыкальными записями и прочими артефактами, необходимыми для отправления языческих культов. Это движение распространяется со стремительностью, пугающей коренных американцев, которые считают, что белые пытаются вновь завладеть их — на этот раз духовным — достоянием.
В ряду тех же интимных перемен, меняющих западное самосознание, — одиозный мультикультурализм. Концепция, придавшая слову « культура» множественное число, вовсе не исчерпывается демагогической тактикой университетов, пытающихся впустить в академические программы обойденные меньшинства. Это вообще не столько программа действий, сколько констатация уже сложившейся ситуации: « благородные дикари» настолько завладели воображением Запада, что благородными дикарями стали мы сами.
Истинный плюрализм культур ведет не к насильственному их уравниванию, а к тому синтезу, который, собственно, и называется планетарной цивилизацией. Билет в нее Востоку оплачивает западная наука, а Западу — восточная мистика.
Новая синтетическая культура живет исключительно в настоящем времени, но само это время зыбко, подвижно, текуче, ибо оно постоянно создается из прошлого. История тут приобретает новый смысл. В ней мы ищем не урок на будущее, а материал для реконструкции настоящего. История нужна нам, чтобы услышать, по выражению Шнитке, « единовременный аккорд» жизни.
Характерно, что главной машиной постиндустриальной цивилизации стал компьютер, чьим девизом могли бы стать слова Конфуция: « Я передаю, а не сочиняю».
Сжимаясь под демографическим, геополитическим и коммуникационным давлением, постиндустриальное пространство проникает в сферы сознания. Информационная цивилизация нуждается не в материальных, а в духовных ресурсах. Объект ее экспансии — психика. Воображение — вот сфера ее активности. Удовлетворяя наши фантазии, она и сама питается ими.
Интересуясь преимущественно сознанием, эта культура заведомо эфемерна: она оставляет следы только в нашей душе. Неспособная пережить нас, она лишена интереса к непреходящему. Ей чужда фаустовская мечта об « остановленном мгновении». Ее не соблазняет утопия застывшего в веках « золотого века». Оставшись без будущего, мы обречены постоянно творить настоящее из прошлого.
В этом эклектическом и анахроническом настоящем времени и начинает расти новая Вавилонская башня, которой предстоит оправдать оба названия города, давшего ей имя. Библия производила его от еврейского глагола balat, что означает « путать, смешивать, соединять разное», но на языке самих строителей Bab-ili — это « врата Бога».
1995
Примечания
1
Полуголыми (англ.)
(обратно)2
Из глубины (лат.)
(обратно)3
Сексуальные домогательства (англ.)
(обратно)4
Стремление уйти от действительности в мир иллюзий, фантазии.
(обратно)5
В конце XVIII-нач. XIX вв. — горный пейзаж, обычно топографически точный.
(обратно)6
Через себя, сам с собою (лат.)
(обратно)7
То же, что теория познания
(обратно)8
Юнг К. Г. Проблемы души современного человека. //Архетип и символ. М., Renaissance, 1991. С.212.
(обратно)9
Вот яркое описание такого сознания:« Религиозное чувство заключается в том, что за явлениями зримого мира человек пытается угадать реальность иного, высшего порядка. Мир выглядит ареной действия тайных, глубоко спрятанных, невероятно могущественных сил». Быков Дм. Персонажи в поисках автора: К типологии советской религиозности. — « Литературная газета», 1993, 1 февраля.
(обратно)10
Ле Гоф Ж. Цивилизация средневекового Запада. М., Прогресс-Академия, 1992. С.15.
(обратно)11
Дичев И. Шесть размышлений о постмодернизме. //Сознание в социокультурном измерении. М., 1990. С. З.
(обратно)12
Там же. С.37.
(обратно)13
Аксиология — учение о ценностях
(обратно)14
См., напр., статью Г. Померанца « Из чаши стыда», в которой автор предлагает интеллигенции заняться моделированием нового универсального означаемого для постсоветского общества. Один из вариантов — « русская культура».- « Сегодня», 1994, 15 января.
(обратно)15
Леви-Строс К. Мифологичные. 1. Сырое и вареное. Цит. по: Семиотика и искусствометрия. М., 1972. С.40.
(обратно)16
Сорокин В. Норма. Цит. по рукописи. С.347.
(обратно)17
Baudrillard J. Simulations. N.Y., Columbia University, 1983. P.11.
(обратно)18
Подобные феномены подробно рассматриваются в работе М. Эпштейна « Истоки и смысл русского постмодернизма» (в печати), где автор ведет их происхождение от « потемкинских деревень».
(обратно)19
Ср.: « Природа есть создаваемая культурой идеальная модель своего антипода». Лотман Ю. Избранные статьи: В 3 т. Таллин, 1992.Т.1.С.9.
(обратно)20
HaylesN. E. Complex Dynamics in Literature and Science. //Chaos and order. The University of Chicago Press, 1991. P. 14.
(обратно)21
Западная славистка К. Кларк в книге « Советский роман» пишет о конфликте « организованности со стихийностью» как о главном во всем соцреалистическом искусстве. См.: Clark К. The Soviet Novel: History as Ritual. The University of Chicago Press. 1985.
(обратно)22
Платонов А. Пролетарская поэзия. // Собр. соч.: В Зт. М., 1985. Т.3.
(обратно)23
Пригожин И. Переоткрытие времени. — « Вопросы философии», 1989, № 8. С.9.
(обратно)24
Porush D. Fictions as Dissipative Structures: Prigogine's Theory and Postmodernism's Roadshow. // Chaos and-order. The University of Chicago Press, 1991. P. 54–85.
(обратно)25
Термин предложен Istvan Csicsery-Ronay, Jr.
(обратно)26
Фаулз Д. Волхв. — « Иностранная литература», 1993, № 8. С. 139.
(обратно)27
Лотман Ю. Культура и взрыв. М., Гнозис, 1992. С. 18.
(обратно)28
Прогноз: Беседа А. Боссарт с братьями Стругацкими. — « Огонек», 1989, № 52.
(обратно)29
Стругацкие А. и Б. Улитка на склоне. Франкфурт, Посев,1972. С.21.
(обратно)30
Юнг К. Г. Об архетипах коллективного бессознательного.//Архетип и символ. М., Renaissance, 1991. С.99.
(обратно)31
Стругацкие А. и Б. Сценарии. Текст, М., 1993. С.345.
(обратно)32
Мир и фильмы Андрея Тарковского: Размышления и исследования. М., Искусство, 1991. С.200.
(обратно)33
Иванов Вяч. Время и вещи. Там же. С. 233.
(обратно)34
Апофатическая теология стремится выразить абсолютную потусторонность Бога путем устранения всех относящихся к нему представлении и понятии как несоизмеримых с его природой.
(обратно)35
Толстой Л. Собр. соч.: В 8 т. М., 1996. Т.7. С.76.
(обратно)36
О творческом потенциале пустоты в современном русском искусстве см. работу М. Эпштейна « Пустота как прием. Слово и образ у Ильи Кабакова». — « Октябрь», 1993, № 10.
(обратно)37
Лао-цзы. Даодэцзин (Книга пути и благодати). // Из книг мудрецов: Проза древнего Китая. М., 1987. С.73.
(обратно)38
« Сталкер». Лит. запись кинофильма. // Стругацкие А. и Б. Сценарии. С.361.
(обратно)39
Ян Чжу. Лецзы. // Атеисты, материалисты, диалектики древнего Китая. М., 1967. С. 54–55.
(обратно)40
HoffB. DaoofPooh. Penguin books, 1983.
(обратно)41
Пелевин В. Омон Pa. — « Знамя», 1992, № 5. С.62.
(обратно)42
Пелевин В. Джон Фаулз и трагедия русского либерализма. — « Независимая газета», 1993, 20 января.
(обратно)43
Кастанеда К. Путешествие в Икстлан. Рига, Расма, 1991. С. 4–5. Перевод цитаты отредактирован.
(обратно)44
Успенский П. Tertium Organum. С.-Пб., 1992. С.4.
(обратно)45
Ср.: « Неожиданно (для позитивистской мысли) выяснилось, что наблюдаемые свойства Вселенной ограничены условиями, подозрительно необходимыми для нашего существования как наблюдателей этой Вселенной…» Троицкий В. Античный космос и современная наука. //Лосев А. Бытие. Имя. Космос. М., 1993. С. 93.
(обратно)46
Вспомним еще раз кинематографическую « матрицу времени» А. Тарковского или « органическую живопись» П. Филонова, которая мыслилась как « феномен, живущий собственной жизнью, находясь в постоянном взаимодействии со всеми аспектами окружающей среды». Боулт Д. Павел Филонов и русский модернизм. //Филонов. М., 1990. С.7.
(обратно)47
Лови мгновение (лат.)
(обратно)48
Лотман Ю. Избранные статьи: В 3 т. Таллинн, 1992. Т.1.С.16.
(обратно)49
Пустая часовня, жилище ветра. Окна зияют, дверь скрипит на ветру. Мертвые кости чар не таят.Перевод С. Степанова
(обратно)50
Полорога В. « Метафизика ландшафта». М., 1993. С.305. См. также: Кафка Ф. Конструкция сновидения. — « Логос», 1994, № 5; Феноменология тела. М., 1995.
(обратно)51
Сэй-Сёнагон. Записки у изголовья. // Классическая японская проза XI–XIV веков. М., 1987. С. 294.
(обратно)52
Это высказывание Бунина приводит в « Траве забвения» Валентин Катаев.
(обратно)53
Pribram К. Consciousness and the Brain. Plenum, 1976. Bohm D. Quantum Theory and Beyond. Cambridge University, 1971. Всестороннему обсуждению теорий К. Прибрама и Д. Бома посвящен сборник The Holographic Paradigm and other Paradoxes. Boston amp; London, 1985.
(обратно)54
Shelddrake R. The Rebirth of Nature. N.Y., Bantam Books, 1991.
(обратно)55
Лотман Ю. Раздел « Семиотика и культура». // Избранные статьи: В 3 т. Таллинн, 1992. T.I.
(обратно)56
Лотман Ю. Смерть как проблема сюжета. // Ю. М. Лотман и тартуско-московская семиотическая школа. М., Гнозис, 1994. С. 417, 419.
(обратно)57
Судзуки Д. Основы дзэн-буддизма. // Дзэн-буддизм. Бишкек, 1993. С. 362–363.
(обратно)58
Леви-Брюль Л. Первобытное мышление. Сверхъестественное в первобытном мышлении. М., 1994. С.8.
(обратно)59
Geertz H. Images of Power. Balinese Painting Made for Gregory Bateson and Margaret Mead. Honolulu, 1994.
(обратно)60
Тарт Ч. Состояния сознания. // Магический кристалл. М., 1994. С.233. См. также выпушенный под его редакцией сборник Altered States of Consciousness: A Book of Readings. N.Y., 1969.
(обратно)61
Лови мгновение (лат.)
(обратно)62
Toffler A. The Third Wave. Bantam books, 1990.
(обратно)63
Сорокин П. Кризисы нашего времени. // Человек. Цивилизация. Общество. М., 1992.
(обратно)64
Elkin A. The Australian Aborigines. Sydney, 1974. Цит. по: Магический кристалл. С. 140.
(обратно)65
Лотман Ю. Несколько мыслей о типологии культур. // Избранные статьи: В 3 т. Таллинн, 1992. T.I. С. 103, 109.
(обратно)66
Борхес X. Интервью с Антонио Каррисо. // Собр. соч.: В 3 т. Рига, Полярис, 1994. Т.3. С.441.
(обратно)67
Борхес X. Натаниел Готорн. // Собр. соч: В 3 т. Т.2. С.55.
(обратно)68
Леви-БрюльЛ. Первобытное мышление. Сверхъестественное в первобытном мышлении. М., 1994. С. 335–336.
(обратно)69
В большой степени, преимушественно. (франц.).
(обратно)70
Борхес X. История вечности. // Собр. соч.: В 3 т. Т.1.С.178.
(обратно)71
Liu Shu-hsien. Time and Temporality: The Chinese Perspective. // Philosophy East and West. Vol.24. 1974, № 2. Цит. по: Из истории традиционной китайской идеологии. М., Наука, 1984.С.65.
(обратно)72
Су Дунпо (Су Ши). Стихи. Мелодии. Поэмы. М., Художественная литература, 1975. С.235. Перевод И. Голубева.
(обратно)73
Там же. С.5.
(обратно)74
Го Си. Высокое послание лесов и потоков. // Мастера искусства об искусстве: В 7 т. М., 1965. T.I. С.94.
(обратно)75
Сиба Кокан. Беседы о западной живописи. // Мастера искусства об искусстве: В 7 т., М.,1965,Т.1. С.135.
(обратно)76
Судзуки Д. Основы дзэн-буддизма. С.403.
(обратно)77
Одна из школ современной психологии, считающая технические структуры, целостные образования (гештальты) первичным и основным элементом психики.
(обратно)78
Из китайской лирики VIII–XIV веков. М., Главная редакция восточной литературы, 1979. С.99. Перевод Е.Витковского.
(обратно)79
101 Zen Stories, transcribed by Nyogen Senzaki and Paul Reps. // Zen Flesh, Zen Bones. Boston amp; London, 1994. P.62.
(обратно)80
Ventura М. Shadows in L.A. Цит. по: Berman М. Coming to our Senses: Body and Spirit in the Hidden History of the West. N. Y., 1989. P.89.
(обратно)81
Armstrong К. A History of God. N. Y., 1994. P.396.
(обратно)82
Батай Ж. Слезы эроса. Отрывки в русском переводе. // Танатография эроса: Жорж Батаи и французская мысль середины XX века. М., 1994. С.297.
(обратно)83
Поспелов Г. Бубновый валет. Примитив и городской фольклор в московской живописи 1910-х годов. М., 1990.
(обратно)84
Artaud A. The Theater and its Double. N. Y., 1958. P. 77, 122,153.
(обратно)85
Эйзенштейн С. Нежданный стык. Собр. соч.: В 6 т. М., 1963. Т.5. С.305, 309.
(обратно)86
Цвейг С. Вчерашний мир. М., 1991. С.188.
(обратно)87
Граница продвижения американских поселенцев.
(обратно)88
Музиль Р. Человек без свойств. М., 1984. T.I. С.52.
(обратно)89
Ортега-и-Гасет X. Дегуманизация искусства. // Эстетика. Философия культуры, М., 1991. С. 257.
(обратно)90
Сэкида Кацуки. Практика Дзэна. //Дзэн-буддизм. С.531.
(обратно)91
Малявин В. Язык сердца: афоризм и китайская традиция. //Афоризмы старого Китая. М., Наука, 1991. С. 7.
(обратно)92
Сарга F. The Turning Point. Bantam Books, 1988. P. 413.
(обратно)93
BaudrillardJ. Precession of Simulacra.//Simulations. N.Y.,Columbia University, 1983. P. 18–22.
(обратно)94
Юнг К. Г. Комментарий к « Золотому цветку». // О психологии восточных религий. М., 1994. С.167.
(обратно)95
Cheng F. Empty and Full. The Language of Chinese Painting. Boston amp; London, 1994.
(обратно)96
Нисикава Сукэнобу. Предисловие к сборнику « Япония в картинах». //Мастера искусства об искусстве: В 7 т., М., 1965. Т. 1.С. 126.
(обратно)97
Дзэами Мотокие. Предание о цветке стиля. М., Наука,1989.
(обратно)98
Из китайской лирики VIII–XIV веков. М., Наука, Главная редакция восточной литературы, 1979. С. 106. Перевод Е. Витковского.
(обратно)99
Baudrillard J. The Orders of Simulacra. // Simulations. N.Y., Columbia University, 1983. P. 135–136.
(обратно)100
Там же. Р.99.
(обратно)101
Ортега-и-Гасет X. Мысли о романе. // Эстетика. Философия культуры. М., 1991. С.268.
(обратно)102
Феллини об актерах. — « Литературная газета», 1995, 11 января.
(обратно)103
Lovejoy T. Bugs, Plants and Progress. — « New York Times», 1995, May 12.
(обратно)104
Из китайской лирики VIII–XIV веков. М., Наука, Главная редакция восточной литературы, 1979. С.82. Перевод Арк. Штейнберга.
(обратно)105
Су Дунпо (Су Ши). Стихи. Мелодии. Поэмы. М., Художественная литература, 1975. С. 1–7. Перевод с китайского И. Голубева.
(обратно)106
Там же. С. 8.
(обратно)107
Эйзенштейн С. Гордость. Собр. соч.: В 6 т., Т.5, С.87.
(обратно)108
Levy-Strauss С. The Savage Mind. Особенно — Ch. 1. The Science of the Concrete. London, 1966. P.I-33.
(обратно)109
McLuhan М. Counterblast. Harcourt, 1969. P.17.
(обратно)110
Цвейг С. Вчерашний мир. М., С.42.
(обратно)111
Мандельштам О. Конец романа. Собр. соч.: В 2 т. М., 1990. С.204.
(обратно)112
Афоризмы старого Китая. М., Наука, 1991. С.28.
(обратно)113
Там же. С. 29.
(обратно)114
Whose Vision Is It, Anyway?//"The New York Times Magazine», 1994, July 17.
(обратно)115
Paglia К. Alice in Muscleland. // Sex, Art and American Culture. N.Y., 1992. P. 79–82.
(обратно)116
Mumford L. The Myth of the Machine: Technics and Human Development. HBJ Book, 1967. P.7, 14–15.
(обратно)117
Лотман Ю. Мозг — текст — культура — искусственный интеллект. // Избранные статьи: В 3 т. Таллинн, 1992.Т.1.С.ЗЗ.
(обратно)118
Шопенгауэр А. Мир как воля и представление. Собр. соч.: В2 т. М., 1993. С. 145.
(обратно)119
Гессе Г. Запись. Собр. соч.: В 4 т. С.-Пб., Т.3. С.383, 385.
(обратно)120
Леви-Брюль Л. Первобытное мышление. Сверхъестественное в первобытном мышлении. М., 1994. С.46.
(обратно)121
Борхес X. Кошмар. Собр. соч.: В 3 т. Т.3. С.336.
(обратно)122
Ницше Ф. Рождение трагедии, или эллинство и пессимизм. Собр. соч.: В 2 т. М., 1990. Т. 1. С. 63.
(обратно)123
La Berge S. Lucid Dreaming. N.Y., Ballantine Books, 1986.
(обратно)124
Namkhai Norbu. Dream Yoga and the Practice of Natural Light. Edited and Introduced by М. Katz. Ithaca, Snow Lion Publ., 1992.
(обратно)125
Уайли А. Дзэн-буддизм и его отношение к искусству. Лондон, 1922. Цит. по: Дзэн-буддизм. Бишкек, 1993. С. 479.
(обратно)126
Бунин А. Города древних восточных деспотии. Бунин А., Саваренская Т. История градостроительного искусства.: В 2 т. М., 1979. T.I. C.33.
(обратно)127
Лотман Ю. Несколько мыслей о типологии культуры. Избранные статьи: В 3 т. Таллинн, 1992.Т.1.С.108.
(обратно)128
Алпатов М. Всеобщая история искусств. М.-Л., 1948. С. 86.
(обратно)129
Mathey J. Hundertwasser. Bonfmi Press, 1985.
(обратно)

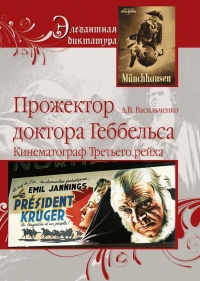


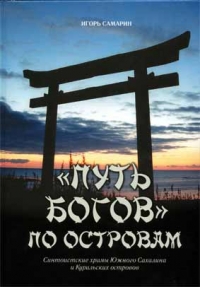

Комментарии к книге «Вавилонская башня», Александр Александрович Генис
Всего 0 комментариев