Игорь Забелин Встречи, которых не было
Памяти Олега Милорадова
Раздумье Вместо предисловия
Встречи, которых не было… Да, в буквальном смысле слова их не было, этих встреч, потому что нельзя встретиться с людьми, которые жили за несколько десятилетий, а то и столетий до вас. И все-таки… Все-таки мне кажется, что встречи эти были, потому что встречаться можно по-разному. Можно встретиться и пожать, друг другу руки, как это ежедневно делает каждый из нас, а можно встретиться иначе — мысленно, духовно — с теми, кому уже при всем желании не пожмешь руку… Вот о таких встречах я и хочу рассказать. Впервые произошли они далеко от Москвы, от больших городов и железных дорог — на узких горных тропах, на крутых берегах северных рек, на невидимых морских дорогах, в Сибири, на Дальнем Востоке. Там узнал я о далеких предшественниках современных исследователей, проходивших или проплывавших теми же путями… Встречи эти не были кратковременными: раз повстречавшись, мы потом уже не расставались, Мы продолжали скитаться вместе, вместе проводили долгие часы в научных залах Ленинской библиотеки, коротали вечера за письменным столом. И многие из наших далеких предшественников стали моими друзьями и помощниками, потому что они — сознательно Или бессознательно — служили той же науке, которой в меру своих сил стараемся служить мы, географы. Люди эти стали мне настолько близки, что я не могу избавиться от ощущения причастности к их судьбе и даже ответственности за их судьбу. Вероятно, это прозвучало странно. Но люди, о которых я собираюсь рассказать, не избалованы вниманием, а имена многих из них попросту забыты и забыты незаслуженно.
Есть такое шуточное вступление: «Прежде чем говорить об Америке, поговорим об Африке». Так вот, прежде чем говорить о встречах в Сибири и на Дальнем Востоке, поговорим о… Кавказе.
Высочайшая вершина Кавказа — Эльбрус. Это потухший вулкан, гигантский конус которого вознесен на 5633 метра над уровнем моря. Сложен Эльбрус андезитовыми лавами, а вершина его увенчана ледниками. К юго-востоку от Эльбруса расположена вторая знаменитая гора Кавказа — Казбек. Это тоже потухший вулкан, и, хотя высота его несколько меньше, он известен не менее Эльбруса. Сложен Казбек андезитовыми и трахито-липаритовыми лавами, восемь долинных ледников сползают по его склонам, а ниже вечных снегов раскинулись альпийские и субальпийские луга.
Вот и все. Вот вам исчерпывающая физико-географическая характеристика Кавказа.
Вы вправе удивиться: а где же описание лесостепных предгорий, где среднегорье с великолепными буковыми лесами, где глубокие тенистые ущелья с елово-пихтовыми насаждениями, где перевалы, долины, плодородная Рионская низменность, засушливая Куро-Араксинская, где солнечное Черноморское побережье Кавказа с кипарисами, прижившимися веерными пальмами?.. Короче говоря, где основная часть горной системы, где тот фундамент, на который опираются и над которым вознесены величественные ледяные пики?..
А нужно ли это все? — спрошу я вас в свою очередь. Разве вам неизвестны случаи, когда историю вообще или историю науки в частности изображали как деятельность нескольких выдающихся личностей, когда анализ ее сводили к анализу сияющих вершин, совершенно не заботясь о том фундаменте, на котором эти вершины держатся?.. Но если вы будете настаивать, я, пожалуй, соглашусь с вами. Да, в деятельности великих людей прошлого как в фокусе концентрируются многие типические черты эпохи. Но как по описанию одних высочайших вершин нельзя составить представление о горной системе в целом, так и по описанию деятельности только великих представителей науки нельзя составить представление об истории этой науки.
Быть может, я не объективен, но мне кажется, что в особенности это относится к истории географии, к истории географических открытий. Большая и очень сложная история у этой науки. Несколько тысячелетий складывалась она. Тысячи тысяч исследователей вложили свою лепту в дело познания земного шара. Два-три десятка из них известны народу. Два-три десятка, не больше. И беда не в том, что забывчивы ученые-географы. Нет, любой серьезной научной работе предшествует исторический очерк, в котором наряду с великими мира сего упоминаются. И скромные труженики науки.
Но не слишком ли часто популяризаторы, люди, осуществляющие связь между наукой и широкими читательскими кругами, идут легкой дорожкой и, покоренные магией имен, вновь и вновь пишут об исследователях, которые достойны внимания и восхваления, но о которых и так много написано?.. Литературных критиков справедливо упрекают у нас за то, что они создали «обойму» из нескольких писательских имен и, надо или не надо, оперируют только ими. А не сложилось ли нечто подобное и в популярной географической литературе?..
Да, мы все помним, что Америку открыл для всего человечества Колумб. Ну а кто назовет первооткрывателя Амазонки или Великих озер Северной Америки?.. Мы знаем о путешествии, в котором принимал участие казак Дежнев. Но многие ли могут сказать, кто из русских первым вышел на берега Байкала?.. А ведь это открытие первостепенной важности, а судьба человека, совершившего его, тесно переплетена с судьбой Дежнева; жизнь свою он закончил трагически, став жертвой воеводского произвола.
Нет нужды продолжать этот список. И так ясно, что мы все еще недостаточно внимательны к своим предкам, к первооткрывателям, к скромным описателям земли русской в особенности. И это ведет к неверным тенденциям — к ложной монументализации, к возвеличению одного за счет многих, к штампованным восхвалениям… Но скромные описатели земли русской, право же, заслуживают большего внимания. Они заслуживают его хотя бы потому, что в отличие от многих ныне здравствующих и берущихся за перо шли непроторенными путями.
На нашей совести есть еще один грех. Случается, что, рассказывая о географических открытиях, мы почти забываем о тех, кто их совершал, а ведь история науки, история географии — это не только повесть о плаваниях и походах, о встреченных реках и горах, но и повесть о характерах, повесть о живых людях, непохожих друг на друга, о властных и безвольных, инициативных и равнодушных, творцах и исполнителях чужой воли, бессребрениках и стяжателях. Все это вместе называется психологическим фактором в истории, и целиком сбрасывать его со счетов было бы, разумеется, неправильно.
Но если открытия перестанут заслонять людей, совершивших их, то кое-что придется нам подвергнуть моральному переосмыслению и, может быть, потеснить кое-кого на пьедестале почета, чтобы поставить рядом не менее достойных: ведь едва ли не самое драгоценное для нас в истории — это судьбы людей, творцов этой истории. И ничто так не обогащает духовно человека, как знание истории собственного народа, как знание истории человечества в целом, потому что она изобилует множеством примеров высокого героизма, гуманности, трудолюбия, верности светлым идеалам, великого упорства в достижении поставленной цели… Изобилует она примерами и совсем другого порядка — ? И жестокостью, и страстью к стяжательству, которая — увы! — слишком долго была «движущей силой» человеческих поступков, и примерами деспотии, когда искусственно сковывалась инициатива тысяч и тысяч, а разве способен кто-нибудь один заменить разум миллионов, воплотить в действие их анергию?.. Об этом тоже необходимо помнить, это тоже должно быть на духовном вооружении у человечества… Помнить вот о таких особенностях прошлого нужно пр многим причинам, но в данном случае не следует забывать о них хотя бы потому, что всякий, в том числе научный, прогресс — он в преодолении вот этого темного, постыдного, и история географий отнюдь не составляет исключения. Но есть у нее и свое собственное, свое характерное.
Трудно назвать другую науку, которой открытия доставались бы такой же дорогой ценой, как географии. Тысячи и тысячи безымянных могил географов-исследователей разбросаны по материкам и островам, скрыты в волнах океанов; прах этих скитальцев давно смешался с землей, изучению которой они посвятили свою жизнь. Эти люди шли на подвиги и совершали их незаметно, без шума, даже не сознавая, что проявляют героизм, потому что они делали любимое дело, потому что никогда не променяли бы тяготы и тревоги походной жизни на уют и спокойствие городского существования.
Географами-исследователями становились наиболее инициативные, отважные, дерзкие.
Молва утверждала: нельзя держать курс в открытое море, потому что от берега корабль идет под уклон, постепенно исчезая из виду, и он не сможет вернуться обратно.
А они поднимали паруса и смело пересекали океаны!
Молва утверждала: в тропиках такая жара, что все живое там гибнет.
А они отважно устремлялись к экватору.
Молва утверждала: Земля плоская, и если все время плыть в одном направлении, то достигнешь края света и там погибнешь.
А они плыли все время на запад и огибали Землю.
Молва населяла дальние страны сказочными чудовищами, драконами, звероподобными людьми.
А они углублялись в девственные лесные чащи, преодолевали горные хребты, плыли по неведомым рекам.
Их не мог остановить ни грозный окрик церковных владык, ни. Тяжкий авторитет вознесенных на пьедестал догматиков, ни боязливый шепоток мещан, ни зависть трусов, ни, скупость стяжателей.
Они гибли при кораблекрушениях, падали замертво в боях, умирали с голоду среди льдов и от жажды в раскаленных пустынях; их убивали большие и маленькие царьки — властолюбивые, жестокие, капризные, во владения которых они приходили.
Но павших заменяли новые исследователи, и не было на свете силы, способной остановить, прервать гигантский процесс познания мира в пространстве.
Походы и плавания великих путешественников и мореплавателей прочертили по Земному шару тонкую и редкую сетку. Все остальное было описано и изучено теми, о ком мы почти не вспоминаем. Но уважение к человеку — вот главный принцип, который должен лежать в основе любого исторического исследования. И если мы начнем последовательно применять его, то Семен Дежнев перестанет заслонять в наших глазах Федота Алексеева, Курбат Иванов, открывший Байкал, займет подобающее ему место в шеренге первооткрывателей, а имена людей, по инициативе которых были основаны Хабаровск, Владивосток и Николаевск-на-Амуре, будут знать во всех уголках страны.
Наши далекие предшественники — географы, путешественники — занимались преимущественно описанием Земли. Они по крохам собирали для нас, современных географов, сведения о дальних странах и морях. Только благодаря их трудам и представляем мы себе природу Центральной Азии и Южной Америки, Гренландии и Австралии, Арктики и Африки. Несколько тысячелетий география, В том числе физическая, была наукой описательной. Но после того как географы в общих чертах описали весь земной шар, перед физической географией встали иные задачи. Теперь эта наука занимается преимущественно изучением природных процессов, выяснением их закономерностей, без знания которых невозможно разумное вмешательство в ход природных процессов. Из описательной науки физическая география постепенно превратилась в науку теоретическую.
Но хотя задачи науки и изменились, светлые имена тех, кто трудился до нас и для нас, кто подготавливал наступление нового этапа в развитии географии, должны быть бессмертны.
Были Охотского моря
Море
Первое мое знакомство с Охотским морем состоялось в 1946 году. Я возвращался с Чукотки во Владивосток. В бухте Провидения мне посчастливилось сразу попасть на грузовое судно «Брянск» и занять сравнительно удобное место в огромном твиндеке — верхнем отсеке трюма, до отказа заполненном демобилизованными солдатами и вербованными рабочими, задержавшимися в Арктике на пять-шесть лет из-за войны и теперь возвращавшимися домой. По узкой и длинной бухте Провидения мы вышли в Берингово море, миновали Командорские острова и подошли к Петропавловску-Камчатскому. Удивительно радостно это — приближаться к земле после того, как в течение долгого времени вокруг судна не размыкалось кольцо морского горизонта. Мы стояли на палубе, смотрели на гористые берега и жадно вдыхали ветер, насыщенный пьянящим запахом зелени и сырой земли.
В Петропавловске нас перегрузили с «Брянска» на «Днепрострой» — судно старое и, к сожалению, менее удобное: в тесном полутемном твиндеке набилось столько пассажиров, что, как принято говорить, яблоку негде было упасть. Этот «Днепрострой» и доставил нас из Петропавловска к Курильским островам, тысячекилометровая гряда которых отделяет Охотское море от Тихого океана.
Подошли мы к островам ночью; капитан в темноте не рискнул приблизиться к скалистому берегу — судно легло в дрейф на почтительном расстоянии от него. Утром «Днепрострой» вошел в пролив между островами Парамушир и Шумшу и встал на рейде у города Северо-Курильска. По радио нам объявили, что на борт «Днепростроя» будет взято еще шестьсот пассажиров, и потребовали, чтобы мы потеснились. Это очень смахивало на шутку — потесниться!.. И все-таки эти шестьсот человек каким-то чудом разместились в переполненных твиндеках.
Пока шла погрузка, я с любопытством осматривал острова — и большой гористый Парамушир, заросший кедрачом и ольховником, и маленький холмистый Шумшу. Минул год, как закончилась война, но следы ее еще виднелись повсюду. Японцы неплохо укрепили остров. Шумшу, ближе других расположенный к Камчатке. Даже с борта судна удавалось рассмотреть траншеи, дзоты, открытые ангары подземного аэродрома; на берегу валялись разбитые самолеты, машины.
Но жизнь уже давно успела войти в новую колею: Северо-Курильск стал районным центром Сахалинской области. На берегу работали рыбные заводы, по проливу шныряли катера, шхуны, кавасаки; в море, несмотря на прохладную погоду, купались. По чистеньким улицам Северо-Курильска катали в колясках детей, на спортплощадках играли в волейбол, баскетбол, но больше всего хлопот, конечно, было у портовых работников: навигация на Охотском море была в полном разгаре.
А потом Парамушир и Шумшу остались позади. «Днепрострой» прошел мимо огромного, увенчанного снегами вулкана Алаид, поднимающегося прямо со дна моря, и кольцо горизонта вновь сомкнулось вокруг судна.
Высокие волны гуляли по Охотскому морю, и наша стальная махина покачивалась, иной раз зарываясь носом в воду. Часто опускались густые и плотные, как вата, туманы; тогда «Днепрострой» замедлял ход и тревожно гудел, предупреждая встречные суда: на транспортах в то время, еще не стояли локаторы. Руки, лицо, одежда — все было влажным и липким от постоянной сырости, не хотелось ни к чему прикасаться. Палуба пустовала: холод загонял пассажиров в темные и тесные твиндеки… А волны шли и шли. Они появлялись из тумана, лениво покачиваясь, проходили перед форштевнем и снова исчезали в тумане…
Таким и запомнилось мне Охотское море — холодным, туманным, промозглым, суровым и неспокойным, хотя ни один настоящий шторм не захватил нас в пути, ни разу хлопья сырого снега не упали на палубу. Быть может, чуть-чуть «виновато» в этом Японское море, встретившее нас прекрасной погодой; ясное, зеленое, пронизанное солнцем, оно так отличалось от хмурого Охотского!
Я расстался с Охотским морем без всякого сожаления, совершенно не подозревая, что мне еще предстоит побывать на нем, что я увлекусь его историей и полюблю его неуютные берега, полюблю весь этот действительно суровый, но по-своему привлекательный и очень любопытный край и потом еще долгие годы буду возвращаться туда, правда уже мысленно, в своих научных работах, статьях, очерках, рассказах, повестях.
На следующий год я вновь попал на Охотское море. На Дальнем Востоке в ту пору работала Курило-Сахалинская экспедиция Академии наук СССР, имевшая несколько отрядов, в том числе Охотский, в который я был зачислен лаборантом-гидробиологом.
К некоторым событиям, связанным с деятельностью этой экспедиции, мы еще вернемся, но сейчас мне припоминаются заключительные дни…
К тому времени мы уже успели побывать почти всюду на северо-западном побережье Охотского моря, сделали несколько морских разрезов, взяли множество станций в открытом море, искали — иногда успешно, чаще безуспешно — промысловые скопления жирующей сельди.
В этот день на море была обычная мертвая зыбь. Крупные, правильной формы волны методично раскачивали наш сейнер, казавшийся привязанным к длинным тяжелым сетям, сброшенным в воду. Изломанная линия черных просмоленных бочат, державших сеть на плаву, уходила далеко в сторону от сейнера; отдельные звенья ее самостоятельно качались на волнах, то взлетая вверх, то проваливаясь вниз, так что невозможно было увидеть все бочата сразу.
Мы уже несколько часов лежали в дрейфе, и сильная боковая качка начинала утомлять. Сейнер раскачало так, что он черпал бортами. В штормовые шпигаты при каждом наклоне с громким хлюпаньем влетали, растекаясь по палубе, фонтаны воды. Хорошо, еще, что не было ветра, — полный штиль стоял с раннего утра.
Я лежал в кубрике и читал, когда меня вызвал на палубу начальник рейса Аюшин.
— Пора брать станцию, — сказал он. — А то скоро сети начнут вытаскивать.
За два с лишним месяца, проведенных в водах Охотского моря, я убедился, что мое прошлогоднее впечатление о нем нуждается в уточнении или, вернее, в дополнении. Нет, далеко не всегда в летнюю пору Охотское море сурово и туманно. Пусть реже, чем на Черном море, но случаются и здесь погожие тихие дни, когда солнце припекает по-летнему, а море приобретает несвойственную ему синеватую окраску. Если в такой день заглянуть с борта судна в спокойную темную воду, то можно увидеть, как невидимые солнечные лучи уходят в глубину снопами тончайших светло-зеленых копий, рассеиваются там и неожиданно меняют окраску: вода в глубине кажется красноватой.
В начале октября еще выдаются такие погожие дни с ясным безоблачным небом, с чистыми, прозрачными далями, без ветра, но все чаще моросят дожди, сгущаются непроницаемые туманы, ревут штормовые ветры. А лежать в дрейфе при четырех-пятибалльном волнении на нашем сейнере уже нельзя… Мы подумывали о возвращении во Владивосток.
Как обычно, я вертел вьюшку, разматывая тонкий металлический трос, а начальник рейса прикреплял к нему батометры. Проделывать все это было не так-то просто: при наклоне сейнера вправо трос прижимался к борту, при наклоне влево уходил так далеко, что Аюшин не мог достать до него.
— Черт возьми, надоела вечная болтанка, — пожаловался он, закрепив очередной батометр. — Того и гляди перебьешь приборы. И кто это придумал посылать экспедиции на такой скорлупке, как наша?..
Опустив последний батометр, мы устроились на задраенном трюме: на средней линии боковая качка чувствовалась немножко меньше, и мы, так сказать, отдыхали.
— Посмотрите, — начальник рейса тронул меня за плечо и кивнул в сторону открытого моря. — Какой-то транспорт идет. Уж не «Ереван» ли?.. Если «Ереван» — баста, едем во Владивосток, а сейнер своим ходом пойдет. — Аюшин помолчал, вглядываясь в еще неясные силуэты судна, и неожиданно спросил:
— Вы устали?
— Как устал? — не понял я.
— Так, вообще.
— Да, вообще я устал. Два с половиной месяца почти непрерывной круглосуточной работы с короткими перерывами для сна и эта вечная качка сделали свое дело.
Из-за качки даже в короткие часы отдыха приходилось в полусонном состоянии вести «борьбу» за койку, и просыпались мы почти такими же уставшими, как ложились. А днем приходилось балансировать то с батометрами, то с сетями, то с тарелкой супа, то просто потому, что ты встал на ноги и задумал пройтись по палубе.
На палубу вышел наш неводчик и долго смотрел из-под большой, с короткими, толстыми пальцами руки на подернутое мелкой ветровой рабью море и на маленькие облачка, высунувшиеся из-за горизонта.
— Надо подымать сети, — сказал он. — Пора, да и погода портится.
Пока вахтенный будил команду, мы вытащили батометры, записали показания термометров в гидрологический журнал, разлили пробы воды по бутылкам.
Моторист включил лебедку, и черные бочата медленно поползли к сейнеру. Сети опять оказались пустыми.
— Все, — заключил начальник рейса. — До следующего года — все.
В машинном отделении застучали моторы, и сейнер, набирая скорость, пошел в сторону Охотска.
А на следующий день мы переселились на транспорт «Ереван». Долго не могли мы после нашего утлого сейнера привыкнуть к просторам океанского судна, к его величавой неподвижности Посреди волнующегося, неспокойного моря и все хватались, руками за стенки, словно палуба вот-вот могла уйти у нас из-под ног. Мы жили в большой четырехместной каюте, спали на широких койках с мягкими матрацами и чувствовали себя как дома или даже лучше.
Однажды, когда мы уже снялись с якоря и шли и берегам Сахалина, к нам в каюту зашел замполит и попросил сделать для экипажа небольшие доклады об Охотском море — его природе, истории. Мы согласились. Начальник рейса, зоолог по специальности, решил рассказать о животном мире моря, а на мою долю выпала история исследования.
Сначала задача моя показалась мне несложной, да и был я сердит на одного поэта-дальневосточника, в книжке которого, взятой в судовой библиотеке, прочитал такие строки, обращенные к другу:
Мы на Охотском море вместе Еще работали с тобой. Ты, верно, не забыла место Между Охотском и Ульёй, И помнишь, как открыто было Оно, как триста лет назад «Встреч солнца» маленький отряд Решил вести казак Копылов, И как без шума и без крика, Уйдя в рискованный поход, Они открыли через год Улью и — Океан Великий! И как потом за ними следом Пришли строители туда И довершили их победу, Сложив у моря города…Я не особенно задумывался над качеством стихов, но мое историко-географическое сердце пылало от негодования: при чем тут Копылов, когда всем известно, что на Охотское море первым вышел отряд Москвитина?!
Итак, я решил прежде всего исправить ошибку поэта. А потом? Должен признаться, что, чем больше я думал о докладе, тем все хуже и хуже себя чувствовал. В самом деле, о чем рассказывать?.. И какая там особая история у Охотского моря?.. Ну, плавали по нему, ну, построили Охотск, но ведь ничего из ряда вон выходящего не было, никаких потрясших мир открытий никто не сделал на Охотском море, да и что на нем открывать?.. Разве только самый факт выхода русских на побережье Тихого океана. Н-да, попал я в незавидное положение и уже начал подумывать, не отказаться ли мне от доклада. Вот если бы рассказать об истории исследования Тихого океана вообще… Идея эта мне понравилась. Я так и решил поступить.
Доклады мы делали в судовом красном уголке. Народу собралось довольно много, слушали нас внимательно, а потом всячески благодарили. Я вернулся к себе в полной уверенности, что мной сделан обстоятельный доклад и что теперь моряки с транспорта «Ереван» осведомлены об истории исследования северной части Тихого океана в целом и Охотского моря в особенности.
Насколько я заблуждался, судите сами: из всех имен, которые вам встретятся в дальнейшем, в своем «обстоятельном» докладе я назвал только имена Москвитина и Пояркова. Но понял я это далеко не сразу…
Лоция
Вернувшись в Москву, я стал обрабатывать полевые дневники и попутно знакомиться с литературой, посвященной природе и истории Охотского моря. Какую бы книгу или статью я ни читал, почти всюду встречался мне город Охотск — в прошлом административный центр края, почти всюду упоминалось о его истории. Теперь я уже понял, что история у Охотска интересная и своеобразная, особенно ранняя, связанная с появлением первых русских на берегах Тихого океана.
Я вновь пролистал те страницы своего дневника, на которых описывалось пребывание нашей экспедиции в Охотске и его окрестностях — на северо-западном побережье Охотского моря…
Наш сейнер миновал Шантарские острова и приблизился к берегу, продолжая путь к Охотску. Теперь слева от нас подымались лысые вершины Прибрежного хребта; лес доходил только до середины склонов, хотя высота гор не превышала тысячи метров: холодные ветры с моря словно сбривали растительность с обнаженных скал; на вершинах в неразличимых издалека складках виднелись летующие снежники. Горы вплотную подходили к морю и круто обрывались.
Погода нам благоприятствовала: дни стояли ясные, тихие и только легкая дымка пасмурила небо и сужала горизонт.
На следующий день мы миновали реку Улью — очень известную в истории географических открытий, и не случайно упомянутую дальневосточным поэтом. Горы здесь отступали от берега, и перед нами расстилалось ровное низменное пространство. Почти ничего общего не имели эти места ни со скалистыми Шантарами, ни с тем побережьем, вдоль которого мы плыли вчера: там нам не повстречалось ни одного поселка, а теперь невозможно было найти хоть сколько-нибудь заметную речонку, в устье которой не Стоял бы рыбный завод или поселок; более того, рыбные заводы, не умещаясь в устьях рек, выходили на открытые морские берега и спускали длинные желоба-конвейеры к самой воде. На рейдах маячили силуэты крупных транспортов и рефрижераторов; между судами и заводами день и ночь шныряли катера с кунгасами, нагруженными рыбой.
…У городов, как и у людей, несхожие судьбы, они тоже знают свои удачи и неудачи, взлеты и падения, переживают пору расцвета и пору увядания; не всем городам удается избежать превратности судьбы и процветать не старея. Мы думали об этом, подплывая к Охотску. Ведь это он дал название морю, он был форпостом Русского государства на Тихом океане, ему когда-то подчинялся весь район от Амура до Чукотки. От былой славы Охотска теперь осталось немного. Ныне это центр Охотского района Хабаровского края, даже не дотягивающий До звания города: в административных справочниках он именуется поселком городского типа, и против этого трудно что-либо возразить.
Стоит Охотск на Тунгусской косе, которую с одной стороны омывает река Кухтуй, а с другой — море, так что деревянные домики Охотска и улицы, засыпанные морской галькой, выходят и к реке, и к морю.
В Кухтуй мы вошли с приливом и остановились напротив главной улицы. На берегу это место отмечалось маленьким деревянным причалом. Позднее я узнал, что причал рассчитан главным образом на кунгасы, доставляющие в Охотск пресную воду. Вот вам — воды вокруг сколько угодно, и все-таки… приходится возить ее. Но дело в том, что в Кухтуй с приливом входит морская вода, а в отлив она просачивается со стороны моря сквозь галечниковую косу, или кошку, как там называют косы, и река осолоняется. В колодцах вода тоже солоноватая; в ней стирают, привычные жители готовят на ней обед, но пить все-таки предпочитают привозную, ту, что берут из реки километрах в трех-четырех выше Охотска.
За время плавания все мы успели соскучиться по земле и поспешили переправиться на берег. Прогуляли часа три, а когда вернулись, увидели забавнейшее зрелище: наш сейнер стоял посреди реки «по колени в воде» и со всех сторон его подпирали длинные тонкие шесты, чтобы он не опрокинулся; матросы ходили вокруг сейнера в резиновых сапогах. Если бы сейчас даже величайшая опасность нависла над экипажем сейнера, моряки не смогли бы заставить суденышко выйти в море и пришлось бы им пешком удирать с нашего дредноута… Всего три часа назад Кухтуй был широченной рекой, скорее даже похожей на озеро, а теперь превратился в заурядную лужу, почти затерявшуюся в низких топких берегах… Что поделаешь, мы вернулись к сейнеру в «спор воды», как говорят на Дальнем Востоке, то есть в тот переломный момент, когда отлив уже кончился, но прилив еще не начался и уровень воды в реке не успел подняться.
— Что ж вы хотите! — словно стремясь рассеять общее недоумение, вызванное «пикантным» положением сейнера, сказал начальник рейса. — Здесь в прилив вода на четыре метра поднимается. Ну а в отлив… вот, сами видите!
В Охотске мы пробыли недолго и с приливом вышли в море, взяв курс на поселок со странным названием Новое Устье. Я поднялся в рубку и посмотрел навигационную карту: поселок Новое Устье стоял на реке Охоте, а шли мы к нему вдоль Охотской кошки. Меня сразу заинтересовало смещение географических названий: Охотск стоит на Кухтуе, Новое Устье — на Охоте. Если есть новое устье, то где старое?.. Ведь было бы логичнее, если бы Охотск стоял на Охоте или уж именовался Кухтуйском.
— Раньше он и стоял на Охоте, — пояснил мне начальник рейса. — За триста лет его несколько раз переносили с места на место. Тунгусская коса — это, так сказать, последнее «местожительство» Охотска… А Новое Устье — оно действительно новое. Еще сравнительно недавно Охота В поисках выхода в море несколько километров текла вдоль Охотской косы и впадала в Кухтуй. Но потом река прорвала Охотскую кошку у самого основания, превратив ее в остров… Вообще, очень интересные места. И сами по себе, и история у них интересная. Я бы на вашем месте занялся историей Охотска и историей исследования Охотского моря. Вы географ, вам и все карты в руки. Взять хотя бы реку Улью, которую мы проплывали… Ведь именно по этой речке первые русские вышли на побережье Тихого океана.
— Отряд Москвитина?
— Да, отряд Москвитина. А за ним десятки других, менее известных, но не менее отважных…
На этом наш разговор и окончился: в ту пору меня гораздо больше интересовали факты, свидетельствующие о динамичности, о чрезвычайной изменчивости северо-западного побережья Охотского моря…
И в Москве я в первую очередь занялся просмотром старых карт, чтением лоций, стремясь собрать как можно больше сведений, которые помогли бы мне сравнить нынешнее очертание побережья с прежними.
Постепенно я забирался все дальше и дальше в глубь веков, и поиски эти, приносившие мне и радость, и разочарование, завершились находкой, которой я до сих пор втайне горжусь, хотя не мне принадлежит честь первооткрывателя.
В одном из сборников архивных документов, который называется «Дополнения к Актам историческим» (он был издан в середине прошлого века), я обнаружил первую лоцию Северо-западного побережья Охотского моря. Вот ее полное название: «Роспись от Охоты реки морем итти подле землю до Ини и до Мотыхлея реки и каковы где места, и сколько где ходу, и где каковы реки и ручьи пали в море, и где морской зверь морж ложится и на которых островах».
Я нашел лоцию накануне ее трехсотлетнего юбилея, и мне захотелось как можно больше узнать о том времени и о творце этой лоции — казаке Алексее Филипове. Я не смог отказать себе в этом. Постепенно исторические изыскания стали для меня самостоятельной темой; эти изыскания и позволили мне «встретиться» с нашими далекими предшественниками, с теми, кто вписал несколько первых страниц в историю исследования Охотского моря.
По-прежнему больше других привлекает меня в славной плеяде первоисследователей образ нетитулованного, почти никому не известного, но отважного и умного землепроходца Алексея Филипова.
Однако Алексей Филипов пришел на Охотское море не первым, он был рядовым казаком в отряде другого землепроходца — Семена Шелковника, и было бы несправедливо забыть его товарищей по землепроходчеству, открывателей новых «землиц», тех, кто собрал первые достоверные сведения об Охотском море и совершил по нему первые плавания. Ну и еще кое-кого, хотя бы тех, кто истязал — просто так! — Семена Шелковника в Якутске, но это разговор особый.
История открытия и исследования Охотского моря начинается с человека, который никогда на нем не был. Я имею в виду… Дмитрия Копылова, атамана, пятидесятника[1], того самого, которого упомянул поэт и которого я ниспровергал в своем докладе на транспорте «Ереван».
В 30-х годах XVII века неспокойно было на юге Западной Сибири. В Кузнецкой котловине, в предгорьях Салаирского кряжа, в Барабинской степи жили различные монгольские и тюркские племена, более организованные и более воинственные, чем племена Северной Сибири. Казачьи отряды, совершавшие походы в районы, расположенные к югу от Томска, встречали со стороны местных жителей упорное сопротивление; иной раз им удавалось одержать победу и собрать ясак. Но едва казачий отряд возвращался в Томск, как приходили известия, что местные жители вновь отказались платить его. Не всегда помогали и мирные дипломатические миссии, а были и такие.
Так вот, к 1630 году некоторые роды хакасов, именуемых в старых документах киргизами, совершенно отказались платить ясак. Но в том же 1630 году томский пятидесятник Дмитрий Копылов, совершив поход на юг, каким-то способом умудрился получить ясак с непокорных. Интересно, что хакасы заплатили ему ясак драгоценными соболиными шкурками (мягкой рухлядью, как говорили тогда), но сами они, кочевники-скотоводы, соболя не промышляли и шкурки в свою очередь получили в виде дани с каких-то других живущих в горах племен. Должно быть, бравый атаман сумел нагнать страху на хакасов, потому что они обещали впредь платить ясак регулярно. Копылов спокойно отправился в Томск, а хакасы своего обещания, разумеется, не выполнили. Копылов потребовал, чтобы непокорные явились в Томск и повинились в грехах своих. Однако они предпочли не послушаться.
Второй раз имя Дмитрия Копылова появляется в архивных документах через пять лет, то есть в 1635 году. Вновь он совершает поход на юг, но теперь уже скорее с дипломатическим, чем с военным, заданием. К этому времени частые посольства из Томска, Тобольска и даже из Москвы убедили «мелкопоместного» монгольского хана Алтина (очевидно, его владения находились в приграничных районах) признать себя царским подданным и принести торжественную присягу верности России.
Дмитрий Копылов, судя по всему получил щекотливое задание: действуя через верноподданного хана Алтина, уговорить хакасов покориться России. Миссия эта была очень непродолжительна (Копылов вышел из Томска 10 мая, а 9 июня уже вернулся обратно) и не дала почти никаких результатов.
По указанию Копылова хан Алтин отправил к хакасам ламу Даин-Мерген-Ландзу. Хакасы ламу слушать не стали, но воспользовались его визитом для того, чтобы переправить русским властям жалобу на казаков.
Разгневанный Копылов потребовал, чтобы незадачливый дипломат Даин-Мерген-Ландза и четыре знатнейших хакасских бия Ишей, Рабун, Бехтеней и Бугачей — самолично явились в Томск, но они благоразумно отказались. Из владений Алтина в Томск вместе с Копыловым прибыли лишь ханские посланцы, потихоньку от грозного пятидесятника передавшие жалобу на казаков.
Надоела ли Копылову безуспешная склока с хакасами, показались ли ему слишком скудными ясашные сборы или просто потянуло его в новые края, но уже 11 января 1636 года атаман Дмитрий Копылов, служилый человек Фома Федулов и енисейский подьячий Герасим Тимофеев подали томскому воеводе князю Ивану Ивановичу Ромодановскому челобитную, в которой утверждали, что знают они новые землицы, «на реке Сивирюю, а живут на той реке тунгусы многие… а на тебя, государь, ясака с тех тунгусов не имывано, и служилые твой государевы люди в тех землицах не бывали…». Кто из них придумал эту реку Сивирюю, очень уж созвучную со словом «Сибирь», — бог весть! — но они не только подробно описали путь из Томска до Ленского острога, но и сообщили, что от устья Вилюя плыть по Лене до той реке пять недель… И просили челобитчики князя Ромодановского снарядить экспедицию на реку Сивирюю…
30-е годы XVII столетия — пора бурная, примечательная в истории Сибири. Слава о богатых пушниной сибирских землях достигла не только Москвы, но и Западной Европы, и пушнина, «мягкая рухлядь», заменявшая в то время валюту и ценившаяся в буквальном смысле дороже золота, потоком хлынула из нехоженой тайги в белокаменные царские палаты, а оттуда еще дальше — в страны Запада вплоть до туманной Англии, вызывая обратный поток иноземных товаров в Московию, в те же самые белокаменные царские палаты… Страсть к наживе овладела в ту пору и именитыми воеводами, и устюжанскими землепашцами, и рядовыми казаками, и, конечно, торговцами и промышленными людьми. Все они покидали родные места, все устремлялись в погоню за призрачным богатством, стремясь почерпнуть, урвать что-нибудь и для себя из золотого потока пушнины. И они, эти землепроходцы, не щадили себя, не щадили друг друга; энергия била в них через край, жажда деятельности не давала покоя, и Дерзкие замыслы в те годы были далеко не редкостью.
Вот почему воевода Ромодановский долго не раздумывал — уже 31 января Копылов получил от него наказ. Пусть Ромодановский не имел ни малейшего представления о тех краях, куда посылал казаков, пусть лежали эти земли далеко за пределами его вотчины, пусть никому толком неизвестно, где находится эта самая река Сивирюя и существует ли она вообще, — все это пустяки, а важна инициатива, важно побольше урвать для себя мягкой рухляди, как шелк переливающейся в руках, лучше всяких других драгоценностей свидетельствующей о богатстве и могуществе воеводы.
Пятьдесят казаков отрядил воевода в поход вместе с Копыловым — десять конных и сорок пеших. В 1637 году они уже прибыли на Лену, в Якутск. Тратить время на поиски неведомой реки Сивирюю казаки не стали: то ли местные бывальцы убедили их, что такой реки нет, то ли сами они не очень-то верили в ее существование. Так или иначе, но предпочли они отправиться на восток, на Алдан, который был открыт всего за два года до их прихода на Лену, и отправились они туда немедленно, в том же году: так велика была в них жажда искательства и наживы.
В 1637 году из Енисейска для заведования делами Якутского острога был прислан боярский сын Парфений Ходырев.
Дмитрий копылов попал на Алдане в сложную обстановку: кроме томских там собирали ясак енисейские и мангазейские служилые люди, и казачьи отряды боролись между собой за право на сбор ясака. Якутские роды враждовали и между собой, и с казаками, но в междоусобных войнах нередко прибегали к помощи казаков. В такую междоусобную войну был втянут и Дмитрий Копылов: он выступил на стороне нюрюптейских и мегинских якутов против салынских, послав на них воинскую команду во главе с десятником Юрием Петровым.
Казаки и их союзники совместными усилиями разбили и разграбили салынских якутов, а те пожаловались Парфению Ходыреву, который к тому времени тоже прибыл на Алдан.
Парфений Ходырев решил примерно наказать и Копылова, и казаков, разграбивших салынских якутов. Он ловко вышел на сакму, то есть след, по которому возвращался к Копылову в небольшой Бутальский острог Юрий Петров с союзниками, напал на них, разбил и пленил. Часть копыловских казаков Парфений Ходырев отпустил, но через толмачей коварно подговорил якутов убить их по дороге. Против этого восстали даже подчиненные Ходырева — речь пошла о принципиальных проблемах: казаки доказывали своему предводителю, что он сам должен был убить казаков, если считал нужным расправиться с ними, а поручать такое дело якутам — это уже негоже, этак они и других казаков убивать начнут.
О судьбе отпущенных казаков ничего неизвестно. Копылов узнал о грозящей ему опасности и принял меры предосторожности: Ходыреву не удалось наказать его и сместить, потому что копылов вовремя отступил дальше на восток.
Невеселые события в жизни томского пятидесятника Дмитрия Копылова сыграли, однако, немалую роль в истории русских географических открытий.
Не имея особого желания встречаться с Парфением Ходыревым, Копылов уходил все дальше и дальше на восток, пока наконец не вышел к приохотским хребтам — последней преграде на пути к морю.
Весной 1639 года Копылов разделил свой отряд, видимо, для того, чтобы проведать побольше землиц и обложить ясаком побольше родов. Один вновь образованный отряд состоял из тридцати одного человека: в него вошло двадцать томских казаков и одиннадцать красноярских (тех, что почти в одно время, с Копыловым прибыли в Якутск). Во главе отряда Дмитрий Копылов поставил казака Ивана Юрьева Москвитина.
Копылов велел Москвитину идти дальше на восток, «встреч солнца», как тогда говорили, «на большое море, море окиян», о котором уже прослышали казаки. Это распоряжение бывалого пятидесятника оказалось последним: Ходыреву каким-то способом все-таки удалось сместить Копылова, и командование отрядом перешло к боярскому сыну Евстафию Михалевскому. Надо отметить, что за посылку Копылова на Лену досталось и томским правителям: из Москвы им вполне резонно писали, что незачем было посылать людей на далекую Лену, если не хватает сил управиться со своими южными соседями…
Так или иначе, но Москвитин с товарищами продолжал выполнять последнюю волю опального атамана — отряд его шел на восток.
Иван Юрьев Москвитин… Его имя навсегда вписано в историю русских географических открытий. Это он завершил небывалый в истории человечества поход русских на восток, поход «встреч солнца»… За шестьдесят лет до него вольный донской казак Ермак, снаряженный промышленниками Строгановыми, перевалил невысокие хребты Урала и ступил на ту землю, которая позднее получила громкое и загадочное название Сибирь… Словно брешь пробил Ермак в стене, сдерживавшей напор колоссальных, пробудившихся в народе сил, — хлынули в Сибирь ватаги жаждущих свободы, суровых, но бесконечно выносливых и безудержно смелых людей… Их можно уподобить горстям камней, брошенным в море: они совершений терялись в огромной стране, населенной воинственными племенами; многие отряды действительно исчезали бесследно, но другие неожиданно всплывали на поверхность где-нибудь на новой, только что открытой реке; в богатых соболем краях, и — глядишь — уже стоит бревенчатый острожек на безлюдном высоком берегу…
Ермак — Москвитин… Один начал, другой закончил великий путь. Возьмите географическую карту и посмотрите на пространство, пройденное их современниками. Светло-коричневая меридиональная полоса Урала; на перевале лицом на восток стоит высокий бородатый человек — Ермак. Перед ним огромное зеленое поле низменной, болотистой, заросшей тайгой Западной Сибири. Западная Сибирь — это первая ступень на пути к Тихому океану; восточнее возвышается вторая — светло-коричневого цвета Средне-Сибирское плоскогорье; а третью ступень образуют высокие дальневосточные хребты, необжитые и до сих пор труднопроходимые. Они круто обрываются к океану, и если вы вглядитесь, то увидите на карте узкую светлую полоску: это синее море разбивается о их подножие в белую пену… И там, на Прибрежном хребте, на перевале, стоит второй казак — высокий, бородатый; перед ним на востоке огромное синее поле — Охотское море…
И на всем этом огромном пространстве от Урала до Прибрежного хребта вился сизый пороховой дымок мелких, но ожесточенных сражений; шли вперед, утопая в болотах-бадаранах, замерзая на пустоплесье, порой питаясь лиственничной и сосновой корой, выходцы из Европейской России, те, кто предпочел тяготы походной жизни смиренному уделу крепостных. Они были настойчивы, они подводили «под высокую государеву руку» новые землицы, населенные племенами, которым менее всего хотелось платить дань чужеземным пришельцам, они наивно верили, что вернутся из походов богатыми. Огромное большинство из них вообще не вернулось из этих походов. По отпискам казаков, странствовавших по Охотскому морю, я подсчитал, что от болезней умирало в два раза больше людей, чем погибало в боях… И почти никто из землепроходцев не вернулся на родину богатым. Их грабили воеводы, купцы, целовальники; почти все казачьи документы XVII века — это стони обиженных, оскорбленных, ограбленных людей. За внешне вежливой, самоуничиженной формой без труда угадывается огромная ненависть к притеснителям-воеводам и столь же наивная вера в справедливость, всепрощение и милосердие «государя всея Руси»… И чтобы сделать более полной нашу символическую картину, нужно представить на разноцветных полях карты десятки тысяч безвестных могил и угадать за ними десятки тысяч личных трагедий, несбывшихся надежд…
Размышляя об истории XVII столетия, убеждаешься, что жизнь, тогда имела два полюса. На одном из них находились туземцы и рядовые землепроходцы, а на втором полюсе, противоположном, — те, кто грабил и тех и других: воеводы, купцы, ростовщики-заимодавцы. Основной конфликт эпохи, конфликт между народом и власть имущими, был так же типичен для Сибири, как и для всего Московского государства. И вот что еще приходит на ум. В XVII веке завершается процесс закабаления крестьян на Руси. Протестуя против крепостнического режима, крестьяне восставали: в 1603 году — под предводительством Хлопка, в 1606–1607 годах — под руководством Болотникова. Следующее же крупное восстание приходится на 1667–1671 годы, — это восстание Степана Разина. А в промежутке между этими крестьянскими войнами те же крестьяне, простолюдины, прошли от Урала до берегов Тихого океана. И думается, что одной из причин того, что в течение шестидесяти лет на Руси не было крупных восстаний, является следующий факт: Сибирь «оттягивала» самых неспокойных, самых инициативных и свободолюбивых людей. В какой-то степени покорение Сибири можно приравнять к восстанию, очень своеобразному «восстанию, направленному в пространство», если так позволительно выразиться. Вольнолюбивые устремления целых слоев народа получали иной, выход, исторически оказались направленными на освоение огромной, слабо обжитой страны — Сибири… И многих прославленных вожаков-землепроходцев нетрудно представить и в другой роли — в роли главарей восставших…
В нашей символической картине Иван Москвитин обозревает Охотское море с перевала на Прибрежном хребте. Это неточно.
Отряд Москвитина иначе вышел на побережье.
Восемь суток шел Москвитин с товарищами по Алдану до реки Маи, а вверх по Мае вплоть до волока пробирался семь недель, «а из Маи реки малою речкой до прямого волоку в стружках шли шесть ден, а волоком шли день ходу, а вышли на реку Улью на вершину…». Коротенькая фраза «волоком шли день ходу» означает, что казаки «всего-навсего» перевалили через хребет Джугджур, который уже давно видели издалека, и спустились в широкую межгорную долину, отделяющую Джугджур от Прибрежного хребта. Там, на берегу небольшой речки Ульи, которую им суждено было прославить, казаки разбили очередной лагерь, и дымки первых походных костров потянулись к небу в лесном краю, еще не посещавшемся русскими.
О том, что произошло дальше, отписка сообщает в высшей степени лаконично; «…да, тою Ульею рекою шли вниз, стругом плыли восьмеры сутки». Итак, казаки погрузились в струги — плоскодонные речные суда, очевидно неплохо послужившие землепроходцам, хотя историки явно отдают предпочтение морским кочам, и поплыли вниз по реке, почти не представляя себе, куда она течет, и совершенно не зная, что ждет их за ближайшим поворотом. В верхнем течении Улья спокойна, и струги легко скользили по ее неглубокой воде. Нехоженая тайга подступала к берегам; в чаще ее могли скрываться воинственные тунгусы (так тогда называли эвенков), и казаки зорко посматривали по сторонам. Неожиданно Улья круто повернула к востоку, вплотную к реке подступили горы, впереди послышался хорошо знакомый казакам рев воды на порогах и шиверах. Долина сузилась, река клокотала, с огромной скоростью увлекая лодку в неизвестное; казаки, работая шестами и веслами, ловко обходили выступающие из воды камни…
Но очевидно, струги все-таки пострадали, потому что казакам пришлось построить новое, более крупное и более совершенное судно — лодию. Это можно заключить по следующей фразе, содержащей, между прочим, и сообщение о… крупнейшем географическом открытии; «…и на той же Улье реки, сделав лодью, плыли до устья той Ульи реки, где она пала в море, пятеры сутки»[2].
Вот и все. Но зато какой простор для запоздалых восторгов в наше время!.. Давайте попробуем представить себе, как это произошло… Пороги и шиверы остались позади; смирившаяся Улья вновь лениво ползет меж низких, заросших тайгой берегов. А по Улье плывет новая, только что построенная, еще крепко пахнущая смолой лодия. Казаки вглядываются в даль, надеясь увидеть очередной торный хребет, но ничего, кроме низкого водянистого неба, не удается увидеть даже самым зорким из них; не без удивления обсуждают они между собой это странное событие. В самом деле, уж они-то поплавали по рекам, и всегда за одним горным хребтом следовал другой, порой еще более высокий. Уж не попали ли они в новую, никому неведомую страну, где нет гор, а по лесам в неисчислимом количестве бегает живая «мягкая рухлядь» — маленькие юркие соболи?.. С востока сначала еле слышно, а потом все отчетливее и отчетливее стал доноситься глухой непонятный рокот — вроде бы вода шумит, да как-то странно — не так ревет она на речных порогах… Казаки перестают грести и на всякий случай готовят пищали. Отливное течение незаметно подхватывает лодию и несет ее дальше, туда, где рокочет что-то непонятное… Лес кончился, тайга отступила от реки, густой кустарник еще тянется по берегам, но потом и он исчезает. Берега реки теперь очень странные, таких еще не приходилось видеть казакам: высокие, и сложены они округлыми серыми голышами — камушек к камушку… И вдруг впереди заколыхалось что-то огромное, темное. Казаки выскакивают на берег; перед ними открывается необозримый морской простор…
Да, конечно, казаки XVII века — народ далекий от сентиментальности. Да, конечно, они не понимали и не могли понять исторического значения своего подвига. И все-таки, я думаю, они были взволнованы видом океана. Это потом, когда составлялся официальный документ — отписка, сообщение об открытии вылилось в такую непритязательную, короткую строчку. Но ведь они, эти казаки, были жителями Томска или Красноярска, уроженцами Великого Устюга, Соли Вычегодской или Москвы, они слышали про «море-окиян» только в далеком детстве, в бабушкиных сказках, да недавно узнали из скупых рассказов якутов, что оно, это море, находится где-то поблизости… Представьте себе, как эти суровые бородачи стояли, опершись на пищали, и смотрели на крутые волны, разбивающиеся о берег, а ветер с моря шевелил их курчавые бороды и длинные, нестриженые волосы, выбившиеся из-под островерхих меховых шапок…
В устье Ульи Москвитин с товарищами срубил зимовье и хорошенько укрепил его, превратив в небольшой острог, — не потребовалось много времени, чтобы казаки убедились в многолюдности новооткрытых мест, а они слишком хорошо знали, какие события могут из этого проистечь.
Итак, казаки спешно строили зимовье и вели разведку. Вот тут-то им пришлось поудивляться, да по-настоящему, — даже по скупой отписке чувствуется, как были поражены они увиденным. Обнаружили казаки, что попали они в края изобильные, что много тут и соболя и всякого другого зверя, но больше всего рыбы, да не какой-нибудь мелюзги, а крупной, жирной — такой в Сибири они не видывали. И валяется этой рыбы на берегу «что дров» (сравнение не мое, а Колобова. — И.3.), «и ту лежачую рыбу ест зверь — выдра и лисицы красные». Казаки и сами видели, как выбрасывает эту рыбу на берег «быстредью» — быстрым течением. Попробовали они забросить невод и, как в сказке, забросить забросили, а вытащить не смогли! Рыбы в невод набилось столько, что осилила она казаков, и впустую закончилась неводьба — пришлось рыбу выпустить да потом еще невод чинить.
На это обстоятельство следует обратить особое внимание, потому что в отписке товарищей Москвитина содержатся самые первые в нашей науке сведения о тихоокеанском лососе. Да, рыба, столь поразившая казаков своими размерами, относится к лососевым: это кета, горбуша, кижуч, мальма (последняя размером поменьше других). Что касается почти фантастического изобилия ее, то и оно объясняется довольно просто. Дело в том, что все эти виды лососевых принадлежат к так называемым проходным рыбам. Они выводятся в реках, живут в море, а метать икру возвращаются снова в реки. Теперь ученые установили, что рыба, проплавав два — четыре года в море, возвращается на нерест, повинуясь почти необъяснимому чутью, именно в ту реку, в которой вывелась. И летом, в период нереста, к устьям рек собирались люди и лесные обитатели ловить жирную икряную рыбу…
Но не только и не столько рыба поразила казаков. Больше всего их удивили местные жители — ламуты, или эвены. Ранее казаки странствовали по тем районам Сибири, где местные жители давно уже платили ясак. А охотские эвены жили по своим законам и не подозревали о существовании «государя всея Руси», которому нужно платить дань соболиными шкурками. Казаки в своей отписке назвали свободолюбивых эвенов «дикими людьми»: им и на самом деле показалось странным, что существуют вольные племена, еще никому не платившие дани. Удивительно, не правда ли, чтобы люди жили по-своему, как хочется!..
Казаки постарались убедить эвенов добровольно платить ясак, но те отказались и решили избавиться от непрошеных гостей. Несколько раз подступали ламуты, собираясь по две-три сотни сразу, к острожку, шли на приступ, но взять его не смогли: войско их не знало боевых порядков, а оружие у ламутов — и стрелы, и копья, и рогатины — было костяным, и только у некоторых имелись «пальмы» — ножи, привязанные к палкам; даже топоры у них были каменные и костяные.
Бои эти закончились тем, что казаки захватили в плен нескольких аманатов — заложников. Аманатам набили на ноги колодки и посадили в «казенную избу».
Ламуты сделали из этого правильные выводы. Восемь родов сговорились между собой и «скрадом» напали на острог в то время, когда большая часть казаков на плотбище строила кочи. Ламуты вломились в острожек, покололи пальмами стражника, охранявшего аманатов, и те бросились к родичам, волоча за собой колодки. Но в это время одному из казаков удалось убить знатного «князца», и боевой порядок ламутского войска нарушился. По словам казаков, «те-де тунгусы учали над ним всеми людьми плакать», а пока они плакали, с плотбища подоспела помощь, захваченные врасплох казаки одели куяки и дружно бросились на неприятеля, погнали его и захватили в плен еще семь человек, в том числе одного «знатного мужика».
Казаки провели на побережье Охотского моря целый год. А на следующее лето они поставили на кочах прямые ровдужные паруса (из сыромятной кожи) и, разделившись на два отряда, бесстрашно «побежали» по морю. Первый отряд направился на север, второй — на юг. Сам Москвитин отправился с южным отрядом, намереваясь достичь устья Амура и тех мест, где живут «бородатые доуры», — о них рассказывали ему пленные охотские эвены. Но до устья Амура Москвитин не добрался из-за голода. Позднее Колобов сообщил, что «то-де Амурское устье они видели через кошку», но это, разумеется, ошибка: спутать широкий Амурский лиман с обычной рекой невозможно. Судя по всему, отряд Москвитина достиг устья реки Уды, что впадает в Охотское море напротив Шантарских островов. А северный отряд добрался до Тауйской губы и устья реки Тауи.
Следовательно, Москвитин не только первым из русских вышел на побережье Тихого океана, открыл Охотское море — ему довелось первому увидеть Шантарские острова, и он привез в Якутск первые достоверные сведения об Амуре. Для одного человека это более чем достаточно, и Москвитину по праву принадлежит одно из первых мест в истории землепроходчества. Открытие его имело первостепенное значение для всей последующей истории Дальнего Востока: он Проложил дорогу к океану не только для современников, но и для следующих поколений исследователей и промышленников.
Больше я ничего не знаю об Иване Юрьевиче Москвитине[3], но, прежде чем расстаться с ним, мне хочется высказать несколько предположений. Я думаю, с большой долей вероятия можно утверждать, что фамилия Москвитин своим происхождением обязана столице России — Москве. Фамилии в то время часто звучали как прозвища, а прозвища, как известно, даются не случайно. Например, странствовал по Сибири казак Волга. Это прозвище, и, очевидно, оно указывает на родину казака или на те места, откуда он пришел в Сибирь. В наше повествование еще войдет казак Семен Анабара. Но Анабара — это река, впадающая в Северный Ледовитый океан к западу от Лены. И опять прозвище, конечно, не случайно: видимо, казак побывал на той реке одним из первых.
Вот и представляется мне, что Москвитин — москвич, что родился он в Москве или ее окрестностях. Потом захваченный общим стремлением на восток, он покинул родные места, уже проторенным путем вышел на Урал, миновал его, на некоторое время обосновался в Томске или Красноярске, оттуда перебрался в Якутск и наконец первым из русских увидел Тихий океан… Славный, хоть и нелегкий путь, что и говорить!.. Быть может, со временем — в архивах будут найдены более подробные биографические сведения о Москвитине (находят же все новые и новые документы о Дежневе!), и тогда, я уверен, эта догадка подтвердится.
Москвитин и его товарищи называли открытое ими море Ламским (от эвенкского слова «лама» — вода). Так или просто Лама называли его и другие казаки. Своим же настоящим названием море в сущности обязано другому казаку — Семену Шелковнику. Впрочем, я немного забежал вперед, и сначала мне придется рассказать еще о двух землепроходцах.
Первый из них — казак Андрей Горелый, участник похода на северо-восток страны, который возглавлялся небезызвестным Михаилом Стадухиным (о нем нам ещё придется вспомнить). Отряд Стадухина, в котором принимал участие еще сравнительно молодой и во всяком случае малоопытный казак Семен Дежнев, получил задание собирать ясак с коренных обитателей верхней части бассейна Индигирки. Отряд обосновался на Оймяконе.
И оттуда, с Оймякона, Михаил Стадухин отправил в 1642 году на реку Охоту отряд под началом казака Андрея Горелого. В отличие от Москвитина Горелый шел к великому «морю-окияну» посуху: отряд его располагал «коньми», как было сказано потом в отписке, и сопровождало отряд двадцать человек якутов (а казаков было восемнадцать всего-навсего), и якуты были Не только солдатами, но и «вожами», проводниками, и быстро вывели казаков по нелегкому в общем-то пути к Охотскому морю.
Отряд Андрея Горелого достиг реки Охоты и достиг моря, а потом благополучно вернулся обратно на Оймякон.
Нет необходимости как-то противопоставлять поход Москвитина походу Горелого, как это подчас невольно случается в нашей исторической литературе: авторы иногда подчеркивают, что маршрут Горелова был сложнее и труднее. Ретроспективная оценка походов XVII века сейчас затруднительна, Мужество того и другого землепроходца очевидно, но приоритет Москвитина остается бесспорным, а, так сказать, для судеб Охотского моря поход Андрея Горелого маловажен — принципиально отличен он от похода Семена Шелковника, в частности.
Сведения о фантастически богатых краях, о море, об Амуре, доставленные в Якутск промышленными людьми и казаками, вызвали, естественно, немалый интерес в Якутске. Своеобразно, я бы сказал, воспользовался сложившейся обстановкой некто Василий Поярков, но об этом в специальном разделе «Река». Сейчас же нужно отметить лишь следующее: на Охотское море Поярков попал в 1645 году, уже в конце своего похода. Пройдя по Амуру, он вышел через лиман в открытое море, добрался до устья Ульи и перезимовал там в зимовье Москвитина. Ранней весной 1646 года Поярков покинул берега Охотского моря, оставив в Ульинском остроге семнадцать казаков во главе с Ермилом Васильевым, и в июне прибыл в Якутск. Весь его поход продолжался три года, а из ста тридцати человек, отправившихся в поход, вернулось человек пятьдесят.
Новые рассказы о богатых краях привели к тому, что тем же летом еще один отряд казаков был отправлен к Ламскому морю. Было в отряде сорок человек: Алексей Филипов, Иван Афонасьев, Ждан Власов, Фома Федоров, Конан Ларионов, Федор Яковлев, Иван Савин, Андрей Иванов да Нил Володимеров с товарищами. Возглавлял отряд десятник Семен Шелковник, о котором известно, что пришел он на Лену в числе первых, принял у Ерофея Хабарова соляную варницу на Усть-Куте, а к 1641 году перебрался в Ленский острог.
Семен Шелковник не стал тратить время на поиски новых путей к «великому морю-окияну» — дорога и так оставляла желать лучшего: часто разливались от дождей мелкие горные реки, затопляя берега, набухали, становясь почти непроходимыми, болота-бадараны. Поэтому Семен Шелковник в основных чертах повторил маршрут Ивана Москвитина: по притокам Алдана дошел до водораздельного хребта Джугджур, перевалил через него и поздней осенью, к тому времени, когда просветлела лиственничная тайга на западных склонах Джугджура и осыпавшаяся желтая хвоя прикрыла землю до снега, отряд по небольшой речке Сикше спустился к Улье.
Там, в широкой долине Ульи, заросшей лесом, болотистой, — на болотах черным-черно было от небывалого урожая ягод шикши — казаков настигли холода. Мест этих никто из них не знал и зимовье срубили прямо в устье Сикши[4]. До весны серьезных дел у зимовщиков не было, эвенки поблизости не показывались, и казаки расходились небольшими группами по окрестностям, ставили ловушки на соболя, но промышляли не очень удачно: тайга здесь была иной, чем в знакомой им Восточной Сибири, и, наверное, иначе вел себя в ней драгоценный зверек. Теперь, когда разработана классификация хвойных лесов, мы бы сказали, что в долине Ульи светлохвойная тайга замещается темнохвойной: даурскую лиственницу постепенно вытесняют другие породы деревьев — белокорая пихта и аянская ель.
Зима выдалась снежная, и к весне, когда казаки устроили примитивную верфь, «плотбище», для постройки кочей, снежные заносы, или «закидки», все еще очень мешали: иной раз утром приходилось откапывать из-под снега погребенные за ночь остовы недостроенных судов.
В высшей степени практичный казак Семен Епишев, тот самый, что придет в Охотск на выручку людям Шелковника и отправит Алексея Филипова вместе с лоцией в Якутск, — этот самый Епишев в своей отписке даже порекомендует впредь на Сикше кочей не строить, а спускаться по реке Улье ниже, за пороги, до которых, если считать от волока, ходу гружеными нартами две недели.
Впрочем, на эти обобщения Епишева толкнула его излишняя пунктуальность: в соответствии с отпиской Шелковника Епишев, борясь с метелями, не только строил кочи в том же самом месте, но и разбился на тех же порогах, кто и Шелковник с товарищами (Москвитину, как вы помните, тоже не очень повезло).
…Весной Шелковник продолжил путешествие. Какого числа он покинул зимовье на Сикше, определить едва ли удастся, но, очевидно, случилось это в начале мая 1647 года, сразу же после ледохода. Установить это помогают отписки спутников Москвитина и Епишева. Известно, что в устье Ульи казаки прибыли 16 мая. Но Москвитин затратил на плавание по Улье около двух недель, очевидно, и Шелковнику потребовалось примерно столько же. Правда, Епишев в своей отписке сообщает, что река Улья «во многих местах велми быстра и убойных мест много; выплыть бы по ней к морю можно за один день, да камни мешают». Но это зависит от того, откуда считать и в какое время года плыть. Едва ли Москвитин и Епишев начали счет с одного места.
На Улье приказной Семен Шелковник принял себе «в полк» служилых и промышленных людей, оставленных Поярковым, — Ермила Васильева с товарищами.
И тут, в устье Ульи, решилась судьба названия недавно открытого моря. Если бы Шелковник, как и Москвитин, решил обосноваться в устье Ульи, перестроил бы и укрепил острог, чтобы окончательно утвердиться в этих местах, то море называлось бы Ульинским или по-прежнему Дамским, но только, не Охотским.
Однако Шелковнику почему-то в устье Ульи не понравилось: то ли прислушался он к советам Колобова, то ли подумал, что нечего обирать одних и тех же тунгусов, что много тут еще других необъясаченных родов, но так или иначе Шелковник не остался на обжитом уже месте, и, таким образом, судьба названия моря была решена.
Казаки провели в устье Ульи ровно месяц — готовились к нелегкому плаванию, дожидались, пока успокоится море. Зимний северо-западный муссон сменился к тому времени летним юго-восточным. Над морем проносились низкие, темные облака, сеял мелкий, типично «муссонный» дождик. Штормило — грозный рокот моря не умолкал ни на час. Казаки поеживались, глядя в темно-свинцовую, неприветливую даль, — многим из них в диковинку были морские походы.
В плавание вышли 16 июня. Теперь отряд насчитывал пятьдесят четыре человека (четверо, видимо, погибли за зиму). Повернули они, заранее обдумав это, не к югу, а к северу. Шелковник знал, что если поведет он свои кочи на юг, то придется плыть ему вдоль пустынного гористого побережья, что не встретит он тунгусов и вернется без мягкой рухляди. Ведь из-за голода и безлюдства пришлось повернуть обратно отважному Москвитину, так и не добравшись до Амура. Иное дело, если плыть к северу…
Надо оказать, что устье Ульи расположено как раз на южном краю низменного северо-западного побережья Охотского моря; южнее тянется неудобное и до сих пор слабо заселенное побережье.
Итак, Шелковник повернул к северу и повел кочи вдоль низменного побережья — за серой полосой гальки зеленел лес…
Наш экспедиционный сейнер прошел по маршруту Шелковника ровно через триста лет — в 1947 году, летом…
Да, конечно, совсем не те картины раскрывались перед казаками: не стояли поселки в устьях рек, не спускались к самому морю конвейеры рыбных заводов… Даже это густо населенное по тому времени побережье казалось Шелковнику пустынным. Лишь в устьях рек замечали казаки дымки становищ. Это эвены, которых казаки называли «пешими тунгусами» (они не разводили оленей) или ламутами, били острогами лососей, заготавливая рыбу на зиму.
Эвены, разумеется, тоже заметили кочи, и весть о вторичном появлении русских вблизи речки, которую они называли Ахоть, а русские переименовали в Охоту, облетела, все побережье. Когда казаки подплыли к Охоте, их уже ждали там.
Очевидно, и эвены, отлично знавшие родные места, и казаки, лишь кое-что слышавшие о них, сошлись на том, что устье Охоты — самое удобное место на всем побережье… Так ли это?.. Почему именно Охоте суждено было сыграть выдающуюся роль в истории Охотского моря, а не Улье или Ине?.. Случайно это или исторически оправдано?.. Ведь в 40–50-х годах XVII века на побережье Охотского моря появились русские зимовья и в устье Ульи, и в устье Охоты, и в устье Мотыклеи, и в устье Тауи. Охотский острожек разрушался точно так же, как разрушались и сжигались эвенами другие зимовья…
Нет, разумеется, выбор Охоты был не случаен, и тот факт, что казаки выбрали именно Охоту центром колонизации, свидетельствует об их отличном умении ориентироваться и правильно оценивать обстановку, Если вы посмотрите на карту Охотского моря, то легко убедитесь, что устье Охоты расположено в середине зеленого уголка, обозначающего низменный участок побережья. В первой половине XVII века именно этот район был сильнее всего заселен, именно в эти реки входило больше всего рыбы в период нереста. Таким образом, борьба русских за Охоту была борьбой за ключевые позиции на материковом побережье Охотского моря.
Понимали ли это эвены, сказать трудно, но русские, и в частности Шелковник, определенно понимали. Шелковник сориентировался стремительно: учел сведения, собранные Москвитиным, опросил пленных, и выбор, определивший ход дальнейшей истории Охотского моря, был сделан. Можно ли после этого сомневаться, что казачий десятник Семен Шелковник был человеком незаурядным?
Кочи казаков повернули к устью Охоты 23 июня 1647 года. В этот же день произошло первое крупное сражение между русскими и эвенами — началась многолетняя борьба за Охоту, или Ахоть, дотоле неведомую речку…
Надо сказать, что в то время казаки, отправлявшиеся в походы, получали строжайшие наказы улаживать все дела с туземным населением миром, «ласкою», а не «жесточью». И в Москве в Сибирском приказе, ведавшем всей огромной Зауральской территорией, да и на местах понимали, что без туземцев не добудешь в большом количестве драгоценную мягкую рухлядь, иначе говоря, не добудешь валюту. Известно немало случаев, когда за неоправданное убийство местных жителей рядовых казаков жестоко карали (я не случайно написал рядовых — воеводы безнаказанно расправлялись и с казаками, и с якутами, и с эвенками, становясь тем свирепее, чем дальше от Москвы находились их владения).
Охотские эвены постарались не пустить русских в реку. Казаки потом утверждали, что на Охоте их встретило около тысячи эвенов. Преувеличено это или нет — судить теперь трудно, но бой произошел, многие казаки были ранены, а среди эвенов имелись и убитые. В конце концов кочи прорвались в устье и, минуя мгновенно опустевшие, безлюдные становища, поплыли вверх по реке. В трех километрах от устья казаки высадились на берег. Место показалось им удобным, и они тут же на берегу срубили зимовье.
Так самим ходом событий была определена судьба названия нового моря. Еще некоторое время море это продолжали называть Ламским. Но по мере того как возрастало экономическое значение Охотска, административного центра огромного края, все чаще стали говорить Охотское море, то, на котором стоит Охотск. И постепенно новое название окончательно вытеснило старое.
У Шелковника и его товарищей довольно часто случались мелкие стычки с эвенами, но казаки, как правило, выходили победителями. Несмотря на колоссальное численное превосходство противника, они в первый же год взяли в плен, в аманаты, нескольких «знатных мужиков» — родовитых эвенов. Для них даже пришлось отстроить специальную аманатскую избу.
В наказной памяти, выданной Семену Шелковнику якутским воеводой, предписывалось не только собирать ясак с эвенов, но и проведывать новые земли на побережье Охотского моря и объясачивать населяющие их племена. Именно поэтому в следующем 1648 году Семен Шелковник послал морем на «государеву службу на реку Иню и за нее проведать, где бы государю прибыль учинить, служилых людей Ермилку Васильева да Олешку Филипова с 24 товарищами».
Вот этот эпизод и представляется мне одним из самых интересных и значительных в ранней истории Охотского моря.
Я уже упоминал, что поход этот завершился созданием первой лоции северо-западного побережья Охотского моря — документа оригинального, не утратившего своего значения и в наши дни, потому что в нем содержится ценный сравнительный материал: лоция помогает установить, какие изменения произошли за триста лет в очертаниях побережья, в его строении. Поэтому моя «встреча» с Алексеем Филиповым, происшедшая через триста лет после его похода в одном из научных залов Библиотеки имени Ленина, была не только интересна, но и полезна для меня как физико-географа.
К сожалению, я почти ничего не знаю о жизни Алексея Филипова до 31 мая 1648 года, когда он получил предписание вывести свои кочи из устья Охоты в море. Могу лишь догадываться, что какими-то судьбами занесло его в Якутск как раз в ту пору, когда десятник Семен Андреевич Шелковник набирал отряд для похода на восток. Где он родился и когда, где служил раньше — неизвестно, да и едва ли удастся узнать; и о многих прославленных землепроходцах мы порой почти ничего не знаем. Думаю, что ему немало пришлось совершить путешествий, прежде чем он попал в отряд Шелковника. Эти путешествия обострили его наблюдательность, натренировали память и научили заботиться не только о себе, но и о тех, кто через год, пять, десять лет пойдет по твоим следам, встретится в пути с теми же опасностями и трудностями. Чтобы облегчить им дорогу, чтобы избавить — их от излишних невзгод, написал Алексей Филипов свою лоцию.
Вместе с Семеном Шелковником проделал Алексей Филипов весь путь от Якутска до реки Ульи, вместе с ним зимовал в устье реки Сикши и строил кочи на плотбище; вместе с ним пробился он на Охоту и срубил зимовье, плечом к плечу сражался в боях. И надо полагать, что был он умнее и инициативнее других, что не уступал в воинской доблести самым отважным казакам, если Семен Шелковник поставил его во главе отряда.
Заключение это — не плод моей фантазии или особой симпатии к славному казаку. Обратите внимание, что первоначально во главе отряда стояли два человека — Ермил Васильев и Алексей Филипов… Но ведь Ермил Васильев — это бывалый казак, проделавший вместе с Поярковым весь поход по Амуру и оставленный с отрядом на Охотском море, в устье Ульи. И если. Алексей Филипов, дотоле никому не известный, был уравнен с таким опытным казаком-бывальцем, как Ермил Васильев, то, значит, для того имелись серьезные основания. Да и тот факт, что он написал лоцию, тоже сам по себе показателен…
…Ермил Васильев, отважный казак с неугомонным характером, не вернулся из этого похода: он либо погиб в бою, либо умер, не перенеся очередной голодовки. Я склоняюсь к последнему варианту, исходя не только из теории вероятности (в этом походе погибло в боях в два раза меньше людей, чем умерло по другим причинам), но и потому, что учитываю прошлое Ермила Васильева: слишком много перенес он за последние годы своей жизни, ибо экспедиция Пояркова была на редкость трудной и тяжелой даже по тем временам, хотя виною тому не только суровая природа и не только враждебные племена…
Итак, 31 мая 1648 года Семен Шелковник разделил свой отряд на две равные партий. С одной из них он остался на Охоте, чтобы удерживать в своих руках ключевую позицию, а другой под начальством Васильева и Филипова велел идти проведывать новые земли. Почти месяц ушел у Васильева, Филипова и их товарищей на подготовку к дальнему плаванию (а может быть, и погода задерживала); только 23 июня Алексей Филипов вывел оба своих коча в море. Крутая упругая зыбь подхватила плоскодонные суденышки, закачала, подбросила, обдала мореходцев холодными солеными брызгами, но казаки дружно налегли на весла, закрепленные в уключинах, и, отойдя подальше от берега, чтобы не выбросило случайно на отмель, поплыли на северо-восток.
Казаков не очень смущала сильная бортовая качка, и они благополучно прибыли к устью реки Ини.
Если вы посмотрите на крупномасштабную карту северо-западного побережья Охотского моря и найдете волнистую синюю ниточку, изображающую реку Иню, то увидите, что синяя ниточка привязана к маленькому голубому мешочку. Этот маленький мешочек на самом деле сравнительно крупная лагуна, в которую впадает река Иня.
Я был на этой реке. Наш сейнер уверенно бороздил воды лагуны, благо кошка защищала от морских волн. Ныне на Ине расположен крупный рыбокомбинат и поселок. Бригады рыбаков — русских и эвенов — ловят рыбу, подвозят ее в лодках к «плотам», где ее принимают рабочие рыбного комбината, а потом рыбу по конвейеру подают в цеха. Катера-«жучки», взяв на буксир два-три кунгаса, отвозят готовую продукцию на рефрижераторы или транспортные суда.
Иное дело — триста лет назад… Еще с моря заметили казаки дымы становищ и поняли, что и здесь, в устье Ини, живут и ловят рыбу «пешие тунгусы» — ламуты. Путь казаков шел дальше, мимо Ини к реке Мотыклее, и, вероятно, свернули они в лагуну не для того, чтобы покорить ламутов и заставить заплатить ясак. Может быть, пресная вода у казаков кончилась, может быть, дрова потребовались для очага, на котором готовили они свою немудреную пищу…
Кочи подошли к Ине в прилив («с моря вода была прибыльная», — сообщали потом казаки в отписке) и благополучно миновали узкий проход в лагуну. Буруны, почти незаметные в прилив, остались позади, гребцы «сушили» весла, а кочи еще продолжали медленно скользить по тихим водам лагуны.
И с берега материка, и с невысокой галечниковой кошки настороженно следили за казаками эвены. Мужчины — с рогатинами, пальмами, луками, откасами в руках, в костяных шишаках — стояли впереди, у самой воды; небольшие, лохматые собаки злобно тявкали, вертясь под ногами; вдалеке у чумов собрались женщины с ребятишками — круглоголовыми, черноглазыми…
Казаки плыли по лагуне все дальше и, дальше, и узкий выход из нее скрылся из глаз. Отважным мореходам казалось, что сомкнулось вокруг них плотное кольцо врагов. Молча подсчитали они число эвенов; их было около трехсот. Триста — против двадцати шести.
Впрочем, соотношение привычное для казаков XVII столетия. Не выказывая страха, да и не испытывая его, подвели они свои кочи к устью реки и сбросили в воду тяжелые якоря-грузилы. Вода в реке еще была соленой, и казаки, дожидаясь отлива, сошли на берег. Эвены, не нападая, но и не выражая дружелюбия, посторонились. Между тем после короткого «спора воды» начался отлив, течение в реке изменилось на противоположное, и вода со все возрастающей скоростью устремилась в море. Вздрогнули и развернулись по течению казачьи кочи; якорные веревки натянулись, и кочи неподвижно застыли.
А вода убывала и убывала. И вдруг казаки заметили, что кочи перестали опускаться вместе с ней: они нашли какую-то прочную опору, и борта судов становились все выше и выше. Тогда поняли казаки, что в прилив они (точно так же, как через триста лет наш, сейнер — помните? — в Кухтуе) неудачно выбрали место и теперь очутились на осушке… Заметили это и эвены. Убедившись, что незваные пришельцы прочно «обсохли» и сдвинуться с места не могут, эвены тотчас перешли в нападение; и осуждать их за это нельзя: от своих соплеменников, охотских, а может быть, и ульинских эвенов, они узнали, что обычно следует за приходом этих бородатых высоких людей, вооруженных страшными, извергающими гром и смерть пищалями. Ермил Васильев и Алексей Филипов не позволили захватить себя врасплох. Казаки, лучше вооруженные, вышли победителями из ожесточенного боя, и эвены, поспешно отступив, оставили их в покое.
Пять дней провели казаки в инейской лагуне, а потом заметили, что эвенов становится все больше и больше. Созвали Ермил Васильев и Алексей Филипов совет бывальцев и начали обсуждать, как им дальше быть.
Решили бывальцы, что лучше бы уйти с Ини, да погода ненадежна: несутся над морем низкие дымные облака и море с каждым часом рокочет все грознее, громче.
С приливом кочи все-таки вышли в море. Натянули казаки на мачты прямые паруса из сыромятной оленьей кожи, и кочи, зарываясь носами в пенящиеся волны, побежали вдоль берега. К ночи погода не улучшилась. Казаки следили за парусом, готовые в случае необходимости немедленно свернуть его и взяться за весла.
Алексей Филипов сидел у борта, вглядывался в темноту. Нет, берега не было видно, но привычное ухо казака улавливало за посвистом ветра, за плеском волн ровный гул наката; и если гул становился слышнее, Алексей Филипов тотчас приказывал повернуть руль так, чтобы коч ушел подальше от берега; если же гул наката совсем терялся в плеске волн, (бивших в борта, то казаки направляли коч ближе к берегу. Всю ночь безотказно действовал звуковой маяк.
Под утро налетевший шквал сорвал парус, он заполоскал на ветру, креня коч на левый борт, и казакам едва удалось поймать и закрутить его. Теперь без паруса пришлось подналечь на весла.
А непогода разыгрывалась. С каждым часом штормило все сильнее и сильнее. Волны переплескивали через борт, и казаки не успевали вычерпывать воду. Угрожающей стала качка — кочи могло перевернуть. Поглощенный борьбой с морем, Алексей Филипов вдруг совершенно рядом услышал рокот прибоя — их сносило к берегу. Он разыскал в тумане темное пятно второго коча. Тот уже метался среди высоких валов наката, то проваливаясь, то стремительно взлетая вверх…
Минут через сорок полузатопленные и полуразбитые кочи вышвырнуло на берег. Дешево отделались мореходцы: никто не погиб. Они оттащили в безопасное место свои довольно сильно пострадавшие суденышки. Осмотревшись, казаки увидели, что за широкой полосой галечникового берега лежит большое озеро, совершенно отделенное от моря, а за озером темнеет лес.
Выставив часовых, казаки забрались в кочи под навесы, заменявшие им каюты, и, плотно прижавшись друг к другу, чтобы согреться, заснули.
А едва шторм утих, казаки, «те же струги починя» (в этом месте отписки кочи названы стругами), снова вышли в море и без особых приключений дошли до устья реки Мотыклеи.
Река Мотыклея впадает в Мотыклейский залив, а Мотыклейский залив — это часть большой, Тауйской губы. Длина его — около двадцати километров. По берегам растет низкорослый лес из кедрового стланика, березы, рябины, стоят летники эвенов. Восточный берег залива возвышенный, а западный — низменный, болотистый. Река Мотыклея (вернее, их две — Большая и Малая) впадает в море на западном берегу.
На одной из Мотыклей казаки и решили срубить зимовье. Их не смутило, что рядом находился эвенский улус: чем ближе живут будущие плательщики дани, тем лучше.
Алексей Филипов прибег к тому же приему, что и многие другие атаманы до него. Он отправился к местным князькам и стал их уговаривать добровольно платить казакам ясак — приносить для государя великого соболиные шкурки. Но мотыклейские эвены не вняли, уговорам и отказались отдавать меха неведомому «государю всея Руси».
И не только отказались. Убедившись, что заморские пришельцы ничего, кроме беспокойства и неприятностей, им не принесут и что этих пришельцев совсем немного, местные князьки посчитали, что лучше сразу же расправиться с казаками. Крепкие, срубленные из толстенных бревен стены зимовья навели эвенских стратегов на невеселые размышления, и решено было обманным путем выманить русских на открытое место.
Из этой военно-дипломатической затеи ничего не вышло — не так-то просты были понаторевшие в воинских делах казаки! — и эвены пошли на приступ. Кончилось это тем, что эвены обратились в бегство, а двух их «лучших мужиков» казаки захватили в плен. Тавуна из илкагинского рода скрутил в рукопашном бою Якунка Максимов, а Лукача из убзирского рода — Кручинка Родионов. Якунке Максимову больше повезло: за своего пленного он получил соболей, а эвен Лукач оказался на редкость упрямым: родичам своим он запретил платить ясак и велел идти убивать русских.
Нет нужды описывать бесконечные стычки — атаки осаждающих, вылазки осажденных; порою жарко становилось и в буквальном и в переносном смысле. Так, 15 апреля 1649 года эвены подожгли зимовье и попытались растащить бревна крючьями, но казаки вновь вышли победителями и взяли в этом бою немалые трофеи: 40 луков, 4 рогатины, 24 откаса, 10 куяков костяных, 17 шишаков костяных, 65 лыж подволочных, 10 костяных крюков и 2 железных. Видя, что одолеть казаков не удается, в казенке «умер с сердца» непокорный аманат Лукач…
А потом наступил голод. Взятый с собой провиант быстро кончился, рыбу мешали ловить эвены, еще не потерявшие надежду избавиться от пришельцев, и сидели казаки вместе с аманатами в осаде, «нужду, голод и бедность терпели»… Сырое, прохладное, туманное лето сменялось суровой, с ледяными материковыми ветрами зимой, и вновь наступало лето, а положение не менялось, да и не могло измениться…
На Охоте в это время дела шли не лучше.
Отправив Алексея Филипова с товарищами, Семен Шелковник составил отписку для якутского воеводы. Жаловался он, что нападают на них «многие роды» тунгусов, что сидят они в осаде, и просил прислать на помощь человек сто казаков, обещая, что если начнут «иноземцы» дань платить, то в «ясачном сборе будет прибыль многая…».
С этой отпиской Семен Шелковник отправил в Якутск промышленного человека Федулку Абакумова вместе с мирным эвенским князем Ковырем. По дороге этот самый Федулка, заподозрив измену, убил своего спутника из пищали. За это он поплатился весьма жестоко. Дело в том, что произошло это где-то в бассейне Алдана, там, где местные жители знали и очень уважали Ковыря, — он был одним из авторитетнейших князьков; Шелковник, видимо, по пути на Охотское море прихватил его с собой. Соплеменники Ковыря, узнав о его смерти, «учинили между собой шатость», как жаловались потом казаки, и убили в отместку несколько русских. Казаки сами подвергли Федулку пыткам, а потом доставили в Якутск, где начался над ним долгий процесс: писали в Москву докладные, получали из Сибирского приказа разъяснения, а между делом нещадно били Федулку кнутом на «козле» на глазах у якутов и эвенов, которые требовали выдать им убийцу. Наконец пришло в Якутск из Москвы окончательное заключение по делу Федулки Абакумова и Ковыря: Федулку родственникам Ковыря не выдавать, а выпороть его еще раз и засадить в тюрьму. На Охоту же в ответ на просьбу Шелковника велено было послать людей столько, сколько следует, и собирать ясак с местных жителей «ласкою и приветом, с великим радением».
Новый отряд казаков во главе с Семеном Епишевым был послан на Охоту в июле 1650 года, но только 3 июня 1651 года кочи Епишева подошли к устью реки. Епишева, по его словам, встретило тоже до тысячи эвенов, все они были «сбруйны и ружейны» и в реку не пускали — не хотели, чтобы соединился он с осажденными русскими.
Епишев все-таки прорвался в Охоту и поплыл вверх по реке. Вот что увидел он там: на месте зимовья стоял острог — Косой острожек, как называли его потом казаки. Размерами он был невелик, стены ему заменял вал с тыном. Вокруг острожка стояли чумы эвенов: женщины готовили едут детишки ползали по земле, возились с собаками, мужчины ловили рыбу, зорко следя в то же время за осажденными. Сколько времени продолжалась эта терпеливая, «по-семейному» обставленная осада, Епишев не знал, да у него и не было времени раздумывать на эту тему.
…Короткий бой закончился. Навстречу Епишеву из острога вышло двадцать казаков — еле живых после долгой голодовки: одни из них опухли от цинги, другие исхудали так, что лица были обтянуты кожей, но все они держали в руках оружие и все готовы были продолжать свое трудное ратное дело…
Только не нашел среди них Епишев отважного и умного десятника Семена Андреевича Шелковника. Основав Охотск, он и сам навсегда остался на берегах студеного моря. Семен Шелковник умер в 1648 году.
Практичный казак Семен Епишев времени даром терять не стал. Научив цинготных больных, как приготавливать хвойный настой, он потребовал у целовальника из отряда Шелковника Конанка Ларионова (в отписке Епишева он Ларивонов) книги с записями ясачной, десятинной и поминочной казны. (У каждого целовальника была своя печать, у Ларионова на печати был кораблик.) Семен Епишев принял у целовальника казну по годам, и получилось, что отряд Шелковника собрал «Двадцать один сорок семнадцать соболей», десять пластин собольих, шесть «поминочных» соболишек, «покупочную» короткую лисью шубу с рукавами, двух «лисиченков» — чернобурого без лап и без хвоста и краснобурого с лапами, но тоже без хвоста, два «лоскута» лисьих да выдру… Все эти сведения Епишев занес в свои книги и припечатал их своей печатью: на ней было вырезано его имя.
Едва Епишев кончил сложные подсчеты и проверку документов, как эвены снова пошли на приступ: обозлило их, должно быть, появление нового отряда. Семен Епишев вышел к ним и стал уговаривать «старую дурость покинуть» и ясак платить исправно. Эвены, однако, его слушать не стали.
А 15 июля вернулся на Охоту с реки Мотыклеи Алексей Филипов с товарищами.
Лето прошло у Епишева в непрерывных хлопотах: он совершил несколько походов вверх по рекам Охоте и Кухтую, получил «недобранный» Ларионовым ясак за прошлые годы и даже ухитрился выманить у ясачных эвенов соболей в счет будущего года. Принимал ли Алексей Филипов участие в походах Епишева, я не знаю. Но когда в марте 1652 года Епишев, отправляя весь ясак в Якутск, выделил отряд в двадцать два человека, в его состав вошел и Алексей Филипов. Вместе с челобитными вез Алексей Филипов в Якутск и «роспись пути от реки Охоты до реки Мотыхлея».
Попробуем поставить себя на место казака XVII столетия и подумаем, что могло интересовать его, когда он готовился к походу в неизвестные края. Очевидно, прежде всего сам путь — где какие реки есть, какие горы и острова, сколько ходу от одной реки до другой, затем неплохо иметь уверенность, что идешь в незнакомые места не зря, что сможешь ты с пользой для «государя всея Руси» и для самого себя послужить там, наконец, совсем небесполезно знать, что не помрешь с голоду в этих краях: ведь государево жалованье казакам выплачивалось очень нерегулярно…
На все эти вопросы и отвечает лоция, составленная Алексеем Филиповым, рядовым землепроходцем, на себе изведавшим тяготы «государевой службишки» на дальних реках. Описывая побережье, указывая расстояния, Алексей Филипов обязательно отмечает, богата или бедна река рыбой, есть ли на реке туземные становища, где находятся лежбища моржей.
«С Охоты реки что видеть мыс и затем мысом речка Ульякан и до той речки с Охоты итти день своею силою (то есть на веслах. — И.3.), и в тое речку с моря лазит кунжа да маньма…» — Начинает роспись-лоцию Алексей Филипов и в дальнейшем рассказывает, что с реки Ульякан до реки Ульбеи два дня ходу, что у реки Ульбеи два устья; от реки Ульбеи до Ини, по сведениям Филипова, один день пути; на Ине живет много людей, и всякая рыба с моря в реку заходит…
С Ини идти день под парусом до утесов и до речки Олоки, где есть становище, но нет рыбы… От речки Маши виден моржовый мыс Мотосу, а на нем — лежбища моржей на протяжении двух верст и становище… Много моржей на островах против устья Мотыклеи… Есть сведения о местных жителях: тауйские тунгусы «живут с мотыхлейскими заодно, ходят друг к другу»; тунгусы морского зверя промышлять не умеют…
В том, что лоция Алексея Филипова принесла пользу его современникам, сомневаться не приходится; о ее ценности как исторического документа двух мнений быть не может. Попробуем уточнить, однако, чем полезна она современным исследователям. Вот, пожалуйста, зоогеографический пример. Алексей Филипов определенно утверждает, что вдоль западных и северных берегов Охотского моря были широко распространены моржи, что их было много. Он прямо указывает, что на Охотском море возможен «звериный зубной промысел», и советует послать туда людей. До Алексея Филипова, видимо, никто не сообщал в Якутск о широком распространении моржей в Охотском море, поэтому факт этот очень заинтересовал воеводу Ивана Акинфова. Он призвал для совета бывальца Кирилку Мезенца, и тот подтвердил, что при таком количестве моржей есть смысл начать промысел «рыбьего зуба», тем более что в Якутском остроге этот промысел многим «в обычай».
Я не знаю, удалось ли воеводе Ивану Акинфову организовать промысел «рыбьего зуба», но в конце концов совету Алексея Филипова последовали уж очень рьяно, и вот что является печальным фактом: ныне в водах Охотского моря не сохранилось ни одного моржа; все они были уничтожены из-за драгоценных клыков. Ареал их распространения, как говорят зоогеографы, на Тихом океане сократился, теперь они обитают лишь у берегов Чукотки, да и там уцелело к нашему времени лишь одно большое постоянное лежбище и около десятка временных мелких. Вот такого рода «влияние» человека на фауну и позволяет выявить лоция Алексея Филипова. Небезынтересно и то, что эвены не умели охотиться на моржей, предпочитая не связываться с этими грозными и могучими животными.
Большую часть своего пути отряд Алексея Филипова совершил вдоль низменного побережья, того самого, что изучала и наша экспедиция на сейнере. По всему этому побережью (об этом мы еще будем говорить) уже много тысячелетий, если не миллионов лет идет непрекращающаяся борьба между морем и реками; для побережья очень характерны лагуны, отчлененные от моря кошками, и устья рек, блокированные намытыми косами. Все это нашло свое отражение в лоции Алексея Филипова, а сравнение его описания с современной картой лишний раз убеждает, что этот аккумулятивный участок побережья чрезвычайно подвижен и имеет изменчивую береговую линию, что этот участок медленно, но постоянно поднимается, заставляя море отступать. В лоции Алексея Филипова, например, указывается, что река Ульбея имеет два устья, а теперь у нее одно. Судя по описанию Филипова, лагуна реки Ини триста лет назад была значительно меньше, чем сейчас, но зато большое лагунное озеро, на берег которого выкинуло в шторм кочи казаков, ныне не существует.
По лоции Алексея Филипова можно подсчитать, с какой скоростью передвигались казаки по морю: на кочах «своею силою» они проходили за день двадцать — двадцать Пять километров.
Обнаружив лоцию Алексея Филипова, я опубликовал о ней коротенькую заметку в «Известиях Всесоюзного географического общества». Мне показалось сначала, что появление этой заметки осталось никем не замеченным. Но через несколько лет, рецензируя для центральной газеты детскую книгу «Моря нашей Родины», написанную ныне покойным профессором Карелиным, я встретил в ней имя Алексея Филипова. Это принесло мне большую радость. И до сих пор мне приятно сознавать, что моя доля участия есть в том, что заслуги Алексея Филипова, умного и отважного казака, получили признание в наши дни, через триста лет после того, как дн кончил писать свою лоцию, а также в том, что Филипов начал новые посмертные странствия — из книги в книгу. А ведь далеко не всем жившим на белом свете выпадает такая честь!
Вновь приходится пожалеть, что мы очень и очень мало знаем о славной плеяде русских землепроходцев, что мы недостаточно внимательны к скромным описателям земли русской… Больше мне почти ничего не известно об Алексее Филипове. Знаю лишь, что он благополучно прибыл в Якутск и вместе с товарищами подал на имя «государя всея Руси» отписку, в которой рассказал о походе. Заканчивалась она так: «Вели за это, государь, Ленскому воеводе Дмитрию Андреевичу Францбекову да дьяку Осипу Степанову принять нашу челобитную и наш послужной список и заплатить нам государево жалование». Получил Алексей Филипов государево жалованье или нет — бог весть, мог и не получить, в те времена это никого не удивило бы. Но в той же отписке Алексей Филипов и его товарищи выражают готовность идти проведывать новые земли и лишь просят пополнить их отряд людьми.
Так, наверное, и было: немало еще постранствовал по Сибири и Дальнему Востоку землепроходец Алексей Филипов — составитель первой лоции северо-западного побережья Охотского моря…
В этом рассказе о первых землепроходцах на Охотском море я несколько раз упомянул имя казака Семена Ивановича Епишева, и порой не без легкой иронии. Это оправдано: особой удачливостью он не отличался, казаки его не слушались (бывало, что и били), бунтовали, прятали от него меха, играли в запрещенные азартные игры, перепродавали друг другу ясырных баб, а Семен Епишев обращался к ним с пространными речами, уговаривал вести себя прилично, а когда речи не помогали, садился и подробно излагал в отписке «Государю царю и великому князю Алексей Михайловичу всея Руси…» свои злоключения, горько сетуя на непослушных казаков.
Но прежде чем окончательно расстаться с Семеном Епишевым, мне хочется сказать о нем и несколько серьезных слов, им вполне заслуженных.
Много разных специалистов-самоучек (как выразились бы мы теперь) странствовало в XVII веке по Сибири: и рудознатцы, и звероведы, и жемчужники, и дорожники, и среди них помясы… Помясы, или, как их еще называли, «люди травного дела», «травники», — это знатоки лекарственных растений, народные врачи и фармацевты. В Москве в то время существовал Аптекарский приказ, своего рода министерство здравоохранения. В 1668 году этот Аптекарский приказ обратился к сибирским воеводам с требованием обязать помясов-травников прислать известные им лекарственные растения и указать, от каких болезней они помогают. На этот приказ отозвался один Епишев (по крайней мере других ответов пока не найдено), живший в те годы в Якутске. Он стал постоянным корреспондентом Аптекарского приказа и с хорошим знанием дела сравнивал европейские лекарственные растения с сибирскими. Он не скупился на описания («Трава колун, цвет на ней бел, горьковата, растет при водах, не во всяких местах…»), перечислял все известные ему виды, а известно их ему было немало. Достаточно сказать, что, по последним сведениям, в Сибири имеется около пятидесяти видов лекарственных растений (точнее, признанных медициной лекарственными), а Семен Епишев знал около двадцати лекарственных трав.
…В 1655 году боярский сын Андрей Булыгин, отправленный из Якутска «с государевыми служилыми людьми на государеву дальнюю службу на Ламу, на большое море Окиян, на Улью, на Охоту и на Мотыклей реки», послал из Охотского острога воеводе Михаилу Ардыженскому две отписки, из которых мы узнаем следующее. Спеша на смену Епишеву, который, как полагали, продолжал служить государеву службу на Охоте, Булыгин, к своему немалому удивлению, встретил Епишева на Улье. Епишев поведал ему о своей судьбе: эвены сожгли Косой острожек, аманаты разбежались, служилых людей на Охоте не осталось, и вообще жить там «от иноземцев не в силу…»
Пришлось боярскому сыну Андрею Булыгину все начинать сначала, с боем пробиваться в Охоту, ставить новый острог. Все это он сделал, а потом его сменили новые служилые люди, продолжившие борьбу русских за Охотск. Сам Андрей Булыгин в 1659 году вернулся в Якутск и был отправлен провожатым с соболиной казной в Москву.
Восточная дуга
…Палатка стоит на берегу Пенжины. Тихо пламенеет неугасающий, но к утру растворяющийся в голубизне ночной закат. Я смотрю на него сквозь полупрозрачный марлевый полог, углы которого пришиты к палатке. Совсем близко, — но кажется, что они далеко, — мельтешат комары, а дальше по легчайшему зеркалистому блеску угадывается река и чернеют на фоне желто-розового неба волнистые гряды сопок. Можно приподняться в спальном мешке, и тогда можно увидеть и галечниковый берег Пенжины, и редкие кусты ивняка, и стремительную мускулистую гладь реки, а на противоположном берегу разглядеть светлый чозениевый лес[5] очень похожий на лес эвкалиптовый… Привстать — оно как будто бы и просто, но тогда невольно коснешься плечами или затылком полога, а гуд комаров в палатке так устрашающ, что трудно решиться на активные действия.
Спать не хочется, но не от бессонницы, а просто потому, что позади знойный и душный, насыщенный комариным звоном день, а сейчас прохладно, сейчас отдохнула от неисчислимых укусов кожа, ибо под пологом нет ни одного комара — об этом позаботился сын.
Розовые — совсем светлые, можно читать — ночи вносят свои коррективы в наш экспедиционный режим: мы поздно ложимся и поздно встаем, хотя обычно в экспедициях все делается наоборот. Но отработать свое все успевают, и это главное. Вовсе не исключено, что когда появится много мошки — больше, чем сейчас — мы вообще перейдем на ночную работу: комары трудятся круглосуточно, а мошка к ночи стихает; правда, не в такие светлые ночи.
С работой — точнее, с маршрутами в сторону от Пенжины — будет видно, а думается ночью хорошо, свободно, и самые дальние мысли, как при идеальной радиопередаче, доходят без помех.
Впервые я отправился в экспедицию двадцать лет назад. Ровно двадцать лет назад. Сюда, на Пенжину, я приехал с сыном. Ему пятнадцатый год, и он еще не полноправный член экспедиции: обнаружилась вакансия, и его взяли. И так теперь шутя называют — «Вакансия», а специализируется Вакансия пока на мытье посуды. Сейчас Вакансия, в миру именуемая Святославом, спит, завернувшись с головою в спальный мешок, а я лежу и размышляю об очерке, который напишу, когда вернусь в Москву.
Я знаю о нем главное — он войдет в цикл «Были Охотского моря», коли уж так случилось, что Пенжина в оное впадает, — и я знаю, что будет главным в очерке: некогда Пенжина сыграла роль своеобразного моста, соединившего два основных землепроходческих потока — южный и северный.
Первый — от Ермака до Москвитина, по рекам и горам от Урала до Охотского моря. Второй — от безымянных мореплавателей, погибших у берегов Таймыра, до Федота Алексеева и Дежнева по морям Северного Ледовитого океана до Тихого океана.
Вот сейчас, когда уже начинает голубеть розовая пенжинская ночь, я очень доволен, что нашел формулу своего будущего очерка: я расскажу о «восточной дуге», соединившей северный поток землепроходчества с южным.
А прочертил эту дугу Михаил Стадухин со своим бедовым отрядом.
О южном потоке землепроходцев я уже довольно подробно рассказал в предыдущих очерках. О северном потоке, о некоторых драматических событиях, сопутствовавших ему, я буду подробно говорить в дальнейшем. А сейчас мне важно отметить, что Михаил Стадухин, в предыдущих очерках мною вскользь упомянутый, был в числе тех, кто активно прокладывал дорогу на восток по берегам северных морей.
Не могу сказать, чтобы Стадухин, как личность, приводит меня в восторг. Пожалуй, к нему больше, чем к кому бы то ни было из землепроходцев того столетия, подходит былинно-песенная характеристика этакого разудалого молодца — «Гей, ты удаль молодецкая!» Ну а удаль эта «молодецкая» далеко не всегда доставляла удовольствие окружающим, что видно из официальных документов того времени.
Историю не подправишь, и мне, как историку, остается лишь констатировать, что был Стадухин бесшабашен, подчас безрассуден, был самоуверен и завистлив, был буен в гневе, но и не гнушался подпустить кляузу, хотя предпочитал решать все споры кулачным методом. И был безмерно отважен. И был истинным землепроходцев, многие годы проведшим в беспрерывных странствиях.
О Михаиле Васильевиче Стадухине известно, что в 1630 году был он отправлен из Енисейска на Лену, дабы нести там службу, и уже через три года возглавлял поход на Вилюй. В историко-географическом плане эти подробности не так уж важны — важны они лишь для биографии Стадухина… Достаточно подробно прослежены историками и последующие его маршруты. Короче говоря, имя его не забыто: походы Стадухина наносят на карты, его вспоминают в книгах…
Но вспоминают, как правило, странно: в некоем сочетании с прославленным Дежневым, и прежде всего как его личного врага.
Мне неизвестны подробности перводесятилетней службы Стадухина в Восточной Сибири, но мне они и не нужны сейчас. Как первооткрыватель Стадухин включился в великое движение русских на восток лишь в 1641 году, когда воевода Петр Головин — о нем речь еще впереди — отправил его во главе отряда служилых людей в верховья Индигирки. Я уже писал, что в этом походе принимал участие Семен Дежнев — там завязались сложные их, с нашей точки зрения, взаимоотношения, — и оттуда, с Индигирки же, Андрей Горелый ходил в свой сухопутный поход к Охотскому морю.
Сложность взаимоотношений Дежнева и Стадухина, пожалуй, не выходит за пределы, определяемые разницей в характерах. Цели у них первоначально были одни — сбор ясака, и каждый казак стремился преуспеть в оном. И каждый казак стремился найти себе такую волость, в которой с наибольшей выгодой можно было бы собирать ясак. Уже после того как Стадухин и Дежнев, не раз поссорившись, расстались, Стадухин сплыл по Индигирке до Северного Ледовитого океана и, двинувшись на восток, открыл Колыму.
У поколения, жившего или живущего в середине двадцатого столетия, с Колымой связаны воспоминания не простые, и у меня тоже есть основания вспоминать Колыму не просто… Забыть об этом невозможно, но — тут уж речь должна идти об особенностях человеческой психологии, — когда я читал одну из отписок Стадухина, меня посмешило такое причинное объяснение некоторых естественно-исторических наблюдений: на Колыме «рыбы всякой много». Почему?.. Потому, что «те реки рыбные».
А Колыму первооткрыватель ее описывал так: «Колыма де река велика, есть с Лену реку (тут он ошибается. — И.3.), идет в море так же, как и Лена, под тот же ветр (а ведь хорошо — «под тот же ветр», — И.3.), под восток и под север, а по той де Колыме реке живут иноземцы колымские мужики свой род оленные и пешие сидячие многие люди, и язык у них свой…» Есть, разумеется, и отличный зверь на Колыме — и соболь, и песец, и лисица…[6]
Индигирка… Колыма… В заключительных разделах этой книги я еще раз вспомню эти реки, чтобы рассказать о замечательных ученых — о Черском, о совсем недавно скончавшемся С. В. Обручеве… Ну а пока я могу лишь констатировать, что Стадухин первым основал Нижне-Колымский острог на вновь открытой реке (теперь это Стадухино в двадцати километрах от Нижне-Колымска), встретился еще раз там с бывшим своим подчиненным Семеном Дежневым, и прочно обосновался на Колыме.
Позднейшие взаимоотношения Стадухина и Дежнева подчас носили характер непосредственного рукоприкладства, но основной спор их — основной для историко-географов во всяком случае, — возник не по вине Стадухина и без его участия. А в общем-то действительно немаловажно, что именно из-за Стадухина продиктовал Дежнев свои отписки якутским воеводам, между прочим повествующие и о первом плавании вокруг северо-восточной оконечности азиатского материка.
После того, как Дежнев прочно обосновался на Анадыре (об этом рассказывается в очерке «Берега несправедливости»), ему вместе с товарищами посчастливилось открыть «коргу» — лежбище моржей неподалеку от устья Анадыря.
С некоторым опозданием на ту же коргу наткнулся некто Селиверстов, участник походов Стадухина на восток и, решив присвоить себе открытие вместе с правом добывать моржовую кость, заявил официально, что корту эту они вместе со Стадухиным открыли раньше Дежнева во время морского похода.
Стадухина на Анадыре тогда уже не было, но Селиверстову — не меньше, чем Дежневу, — хотелось разбогатеть на моржовой кости. Вот тут-то Дежнев и принялся доказывать свой приоритет, весьма темпераментно повествуя в отписках, что Стадухину морской поход с Колымы на Чукотку не удался и Большого Каменного Носа он не обходил — того самого «носа», что ныне называется мысом Дежнева.
Правота в этом споре — на стороне Дежнева, и, насколько я могу судить, двух мнений тут быть не может.
Но я уже писал, что косвенный виновник спора — фигура достаточно колоритная, чтобы заинтересоваться ею и вне прямой связи с другими землепроходцами. В общих чертах я это представлял себе и до поездки на Пенжину, но мне не к чему грешить против истины и уверять, что отправился я в Пенжинскую экспедицию Аэрогеологического треста, дабы специально пройти — или пролететь — по следам Михаила Стадухина.
В жизни все получается и проще, и неожиданней. Мой старый университетский товарищ Иосиф Невяжский, вместе с которым мы два года работали в Восточно-Сибирской экспедиции МГУ, как-то сказал мне в телефонном разговоре, что отдел их отныне намерен заниматься разработкой ультрасовременной методики геологической съемки. Вместе с начальником отдела В. Н. Брюхановым они остановились, как на экспериментальном полигоне, на северных районах Камчатской области.
— Мой отряд на реке будет работать, — сказал Невяжский. — На Пенжине. Представляешь, какая прелесть?.. Своя моторка, свои понтоны, рыбалка… И полная свобода. Поехали?..
Я промычал в трубку нечто неопределенное.
— Экзотики будет навалом, — пообещал Невяжский.
Экспедиция должна была состояться на следующий год, а что может быть проще, чем дать обещание на год вперед?
Весь год так и шли потом потихоньку разговоры, и с каждым новым разговором я обнаруживал все больше симпатичного в предложении своего товарища. В последние годы трассы моих путешествий проходили по Средней Азии, по Африке, по Западной Европе, а на северо-востоке Азии я не был с 1947 года… Срок, что и говорить, солидный — восемнадцать лет. И еще одно привлекало меня: Пенжина как-то обойдена нашей литературой. Почти всем известна Пенжинская губа Охотского моря из-за своих наивысочайших в стране приливов — они достигают одиннадцати метров. Но река Пенжина?.. Разумеется, есть сведения о длине ее, о площади бассейна. Но, уже вернувшись в Москву, я взглянул в БСЭ на карту Камчатской области и ахнул: районный центр Пенжинского района, Каменское, помещен на берегу Охотского моря, а он находится в семидесяти пяти километрах от него, на Пенжине… Село Аянка показано в устье реки Аянки, притока Пенжины, но расстояние между ними — примерно сто пятьдесят километров… А селений на Пенжине, как говорится, раз-два и обчелся.
Так что было что самому посмотреть на Пенжине.
Мы вылетели из Москвы в середине июня на ТУ-104 и сразу от Москвы, словно под горку, покатились к Пенжине — теперь она притягивала к себе как нечто роковое.
Перелет — без единой задержки, минута в минуту по расписанию, и через четырнадцать часов полета мы уже приземлились в Петропавловске-Камчатском. Кое-кто из нас — и я в том числе — лелеял мечту в оном городе задержаться и даже поездить по окрестностям. Но улетевший несколькими днями раньше начальник экспедиции В. А. Фараджев рассудил иначе и к моменту нашего приземления уже позаботился о дальнейшем пути… Едва размяв ноги, мы погрузили свое имущество, в том числе моторную лодку, в ЛИ-2 и снова очутились в воздухе.
Камчатка, несмотря на летнее время, была в снегу, и зрелище это вызывало у меня чувства, трудно поддающиеся сравнению с чем-либо. Что вулканы у Авачинской губы стояли совершенно белыми — это еще понятно, но белым было и среднегорье центральной части полуострова, и только от океана снег отступил — прибрежная полоса чернела, и чернели ребра скал на Склонах гор, придавая сурово-сдержанный облик всему ландшафту.
И неожиданно синим — синим по-летнему — был внизу океан.
Садились в ключах.
В проливе Литке, словно в честь знаменитого полярного мореплавателя, плавали льды, и лед лежал на берегу в приливной зоне, и еще не оттаяли озера, и белели линзы зимнего снега. А рядом со льдом, рядом со снегом зацветали рододендроны — мужественная, с крупными желтыми цветами кашкара.
Каменское с утра не принимало, как, впрочем, не принимало оно уже в течение нескольких недель ни одного самолёта. Мы бродили вдоль очень тихого и ласкового из-за льдов моря, собирали водоросли, собирали раковины и скелеты морских звезд. В день прилета мы с Сыном искупались в море, но теперь при одном взгляде на воду, на приблизившийся к берегу лед, бросало в дрожь.
В одиннадцать часов совершилось чудо: аэродром в Каменском открылся.
…Пройдя над заливом Корфа, мы пошли над Юго-западными отрогами Корякского хребта. Под нами — все та же черно-белая графика. Грандиозная и лаконичная картина без единого лишнего штриха. Сколько художников писало с нее копии? Бог весть! Но сколько еще будет писать!
За Пенжинским хребтом появилась Пенжина — мутная, петляющая по равнине, разбивающаяся на рукава, теряющая старицы Пенжина.
ЛИ-2 пошел на посадку…
Итак, Каменское, галечниковая коса. По одну сторону — вздувшаяся стремительная река, по другую — едва просохшая лайда; перед крохотным служебным зданием лежат совсем свежие, недавно нарубленные ветки кедрового стланика. Собственно, это лишь часть Каменского — основной поселок на другой стороне реки, за сопкой, и оттуда, из-за сопки, появляется зеленая жужжащая стрекоза — наш экспедиционный вертолет.
Курс теперь — на Аянку. Внизу, в низких тундровых берегах, петляет Пенжина. Летим недолго — час с небольшим — и чуть ли не на первом же крутом вираже открывается нам затопленное селение — Аянка. В Аянке будет наша постоянная база, но на Пенжине — наводнение, и сверху вид у «базы» не слишком презентабельный…
Современная Аянка стоит примерно в двадцати километрах ниже того места — оно называется Толстый камень, — где Пенжина прощается с отрогами Ичигемского хребта, прощается с горами и выходит на равнину, выходит в Пенжинский дол.
На историко-географических картах приблизительно там же, где находится Аянка, помещают Пенжинский острог. Я не слыхал, чтобы остатки его сохранились, и допускал, что на карты острог наносится с достаточной степенью произвольности. Так оно, наверное, и есть. Но Аянка выстроена на одном из самых удобных мест по средней Пенжине, и не случайно выстроена, разумеется.
У Аянки кончается тундра и начинаются леса, начинается тайга, которая тянется до самых верховьев реки и уходит дальше на запад, за горы.
Лес необходим не только современным жителям Аянки. Лес был необходим и землепроходцам семнадцатого столетия и для того, чтобы выстроить надежный острог, и для многочисленных хозяйственных дел, что нетрудно понять. И нетрудно понять, как выгодно было географическое положение острога на месте Аянки: гарнизон его мог контролировать и дорогу, и кочевые пути с Анадыря на Пенжину и обратно.
Нынешняя Аянка — центр крупнейшего в Камчатской области оленеводческого колхоза «Полярная звезда». Работают в нем чукчи, эвены и русские. Народу в колхозе сравнительно немного, а территория у него — три миллиона гектаров! 350 километров из конца в конец по самой длинной прямой!.. Право же, совсем не европейские масштабы.
Колхоз — богатый, с широким размахом жизни. Меня, честно говоря, при первом знакомстве с Аянкой больше всего поразил масштаб строительства — строилось, наверное, до десятка новых домов сразу: и клуб, и школа, и жилые дома… Тому были причины: Пенжина, изменив русло, смывает сейчас дома Старой Аянки. Но на то оказались и средства — не всякий колхоз смог бы позволить себе столь бурную перестройку.
От традиционного чукотско-камчатского прошлого в Аянке остались разве что высокие лабазы, чтобы прятать туда вещи при наводнениях, привязанные к деревьям мирные ездовые собаки, приставленные к складам нарты… Напоминают, что ты на Крайнем Севере, и растянутые для просушки на стенах домов медвежьи шкуры… Я сначала обнаружил в Аянке и довольно много чумов, но потом сообразил, что местные жители так сушат дрова — ставят их конусом, чтобы лучше продувались и не сырели. Настоящих летних чумов я насчитал всего две-три штуки, но и они использовались лишь для хозяйственных нужд… Одеты все аянцы, как раньше принято было говорить, «по-городскому». В резиновых сапогах и телогрейках щеголяли в основном мы — экспедиционные деятели. А местные дамы — чукчанки, и русские, и эвенки — ходили по редким сухим островкам в туфельках на высоких каблуках. А молодые мамы катали в колясках детишек, прикрывая их козырьками от солнца, всегда такого яркого, пока оно светит, на севере.
Сейчас, в наводнение, по Аянке ездят на лодках. На лодках отправляются в магазин, на лодках едут в правление колхоза, в баню, в гости; даже за водою подчас едут на лодке — ту, что разлилась по поселку, пить нельзя.
Лодки выдолблены из цельных стволов тополя и растянуты вширь над костром. Все они выкрашены в нежно-зеленый цвет — такую в прошлом году завезли краску в магазин. Называют здесь лодки «каюк». Не знаю, как попало на Пенжину это турецкое, если верить толковому словарю, слово, но я-то сразу понял, что мне действительно придет каюк, если я рискну поплыть в такой лодке; даже обыкновенная байдарка выглядит мощным судном по сравнению с крохотным каюком, борта которого едва приподымаются над водою.
Но мне пришлось узнать и другую точку зрения на местные плавсредства. При мне радист Аянки Чернявский пригласил на рыбалку старика чукчу Уягана — предложил вместе съездить за хариусами, или «харитонами», как говорят на Пенжине.
— Харитон хоросё, — сказал Уяган. — На чем поедем?
— Экспедиция моторную лодку привезла…
— Ни! На моторе боюся. Мотор сломается — чего делать будем? На карбасе надо, однако…
Карбас — это каюк с нашитыми по бортам досточками. И я сам видел, как великолепно идут в полую бурную воду против течения и каюки, и карбасы, — не только видел, но потом не раз вспоминал их, когда подводил нас мотор и мы беспомощно притыкались к берегу.
«Аянка» в переводе с корякского — «Безъягельная». Нет ягеля, нет корма для оленей. В Аянке есть молочный скот, есть птица. Но главное богатство колхоза — северные олени, и олени пасутся далеко от Аянки, в тундре, в горных долинах.
Западнее Восточной Сибири северный олень — упряжное животное, его запрягают в нарты. В Восточной Сибири на оленях ездят верхом; это верховой или, как еще говорят, «седовой» олень. На крайнем северо-востоке Азии до последнего времени олень, как средство транспорта, не использовался — ездили на собаках.
В правлении колхоза я прочитал обязательства, которые брали на себя пастухи. Помимо тщательного «окарауливания» стада, помимо многократной «противооводной» обработки, пастухи еще обещали приучить к упряжке, к нартам, по десять оленей в год.
И еще одна любопытная деталь: в стадо, к оленям, пастухи ездят на лошадях.
Но лошадь попала на северо-восток вместе с землепроходцами.
В местах, весьма удаленных от Пенжины, в Египте, на, Ниле, старый волжский речник как-то в сердцах обругал Нил «безобстановочной» рекой — нет тебе ни створных знаков, ни бакенов, — разве это порядок?!
Раньше незнакомое мне и не слишком изящное слово — «безобстановочная»! — я частенько вспоминал на Пенжине. Сначала в том смысле, как употребил его старый волжанин, а потом уже в другом, ироническом: обстановочка на «безобстановочной» Пенжине оказалась хоть куда как сложной!
Нас забросили в устье реки Авнавлю, притока Пенжины, названной так в память охотника-чукчи, погибшего на реке в погоне за снежным бараном.
Оттуда, от Авнавлю, нам предстояло уже самостоятельно спускаться обратно в Аянку, отрабатывая по дороге заранее намеченные ключевые участки.
Осложнения начались сразу же. Уже из первого маршрута, когда мне и Анатолию Подноскову Невяжский поручил перебросить часть груза в устье реки Аянки, мы не смогли вернуться на лодке: мотор не тянул против течения. Лодку пришлось бросить, мы стали выходить к лагерю тайгою, и лишь случай спас нас от неминуемой гибели при встрече с медведицей… Потом лопнула из-за допущенного на заводе брака станина мотора, потом пропал понтон, потом мы лишились всего запаса горючего… Бог с ними, со всеми этими «потом», но наступил момент, когда мы после целого ряда неудач обрели вдруг устойчивое равновесие: вскоре нам привезли и новый мотор, и двухсоткилограммовую бочку горючего, и продукты…
Перекрестясь, как в старину, мы решили в тот же день переехать с Авнавлю к устью безымянного ручья, на противоположном берегу Пенжины. Там, в устье ручья, побывал уже и я с Подносковым, и Невяжский, и дело казалось нам проще пареной репы: полчаса вниз по течению до ручья, час на пустой лодке обратно. Легкая прогулка!
Что именно так представляли мы себе оное плавание, говорит следующий факт: оставив себе самую тяжелую работу по транспортировке грузов, мы отправили на моторке единственную в нашем отряде женщину, Надю Данилову, единственного в нашем отряде не умеющего плавать Ростислава Котелкова, ну и Вакансию, конечно.
Лодку повел Подносков, а мы с Невяжским и рабочим Бодаком занялись переброской груза с Авнавлю на берег Пенжины.
Прошел контрольный срок возвращения моторки. Она не появилась, но мы не были педантами и сначала не придали этому особого значения. Потом прошел час, второй, третий, четвертый… Наступила полночь. Солнце село, и небо приняло нежно-розовый оттенок, а в Пенжине словно растворился весь пепел бесчисленных таежных костров; мускулистая пепельно-стальная лавина, волоча на себе деревья, громоздя их в протоках, неслась мимо нас на восток, туда, где случилась беда с лодкой.
Что случилась беда, мы уже не сомневались, а в распоряжении нашем не было ничего, кроме понтонов, кроме «резинок», которые могли плыть лишь вниз по течению. Мы запустили несколько ракет, мы дали несколько выстрелов из «тозовки». Ни река, ни тайга не ответили. Тогда мы разгрузили один из понтонов и вновь загрузили его уже для других целей — надо плыть на поиски, ничего иного нам не оставалось.
Наверное, до конца своих дней я буду вспоминать эти часы как самые неприятные в жизни. Никогда раньше я не знал, что ноги могут стать глиняными. Нет, — подкосились, подогнулись, — это все не то. Глиняные ноги. Такое ощущение, что они вот-вот рассыпятся. И я не знал, что страх может быть таким идиотским: пожалуй, я больше боялся за оставшуюся в Москве жену, чем за пропавшего на Пенжине сына.
Уже за полночь, когда мы с Невяжским садились в «резинку», в тайге послышались крики и на косу вышли… двое. Надя Данилова и Ростислав Котелков… Я пошел им навстречу на рассыпающихся ногах и, кажется, даже улыбался.
— Все живы? — спросил Невяжский.
— Все живы, — ответил Котелков. — Лодку под залом затянуло. Перевернулись.
Я понимал, что они не обманывают, что все живы, но я им не верил. Я потрогал Надину телогрейку и спросил:
— Успела высохнуть?
— А я и не промокала, — сказала Надя. — Нас со Святославом за несколько минут до крушения на берег высадили.
Мы сели у костра, и я подвесил над огнем чайник.
— Мотор как ножом срезало, — сказал Котелков. — И весла утонули. Ну и продукты, и все прочее. Ящик с документами, к счастью, уцелел — заклинило его в багажнике… В общем, легко отделались… Когда Подносков нас на берег переправлял, чтоб к вам идти, Вакансия уже у костра фотоснимки и карты сушил…
— Где хоть они? — спросил Невяжский.
— На острове, а точно не знаю, — сказал Котелков. — Немного мы до первого участка не доехали.
Мы проработали тогда сутки без сна и отдыха. Мы опять тащили, грузили, ходили, гребли и в конце концов переправили весь груз и всех людей на правый берег Пенжины, на котором и намеревались разбить новый лагерь. Оттуда мы с Невяжским, соорудив из двух понтонов подобие катамарана и доверху загрузив, ушли на поиски Подноскова и Вакансии. Сначала мы плыли, обшаривая протоки, или куюлы, как их там называют, и старательно обходя завалы, а потом оставили понтоны и, где посуху, где вброд, стали прочесывать пойму… Островки в пойме были истоптаны медведями и лосями. Никогда я не встречал столько зверья, сколько здесь, на Пенжине. Тайга на Пенжине — ленточная, прижатая к реке, зверью тесно, и попадается оно чуть ли не на каждом шагу.
На ракеты, на выстрелы по-прежнему никто не отвечал. Перебравшись через очередную протоку, мы вышли к основному руслу Пенжины. Пути дальше не было.
— А вон и палатка, — сказал Невяжский.
Из палатки доносилось мирное посапывание. Первый выстрел из ракетницы не произвел на дрыхнувших никакого впечатления. Лишь после второго выстрела из палатки вылез заспанный Подносков, а Вакансия, по-моему, просто перевернулся на другой бок. Предстояло еще черт-те сколько работы — опять тащить, опять грузить, сплавлять ставшую беспомощной моторку, свозить в одно место людей, организовывать лагерь, — но, опустившись на бревно у палатки, я вдруг почувствовал себя совершенно отдохнувшим. Словно я, а не Вакансия, отоспался в палатке после крушения.
Так своеобразно породнились мы с Пенжиной, и уже потом, действительно отоспавшись и отдохнув, я решил написать о Пенжине и о тех, кто первым прошел по ней. Когда мы разбили лагерь и когда Подносков развернул свою рацию, я в первой же телеграмме домой попросил заказать к моему приезду два тома «Дополнений к Актам историческим», в которых, как я помнил, были и отписки Стадухина.
То плавание с Колымы на восток, о котором так сердито писал Дежнев, Стадухин задумал и предпринял с опозданием: экспедиция Федота Алексеева, в которой принимал участие Дежнев, к тому времени уже дважды уходила в море искать таинственную реку Погычу и не вернулась обратно из второго плавания. Тогда-то и прошли впервые русские кочи между Азией и Америкой по проливу, который теперь называется Беринговым.
Стадухин предпринял свою экспедицию в 1649 году. Команда у него подобралась отчаянная — всех беглых, проклинаемых якутскими воеводами служилых людей, Василия Бугра, забубенную головушку в том числе, — взял Стадухин к себе в полк, но экспедиция сорвалась в самом начале. Всего семь дней бежали казачьи кочи на восток, а потом пристали к берегу. Судя по сообщению Василия Бугра, один коч погиб в море, но почему так быстро отказался от своих планов Стадухин — можно только догадываться. Вероятно, тяжелой была ледовая обстановка, да и коряки, с которыми встретился на берегу Стадухин, уверили его, что никакой реки Погычи впереди нету… Так или иначе, но Стадухин повернул обратно и уже 7-го сентября, после нового года по старомосковскому календарю, вернулся в Колымский острог.
И обнаружил его занятым. Туда пришли служилые люди во главе с Семеном Моторой и промышленные люди, и никому из них не пришло в голову освободить зимовья для Стадухина и его товарищей.
Что-что, а уж Колыму-то Стадухин считал по меньшей мере своей персональной вотчиной. Он потребовал, чтобы новопришедшие служилые люди влились в его полк, признали его, Стадухина, главнокомандующим, но те почему-то отказались. Стадухин пришел в ярость, обстановка на Колыме накалилась до предела. А после того, как Стадухин узнал, что пришлые в минимально короткий срок успели разведать сухопутную дорогу на «захребетную» реку Погычу, она же Анадырь, и готовят туда экспедицию, — после этого произошел взрыв, или, говоря современным языком, разрыв дипломатических отношений между отрядами. Стадухин состряпал несколько кляуз и отправил их в Якутск, и Стадухин, опять же, выражаясь современным языком, пообещал Моторе выйти первым и создать для второго отряда мертвую зону: разогнать местных жителей, отобрать у них корма, нарты и т. п.
Угрозы, однако, не помогли, и по зимнику оба отряда независимо друг от друга пошли через горы На Анадырь, так ни о чем и не договорившись. Пути отрядов несколько раз перекрещивались, и ни к чему хорошему это не приводило: возникали и потасовки, и нечто вроде сражений, а однажды сплоховавший Мотора угодил в плен к Стадухину и девять дней просидел у него в колодках. Стадухин вынудил Мотору дать — подписку, что на Анадыре Мотора признает верховодство Стадухина, но, очутившись на воле, Мотора и не подумал выполнять обещание.
На Анадыре оба враждующих отряда обнаружили пропавшего Дежнева, и Мотора тотчас объединился с ним. Соотношение сил изменилось не в пользу Стадухина, но это его ничуть не смутило. Он продолжал буйствовать, продолжал безобразничать и довел своих противников до того, что Дежнев и Мотора решили уйти с Анадыря… на Пенжину.
И ушли, «укрывался и бегаючи от его Михайловы изгони», как сообщили потом в отписке. Три недели продолжался этот поход, но закончился он неудачно: Пенжину найти не удалось.
И тогда на Пенжину отправился сам Стадухин, которому, очевидно, все-таки надоели распри. Правда, если верить его отписке, то ушел он с Анадыря из-за «насилства» Дежнева и Моторы, но тут ему, пожалуй, не стоит верить.
Трудно сказать, сколько человек отправилось со Стадухиным на Пенжину. В отписке названы имена немногих, преимущественно погибших. Можно лишь констатировать, что в походе приняли участие Максим Иванов, Тимофей и Шарап Важенины, Семен Зоя, Ерофей Киселев, Иван Федоров, Агафон Иванов, Андрей Филипов, Иван Шестаков, Савва Федотов, Архип Аршинин, Матвей Калин, Михаил Вят, Яковлев, Пустодом, Сидоров, Манов…
Но отряд едва ли был малочисленным. Стадухин хоть и ходил в чинах невеликих — и на тридцатом году службы все в десятниках числился, — но славу имел громкую, и люди к нему шли.
На Пенжину Стадухин отправился уже зимою, нартами. Если ему удалось захватить знающих вожей — отсутствием их объясняли свою неудачу его предшественники, — то путь его пролегал, скорее всего, по долине Майна, притока Анадыря. Майн берет начало на северо-восточных склонах Пенжинского хребта, и лишь невысокий перевал отделяет его истоки от бассейна Пенжины.
Нелегким, конечно, был поход Стадухина. И зимы в тех местах суровые, и снега глубокие, и метели сильные. В Якутии, где раньше служил Стадухин, сильный морозам чаще всего сопутствует полный штиль. А на северо-востоке в самые сильные морозы дует нередко ветер — хиуз, к которому местные жители относятся с неменьшим почтением, чем к злейшей пурге. И с подножным кормом для людей в тех краях худо. На всяческие бедствия жалобы есть почти во всех отписках, но у Стадухина, не сомневаюсь, имелись основания написать, что шли они «с великою нужою и без хлеба на том волоку едва не померли».
Стадухин торопливо прошел все среднее течение Пенжины — в его отписке даже нет этого названия — и 5 апреля 1651 года достиг устья правого притока Пенжины Аклея, как пишет он, или Оклана, как пишут на современных картах. В устье Оклана стояло укрепленное корякское селение, и казаки завладели острожком; Так обрели они, наконец, временное пристанище. Далеко не спокойное, впрочем… Весною казаки решили построить, морские суда и, как написал потом Стадухин, «лес судовой добывали с великой нужою, а суднишка поделали».
Да, действительно нелегко было на нижней Пенжине «поделать суденышки». По рассказу самого Стадухина, «на той реке лесу нет, по обе стороны все камень голец с вершин и до моря, а рыбы мало». Растет на гольцах кедровый стланик да кустарниковая березка с ивами, а лиственницы, тополя, чозения, береза — это все гораздо выше по реке, за Аянкой.
Так или иначе, казаки кочи построили и, узнав от коряков, не чаявших, как избавиться от незваных пришельцев, что есть за морем река Гижига, и лесом богатая, и соболем, узнав это казаки расстались с Пенжиной. Могучие приливные волны поднимали и опускали их кочи, пока шли они Пенжинской губою. Наверное, немало подивились казаки столь странному поведению моря-окияна, — на северных морях приливы практически незаметны, — но каверзу учинили им не приливные, а обычные морские волны: трое суток носил шторм кочи по морю, и один из кочей разбило о скалы.
Гижига произвела на Стадухина более благоприятное впечатление, чем Пенжина, и он написал, что «на той реке будет государю прибыль немалая». Сам он, выстроив острог, продержался на Гижиге одну зиму, отражая почти непрерывные атаки воинственных коряков, и «сошел с той реки от безлюдства, что служилых людей мало, привести (коряков. — И.3.) под государскую высокую руку не кем…»
И тогда продолжилось плавание Стадухина по Охотскому морю. Плыл он не спеша, все лето, и лишь 10 сентября 1653 года выбрал место для нового острожка, на реке Тауе, что впадает в Тауйскую губу… На берегах Тауйской губы жили уже не коряки, а тунгусы, эвенки, но по-прежнему, конечно, продолжались между казаками и местными жителями ожесточенные бои, по-прежнему сидели в казенках аманаты, собирался для государевой прибыли ясак…
Об Охотском море Стадухин отозвался весьма скептически, написал, что там «никаких диковин нет». Впрочем, какие «диковины» могли поразить воображение казака, почти четверть века проведшего в непрерывных странствиях?! Удивительнее, что он не заметил на Охотском море моржей.
Стадухин вернулся в Якутск лишь в 1659 году. Погиб он в 1666 году по пути на Колыму, — тянуло, наверное, старого казака на реку, которую он первым из русских увидел своими глазами.
Мне же в заключение важно подчеркнуть, что в Тауйской губе сомкнулись маршруты Алексея Филипова и Михаила Стадухина, сомкнулись северные и южные пути-дороги. Позднее, когда Стадухин, уже направляясь в Якутск, пришел в обжитый Охотск, пути-дороги навсегда сплелись там для историко-географов в неразрываемый узел. Восточная дуга прочно легла на северную и южную опоры.
Река
Первоначальная история исследования Охотского моря, как видно по предыдущим главам, неразрывно связана с историей Якутска или, точнее, Якутского острога: походы и начинались, и заканчивались в административном центре гигантского воеводства.
И поневоле в книгах или документах, которые я читал, заинтересовавшись Охотским морем, мне попадались имена воевод… И частенько встречалось имя Василия Пояркова, того самого, что побывал на Охотском море после Москвитина и Горелого. Как правило, имя его соседствовало с именем воеводы Петра Головина. В самом этом совпадении нет ничего странного: Поярков был «письменным головой», то есть чиновником по особым поручениям при воеводе, и положено им было действовать вместе.
Они и действовали вместе, в полном согласии, но действия их на первых порах показались мне несколько неожиданными… Пытают в пыточной избе Семена Шелковника (еще до похода на Охотское море) — и Василий Поярков тут как тут… Бьют батогами отчаянного казака, Василия Бугра, в числе первых пришедшего на Лену, — и Поярков при деле… Морят голодом, калечат Ерофея Хабарова — и Поярков не в стороне… Пытают Парфена Ходырева… И так далее и тому подобное…
Из песни слова не выкинешь: по Охотскому морю Поярков плавал, первым прошел от устья Амура до Ульи, и я решил, что называется, поближе познакомиться с ним.
Известность Пояркову, строго говоря, принесло не плавание по Охотскому морю (исключая южный участок, он повторил путь Москвитина), а плавание по Амуру… Я впервые увидел Амур в том же году, когда впервые побывал и на Охотском море, и произошло это наипростейшим образом: владивостокский поезд пришел в Хабаровск, постоял положенное ему время на станции, а потом негромко застучал колесами по мосту через Амур. Стояла темная осенняя ночь; у берега в воде еще отражались, делясь на желтые пластины, огни, а в средней части реки лишь едва угадывался истекавший из глубины тусклый водяной блеск…
На следующий год мне повезло больше. Мы ехали в обратном направлении, во Владивосток, и перед Хабаровском Поезд остановился у семафора: станция не принимала. Амур был совсем рядом — широкий, светлый, с желтыми отмелями. Соблазн пересилил осторожность, и самые молодые участники Курило-Сахалинской экспедиции не выдержали: обдираясь о кусты, мы скатились по крутому яру к реке, и тогда я впервые прикоснулся рукою к еще не успевшей нагреться весенней амурской воде. Потом над паровозом взвилась струя белого пара, раздался гудок, лязгнули буфера…
Теперь, когда я составил себе вполне отчетливое представление о походе Пояркова на Амур, эти два незначительных эпизода кажутся мне по-своему символическими: рассказывая на «Ереване» о Пояркове, я знал о нем примерно столько же, сколько можно узнать об Амуре вот при таком шапочном знакомстве. В том была моя вина, но не только моя, ибо черпал я «знания» из опубликованных книг. Об этом мне придется еще не раз говорить в своих очерках, но очень часто мы в географической литературе, да и не только в географической, упускаем за действием человека, за одним фактом из его биографии — остальную жизнь, а то и просто закрываем глаза на все, что не укладывается в стерильное понятие «идеального» героя.
Но вернемся в Якутск и посмотрим, что за события происходили там в годы, предшествовавшие амурскому походу.
Я уже говорил, что в 1637 году из Енисейска в Якутск прислали для управления всеми делами боярского сына Парфения Ходырева.
Но этого московским властям показалось недостаточно, и на следующий год они издали государевым именем указ о создании Якутского воеводства и отправили в Якутск старшего воеводу Петра Головина, второго воеводу Матвея Глебова и дьяка Ефима Филатова; в помощники им назначили двух письменных голов — Еналия Бахтеярова и Василия Пояркова. Весь отряд насчитывал 395 стрельцов и казаков, а потом еще прибавились плотники, судостроители, кузнецы, оружейники, толмачи-переводчики, четыре священника…
Двигалась на восток эта многочисленная по тем временам компания чрезвычайно медленно. Воеводы прибыли в Якутск лишь летом 1641 года, но годом раньше, опередив остальных, в Якутск приехал Поярков в сопровождении еще двух служилых.
О его деятельности в качестве представителя воеводы я ничего не знаю. Но их совместная деятельность в первые два года достаточно хорошо освещена в документах.
А события разворачивались так.
Прибыв в Якутский острог, Петр Головин очень скоро почувствовал там себя полновластным царьком. Не хватало ему лишь немногого — утвердить в этом мнении и всех остальных. Не надеясь на слова, Головин приступил к делу.
Во-первых, для царствования ему требовалась надлежащая материальная база. Выстроенный казаком Иваном Галкиным острог показался Головину слишком маленьким. Он предчувствовал, что трудно ему будет в нем развернуться, и не ошибся. И Головин повелел строить новый острог, предусмотрев в нем все, что положено: и мощные крепостные башни, соединенные тыном — «чесноком», и Троицыну церковь, и воеводский двор, и съезжую избу, и амбары для государевой казны и «пытошную» избу…
Что нужен новый острог, согласились все приближенные воеводы. Но воеводе еще хотелось показать, что не чета он всем прежним правителям, а ближайшим «прежним» оказался Парфений Ходырев, и Головин, обвинив его во всех смертных грехах, решил учинить над ним сыск, то есть следствие… И вот тут начались разногласия. Более мягкий и справедливый второй воевода Матвей Глебов и дьяк Ефим Филатов принялись уговаривать Головина не «сыскивать» Ходырева, но тот обвинил их во взяточничестве («посулы берете»), а кончилось дело тем, что воевода пустил в ход кулаки и власти передрались.
Но последующие расхождения во взглядах имели более серьезные последствия, чем синяки и порванные бороды.
Головин решил устроить среди якутов перепись, чтобы точнее планировать поборы. Умудренные опытом местные «бывальцы» уговаривали воеводу отложить перепись до более спокойного времени, уверяя, что начнется среди якутов «шатость» — они уж давно изменить «хачивали», говорили бывальцы, — и дело может дойти до восстания. Глебов и Филатов поняли, что бывальцы правы, и взяли их сторону… Раздоры приняли крутой оборот, но в конце концов Головин заявил, что якуты его боятся и не посмеют тронуть русских. Всякую иную точку зрения объявил он «бунтом», грозил пытками и отлучением от должности, ибо, заявлял он, в небе одно солнце, а в Сибири одна правда — его, воеводская.
И казаки-переписчики двинулись в улусы. Велено им было переписывать не только вольных якутов, но и рабов их, боканов, и даже весь скот…
Якуты правильно сообразили, что ничего хорошего перепись им не сулит, и поскольку давно избавиться от пришельцев они «хачивали», то началось в Якутии восстание — одно из крупнейших, если не самое крупное за всю историю этого края.
Зимой 1642 года отряды восставших подступили к острогу, и Головин понял, что перестарался.
Ночью за городом занялось зарево (сполох, как писали казаки, случился), и весь гарнизон во главе с воеводами вышел на стены. И именно в этот момент Головин публично обвинил Матвея Глебова, Ефима Филатова и письменного голову Бахтеярова в том, что из-за них восстали якуты!.. Да, да, своими «воровскими» действиями они подбили якутов на восстание!
Что и говорить — ход недурен!
Восстание охватило обширную территорию, но очень скоро выяснилось, что один якутский князец-тойон имеет зуб на другого тойона, а третий не прочь договориться с русскими за счет первых двух… И когда казаки ударили по разрозненным отрядам повстанцев, им быстро удалось доказать превосходство огнестрельного оружия над копьями и стрелами. И тогда осталось лишь доказать, что действительно Глебов, Филатов и Бахтеяров подговорили якутов выступить с оружием в руках…
Вот тут-то Петр Головин и развернулся! Впрочем, не только он. Нашелся у него достойный помощник — второй письменный голова Василий Поярков, и теперь уже следует поставить точки над «и».
Разумеется, правдой удалось бы доказать только виновность самого старшего воеводы; значит, надо было действовать кривдой.
Читая документы той эпохи, я убедился, что казаки XVII столетия отнюдь не были ревнителями христианской религии. Бога они поминали редко и, хотя носили на шее черневый крест, о божественном не пекись. Но «неверных» в христианскую религию обращали с охотой, и во многих документах поминаются так называемые новокрещены. Всему есть своя причина, а в данном случае ревностное приобщение туземцев к христианству объясняется просто: закон запрещал охолопливать, то есть превращать в своего холопа, местного жителя-язычника, но разрешал захолопить крещеного (правда, его запрещалось увозить в Россию)… Так что у казаков были причины стараться.
Имел новокрещеного холопа и Поярков на своем дворе. Звали его Ивашка Остяк.
Но сначала еще одно отступление. Опытный чиновник, Петр Головин окружил себя людьми, которых документы того времени именуют «ушниками», то есть доносчиками и клеветниками, «притакивателями», или, как теперь мы сказали бы, «поддакивателями», беспринципными холуями, готовыми поддержать (так было, так!) любой наговор, любую неправду…
Я сейчас приведу цитату из книги «Якутия в XVII веке», изданной в Якутске в 1953 году. Вот она:
«Деятельное участие во всех операциях воевод принимали их фавориты, «ушники» по тогдашнему выражению. Все челобитные русских людей XVII в. полны горькими жалобами на этих «ушников», которые умели подделаться к приезжим воеводам и извлекать для себя выгоды из их покровительства. Таков был советник Головина сын боярский Алексей Бедарев, который «при нем притакивал (т. е. ему поддакивал) неправдою для стыда своего»; таков служилый человек Данилко Козица, который «воровал на свою братию шишиморством (шишиморство — наушничание, кляузничество, подлость. См. словарь Даля. — И.3.), всякие ложные заводи затевал и безделием оглашал», за что Головин, любя его «за ушничество», отпускал «по все годы» на службы, давая не в пример другим полный оклад жалованья[7] и не конфисковывал у него привезенных с Оленека соболей; таков торговый человек Епишка Волынкин, который у Головина «был в большой вере» и от «ушничества» которого, по мнению жителей Якутск, «кровь наша проливалась»; таков видный представитель якутской служилой знати письменный Голова Василий Поярков…» (стр. 233).
В этом почетном списке доносчиков и клеветников Поярков назван последним. На самом деле он был первым — хотя бы по своему положению ближайшего советника воеводы.
Петр Головин и Василий Поярков быстро стакнулись между собой в методах «доказательства» виновности Глебова, Филатова и Бахтеярова.
Начать они решили с охолопленного новокрещена Ивашки. Со двора Пояркова его перевели в тюрьму. Поскольку арестантов кормить не полагалось (они пробавлялись дарами родственников и милостыней), а у новокрещена родственники жили не в Якутске, голод быстро заставил его кое о чем призадуматься. Когда же на пустой желудок ему всыпали еще кнута «в три палача», новокрещен безотлагательно показал, что именно Глебов, Филатов и Бахтеяров велели ему «толмачить» якутам убивать русских.
Дальше — больше. По навету Ивашки Головин и Поярков арестовали дворовых людей Глебова и Филатова, и в пыточной избе те, дрогнув, подтвердили показания Ивашки.
Так состряпали Головин и Поярков сыскное дело. И тогда взялся старший воевода за главных своих врагов: засадил второго воеводу, дьяка и письменного голову Бахтеярова в Тюрьму, да не одних, а с чадами и домочадцами — с женами, с детьми, с родственниками.
Угодили в тюрьму и в пыточную избу все четыре священника. Службы в церкви прекратились, и лишь по большим праздникам одного из попов приводили в кандалах в церковь, чтоб мог отслужить он молебен.
Жизнь в Якутском остроге, Да и в окрестностях, замерла. Те, кто еще не угодил в тюрьму, жались по избам. А ушники и палачи бражничали, а потом шатались по острогу, забавы ради избивая встречных.
Боялся ли воевода Головин, творя откровенное беззаконие, кары?
Нет. Он знал, что в среде высшего чиновничества существует круговая порука и что в обиду его не дадут. «Самое большее, говорил он, государь года два-три меня пред свои очи не пустит, а потом новый город в воеводство даст». (Любопытна ошибка Головина: после того как сняли его все-таки с якутского воеводства, новую воеводчину он не получил, но через несколько лет стал окольничим, а это один из наивысших боярских чинов на Руси,).
Короче говоря, Головин отлично ориентировался в обстановке.
Но кое-что прикинул в уме и Василий Поярков. Ему могло не проститься то, что простится воеводе из знатного рода. И когда Головин посадил сначала за пристава, то есть под стражу, а затем и в тюрьмы всех крупных городских чиновников, Василий Поярков понял, что наступило то самое время, когда пора заметать следы.
Я глубоко убежден, что амурский поход для него был не больше чем попыткой избежать царского сыска: много челобитных перехватил Головин, многих жалобщиков пытал на дыбе потом, но кое-какие тревожные слухи дошли и до сибирского воеводы, и до московских властей. Учел, наверное, Поярков и то, что воеводничание — дело невечное, что примерно раз в четыре года воевод меняют; стало быть, истекало время Головина, и по этой причине тоже пришло время подумать о себе…
И он подумал. И повод для того, чтобы скрыться, нашел убедительный: люди загнаны в тюрьмы, якуты разграблены, поубиты и разбежались, а «государю всея Руси» требуются собольи меха…
И Василий Поярков, заботясь о государственной казне, предложил воеводе Петру Головину повоевать для него новые ясачные области. А воевода, кстати сказать, не потому уж так разволновался, что «бунт» случился, а потому, что во время бунта ясак поуменьшился. Пытки-то воеводе простят, а вот если казне ущерб будет… И воевода Головин, не заподозрив умысла, отпустил Пояркова на Амур.
Вот так началась экспедиция, которую теперь поминают во всех книгах по истории географических Открытий в Сибири и на Дальнем Востоке.
Подготовлена и оснащена экспедиция была по тем временам основательно, — тут уж, как говорится, своя рука владыка. В отписке сказано, что послал воевода с Поярковым сто двенадцать старых и «новоприборных» служилых людей, да присоединились к ним еще пятнадцать «гулящих» охотников, и были еще два целовальника, два толмача, кузнец…
Единственно, чего не хватало Пояркову, когда уходил он из Якутска, — это наказной памяти воеводы. Бог весть, из-за чего вышла заминка, но грамоту привезли Пояркову на Алдан уже после того, как эта экспедиция началась, пятидесятники Юшка Петров да Патрикейка Минин с товарищами.
А поход, начавшись, продолжался, и был он, конечно, нелегким — всякое на пути встречалось.
Я приведу сейчас краткое описание путешествия Пояркова, сообразуясь с его расспросной речью, которая до сих пор служит первоисточником для всех историков географических открытий (каким-то образом она даже попала за границу, была переведена на голландский язык и использовалась не только отечественными, но и зарубежными географами).
Итак, все началось в Якутске, и оттуда, но сперва не в сторону Амура, а, наоборот, на север двинулся в поход отряд Пояркова, погрузившись на речные суда-дощаники. За два дня они сплыли вниз по течению Лены до устья Алдана, а потом по Алдану пошли вверх, то есть в общем на юг, к Зее, Шилке и Амуру.
В Сибири по горной реке против течения на парусах не пойдешь: тут либо «шестить» надо, либо бечевой идти, и казаки четыре недели шли до устья левого притока Алдана — Учура; еще десять дней — до устья порожистого Гонама, берущего начало на северном склоне Станового хребта. А на Гонаме застали казаков «заморозы», или заморозки, как мы говорим теперь, и пришлось остановиться на зимовку.
Предводитель отряда прожил в зимовье почти две недели, а затем, оставив там пятидесятника Патрикея Минина с людьми и припасами и велев ему весной идти к Зее, ушел с основной частью отряда по долине реки Нюемке к перевалам через Становой хребет, перешел через них и в конце концов вышел на берега Зеи где-то в середине ноября.
Местных жителей казаки почти не видели, лишь на берегах Зеи встретились им оленные тунгусы, которые в отписке названы «уллагири», а позднее и скотоводы-баягиры.
Спустившись вниз по Зее, Поярков наконец достиг районов, заселенных даурами — народом, который в отличие от других сибирских племен занимался землепашеством.
На территории племенных владений дауров, в устье притока Зеи Умлекана, казаки срубили зимовье и решили ждать весны.
В устье Умлекана жил немногочисленный, всего в пятнадцать человек, род «князца» Доптыула и несколько холопов при них…
С отрядом в девяносто человек Поярков рискнул начать действия и взял Доптыула в аманаты (это единственный ратный подвиг самого письменного головы, но речь о его действиях впереди).
За зиму в отряде случились события трагические, сейчас же я продолжу описание путешествия, как такового, то есть маршрута отряда.
Весной сильно к тому времени поредевший отряд Пояркова воссоединился с зимовавшим на Гонаме отрядом Патрикея Минина и продолжил путь к морю. Ниже Селемджи стали попадаться казакам сравнительно крупные становища с числом жителей до двухсот душ, окруженные пастбищами… Но Поярков плыл и плыл себе дальше, нигде особенно не задерживаясь и не очень-то радея о государевой казне… И вот уже Зея впала в Шилку, как напишут казаки, а на самом деле в Амур, и недалеко, наверное, уже до устья…
Поскольку я отнюдь не перевожу в подтекст свое отношение к «герою» этого очерка, то могу сейчас признаться вот в чем. Мне приятно было узнать, например, что открыл Для русских Амур не Поярков, хотя БСЭ поддерживает: как раз неправильную версию. Первооткрыватель Амура — промышленный человек Семен Аверкиев. Он занимался своими делами на верхних притоках Амура, попал там в плен к даурам, и его привезли на берега великой дальневосточной реки… Один из князей хотел убить Аверкиева, другой защитил его, и в конечном итоге Аверкиева отпустили, он вернулся в Якутск и рассказал об Амуре уже не по слухам, а по личным впечатлениям.
И было у меня два-три дня надежды, что и в устье Амура казаки пришли раньше Пояркова. Я имею в виду не ошибочное сообщение казака Колобова из отряда Москвитина, а совсем иное, так сказать, личное: еще только собирая материал к очерку, я вдруг вспомнил, что проведывать амурское устье Поярков, еще не доходя до него многих километров, посылал десятника со служилыми людьми. Я помнил, что на обратном пути десятник погиб, но у меня, когда пришла мне эта мысль, не было под руками отписки, чтобы по срокам установить, мог ли он дойти до устья…
А небезразлично мне это было потому, что с устьем Амура связаны у меня свои добрые воспоминания.
…Наступил день, когда сейнер наш покинул Владивосток и взял курс на север, в сторону Охотского моря. Впрочем, должен сразу же оговориться, что «взял курс» звучит слишком уж основательно. Мы просто плыли вдоль берегов Приморья, изредка заглядывая в какую-нибудь бухту, а когда расстояние между материком и Сахалином сузилось до безопасных размеров, мы отважно развернулись и перескочили через неширокое водное пространство к острову.
…Остались позади пропахшие рыбой и цветами зеленые бухты Приморья, маленькие, портовые городки Южного Сахалина, где жили в легких домиках с раздвижными стенами выходцы с Украины и Центрально-Черноземных областей, остался позади выстроенный каторжанами Александровск-Сахалинский с его добротными домами и добротными мостовыми… Сейнер вошел в узкий и тихий пролив Невельского. Это морской пролив, но, почерпнув за бортом мутную воду, я убедился, что она пресная: близок Амур!
Он начался за мысом Пронге — Амурский лиман, как называют устье Амура в его самой широкой части. Шел отлив, и темным влажным пятном выделялся на желто-коричневой воде островок Оримиф, почти совсем исчезающий в Приливной волне. Белая мусорная полоса пены разделяла неразличаемую на глаз речную и морскую воду.
Уже вечерело, а в устье Амура нам предстояла высадка. Нам — это зоологу из экспедиции и мне с женой, которая тоже находилась в отряде в чине лаборанта-гидробиолога… Перед высадкой я повздорил с зоологом. Он был столь же хорошим знатоком прибрежной фауны, сколь и непостижимо ленивым во всех остальных экспедиционных делах. По должности я подчинялся ему, но перед выгрузкой мне пришлось заставлять его работать, и неприятный разговор обозлил меня… Я вспоминаю сейчас об этом пустяке по контрасту со всеми последующими событиями.
…С невысокого борта сейнера спустили на воду шлюпку. Мы погрузили в нее снаряжение и тихо поплыли к пустынному обрывистому берегу. Нас отвозили боцман и кок, свободные в эти часы.
Низкое солнце светило нам в правый борт, и с правых весел падали просвечивающие желтизной, с алыми искрами капли, а с левых — мутные, тускло блестящие… Царапали днище неразличимые в коричневой воде камни… Иногда весла приходилось вытаскивать из уключин и шестить ими, сталкивая лодку с мели… К самому берегу подойти не удалось. Боцман, предусмотрительно надевший болотные сапоги, пристегивающиеся к поясу, на спине перетащил нас на сухое место, а потом мы по конвейеру переправили на берег снаряжение.
И лодка ушла. Она уходила медленно, спотыкаясь о подводные камни, но все ближе подходила к стоявшему на рейде и мигавшему огнями судну — далекому, уже недоступному для нас. Сейнер уйдет в Николаевск-на-Амуре, а мы останемся здесь, на совершенно пустом берегу, и через час наступит темнота… Удивительно богато оттенками это «робинзоновское» состояние — чуть грустное, чуть таинственное, чуть восторженное. И незабываемое.
Зоолог, пока совсем не стемнело, пошел в ближайшее гиляцкое селение Тебах, чтобы договориться о катере: утром мы намеревались перебраться в село Озерпах и там заняться сбором прибрежных животных. А я занялся устройством ночлега. Собственно, все свелось к тому, что я вынес вещи за пределы приливной полосы, точно обозначенной извилистой лентой мусора, расстелил спальные мешки и прикрыл брезентом на случай внезапного дождя остальные вещи.
Но дождя не предвиделось. Солнце спускалось все ниже к сопкам, и светило оно вдоль лимана, и, наверное, там посередине бежала к Сахалину предзакатная солнечная дорожка, но к берегу она не подходила, и потому с нашего низкого места казалось, что дышит Амур чуть розовеющим паром, и было от того ощущение простора, света и юности, ощущение чего-то безмятежно детского, кристально чистого… У моря пахнет йодом, и чуточку пахло йодом на берегу Амура, но дувший от солнца ветер нес запахи зеленой весенней земли, очень свежие и чистые запахи, и зеленые запахи только усиливали ощущение прозрачности и юности, рожденное розоватым Дыханием Амура…
Потом все изменилось, настала ночь, и краски потухли, но усилились запахи, и протяжнее стал шуметь лес над нами. Забравшись в спальные мешки, мы не разжигали костра, и, глядя на неяркие амурские звезды, я был безмерно счастлив, что перевил вот такой вечер, что вновь подо мной твердая некачающаяся земля и совсем близко от правого уха слышно негромкое дыхание уже заснувшего любимого человека… И еще оттого, что я знал: впереди много таких радостных минут и впереди много далеких путешествий…
Разумеется, все только что рассказанное мной весьма условно соотносится с историко-географическими исследованиями. Но человек, даже если он говорит и думает формулами, остается человеком. Неоригинальная сентенция эта все-таки помогает мне признаться, что, отложив кое-какие другие дела, я побежал в библиотеку, чтобы проверить, свое смелое предположение — к устью Амура первым пришел десятник Илья Ермолин…
Надежды мои не оправдались. Поярков отправил Илью Ермолина с двадцатью пятью служилыми на разведку примерно от устья реки Сунгари, или Шунгал, как называли ее тогда. Шел вниз по течению Амура Илья Ермолин всего трое суток, а потом повернул обратно, так ничего толком и не выяснив. Он был убит ночью дучерами, когда до основного лагеря оставалось всего полдня пути. Спаслись лишь двое из его отряда.
У основного отряда путь от Сунгари до моря занял около пяти недель.
В низовье Амура встретились казакам уже иные племена — натки, или ачаны, а потом и гиляки.
В устье Амура отряд перезимовал, казаки построили суда, пригодные для плавания по морю, и на следующее лето добрались до Ульи, где, найдя зимовье Москвитина, вновь зазимовали.
…Тогда, в ту поэтичную «робинзоновскую» ночь на Амуре, ушедший в Тебах зоолог вернулся поздно, позднее во всяком случае, чем он сам и мы рассчитывали. Селение Тебах оказалось фактически заброшенным, и там доживал свой век древний старик гиляк… Он послал зоолога дальше, к другому селению, и там он договорился с председателем рыболовецкого колхоза, что катер за нами все-таки пришлют.
Утром мы долго ждали катер и сидели у костра, языки пламени которого почти растворялись в солнечных лучах. Плоская, словно приплюснутая, приливная волна медленно, отчетливо шипя, вползала на пляж, оттесняя нас к скалам.
Катер подошел к берегу значительно ближе сейнера, но все равно мы переправлялись на шлюпке, и я сидел на веслах, насаженных на короткие штыри и потому непривычных в работе… Когда нас высаживали на «плоты» у Озерпахского рыбокомбината, там выгружали рыбу и на «плотах» дежурили голые продрогшие ребятишки. Если рыбины случайно падали в воду, ребятишки ныряли за ними и Становились, таким образом, собственниками уже уснувшей кеты или горбуши…
Было нам тогда на Амуре и голодновато, и скучновато, и немало часов просидели мы возле местной телефонистки, дозваниваясь в Николаевск, но ощущение первого вечера не пропадало и все скрашивало своим розовым светом…
Много времени спустя нарушенное историческими изысканиями, оно, это первовечернее ощущение, вдруг воскресло после того, как я прочитал о маленьком эпизоде…
Я не касаюсь в своем очерке истории экспедиции Невельского; окончательно доказавшей проходимость для небольших морских судов амурского устья, не рассказываю об основании Николаевска, в котором мы тоже побывали после того, как за нами зашел сейнер. Но мне очень приятно было прочитать, что впервые весь Амурский лиман увидели участники экспедиции во главе с лейтенантом Козакевичем с обрывистого мыса Тебах, у подножия которого мы ночевали чуть ли не столетие спустя.
А теперь несколько заключительных суждений о экспедиции Пояркова на Амур и ее руководителе.
Уточним сперва предписания наказной памяти, посланной Головиным вдогонку Пояркову. Сказано там было так: «…идти из Якутского острога письменному голове Василию Пояркову на Зию и на Шилку реку для государева ясачного сбора, и для прииска вновь неясачных людей, и для серебреной и медной и свинцовой руды, и хлеба…» Далее предлагалось: «…государевым делом радеть… и в тех местах острожки поставить и со всем укрепить».
Насколько можно судить по документам, до похода на Амур Поярков принимал участие лишь в коротких и недалеких вылазках против якутов, носивших административный характер, и опыта длительных путешествий у него не было. Мне представляется, что отсутствие опыта и определило первую имевшую столь тяжелые последствия ошибку Пояркова, допущенную еще в начале похода. Я говорю о его решении оставить основные запасы в зимовье на Гонаме с частью отряда. Сточки зрения «государевых интересов» это было бессмысленно. Десятники и пятидесятники нередко разделяли свои отряды, но всякий раз они поступали так ради сбора ясака. Поярков же оставил сорок человек служилых и двух целовальников в безлюдном месте, где невозможно было собрать ясак при всем желании, и весной Минин догнал его с пустыми в этом смысле руками…
Что же заставило его поступить столь странно?.. Вероятно, желание, не связывая себя грузами, налегке, как можно дальше уйти по зимнему пути… Но идти в незнакомые места без необходимых запасов по меньшей мере рискованно: и в обжитых краях частенько приходилось казакам «сосною» питаться и голодной смертью помирать… Короче говоря, решение Пояркова стоило жизни половине всех казаков, «налегке» уведенных в поход, а пошло их девяносто человек.
На первую зимовку, как уже говорилось выше, казаки из основного отряда остановились на Умлекане. Срубили они там прочное зимовье, хорошо защищенное, надежное и… По логике казаков того времени, за сим следовало выступить в поход, найти неясашных туземцев и собрать с них ясак, что и предписывалось наказной грамотой.
Поярков же, поймав беззащитного фактически Доптыула, домовито обосновался в теплом зимовье, на досуге, размышляя, по-видимому, как идут в Якутске дела у бывшего дружка его стольника и воеводы Петра Головина, да посмеиваясь, как ловко провел он его, сбежав от сыска, уже, наверное, учиненного…
Вот как рассказывал Алексей Филипов о посылке его на Иню и другие реки: «…казачий десятник Семен Шелковник с Охоты реки посылал нас на твою государеву службу…»
У Пояркова же, по его собственному рассказу, дело происходило так: «…пятидесятник Юшка Петров и десятники и все служилые люди били челом государю словесно, чтоб их государь пожаловал и велел отпустить под острожек к даурским князцам к Досию и Колпе для государева ясашного сбору и для корму, чтоб им, служилым людям, было чем прокормиться до весны; и он, Василий, послал того Юшку Петрова с товарищи, по их челобитию, 70 человек…» (Выделено во всех случаях мной. — И.З.)
Ни о каком государевом деле Поярков, стало быть, и не думал радеть, сидя на Умлекане. Окажись в отряде достаточно съестных припасов, он так бы и досидел, бездействуя, до весны в зимовье. Но припасы подошли к концу, и тогда не он, а смекнувшие, что придется им худо, служилые люди вспомнили о государевом ясачном сборе… Надо ли удивляться, что, не заботясь об интересах государства, Поярков ничуть не заботился и о людях своего отряда, по его вине оставшихся без продовольствия?.. Я не собираюсь судить конкистадоров XVI или XVII столетий с современных моральных позиций, но все же для успешного завершения похода, для того, чтобы самому вернуться благополучно в Якутск, Пояркову нужны были живые, а не мертвые казаки. Любой настоящий опытный военачальник, я убежден, действовал бы на его месте иначе, инициативнее. Поярков же просто отпустил служилых, снабдив их кое-какими напутствиями, а сам продолжал бездельничать в зимовье.
События разворачивались дальше следующим печальным образом.
Бодро выступив из зимовья, Юшка Петров сравнительно быстро достиг владений Досия, и навстречу ему из острожка вышли три даурских князя — сам Досий, Колпа и еще Давыря — и весьма миролюбиво (тут уж действовали нормы того времени) согласились, не доводя дело до драки, выплатить определенную дань казакам. Двое князей остались в аманатах — а институт аманатства был тогда широко распространен по Сибири и ведом даурам по собственной практике, — а третий князь ушел в острог. Вскоре казакам прислали сорок кузовов «круп овсяных» и десять скотин привели и даже выделили юрты для жилья.
…Что-то роковое было в подборе тех людей, начиная с самого Пояркова, которые отправились в первый русский поход на Амур… Знатнейшие люди даурского городка добровольно вышли из-за его спасительных стен и согласились сидеть в аманатах; дауры доставили изголодавшимся казакам съестные припасы… Веди тут казаки обычную свою политику — укрепись, держи аманатов и требуй дани, они, видимо, продержались бы до весны и с прибылью ушли обратно. Но отряд Пояркова в основном состоял из неуспевших попасть в тюрьмы новоприборных служилых людей, а не староприборных, и потому, наверное, допускали они оплошности роковые.
Юшке Петрову, например, уже на следующий день после получения мирным путем дани взбрело в голову присоединить к той дани и весь город… Сначала он потребовал, чтобы дауры пустили его отряд в город, на что аманаты резонно ответили: русских, мол, видим мы, впервые, обычаев их не знаем и лучше жить пока врозь… Тогда Юшка Петров, взяв для чего-то с собой знамя, пошел со служилыми к стенам города. А жители городка не простаки все-таки были, поняли они, что за крестным ходом последует, и когда Юшка Петров двинулся на приступ, то сразу же попал в окружение: из ворот, из подлазов выбежали вооруженные дауры, откуда-то со стороны прискакали конные воины, сидевшие, наверное, в засаде, и Юшка, бросив десятерых раненых на поле боя, едва удрал в свои юрты. Три дня держали казаки оборону в юртах, а потом бежали дальше, обратно на Умлекан, и пришли туда, естественно, не в самом лучшем виде.
Возвращение в острог разбитого отряда Юшки Петрова — это кульминация в цепи трагических событий.
В расспросных речах — а в Якутске велось следствие по делам экспедиции — рассказывается, что, когда отряд Петрова подошел к острогу, Поярков вышел и спросил служилых людей, с добычей ли-де они пришли, и они-де, служилые люди, ему, Василию, сказали: «Не томко-де што с добычею, и свое потеряли», и Василий-де их в острог пустил.
В острог пустил… «И после того голодную смертию померло тех служилых людей, которые из-под острожку пришли, 40 человек», — сообщает сам Поярков.
Можно ли — с каких угодно позиций — оценивать дела экспедиции после поражения Петрова как безнадежные и непоправимые? Восемьдесят человек, вооруженных «огненным боем», оставались большой силой, и, начни Поярков активные действия, все сложилось бы иначе, — это, по-моему, бесспорно.
Но Поярков не изменил самому себе. Голодно было всем, но по-разному. У тех, кто не покидал острога; хлебные запасы сохранились, у Пояркова в том числе, что же касается прочих… «А говорил он, Василий, так: «Не дороги-де они, служилые люди, десятнику-де цена десять денег, а рядовому-де — два гроши»», — сообщили якутскому воеводе оставшиеся в живых казаки… Поярков на сыске уверял, что не говорил таких слов, но если он даже и не говорил их, то действовал, безусловно, по такому принципу.
А чтобы действовать по такому принципу, без террора не обойтись, и тут Поярков попал, что называется, в свою стихию. «И, будучи Василий Поярков на государеве службе, служилых людей бил и мучил напрасно… — сообщают челобитчики, — а иных своими руками прибил до смерти».
К весне подошли к концу припасы и у тех, кто сохранил их в острожке, и тогда Поярков осуществил хитро задуманный план: он решил захватить остатки хлеба хотя бы у части казаков. Казаки жили недружно, что и не удивительно в, такой обстановке. Каждый таил свое от всех остальных, но вскоре небольшие, измеряемые гривенками, то есть фунтами, запасы двенадцати человек оказались в руках у Пояркова и его сообщников.
— По-разному рассказывается об этом в расспросных речах.
Казаки, подавшие воеводе челобитную от имени пятидесяти участников похода, рассказывают так: «…и, пограбя у них хлебные запасы, из острожку их вон выбил (то есть речь идет о Пояркове. — И.3.), а велел им итить есть убитых иноземцев, и те служилые люди, не хотя напрасною смертию помереть, съели многих мертвых иноземцев и служилых людей, которые с голоду примерли, приели человек с пятьдесят (то есть участников похода Петрова, выброшенных после смерти под стены острога. — И.3.)».
Вот рассказ промышленного человека Панкратов Митрофанова: «И Василий-де Поярков учал им, служилым людям, говорить: «Кому-де не охота в острожке с голоду помереть, и они б-де, служилые люди, шли на луг к убитым иноземцам и кормились, как хотят», и пошло-де их на тот луг, служилых людей, десять человек: Кручинка Родионов с товарищи, да после того выслал его, Панкрашцу (рассказчика. — И.3.), да Ивашку Москву; и ему-де, Василию, почали бить челом служилые люди. Юшка Томской Кислой и иные служилые люди, а имена их не помнит, чтоб он, Василий, у тех служилых людей, которые вышли на луг, хлебные запасы обыскал и взял, и Василий-де Поярков у тех служилых людей, хлеб и те запасы, что у них сыскалось… взял, и они-де, служилые люди, которые мертвых иноземцев ели, иные-де ожили, а иные померли…»
А вот версия, самого Пояркова и слуги его Дениса Карпова: «…и служилых-де он людей не бивал и не мучивал, и запасов не отнимывал, и их из острожку не выбивывал, и есть им мертвых иноземцев не велевал, а ели-де они мертвых людей собою, и своими-де он руками никого до смерти не убивал…»
Тогда, при сыске, нашелся у Пояркова лишь один защитник — его холоп Карпов. В современной литературе защитников у него гораздо больше. Я, к примеру, дивлюсь таким строкам в книге Л. Г. Каманина «Первые исследователи Дальнего Востока»: «Казаки (речь идет о зимовке на Умлекане. — И.3.) настолько были озлоблены тяжелым положением, в которое попали по вине собственных же товарищей (?! — И.3.), Что даже по возвращении в Якутск, спустя два года, не остановились перед оговором Пояркова (если виноваты «товарищи», то причем тут Поярков? Челобитная, кстати, вообще не касается похода Петрова и посвящена последующим событиям. — И; 3.), обвинив его в глазах воевод (вот уж нехорошо-то. — И.3.) в том, что «он-де, Василий, служилых людей бил и мучил напрасно и, пограбив у них хлебные запасы, из острожку их вон выбил, велев им идти есть убитых иноземцев», и много другой возвели на него напраслины. К счастью для Пояркова, в его отряде нашлись честные люди (он сам и его холоп Карпов. — И.3.), которые не покривили душой и вывели на чистую воду товарищей…» Короче говоря, один поручик «шагал в ногу», а вся рота нет, и любым способом необходимо доказать автору именно это — только поручики «ходят в ногу»!.. Удивительная логика, я бы сказал.
А подлинная логика — она, между прочим, требует и того, чтобы сопоставлялся поход Пояркова с якутскими деяниями Пояркова. И если не забывать, что творил он в Якутске, то и в правдивости измученных казаков не усомнишься.
Что происходило потом, после вскрытия рек, я в общих чертах уже рассказывал… Нелепо погиб Илья Ермолин, значительно увеличив казаками своего отряда и без того многочисленный список жертв этого похода. И в этом происшествии роковую роль скорее всего сыграла неопытность новоприборных; в отписках мне не встретилось больше ни одного случая, чтобы отряд в два с половиной десятка человек так примитивно попадал в ловушку…
Потом — зимовка в устье Амура. Пойманы три аманата, и впервые взят значительный ясак (значительный для Пояркова, а не вообще) — двенадцать сороков соболей. Потом — зимовка в устье Ульи, и вот уже «Божиего милостью и государским счастьем» захвачен один аманат, и взято за него семнадцать соболей (дело близко к развязке, и надо хоть что-нибудь привезти).
Да, авантюра близилась к завершению. Недешево обошлась она сибирским казакам, но не сие, разумеется, беспокоило Пояркова. Якутск уже недалек, но что произошло в Якутске, он не ведал, а много бы дал, чтобы узнать.
А происходили в Якутске немаловажные события, хотя достигли они своего апогея позже, чем, видимо, рассчитал Поярков.
О бесчинствах Головина в Москве узнали только летом 1644 года, и только летом следующего года из Енисейска в Якутск прибыл боярский сын Иван Галкин — тот, что основал первый Якутский острог, — с царской грамотой, приказывающей всех из тюрем выпустить. Воевода Головин поначалу грамоту не принял, кричал, что написана она «воровски», но в конце концов вынужден был подчиниться и часть людей выпустил. Остальных освободили сами служилые, осмелевшие после получения грамоты… Дни Головина в Якутске, таким образом, были сочтены. В феврале 1644 года (и тут Поярков рассчитал точно) московские власти послали в Якутск нового воеводу Василия Пушкина; уже в пути догнал его приказ учинить сыск над Головиным и всеми его приближенными.
Летом 1646 года Поярков, рано по весне выйдя с Ульи, сплыл по Лене в Якутск… С чем же вернулся он? Из ста тридцати человек погибло восемьдесят, и большинство из них — на его совести, хотя последнее слово едва, ли уместно в данном контексте. Принесен жалкий, особенно в соотношении с затратами и жертвами, ясак — Шелковник с меньшими силами и меньшими потерями соберет больше… И привезены бесценные по тем временам сведения об Амуре и Даурии… Ценою непростительных жертв, но действительно бесценные…
Впрочем, пора ставить точку. Воцарившийся в Якутске воевода Василий Пушкин, следуя московскому наказу, производит сыск, велит дьякам записать расспросные речи, которые цитировались выше, и отправляет Пояркова по сыскному делу Головина в Москву.
Там исчезает он, как говорили в древности, «без следа и слова», хотя какие-нибудь слова, наверное, и сохранились в огромном сыскном деле Головина. Но на исторической арене Поярков в отличие от Головина больше не появлялся.
Что же касается Якутска, то в Якутске только фасад изменился. Уже вскоре после прибытия нового воеводы вновь полетели в Москву челобитные от служилых людей: «А прежь, государь, того мы, холопи твои, от Петра Головина терпели напрасно кнут и огонь и всякий позор и наготу, и он, государь, Вас. Пушкин, по тому же учал заводить один, батоги у него были в длину в 11/2 аршин, а в толщину ручной палец». Сам Пушкин хвалился: «Яз-де не Петр Головин, всех изподтиха выведу, а на кого-де руку наложу, и ему-де у меня свету не видать и из тюрьмы не выбывать»[8]
Снова река, или Амурская одиссея
При первом своем дневном знакомстве с Амуром, спустившись к нему с некоторым риском опоздать на поезд, я тогда все-таки успел вернуться в вагон. Но буквально через сорок — пятьдесят минут я уже смотрел… вслед уходящему без меня поезду. Это случилось в Хабаровске. Мы с женой и биолог из нашей экспедиции Роза Кудинова гуляли по перрону, и Роза рассказывала нечто такое душещипательное о своих делах, что мы прозевали сигнал отправления… Все еще могло бы обойтись хорошо, но между перроном и нашим поездом вклинился состав, и, пока он не остановился, была полная иллюзия, что движение нашего поезда кажущееся, а когда мы убедились в обратном, догонять было поздно.
Так состоялось мое знакомство с Хабаровском, знакомство, о котором, теперь, много лет спустя, я вспоминаю без неприязни… Но тогда… Увы, не то было худо, что я остался в сатиновых штанах и майке-безрукавке, а то, что отбыли во Владивосток все мои документы… Обошлось в конце концов все благополучно: уже на следующий день мы добрались до Владивостока, но Хабаровск — единственный на земном шаре город, который я вспоминаю в связи вот с такими забавными обстоятельствами.
А в Николаевске-на-Амуре, пока продолжались затянувшиеся деловые хлопоты, мы с женой, гуляя по городу, зашли однажды в Краеведческий музей. Открытый совсем недавно, музей не мог похвастаться богатством экспонатов, но сделано все в нем было с такой любовью и вкусом, что мы с искренним удовольствием провели в музее около часа. Помимо животных, растений и предметов старины имелась в музее и карта, рассказывающая об истории изучения бассейна Амура, низовий его в особенности. Кроме плавания Невельского на карту были нанесены маршруты Пояркова и Хабарова, хотя последний из них к устью не спускался.
Я знал, разумеется, что после Пояркова именно Хабаров развил бурную деятельность на Амуре, но о подробностях тогда судить не мог.
Позднее я прочитал отписки Хабарова, помещенные в «Дополнениях к Актам историческим», и они мне определенно не понравились. Среди многих, кто путешествовал и воевал в XVII веке в Сибири и на Дальнем Востоке, Хабаров — единственный в своем роде «законченный» конкистадор. Он не сродни Москвитину или Шелковнику, Филипову, Федоту Попову или Дежневу, и, как таковой, он мне не интересен. Я твердо решил, что ничего писать о нем не буду, и не собираюсь нарушать принятое решение.
Но ознакомление с документами, относящимися к деятельности Хабарова на Амуре, совершенно неожиданно привело меня к открытию, для самого себя прежде всего, историй второго «сквозного» плавания русских по Амуру, то есть с выходом в Охотское море. Проще говоря, я обнаружил в «Дополнениях к Актам историческим» документ за номером 100 под названием «1652 июня 30. Отписка служивого человека Ивана Уварова Якутскому воеводе Дмитрию Францбекову о плавании его для отыскания Ерофея Хабарова по реке Амуру и Восточному океану, и о прибытии на реку Тугирь».
Некоторые сведения о плавании, кроме того, содержались в других документах, и история эта в целом показалась мне чрезвычайно любопытной. Имена героев ее отнюдь не набили читателям оскомину: в историко-географической литературе мне лично они не встречались. С тем большим удовольствием я приступаю к рассказу, сожалея лишь, что на ходу дела мне придется несколько раз вспомнить Хабарова.
Летом 1651 года, когда воинство Хабарова уже третий год орудовало на Амуре с разрешения воеводы Дмитрия Францбекова (этот прославился не столько жестокостью, сколько спекуляциями, воровством, но и ему все Сошло с рук), из Якутска на Амур был отправлен к нему с боеприпасами отряд служилых людей. Возглавляли отряд Терентий Ермолин и Артемий Филипов, а в числе прочих числились служилый человек Иван Антонов Нагиба и служилый человек Иван Уваров, имена которых и следует сейчас запомнить.
Отряд Терентия Ермолина шел к Амуру, поднимаясь вверх по реке Олёкме, и уже через шесть недель, что сравнительно быстро, оказался в устье Тунгира. Далее путь их пролег по долине Тунгира, или Тугира, как названа река в отписке, и на Тунгире Терентий Ермолин встретил посланца Хабарова Степана Хороховского, спешившего ему навстречу с грамотой, в которой Хабаров просил поторопиться к нему.
Нравы в казачьем воинстве были в те времена весьма демократичными, важные решения принимались сообща, и, получив грамоту от Хабарова, казаки стали держать совет; Трезво взвесив свои возможности, казаки приняли решение часть груза оставить у Тунгирского волока под охраной небольшого отряда, а всем остальным — но не налегке, а с весьма основательным запасом свинца и пороха — поспешить на соединение с воинством, хотя никто точно не знал, где оно находится.
Быстро срубив зимовье и «упоромив», то есть стащив в одно место груз и укрепив его, основной отряд во главе с тем же Терентием Ермолиным отправился в середине сентября через волоки на Амур (точнее, на Шилку, но в те годы. Амуром называли то низовье реки, то всю ее с главными истоками) и благополучно вышел на его берега. Там служилые, которым в походах приходилось быть мастерами на все руки, отложив в сторону пищали, снова взялись за топоры и выстроили барки для грузов, быстрые боевые струги.
Близился ледостав, и уже после того, как барки и струги снялись с плотбища, совет казачий надумал, что глупо плыть и плыть себе по реке без разведки и надобно взять языка и узнать от него, где все-таки стоит лагерем Хабаров… Барки чуть замедлили ход, а легкие струги, таясь в прибрежных зарослях, укрываясь за поросшими лесом и тальником островами, ушли вперед и незаметно подгребли «под улус Дасаулов и в том улусе поймали языков». Дальше опять цитирую: «И яз, Тренка (уничижительное от Терентия, — И.3.), с товарищем своим и служилыми и охочими казаками стали тот язык толмачем расспрашивать про Ярофея и про войско все. И те языки на расспросе сказали про Ярофея и про войско, что-де тот Ярофей нашу землю Даурскую проплыл…»
Больше ничего сообщить языки не смогли, и тогда вновь казачий разведывательный отряд двинулся вниз по Шилке — Амуру к улусу князя Чуронча, и там разведчики взяли в плен сына князя, по имени Кеноул. Операция хоть и прошла успешно, но результаты ее оказались невелики: Кеноул лишь подтвердил, что Хабаров ушел вниз по течению…
Итак, казакам надо было спешить, но они уже догадывались, что едва ли до ледостава соединятся с войском Хабарова: слишком далеко ушел он… Кстати, если бы казаки Терентия Ермолина шли на Амур не путем Хабарова по Олёкме и Тунгири, а по Зее, как шел Поярков, они, вероятно, успели бы догнать своих товарищей… Но кто мог поручиться, что Хабаров не ждет их выше устья Зеи?.. Поручиться никто не рискнул бы, а с точки зрения современного историка географических исследований, все полупилось как нельзя более удачно: герои этого моего очерка не только вторыми после Пояркова сплыли по Амуру в Охотское море; они оказались первыми из русских, кто проплыл весь Амур, всю реку по современным нашим представлениям о ней — от слияния Шилки и Аргуни до устья!.. Много это или мало в плане масштабности совершенного ими?.. Только по реке они прошли около трех тысяч километров. Расположенная на другом конце света Миссисипи лишь на тысячу километров длиннее собственно Амура. Имя человека, который первым проплыл по Миссисипи до устья, — Ла Салль — вы встретите в любом солидном труде по истории географических открытий. Впрочем, я увлекся.
И Шилка, и Амур в верхнем течении — реки быстрые. Не скоро удается морозу сковать их струи, но вот уже пожелтела лиственничная тайга по берегам, вот уже посыпалась в темную воду хвоя, и тайга просветлела… Все более сильные заморозы заставили в конце концов казаков подумать о зимовке.
Они приткнули струги и барки к берегу городка Банбулаев и с обычными для того времени предосторожностями вышли на сушу. Еще с реки городок показался им странно притихшим, словно вымершим: не поднимаются дымы к низкому небу, не видно людей за полуразрушенным тыном, на валу… И действительно, ни одного человека не встретили казаки в Банбулаевом городке: здесь прошел Хабаров со своим воинством. Правда, судя по отписке Хабарова, дело тут обошлось без кровопролития, хотя сам воитель не несет за это никакой ответственности. Просто князь Банбулаев, наслышанный о подвигах Хабарова, совершенных выше по реке, ушел со своими людьми из городка и отказался потом вести какие-либо переговоры с казаками.
Терентий Ермолин и Артемий Филипов, осмотрев развалины, решили все-таки зазимовать в Банбулаевом городке. Они подправили и укрепили частокол, починили несколько домов, и, когда грянули крепкие морозы, казаки чувствовали себя в городке уже вполне уютно.
Особенно бурной деятельности в зимнее время Терентий Ермолин не развивал, да и не входило в его обязанности покорение окрестных племен… Удалось казакам поймать лишь одного бокана — раба — местного князца Чурончи, и через него передали они князю, чтоб явился тот в острог и принес государю ясак… И князь Чуронча явился и принес; государю пять «поклонных» соболей и обещал приносить ясак впредь. Но, уйдя в свои владения, Чуронча передумал — заявил казакам, что ясак платить им не будет…
Ни зимой ни весной казаки так и не получили никаких вестей о Хабарове. Когда Амур вскрылся, снова собрался совет бывальцев. Долго ли, коротко ли совещались казаки, но приняли они два важных решения. Во-первых, решено было, уж коль скоро минувшим летом войско они не догнали, теперь дождаться товарищей с Тунгирского волока и дальше плыть вместе. Во-вторых, решено было, чтобы времени попусту не терять, выслать вперед разведку. Пусть, надумали бывальцы, отряд разведчиков сплывет вниз по Амуру, уточнит, где стоит Лагерем Хабаров, а потом уж и все остальные пойдут Следом. Поиск намечался дальний — десять дней вниз по течению велено было плыть отряду и лишь на одиннадцатый повернуть обратно.
В начале мая Терентий Ермолин вручил наказную память служилому человеку Ивану Антонову Нагибе, поставив его во главе отряда разведчиков. С ним вместе пошло в поход еще пятеро служилых да охочих казаков двадцать один человек… Более года спустя служилый Иван Уваров, участник поиска, отошлет из зимовья в Якутск Ивана Нагибу со своей отпиской. Стало быть, Уваров, говоря современным языком, был заместителем Нагибы.
Терентий Ермолин дал разведчикам весьма определенные и разумные наказы. Например, им предписывалось плыть осторожно, в баталии не ввязываясь, рекомендовалось на берег зря не высаживаться, а ночью «на поплаве стоять», на якоре посреди реки, и обязательно с караулом; на островах казакам вменялось в обязанность оставлять письма для Хабарова…
И отряд Ивана Нагибы ушел вниз по течению Амура.
А Терентий Ермолин, дождавшись товарищей с Тунгирского волока, дней через десять отправился за ним следом. Плыли казаки в отличие от Дояркова, действительно радея государевым делом: они совершали ночные вылазки, ловили аманатов, собирали ясак и однажды… встретились с флотилией Хабарова.
Ни Ивана Нагибы, ни его товарищей в хабаровском войске не оказалось.
На вопросы Ермолина Хабаров ответил, что о разведчиках он слышал от языков и даже нашел их письмо неподалеку от устья Сунгари, но ничего о судьбе казаков не знает. Ясно лишь, что разведчики разминулись с войском.
Обеспокоенный судьбой товарищей, Ермолин тотчас вызвался пойти на поиски пропавших, но Хабаров его не отпустил — он предпочел пополнить свое войско новоприбывшими, бросив разведчиков на произвол судьбы.
И Хабаров, и Ермолин, которой на время вдруг превратился из воина в дипломата ми провалился, потому что местные царьки отказывались вести с ним переговоры, пробыли на Амуре еще довольно долго, но Иван Нагиба и двадцать шесть его товарищей не вернулись.
Что же случилось с отрядом? Почему нарушили казаки приказ и не повернули на одиннадцатый день обратно?.. Надо полагать, только чрезвычайные обстоятельства могли заставить их изменить товарищескому долгу, да в собственным, что немаловажно, интересам.
И действительно, нежданно-негаданно разведчики наши оказались в очень трудном положении.
Первые дни плавания прошли спокойно. Никто не нападал на казаков, и казаки ни на кого не нападали. Несколько раз они причаливали к берегу и оставляли на видных местах, отмечая их срубленными и ошкуренными деревьями; письма для Хабарова. Одно из писем они оставили в устье Сунгари и… проплыли дальше, не ведая, что как раз на Сунгари и находился в это время Хабаров.
На шестой или седьмой день пути, когда еще рано было думать о возвращении, из-за низкого, поросшего лесом и тальником острова внезапно выехали большие крашеные струги, наполненные людьми, и десятки стрел полетели в казаков… Дружный залп из пищалей несколько охладил пыл нападающих, но не изменил их намерений… Через некоторое время нападение повторилось…
Ночью, когда казаки стояли на якоре посреди реки, до слуха караульных донесся чуть слышный всплеск, а потом на матово поблескивающей воде обозначилось черное пятно, медленно приближающееся к стругу… Выстрелы караульных слились с яростными криками нападающих, тупо застучали по бортам стрелы… Черное пятно растворилось в ночи… В воздухе еще пахло пороховым дымком, когда казаки, народ ко всему привычный, снова завалились спать, и лишь караульные по-прежнему внимательно вглядывались в темноту…
На рассвете сонно потягивающиеся казаки обнаружили, что на берегу их стережет внушительный отряд конников, а они собирались высадиться, чтобы оставить очередное письмо Хабарову. Пока служилые выбирали из студеной дымящейся воды якоря, пока они готовили весла, или греби, как говорили тогда и еще сейчас говорят кое-где в Сибири, пока шли обычные утренние приготовления, Нагиба и Уваров, посоветовавшись, решили в драку не ввязываться и оставить письмо в другом месте. Казаки уже поняли, что заехали во владения натков и дучеров, тех самых дучеров, которые почти полностью уничтожили в ночном бою разведчиков Пояркова, а их было столько же, сколько и казаков в отряде Нагибы…
Едва оторвались тяжелые якоря от дна реки, как течение легко подхватило струги. Рулевые правилом удерживали лодки, не позволяя им вертеться, а потом весла рывком бросили струги вперед, и они плавно понеслись по реке, обгоняя смытые весенним половодьем деревья и коряги… С берега донеслись до казаков воинственные крики дучеров; несколько стрел, не долетев до лодок, упало в воду… Струги набирали скорость, но всадники на берегу не отставали — от улуса к улусу скакали теперь воины, следя за каждым движением казаков… А в бесчисленных протоках — «разбоях», разделенных островами, поджидали разведчиков вражьи струги. Водные бои разыгрывались по нескольку раз в день («по всякой день подважды и потрожды», как напишут потом казаки); в нападении участвовало подчас до двух десятков дучерских стругов сразу… Участились и ночные «скрадывания», внезапные нападения.
Когда истек срок разведки, казаки поняли, что дела их плохи: не вернуться им против течения к своим, рано или поздно кончатся боеприпасы, и дучеры одолеют их, как только смолкнет огненный бой… Основательно пришлось поскрести затылки бывальцам, прежде чем нашли они выход из положения. Были, вероятно, среди них мудрецы, предлагавшие укрепиться на берегу и ждать помощи от Ермолина или Хабарова, но бывальцев потому и называли бывальцами, что от наивности у них давненько и следа не осталось.
Отбившись от яростно наседавших дучеров, бывальцы приняли решение не возвращаться в отряд к Ермолину.
Совещались они наверняка все вместе, но в позднейшей отписке сказано, что Ивану Нагибе была подана от остальных казаков челобитная с просьбой идти «в гиляки» и он принял ее, ибо, как и все прочие, знал о плавании Пояркова.
Вот при каких обстоятельствах началось второе плавание русских к устью Амура.
Нескоро удалось казачьим стругам уйти от дучеров. В те края, где плыл теперь Иван Нагиба, Хабаров не заходил, но молва о его подвигах, видимо, дошла и сюда: очень уж зло и настойчиво действовали и дучеры, и натки, и у них были все основания действовать именно так…
Лишь «в гиляках» надеялись казаки передохнуть и с нетерпением ждали, когда попадут в их владения.
Однажды со струга заметили на островке человека, ловившего рыбу. Струги дучеров не преследовали в этот счастливый час казаков, и они решили пленить рыбака. Разумеется, он пытался Удрать, но ничего у него не вышло, и вот уже связанный рыбак стоит перед Иваном Нагибой и Уваровым, а вокруг толпятся казаки, выскочившие на отмель поразмять ноги… Толмач задает рыбаку первый вопрос, и выясняется, что он и не дучер, и не натка — он гиляк!
Весело загудели казаки, выслушав приятную весть, а толмач продолжал толмачить, и вот уж совсем неожиданное говорит он товарищам: рыбак видел, как струги Хабарова проплыли вниз по Амуру, Хабаров — в гиляках!.. Было тут от чего возрадоваться казачьим сердцам — пришел конец их мучениям, неравным боям и ночным тревогам. И мощная казачья рука дружески похлопала по спине доброго вестника, «иноземного мужика».
С легким сердцем вывели казаки свой струг на стрежень, дружно подналегли на весла, а «иноземный мужик» и тут им услуги оказывает — какой протокой лучше плыть, говорит, как лучше мель обойти, рассказывает… Обогнули казаки приярый островок, ввели струг в протоку с глубокой водой, а впереди — струги крашеные, а в стругах — воинов человек по сорок, по пятьдесят… Оглянулись казаки — и сзади уже гиляцкие струги стоят и луки у Лучников, уже натянуты… Бросился тут гиляк к борту, да схватила его та самая рука, что недавно дружески по плечу хлопала… Не названо в отписке Уварова имя этого гиляка, не сказано ничего о судьбе его, но догадаться о ней нетрудно.
Долго продолжалась ожесточенная схватка, долго свистели стрелы и гремели выстрелы, но выстояли казаки, не удалось их новым противникам пересилить огненный бой… Только и гиляки не собирались отступать. То ли учли они опыт дучеров, то ли сами такую тактику разработали, но решили они взять казаков измором: перегородили реку и выше и ниже по течению, выставили посты по берегам и перешли к планомерной осаде… День сменялся ночью, снова всходило и заходило солнце, лили проливные муссонные дожди, дули сквозные ветры с далекого океана, а струги гиляцкие не уходили и струг казачий не выпускали из кольца… «И мы в осаде на якоре стояли две недели, и пить и есть стало нечего… горко было», — сообщит позднее Иван Уваров, хотя чего-чего, а воды вокруг было предостаточно.
В отписке нет подробностей, которые позволили бы понять, почему терпеливо сидели в осаде казаки, почему не попытались они с боем прорваться сразу же; но причины для двухнедельного сидения, видимо, имелись основательные, видимо, гиляцкий заслон был столь прочен, что не надеялись казаки выйти из боя целыми и невредимыми… Не удавалось, впрочем, и гилякам одолеть казачий отряд — и днем, и ночью залпами встречали служилые нападавших…
Насколько позволяет судить отписка, примерно в одно и то же время истощилось терпение у изголодавшихся казаков и созрел новый тактический план у гиляков, среди военачальников которых явно имелся выдающийся стратег… Что бородачи в стругах голодают, гиляки прекрасно понимали, и стратег гиляцкий сообразил, что голод заставит казаков перейти в наступление. На своем опыте стратег уже убедился в превосходстве огнестрельного оружия над копьями и стрелами и, прикинув шансы той и другой враждующей стороны, с сожалением убедился, что казаки почти наверняка прорвутся. Голод придаст им решительности и отваги, но голод же может погубить их — вот что решил хитрый гилякский стратег.
И вот на исходе второй недели казаки, уже до предела затянувшие пояса, замечают, что не так бдительно стерегут их гиляки, как раньше что меньше стругов маячит впереди. Нагиба и Уваров совещаются, Нагиба и Уваров выбирают удобный момент, и вот уже поднят якорь, гремят пищали, и брань голодных озлобленных казаков густо висит в воздухе… А гиляки растеряны и напуганы, гиляки почти не оказывают организованного сопротивления, и лишь Несколько шальных стрел вонзается в борта стругов… Поднажали на весла гребцы, дали прощальный залп по гилякам служилые, и вырвались их струги на свободу… Дело происходило ранним утром, ясно светило солнышко, и вздохнули казаки полной грудью. И даже про голод на некоторое время забыли. Но ненадолго, правда.
Стали они тут думать да рядить, где бы харчами разживиться, и — нате же вам! — стоит на видном месте улус юрт на двадцать, а то и побольше, и людей — ни человека, но зато рыбы развешано — уму непостижимо, словно со всей округи собрали ее сюда! Поняли тогда казаки, что дошли их молитвы куда следует, и к берегу поспешили…
И к берегу поспешили, а на берегу в засаду угодили: выполняя хитроумный план стратега, за юртами укрылся большой отряд гиляков («лежали в западе многие люди»)… Поздно было отступать, да и некуда — что в бою погибать, что от голода погибать. И бросились казаки в атаку… Бой длился с «половины дня до вечера», но, как ни смел и умен был гиляк-стратег, решающее слово сказали ружья. Потеряв больше тридцати человек убитыми, гиляки отступили, когда казаки подожгли крайние юрты…
Так удалось Ивану Нагибе и его товарищам решить продовольственную проблему, и так проложили они себе путь к Охотскому морю: гиляки на время оставили их в покое. А когда раздвинулись берега Амура, когда слились его протоки в одно могучее русло, тогда совсем успокоились казаки: на большой широкой реке им никто не опасен!
А река становилась все шире и шире, и крутые волны били в скулы стругов, и однажды самые зоркие не увидели впереди берегов… И тогда поняли казаки, что Амур позади, что они в Амурском лимане, или в Амурской губе, как написал потом Уваров.
Струги свернули к северному берегу лимана, казаки выбрали открытое, чтобы обезопасить себя, место и причалили, вышли на берег и размашисто перекрестились.
Но на бога служилые никогда не полагались безрассудно: бог далеко, гиляки близко, и потому прежде всего казаки окружили свою стоянку прочным высоким тыном, а затем вновь основательно поскребли затылки.
И от дучеров они ушли, и от гиляков как будто ушли, но как дальше поступить?.. Уходя «в гиляки», наши разведчики надеялись, наверное, отсидевшись некоторое время в сторонке, посуху потом вернуться к своим… Теперь же они понимали, что ни на веслах, ни бечевой, ни пешим порядком им не пробиться через владения воинственных племен.
Значит, морем идти к Улье и Охоте, а оттуда в Якутск? Но служилые трезво рассудили, что для морского похода и суда нужны соответствующие, и снаряжение специальное необходимо… А они чем располагали?.. Лодки речные, без продольных брусьев, без дротов, придающих судам устойчивость; борта низкие, они не защитят от морских волн, да и выдержат ли непрочные лодки их удары, если даже в лимане туго пришлось казакам?.. Нет даже парусов, и не изготовишь их — где сейчас набьешь оленей или лосей, где будешь дубить их шкуры?.. Поярков выстроил себе в устье Амура морские суда, кочи, но он прихватил с собой весь необходимый инструмент, ибо заранее знал, что придется ему иметь дело с морской волною… А ведь наши удальцы отправились всего-навсего в разведку по реке, они и не помышляли о плавании по морю.
Но выбора у них не было. И казаки взялись за дело. Уваров нигде не пишет в своей отписке, сколько стругов имелось в отряде. Как будто два, но к морскому плаванию они решили подготовить один, тот, что был побольше и покрепче. Ничуть не ослабляя бдительность — «с великим бережением», — казаки разобрали струг похуже и нашвами, нашивными досками, приподняли и укрепили борта теперь единственного струга.
Они едва успели закончить работу, как вынырнули из тумана гиляцкие струги… Туман, как на грех, был густой, струги подкрались близко, и, когда первые из них уже почти вплотную подошли к плотбищу, последние еще темно маячили в тумане…
Но застать казаков врасплох не удалось: пищали лежали возле топоров, и вновь грянул бой. Им даже удалось каким-то образом потопить гилякский струг со всем его многочисленным экипажем, и тогда остальные струги повернули прочь от берега.
Уразумев, что и в лимане им не будет покоя от гиляков, служилые, посовещавшись, решили немедля уходить в море. И уже на следующее утро усовершенствованный струг их взял курс на север, в сторону теперешнего Сахалинского залива… Впереди их ждало Охотское море, по которому никто из них не плавал, но о суровом нраве которого они были наслышаны.
И все-таки они не могли предполагать, что море встретит их столь неприветливо и что уготовано им еще немало испытаний, и не менее опасных, чем те, через которые они уже прошли.
Не очень доверяя своему стругу, да и не имея никаких навигационных приборов, казаки, естественно, старались держаться поближе к матёрому берегу. Им помогал ветер, дувший со стороны моря, и, будь на струге паруса, ветер надежно удерживал бы струг в прибрежной зоне. Но казаки шли на веслах и очень скоро заметили, что, несмотря на все их усилия, струг тянет против ветра, в открытое море… Бросили они щепку в воду и увидели, что щепку тоже понесло на восток, против ветра… Знать этого казаки, разумеется, не могли, но в Охотском море существует круговая система течений, движущихся против часовой стрелки. «Спускаясь» с севера на юг, в юго-западной части Охотского моря они принимают восточное направление, устремляются к Тихому океану и еще усиливаются мощным потоком амурской воды.
С течением казаки, вероятно, справились бы, но на пути их нежданно-негаданно встали… льды. В полном разгаре было лето, зеленели леса и луга. Когда стихал муссон, до казаков доносился с берега запах цветов и теплой парной земли. И вдруг — льды!
Подивились, наверное, казаки своей неудачливости, помянули в сердцах нечистую силу, но обратно ведь не повернешь! Взялись богатыри за шесты и двинулись потихоньку вперед, расталкивая льдины… А льдины сперва попадались рыхлые, изъеденные солнцем и дождями, а потом пошли поплотнее да потолще, и разводья реже попадаться стали… До темноты не удалось казакам пробиться к берегу, и заночевали они среди льдов, сбросив на всякий случай якорь. Ночью льды тихо скребли борта, глухо стукались иной раз о днище; а к утру словно угомонились, затихли. Спалось казакам крепко — ни качки, ни гиляков, — а когда протерли они глаза, то увидели, что вынесло их в открытое море и куда ни взгляни — всюду лед, сплошной лед.
Заскучали казаки. К пешим походам они давно привыкли, к речным тоже, и самой ожесточенной схваткой их не удивишь, но во льдах по морю плавать?.. И положились казаки на бога, но легче им от этого не стало: надежнее, когда сам за себя в ответе.
А день шел за днем, и ничего не менялось: одни и те же льды вокруг, и как будто одни и те же нерпы вылезают на лед, и одни и те моржи выглядывают из полыньи, одинаково шевеля рыжими усами при виде струга… Ко всему привыкает человек, и казаки привыкли к ледовому плену. Запасы рыбы у них еще не оскудели, вода рядом плавает — достань кусок льда и растопи; вода, правда, получается солоноватая, но пить ее можно… И берега нет-нет да и покажутся вдали, — авось и вынесет еще к ним. А не вынесет — растает же когда-нибудь лед! Что ни говори, а лето к середине подходит, и тогда возьмутся казаки за весла, и побежит их струг на запад… Знай казаки, что принесенные с севера льды в иные годы держатся у Шантарских островов до августа, они, наверное, перекрестились бы лишний раз от удивления да призадумались бы. Но о режиме Охотского моря никто тогда ничего не знал, и казаки безмятежно отсыпались после трудного плавания по Амуру.
На девятый или десятый день дрейфа поутру, казаки обнаружили, что за ночь их близко подогнало к берегу. Ночь прошла неспокойная, гудел муссон, злее, чем обычно, скрипели льды, и было казакам тревожно, потому что не могли они понять в темноте, куда их несет… Теперь на душе стало полегче: все-таки берег рядом, но ледяное поле, краем упершееся в берег, угрожающе потрескивало, местами лопалось, и там громоздились друг на друга льдины…
Десять дней продолжался первый в истории Охотского моря ледовый дрейф, а на одиннадцатый льды зашевелились вокруг струга, непрочные борта его затрещали, и в проломины хлынула вода… «И мы, холопи государевы, на берег пометались душою да телом, хлеб, и свинец, и порох потонул, и платье все потонуло, и стали без всего», — с эпическим спокойствием напишет позднее Иван. Уваров.
Право же, больше чем достаточно приключений выпало на долю этих совершенно забытых землепроходцев!.. Но то были подлинные землепроходцы, и ничто не могло их смутить. Нельзя плыть по морю — худо, но можно идти вдоль моря «пешей ногою». И, снова подтянув пояса, неунывающие казаки во главе с двумя Иванами зашагали вдоль берега на север. Впрочем, особенно голодать им не пришлось: кормились они ягодами и кореньями, били нерпу и моржей, нашли кем-то раненного и умершего от ран лося, и жалуются казаки лишь потому (а они горько жалуются!), что пища эта представлялась им скверной, нечистой («и тем мы душу свою осквернили, нужи ради питалися»).
На пятый день пути дорогу казакам преградила река, названия которой они в отписке не приводят. И тут казаки, не видя способа перебраться через широкую в устье реку и поуспокоившись после всего пережитого на море, снова взялись за топоры и построили «суднишко»… Суднишко они построили небольшое, даже прежний струг показался бы им теперь огромным, но, переправившись через реку и убедившись, что льды отнесло от берега, казаки дерзнули выйти на нем в море. Льды, которые доставили нашим землепроходцам столько неприятностей, теперь помогали им: маячившие на горизонте ледяные поля не давали развиться волнению, и суднишко скользило по морю, как по тихой реке.
Сколько плыли казаки под защитой льдов, в отписке не сказано, но дошли они в конце концов до следующей речки и в устье той речки обнаружили тунгусские юрты. Тунгусы, правильно сообразив, что ничего хорошего прибытие незнакомцев им не сулит, успели все до одного убежать, но не успели прихватить с собой съестные припасы — вся рыба досталась казакам, что они и отметили с удовольствием в отписке.
На берегу этой безымянной речки, до которой шли они с устья Амура восемь недель и три дня, казаки решили осеновать — ждать зимнего пути через горы.
А когда потянули морозные ветры с материка, застыла земля и лег на нее неглубокий снег, казаки, смастерившие к Тому времени нарты, перевалили через прибрежные хребты и вышли, как они выразились, на Ленские покоти, то есть на склоны гор, обращенные к Лене… Шли они тайгой четыре недели и один день и случайно наткнулись на тунгусскую аргушницу, обозную оленную дорогу; разумеется, служилые без труда догадались, что аргиз приведет их к чумам.
Так оно и случилось «на третий день рождества Христова». Не раздумывая, казаки взяли двух мужиков в аманаты. Родственники сразу же принесли под них семьдесят восемь соболей — и тут наши путешественники дела своего не забывали.
С точки зрения современного человека, может показаться странным, что после всего пережитого, после всех перенесенных лишений землепроходцы не поспешили домой, в Якутск, и не только не поспешили, но даже остались сначала зимовать, а потом вообще довольно прочно обосновались на необжитом месте… Но дом в нашем понимании — свой очаг, своя семья — был в то время в Сибири счастливым уделом сравнительно немногих… Якутск — опять же если воспользоваться современным понятием — воспринимался, наверное, казаками как своего рода биржа труда: туда приходили, чтобы получить наказную память у воеводы, разрешающую новый поход, и туда возвращались, чтобы сдать ясак и получить новую наказную память… А дом — он был для землепроходцев повсюду: там, где ставили они свои остроги, где несли свою нелегкую службишку…
Иван Нагиба и Уваров, осмотревшись в окрестностях эвенкийского селения, решили, что спешить им некуда и можно здесь провести зиму. Как всегда, соображения их носили отнюдь не теоретический характер: во-первых, казаки на полгода обеспечили себя припасами, а во-вторых, они подсчитали, что со временем смогут получить ясак со ста пятидесяти человек…
Казаки соблюдали свой интерес. Ну а наш «интерес» подошел к концу, потому что полная приключений амурская одиссея землепроходцев закончилась, и закончилась на редкость благополучно: в боях и странствиях они не потеряли ни одного человека.
Конец отписки Ивана Уварова, отпустившего летом в Якутск Ивана Нагибу с пятью товарищами (они поменялись ролями), написан несколько неточно. Речь там идет о том, что осенью можно будет получить полный ясак с эвенков, что нужен толмач, знающий их язык, что жить казакам и голодновато, и холодновато, и нет даже топоров (хотя непонятно, куда они делись)… Потом следует просьба прислать судовой завод, сверла, топоры, теслы и напареи, и вдруг говорится: «А мы здеся я Ивашко с товарищи на Тугире реке наги и босы…» Скорее всего тут ошибка или произвол писца (эта же ошибка повторяется в заголовке документа), переписывавшего документ для академика Миллера столетие спустя. Ох какой долгий путь предстоял бы еще казакам до зимовья на Тунгире, пожелай они туда вернуться, но им и незачем было возвращаться туда.
Итак, Иван Нагиба отправился в Якутск с отпиской Ивана Уварова. Сопровождали его служилые люди Иван Михайлов, да Павел Степанов, да Федор Спиридонов, да Иван Степанов, да Степан Дмитриев — только эти имена отважных узнаем мы еще по отписке.
Уваров с двадцатью товарищами остался у эвенкийского селения. В конце отписки он жалеет — и мы можем пожалеть вместе с ним, ибо узнали бы тогда интересные дополнительные детали, — что не имеет возможности подробнее описать всю свою бедность, потому что «не стало в войске бумаги…».
Мореход Татаринов
В этом очерке я собираюсь рассказать о исследователях Шантарских островов, о тех, кто первыми преодолели водные пространства, отделяющие острова от материка, и первыми ступили на их землю. Мореход Татаринов, именем которого я назвал очерк, не принадлежит к числу первооткрывателей Шантар: не он первым подплыл к ним, и до него зимовали на островах казаки. И все-таки я начал с морехода Татаринова не случайно. Пожалуй, в ранней историй исследования Охотского моря не встретишь человека с судьбой более трагичной, чем судьба этого морехода. Но о подробностях ниже, в своем месте, а начать нам придется издалека…
Я познакомился с Шантарами (кстати, «шантар» — по-гиляцки остров, отсюда и название всего архипелага) до известной степени случайно и обязан этим мореходным качествам нашего экспедиционного сейнера…
Закончив наконец свои дела в Николаевске-на-Амуре, мы вновь спустились к устью Амура, обогнули мыс Тебах и вскоре вышли в Сахалинский залив, то есть в Охотское море. Надо сказать, что Сахалинский залив вовсе не является заливом. Так его назвал по ошибке первый русский кругосветный путешественник Крузенштерн, разделявший общее заблуждение и считавший Сахалин полуостровом. Лишь позднее флотский офицер Невельской, именем которого назван пролив, окончательно доказал, что Сахалин остров.
В Сахалинском заливе мы действительно «взяли курс» на остров Святого Ионы, одиноко расположенный в центральной части Охотского моря, — нам нужно было посетить его. Ничего хорошего из этого мероприятия не получилось. Волны с открытого моря сначала подбросили сейнер, а потом накрыли его. В кубрике полетели на пол табуретки, стол и железная печка, в камбузе о кастрюли, в столовой, гордо именуемой кают-компанией, — бак с водой. Шуму и звону получилось много.
И капитан отдал категорический приказ — держаться ближе к берегу. Так и не удалось нам нарушить одиночество Святого Ионы. Но зато мы повидали Шантарские острова.
Надо признать, что в столь поспешном отступлении мы не были главными виновниками; нам досталось действительно в высшей степени странное судно. Раньше, то есть до 1947 года дальневосточные верфи строили обычные деревянные сейнеры, а наш был особый — металлический, да еще «калифорнийского типа». То ли, как говорится, первый блин комом, то ли дело еще в чем-нибудь, но, проплавав несколько месяцев на этом суденышке, я могу засвидетельствовать, что важнейшее свойство его заключалось в на редкость скверной остойчивости и столь же великолепной валкости; даже речные волны производили на сейнер такое неотразимое впечатление, что он начинал отплясывать, бросаясь из стороны в сторону. Наши моряки всерьез побаивались его, по вечерам в кубрике неизменно заводились разговоры о мореходных качествах некоторых судов новейших конструкций и делались мрачные прогнозы. В самом деле, осадка сейнера при полной нагрузке составляла всего сто восемьдесят сантиметров, а палубные надстройки возвышались на пять метров над водой; еще метра на два над ними поднималась металлическая мачта и вытянутая под углом стрела, а в длину сейнер едва достигал двадцати метров!
Так вот: мы поплыли на запад, к, материку. Утром следующего дня в белесом тумане проступили очертания высокого скалистого острова Прокофьева — мы подошли к Шантарам, заполняющим юго-западный угол Охотского моря.
— Вроде Пояркова мы, — пошутил кто-то. — Всего за триста два года до нас он где-то здесь провел свои кочи.
Наверху отчаянно закричал капитан, внезапно застопорились машины, и стало так тихо, что мы услышали щебетание птиц. Оказалось, что в тумане наш сейнер едва не наскочил на конусообразную скалу, именуемую островом Малмынского…
— Еще бы чуть-чуть, и мы уподобились бы не только Пояркову, но и еще кому-то — тому, кто первым ступиц на острова, — сказал тот же шутник.
— Разве он после кораблекрушения попал на Шантары? — спросил я.
— А кто его знает… Как-нибудь да попал.
Дневной бриз наконец разогнал туман, и к острову Нансикан мы подошли при свете солнца. Крутые серые скалы подступали вплотную к воде, темные волны разбивались о них в белую пену. Уж не знаю, на сколько разбившихся волн приходится одна обрушившаяся скала, но не было оснований сомневаться в том, что волны все-таки добиваются своего: крупные обломки, выступавшие из воды, наглядно убеждали в этом. Лишь кое-где на скалах виднелись зеленые пятна растительности, вероятно кедрового стланика. Кедровый стланик определенно предпочитал ту часть острова, которая обращена к материку: очевидно, он не ладил с холодными ветрами с моря; Но если скалистые островки не могли похвастаться обилием, растительности, то живности на них было сколько угодно» в воздухе мельтешили перед глазами тучи птиц — кайр, чаек, тупиков; топорков; птицы густо сидели на скалах, качались на волнах, ныряя или улетая при приближении сейнера. Тут же, у острова Нансикан, повстречалось нам огромное стадо нерп, и мы все, даже механики вышли из машинного отделения, собрались на палубе. Повсюду из воды торчали черные, усатые, удивительно смышленые морды. Нерпы плыли, подозрительно посматривая на нас (кто знает, может быть, они тоже впервые видели сейнер «калифорнийского типа»), а перед самым форштевнем ныряли, показав темную пятнистую спину и плеснув ластами.
Вскоре Шантары остались позади…
Мы с вами уже знаем, что Из русских первым увидел Шантарские острова Иван Москвитин; безусловно, видели Шантары, а тем более слышали о них от местных жителей казаки, служившие в Удском остроге на реке Уде.
Но вот что любопытно: до начала XVII столетия никто из русских не был на Шантарах, не плавали туда и эвены, и лишь гиляки иногда переправлялись, чтобы поохотиться в не тронутых человеком лесах.
Естественно, что очень долго так продолжаться не могло. К концу XVII столетия даже Камчатка была достигнута, а население ее обложено ясаком, и вдруг по соседству с Удским острогом лежат неведомые земли, быть может, очень богатые, и никто ими не владеет!
Мысль совершить вылазку на Шантарские острова пришла в голову почти одновременно якутскому воеводе Дорофею Афанасьевичу Траурнихту и губернатору Сибири князю Матвею Петровичу Гагарину.
Впрочем, первым проявил инициативу якутский воевода. В августе 1709 года он вызвал к себе в приказную палату находившегося в то время в Якутске удского приказчика Ивана Сорокоумова и попытался хоть что-нибудь узнать у него о Шантарах. Но удский приказчик понятия о них не имел. И тогда ему была вручена наказная память. «По указу великого государя царя и великого князя Петра Алексеевича, всея Великия и Малыя и Белыя России самодержца», повелевалось Ивану Сорокоумову с «великим поспешением» ехать до Удского острога, нигде не задерживаясь, туземцев в пути не обижать и еще до снега прибыть в Удский острог. Далее в особом наказе говорилось: «А от устья — реки Уди в море который значится остров проведывать: какие люди я том острове живут, и какой веры, и под чьим владением, или собою живут, и какой в том острове зверь, и иное какое богатство у них есть, и по прямому свидетельству буде возможно какими судами самому с служилыми людьми съездить и сметить, сколь далече от устья Уди-реки тот остров, и взять о том прямую достоверную ведомость, и о том всем учинить чертеж и В том великому государю показать верную и усердную свою службу…» Воевода не поскупился на обещания — посулил царские награды и даже приписал, что ежели кто-нибудь из служилых людей «более того сделает», то переведут его в дворянский чин, а также «денежная и товарная милость» ему учинена будет. Зная, что с некоторых пор не очень-то большой радивостью стали отличаться приказчики, не забыл воевода и пригрозить: если Иван Сорокоумов по своей вине указ не выполнит, то «учинено будет жестокое наказание» и пожитки его взяты будут «за великого государя бесповоротно».
«Прямую ведомость и чертеж» воевода обязал Ивана Сорокоумова представить в Якутск в 1710 году.
Надо ли, удивляться, что после столь строгого наказа Иван Сорокоумов действительно отправился в Удский острог с «великим поспешением»! Но я отнюдь не уверен, что гнала его вперед святая жажда искательства или даже служебное рвение. Нет, судя по всему, Сорокоумов принадлежал к иному типу людей, а самый этот «тип» сложился вполне закономерно.
Ивана Сорокоумова, вероятно, спокойная служба среди мирных туземцев устраивала гораздо больше, чем странствия по морям и исследование никому не известных островов. Прибыв в свою вотчину — в основанный задолго до него Удский острог, Иван Сорокоумов на некоторое время забыл о воеводском наказе. Но минула студеная, с ясным небом и сильными ветрами зима, а весной вспомнил боярский сын Сорокоумов, что будет учинено ему жестокое наказание, если он ничего не сделает. Надо признать, что положение у Сорокоумова было не очень легким. Дело в том, что в Удском остроге вместе с ним служило всего шестнадцать человек, и двое из них, судя по отписке Сорокоумова, тяжело заболели. Но на подмогу к Сорокоумову должны были прийти на дощанике еще четырнадцать казаков. Если бы Сорокоумов очень стремился отправиться на Шантарские острова, он, очевидно, постарался бы дождаться помощи. Однако Сорокоумов заранее начал готовить путь к отступлению, проявив-таки «великое поспешение». 4 июня 1710 года, когда юго-западная часть Охотского моря еще забита льдами, а реки не вскрылись и казаки при всем желании не могли приплыть на дощанике в Удский острог, Иван Сорокоумов созвал в приказную избу весь свой «полк». Расчет его, надо полагать, был прост: он решил выведать у казаков все, что им известно о Шантарах, и с этими сведениями, не дожидаясь немощи, отправиться в Якутск к воеводе.
Небольшая приказная изба едва вместила весь «полк». Пришли Семен Анабара, Иван Каргапол, Григорий Харин, Козьма Енисейский, Григорий Волга, Василий Костромин, Ефтифий Зырян с товарищами, а писать Иван Сорокоумов посадил своего сына Стефана Сорокоумова (сам приказчик грамоты не знал).
Но казаки лишь понаслышке кое-что знали о Шантарских островах, и Ивану Сорокоумову пришлось задержаться, чтобы дополнительно опросить ясачных туземцев. Это ему удалось сделать только через месяц. Немного выведал Сорокоумов, но все-таки в отписке теперь значилось, что на Шантарских островах есть горы и рыбные реки, что водятся там разные пушные звери, что гиляки с материка на первый остров за день переезжают, С первого острова на второй — тоже за день и так далее.
С этими расспросными речами Иван Сорокоумов и отправился в Якутск. А в Якутске он узнал, что казаки вышли ему на помощь, но с полпути почему-то вернулись обратно…
Дело на этом могло бы и заглохнуть, но в 1710 году в Якутск прибыл стольник и обер-комендант князь Василий Иванович Гагарин. Он привез воеводе приказ своего дяди, губернатора Сибири, в котором повелевалось исследовать Шантарские острова, и громоздкая административная машина вновь пришла в движение.
На этот раз проведывать острова было поручено новому удскому приказчику боярскому сыну Василию Игнатьеву. Помимо наказной памяти ему выдали и некоторые материалы (например, холст на парус), а служилые люди получили жалованье на три года вперед. Угрозы во втором наказе были еще страшнее: за невыполнение его всем грозила ссылка и конфискация имущества; кроме того, служилым людям разрешалось, если и новый приказчик начнет увиливать от выполнения задания, забрать у него наказную память и, не слушая его, самим плыть на Шантары[9].
Василий Игнатьев выполнил приказание, хотя и с некоторым опозданием. В 1712 году из Удского острога, который находился выше устья реки на девяносто километров, отправился на Шантары казак Иван Быков с небольшим отрядом. Плыли они на двух набойных лодках.
Быстрая у острога, река Уда по мере приближения к морю становилась все спокойнее и спокойнее; в море она впадала тремя рукавами, между которыми лежали низкие острова, заросшие мелким кустарником и травой. Юго-западный угол Охотского моря по ледовым условиям — самый тяжелый: льды там держатся до июля. Поэтому казаки предпочли вести свои лодки вдоль невысоких лесистых берегов, на которых в огромном количестве валялся выброшенный морем плавник. Казаки не спешили — заходили в многочисленные речки, отдыхали и, пополняя рыбой съестные припасы, неводили, перегораживая сетями узкие ручьи.
До устья Тугура, что впадает в Тугурский залив, казаки добирались семь недель. Там они остановились, чтобы запасти рыбу на зиму. Через некоторое время отряд Ивана Быкова догнали Семен Анабара, назначенный приказчиком Шантарских островов, и служилый человек Матвей Федоров. Семен Анабара принял у Быкова людей и припасы (Иван Быков остался в отряде рядовым) и срочно стал строить лодки — «шитики» (доски в них «сшивались» тальниковыми прутьями, «вицами», и ремнями, отсюда их название). Этот тип судов заменил к концу XVII столетия испытанные в тысячах походов кочи землепроходцев.
Должно быть, неводьба на Тугуре в тот год шла не очень, удачно: шитики казаки построили, но из-за «бескормицы» переправиться осенью на Шантары не рискнули. Зазимовали они на материке.
Семен Анабара оказался казаком расторопным, энергичным. В мае 1713 года, едва морские течения и ветры «отжали» зимние льды от берегов, он вывел оба шитика из устья реки и поплыл дальше вдоль Тугурского полуострова. Теперь справа от казаков возвышались Скалистые обрывы. Они тянулись монолитной стеной, и лишь кое-где к морю выходили узкие лесистые пади с небольшими речками, которые водопадами спадали в море. Иногда ветры вновь «прижимали» льды к берегу, и тогда казаки терпеливо дожидались улучшения ледовой обстановки. Путь вдоль Тугурского полуострова занял у них четыре недели.
А потом, покинув мыс, который теперь носит имя древнеримского философа Сенеки, они вышли в узкий, но бурный пролив, ныне именуемый Линдгольм. Издали казалось, что пролив мелок, что повсюду над подводными скалами вскипают буруны; казаки то и дело измеряли шестами глубину. Впрочем, опасения их были напрасны: подводных рифов в проливе Линдгольма нет, там приливные течения сталкиваются с течениями, выходящими из-за островов, и образуются мелкие беспорядочные волны — сулой — и водовороты.
Шитики за несколько часов благополучно пересекли пролив. Казаки высадились на остров, видимо на Малый Шантарский, и прежде всего отправились выяснять, богат ли ой пушным зверем. Им встретились только огромные, не по весне жирные черные медведи. Они кормились тюленями, доверчиво вылезавшими на скалы, не брезгали и дохлыми китами, которых волны иной раз выбрасывали на берег. Осмотр разочаровал казаков. Они переночевали, а на следующее утро снова вышли в море и за пять-шесть часов добрались до следующего острова. Там им тоже встретились одни медведи. Лишь на третьем острове казаки обнаружили соболей и лисиц. Рассчитывая на хороший промысел, они срубили зимовье и, пока не минуло короткое лето, занялись рыбной ловлей. Но тут их постигла неудача: лосось не шел в мелкие островные речки.
Семену Анабаре пришлось послать часть людей обратно на Тугур запасать рыбу; иного выхода не было. На материк отправились служилые люди Михаил Шапошников, Матвей Федоров, Козьма Енисейский, Терентий Никифоров и Семен Букин. Они благополучно добрались до Тугура, удачно порыбачили. Промыслив с избытком рыбы, казаки приготовились плыть обратно, но тут случилось нечто непонятное. Почему-то один из них, Семен Букин, остался у ясачных тунгусов и с ними посуху отправился в Удский острог. Видимо, казаки не взяли его с собой из-за болезни («за скорбью», как он сам показал в Якутске). Остальные же вышли в море, спеша к товарищам…
Все они погибли. Почему, как — можно только догадываться, но мне кажется, что ответ на это дает история морехода Татаринова…
Оставшиеся на острове Семен Анабара, Иван Быков, Алексей Крестьянинов, Сидор Яковлев и Никита Емелкин тоже готовились к зимовке: заранее обходили свои владения, — расставляли кулемы на соболя, чтобы с первыми морозами насторожить их, били птицу на шумный «птичьих базарах», охотились на глухарей, тетеревов, рябчиков. Трава на острове была высокая, густая, ближе к берегу почти по пояс, а в тихих, защищенных от ветра долинках в рост человека. Из-за постоянной сырости хвоя лиственниц казалась ярче и сочнее, чем на материке; за ночь она становилась матовой от осевшей росы и при восходе солнца сверкала мириадами разноцветных огоньков. Лес был густой, молчаливый; только когда налетали бурные ветры с моря, он шумел протяжно и тоскливо. Вдоль берега росли странные деревья корявые, изогнутые, с кронами, вытянутыми в одну сторону; криволесье, как сказали бы мы теперь. Зато в центре острова лиственницы достигали метра в поперечнике. На острове кроме лиственниц росли сосны, сибирская и аянская ели; у аянской ели кора темнее, чем у сибирской, а шишки мягкие, словно кожаные! Встречались на острове осина и белая ольха, а на скалах росла каменная береза — дерево с изогнутым стволом, снизу доверху обернутым белой шелковистой корой с пепельным налетом. Сушили казаки на зиму черемуху, смородину-дикушу — черную, но по форме соплодий похожую на красную. На вершинах гор, там, где кончался лес, начинались заросли кедрового стланика. По низким плотным кустам шныряли кедровки, лущили шишки…
Зима наступила сразу! Глубокие снега засыпали не успевшую поблекнуть зелень, и пожелтевшие лиственницы с опозданием сбрасывали мертвую хвою прямо на снег. Штормовые волны еще ломали береговой припай, громоздили из обломков ледяные валы, но вскоре и они утихли. Белая мертвая пустыня уходила теперь далеко на Север, сливаясь с мутным пасмурным горизонтом… Поняли казаки, что товарищей им не дождаться. Подсчитали продукты, получилось негусто, но зиму перезимовать можно.
Из-за морозов, глубоких снегов и плохого питания казаки не рисковали, надолго отлучаться из зимовья: утром расходились по своим охотничьим владениям, осматривали ловушки на соболя, а к вечеру возвращались обратно. По ночам выли волки, должно быть, прибегали с материка.
Среди зимы Сидор Яковлев и Никита Емелкин заболели и умерли, Товарищи схоронили их тут же, возле зимовья, разогревая мерзлую землю кострами. Дорого обошлось русским первое посещение Шантар: больше половины отряда погибло.
За зиму Иван Быков промыслил на островах двадцать восемь соболей, Алексей Крестьянинов — двадцать, а Семен Анабара — пятьдесят.
29 июня 1714 года, когда льды наконец вынесло из проливов, трое оставшихся в живых казаков покинули остров и взяли курс прямо на Уду. За десять дней, идя то под парусом, то на веслах, они добрались до реки, а затем и до острога. Удский приказчик Василий Игнатьев, едва позволив мореходцам отдохнуть с дороги, отправил их в Якутск. Они покрыли огромное расстояние — девятьсот верст! — за баснословно короткий срок, и уже 20 октября новый якутский воевода полковник Яков Агбевич Елчин «взял с них скаски» о путешествии. Иван Быков и Алексей Крестьянинов вскоре вернулись обратно в Удский острог. Что делал потом Семен Анабара, я не знаю: след его потерян, так же как потеряны следы Ивана Москвитина, Алексея Филипова и многих, многих других…
А теперь — о трагической судьбе морехода Татаринова.
В 1716 году бывший якутский воевода Яков Елчин (их меняли почти каждые два года) был назначен начальником экспедиции, получившей в истории название «Большой Камчатский наряд». Экспедиции этой поручалось искать новые земли вокруг Камчатки, и в частности вторично посетить Шантарские острова.
Очевидно, Яков Елчин раньше был знаком с мореходом Татариновым и считал его способным, знающим навигацию человеком. К моменту организации экспедиции Татаринов (капитан Татаринов, как называют его в некоторых работах) был приказчиком на реке Анадыре. Елчин добился разрешения вызвать его к себе, а Татаринов, узнав, что есть возможность отправиться на поиски новых земель, сдал дела на Анадыре и переехал в Охотск.
Очень обидно, что эта широко задуманная экспедиция, которая при хорошей организации, безусловно, могла бы привести к интересным открытиям, фактически не состоялась. Историки XVIII столетия объясняют это тем, что Елчин не ладил с новым воеводой, а тот чинил ему всяческие препятствия, тем, что шведский морской лейтенант, захваченный в плен во время Северной войны, Петром Первым и прикомандированный к экспедиции, оказавшись человеком бесталанным, не сумел построить в Охотске морские суда, ссылаясь на отсутствие хорошего леса, и так далее. Но вероятно, одна из причин провала; экспедиции заключается в том, что большинство ее участников, и в первую голову сам Елчин, не понимали целей экспедиции и, соблюдая внешнюю покорность, фактически не очень стремились выполнять приказ. Дух землепроходчества, страсть к искательству, к проведыванию новых землиц, беззаветная отвага, не требующее поощрения трудолюбие и многотерпеливость, короче говоря, все те качества, которые отличали вольных людей XVII столетия и провели их от Урала до Тихого океана, — все это было уже не столь характерным для обитателей Сибири в XVIII веке, о чем я уже говорил, но о чем мне сейчас важно еще раз напомнить. Время, о котором сейчас идет речь, — это конец землепроходчества. Были тому экономические и социальные причины, и в числе важнейших та, например, что мягкая рухлядь уже не могла играть прежнего значения в жизни страны: она утрачивала значение валюты, имеющей международное хождение. И хотя меха по-прежнему высоко ценились и их выкачивали из Сибири, наступила пора новых устремлений. Россия теперь стремилась не столько на восток, к безлюдным тихоокеанским морям, сколько на запад, к Балтийскому морю, прорубая окно в Европу.
Я не хочу тем самым сказать, что у жителей Сибири начала XVIII века совсем угасла инициатива, что растеряли они отвагу. Нет. Но как XVII век и необозримая непокоренная Сибирь вызвали к жизни определенный тип людей — вольницу, так и совершенно иные социальные условия в покоренной Сибири, разделенной на административные округа, напичканной малым и большим начальством, обусловили формирование другого типа людей — домовитых казаков, вросших в землю, обжившихся на ней, которые предпочитали не бегать за призрачным богатством за тридевять земель, а добывать его тут же, на месте, или обходиться мелким промыслом. Феодальная деспотия, относительно затушеванная в XVII столетии хотя бы тем обстоятельством, что до губернатора было далеко, а до царя еще дальше, тем, что на новых землицах — боярский ты сын или дворянский, — а любой казак из холопов мог тебе пулю — в лоб пустить — эта феодальная централизованная деспотия в XVIII столетии проявляется в Сибири уже в полную силу. Раболепное повиновение далекому, но грозному самодержцу, а не личная инициатива и отвага — вот что выступает на первый план. Это и обусловило нерешительность многих воевод и приказчиков, их стремление прожить потише, чтобы не навлечь на себя гнева самодержца, и урвать побольше, не очень-то рискуя И не Очень-то заботясь об интересах государственных.
Утрату личной заинтересованности, личной инициативы можно проиллюстрировать хотя бы на примере знаменитой экспедиции Беринга, начавшейся через несколько лет после провала Большого Камчатского наряда. В Данном случае достаточно напомнить всего один факт, сегодня представляющийся почти невероятным: после многолетних усилий, преодолев с огромными трудностями водные пространства, отделяющие Азию от Северной Америки, подойдя вплотную к берегу, начальник экспедиции Витус Беринг даже не сделал попытки высадиться на материк и фактически не дал возможности исследовать острова натуралисту Стеллеру. Беринг в сущности был слепым исполнителем воли монарха и, не пощадив жизни своей» исполнил монаршью волю. Личной же заинтересованности в результатах экспедиции у него не было или почти не было, и этим прославленный Витус Беринг отличался от любого заштатного, но подлинного землепроходца: ни один из них ни при каких обстоятельствах не упустил бы случая высадиться на новую землю и «подвести под высокую государеву руку» новые племена…
Иной тип людей олицетворяют мореход Татаринов и его товарищи, имен которых я, к великому сожалению, не знаю.
Как уже говорилось, столь широко задуманная экспедиция распалась из-за отсутствия руководства, но Шантарский отряд, к которому был прикомандирован мореход Татаринов, задание выполнил.
Впрочем, чтобы не вступать в противоречие с хронологией, отметим следующее. Пока экспедиция организовывалась, на Шантарах успел побывать посланный в Удский острог сборщик ясака Алексей Карпов с одиннадцатью казаками, В 1717 году на двух шестисаженных каюках они переправились на один из ближайших к материку островов и перезимовали тай. На следующий год, оставив на Шантарах двух казаков, Алексей Карпов вернулся в Якутск с донесением.
Все сведения о Шантарских островах, собранные казаками Семена Анабары и Алексея Карпова, были переданы начальнику Шантарского отряда боярскому сыну Прокопию Филькееву. Кроме того, Филькеев получил предписание взять в провожатые в Удском остроге Ивана Быкова и Алексея Крестьянинова — спутников Семена Анабары.
Филькеев получил задание выяснить размеры островов, можно ли на них пахать и косить, ему приказывалось проведать реки и озера, качество леса (есть ли плодовые деревья и пригоден ли лес для судостроения), описать животный мир островов и выяснить, что возможно, о местных жителях, причем, как обычно, предлагалось собирать с них ясак, хотя казакам уже было известно, что Шантарские острова необитаемы.
Шантарский отряд насчитывал более двадцати человек и имел солидную по тому времени материальную базу: Филькееву было выдано 20 пудов железа, 30 аршин холста на паруса, 15 пудов пряжи на снасти, 3 компаса, 2 подзорные трубы, 10 топоров и 10 лошадей, для разных работ.
Фактически всеми работами отряда руководил мореход Татаринов. Прибыв в Удский острог, он немедленно занялся постройкой лодии. Филькеев в морском деле ничего не понимал и в распоряжения Татаринова, надо полагать, не вмешивался. В длину лодия имела более восемнадцати метров, а в ширину — более шести.
В 1719 году экспедиция вышла в море. Экипаж лодии кроме Филькеева и Татаринова насчитывал семнадцать человек. Кормщиком на лодии был Татаринов — он вообще один умел управлять судном.
Плавание сразу началось неудачно. Едва лодия вышла в Удскую губу, как разыгрался шторм. Высокие волны шли с открытого моря, грозили выкинуть лодию на берег, разбить ее, и Татаринов отважно повернул навстречу буре. Судно и экипаж выдержали суровое испытание. Через семь дней лодия благополучно причалила к берегу в, Тугурском заливе.
И там, на деле проверив экипаж, мореход Татаринов выдвинул смелый план: он предложил не ограничиваться исследованием Шантарских островов и, Посетив их, уйти дальше на восток и там искать новые земли. Очевидно, этот дерзкий план Татаринов заранее согласовал с единомышленниками, потому что в Тугурском заливе его поддержали все, кроме… начальника отряда Филькеева и еще двух нерадивцев. Боярский сын Прокопий Филькеев твердил, что приказано исследовать только Шантары, а искать другие земли велено не было, и требовал, чтобы Татаринов не нарушал приказа. Конфликт разрастался, грозил принять острые формы.
Победил Татаринов — один из последних подлинных землепроходцев. Филькееву и его двум сторонникам пришлось покинуть лодию и остаться на берегу; руководства экспедицией перешло к Татаринову.
Лодия вышла в море и благополучно достигла острова Большой Шантар. Видимо, время было уже позднее (точными датами я не располагаю), и Татаринов решил перезимовать на Большом Шантаре. К этому побуждали и меркантильные соображения, отнюдь не чуждые отважным мореходцам: в лесах Большого Шантара, до их приезда остававшегося «заповедным» местом, оказалось много соболя. Зимний промысел прошел очень удачно и целиком оправдал надежды. Лишь одно событие, случившееся уже весной, омрачило зимовку: кто-то из казаков по неосторожности поджег лес, и этот пожар заставил зверей покинуть Большой Шантар.
В июле 1720 года Татаринов, приступив к выполнению своего плана, вывел лодию в море. Но прежде чем уйти на восток, в сторону Курильской гряды, казаки решили пополнить запасы продовольствия свежей рыбой — ход лососевых уже начался.
Татаринов повел лодию на юго-восток и где-то между Тугурским заливом и устьем Амура (скорее всего в Ульбанском заливе), выбрав удобную бухту, в которую впадала речка, бросил якорь. Шесть казаков во главе с самим Татариновым высадились на берег и встретили в устье реки около сорока местных жителей — гиляков.
Казаки тотчас потребовали, чтобы гиляки заплатили им ясак, Что те беспрекословно и выполнили. Убедившись таким образом в миролюбии гиляков, Татаринов ввел лодию в реку и поставил ее за «кошкой» в «закошечье», как до сих пор говорят поморы. Они простояли в реке четыре дня, причем гиляки приезжали на лодию, казаки гостили у них на берегу, ловили рыбу, и ничто не предвещало скорой трагической развязки…
На пятый день Татаринов вместе с десятью казаками отправился на двух лодках вверх по реке… А часа через три мимо лодки вниз по течению проплыл первый труп, за ним второй… Оставшиеся в лодии казаки опознали убитых товарищей. Опасаясь нападения, — хотя на берегу по-прежнему все было тихо и мирно, — они снялись с якоря, вывели лодию из реки и остановились напротив устья, в полукилометре от берега…
Еще сутки ждали они товарищей, но никто из них не вернулся. Что случилось на реке, почему гиляки напали на казаков, ловивших рыбу и, наверное, плохо вооруженных, этого мы никогда, не узнаем. Но мореход Татаринов погиб вместе со своими сподвижниками, так и не выполнив смело задуманного плана. А экспедиция обещала быть интересной, и она наверняка вошла бы в почетный список плаваний русских по Тихому океану…
Не умевшие водить лодию спутники Татаринова лишь после многодневных скитаний «без руля и без ветрил» сумели добраться до устья реки Уды…
Зато боярский сын Прокопий Филькеев остался цел и невредим и много лет спустя рассказывал в Якутске историку Миллеру о своих «злоключениях», жаловался на неугомонного капитана Татаринова, так печально закончившего дни свои.
На Камчатку!
Однажды наш экспедиционный сейнер «калифорнийского типа», готовясь к очередному рейсу, стоял на реке Охоте. Мы могли бы на следующий день выйти в море, но Аюшин и капитан решили наловить рыбы: ход лососевых еще продолжался, и с приливом в Охоту косяками входила кета, горбуша и кижуч.
Прилив начался около четырех часов утра, а в пять вахтенный разбудил нас. Одеваясь, я почувствовал, как дрогнул и медленно развернулся по течению, встав грудью навстречу приливной волне, наш сейнер. Я вышел на палубу и невольно поежился: утро выдалось серым, промозглым. С моря ползли рваные темные облака. Дул еще не сильный, но холодный и влажный юго-восточный муссон. Погода вот-вот могла испортиться.
Одетые в штормовки матросы аккуратно уложили в шлюпку закидной невод, который одолжили нам на несколько часов в рыболовецком эвенкийском колхозе. Мы кое-как устроились на свободных местах, и перегруженная шлюпка медленно переплыла от сейнера на кошку.
Ловом рыбы распоряжался наш неводчик. Закрепив конец невода на берегу, он вместе с матросом поплыл к середине реки, постепенно сбрасывая невод и перегораживая Охоту. После того как весь невод был сброшен в воду, лодка сначала немного спустилась вниз течению, а потом причалила к берегу. Мы стали быстро выбирать невод. Минут через пятнадцать на гальке уже билась крупная серебристая рыба.
Как видите, рыба «обошлась» с нами иначе, чем с казаками Москвитина, и не вырвала невод из рук. Ее вообще оказалось мало, этой прославленной кеты и буши: усиленный лов на протяжении многих десятилетий, а особенно в последние годы, привел к истощению запасов лососевых в Охотском море. Это и не удивительно: чтобы много рыбы приходило с моря, нужно чтобы много ее доходило до нерестилищ в верховьях рек. Но дорогу туда в каждой реке преграждают десятки неводов, и вместо нерестилищ рыба попадает прямо на рыбоконсервные комбинаты, да в таком количестве, что о самовоспроизводстве охотского стада лососевых не приходится и говорить: с каждым годом все меньше и меньше рыбы прорывается сквозь заградительные сети, и все меньше и меньше мальков выходит по весне в море. А ведь через несколько лет рыба вернется в ту же самую реку, из которой вышла в море! Так планы рыбозаготовителей пришли в противоречие с природой, и сохранение охотского стада лососевыми, ныне стало острой, насущной проблемой, переросшей местные рамки.
Выход в море мы отложили на следующее утро. Устав за день, я рано лег спать. Поздно вечером в кубрик спустился Аюшин и разбудил меня.
— Если вам не лень, — сказал он, — то встаньте и посмотрите, что творится на море.
Мы вместе поднялись на палубу. Стояла черная ненастная ночь, без дождя, но с сильным ветром. Море рокотало так яростно и грозно, что даже на реке мы плохо слышали друг друга. Я вышел на корму, взглянул в сторону моря и не поверил своим глазам: за темной кошкой расстилалось белое, словно засыпанное снегом поле. Зрелище было настолько необычным, что я даже не сразу понял, что передо мной штормовое море и в темноте белеет не снег, а морская пена.
— Как вам нравится? — напрягая голос, спросил Аюшин и, не дожидаясь ответа, сказал: — Черт те что делается! Чего доброго, мы здесь на неделю застрянем.
Я молча кивнул, наблюдая, как огромные валы белыми, слегка фосфоресцирующими потоками переливаются через кошку в реку. Когда в Охоту обрушивался особенно большой вал, наш сейнер тихонько вздрагивал, покачиваясь на невысоких волнах.
Утром я переправился на кошку. Был отлив, и валы не перекатывались через нее. Но следы их ночной работы были видны повсюду: против тех мест, где переливались в реку морские валы, в Охоту на несколько метров вдавались округлые фестоны из гальки; быстрая бурная река размывала их, словно торопясь свести на нет всю работу моря до наступления нового прилива. Так прояснилась для меня в общих чертах вековечная борьба моря и рек. Море словно перекатывало кошку, надвигая ее на реку, заваливало галькой русло, блокировало устье, преграждая дорогу, а река с такой же настойчивостью рвалась к морю. И, если море одолевало и, перекрывало устье реки галькой, реке приходилось искать выход в другом месте, она начинала блуждать, плутать в нескольких десятках метров от желанной цели. Так случилось с Охотой: ей пришлось воспользоваться услугами Кухтуя и через его устье впадать в море. Но потом, во время одного из бурных паводков, Охота победила в неравной борьбе и образовала новое устье.
Я шел вдоль берега, изредка останавливаясь и делая короткие заметки в дневнике.
Впереди меня к кошке причалила лодка, из нее выпрыгнул человек, в котором я узнал председателя эвенкийского рыболовецкого колхоза. Это он одолжил нам закидной невод.
Эвенк вышел к морю, и замер в напряженной позе, внимательно вглядываясь в даль, замутненную пасмурью. Я окликнул его. Председателю колхоза было лет сорок пять; его черные, коротко подстриженные волосы серебрились от густой проседи. На нем был костюм военного покроя, на груди краснели две полоски боевых наград: в дни войны он прославился как снайпер.
— Рыбу смотрите? — пошутил я, пожимая его маленькую мозолистую руку. Из-за рева волн он не расслышал моих слов, и мне пришлось повторить.
— Зачем рыбу? — прокричал в ответ председатель колхоза. — Катера.
— Катера? — удивился я.
Эвенк кивнул.
— Гляди туда, — сказал он мне, махнув рукой в сторону открытого моря.
Но сколько я ни всматривался, ничего, кроме волн и пены, разглядеть не мог. И лишь в бинокль мне удалось различить среди волн несколько черных точек. Это были маленькие катера — «жучки», как их ласково называют моряки. Море бушевало, но «жучки» шли стройной кильватерной колонной.
— Откуда они идут?
— С Камчатки.
— С Камчатки?!
Перед моим мысленным взором возникла карта с большим голубым полем, отделяющим северо-западное побережье от Камчатки. Пересечь напрямик Охотское море на таких катерках да в такую погоду — это, знаете ли, не шутка!
— Да, с Камчатки, — повторил эвенк. — Колхозы купили там катера и теперь перегоняют. Я сам два катера купил. Почему не купить?.. В море сельдь промышлять начнем. — Эвенк помолчал, а потом добавил:
— Сын там плывет. Мореходный техникум кончил — теперь катера водить будет.
Через несколько часов, в полный прилив, «жучки» подошли к устью Охоты. Мы наблюдали за ними с палубы сейнера. Если трудно было вести суда по штормовому морю, то еще труднее было войти в устье реки, перегороженное подводными мелями — барами. Катера один за другим входили в полосу бурунов. Иногда казалось, что, проваливаясь меж волн, «жучки» садятся на грунт и вот-вот их опрокинет очередной волной. Наконец катера пробились сквозь буруны и прошли мимо нас вверх по реке, к причалам рыбного завода.
— Досталось морячкам, — сказал я.
— Конечно, досталось, — согласился начальник рейса Аюшин…
…Я вспомнил об этом эпизоде уже в Москве, и не случайно. Катера-«жучки», купленные колхозами Охотского района, пересекая штормовое море, шли уже сотни раз пройденным до них путем. Разумеется, это не умаляет мужества моряков, не испугавшихся единоборства с бурей. Но тем, кто первым проложил этот путь, было труднее. И не только потому, что они плыли на парусной лодии, а не на катерах с мощными моторами, но и потому, что они были первыми.
Изучая историю Охотского моря, я занялся проблемой открытия морского пути из Охотска на Камчатку, а это, пожалуй, самое важное событие первой четверти XVIII столетия на всем тихоокеанском побережье России.
Из Якутска на Камчатку в течение почти двух десятилетий ездили через Анадырский острог. Дорога эта была не только очень трудна и продолжительна, но и опасна: местные жители, коряки, не пропускали без боя почти ни одного отряда, малейшая оплошность грозила смертью. Достаточно сказать, что за двенадцать лет, предшествовавших открытию морского пути (с 1703 по 1715 год), на этой дороге погибло до двухсот казаков — цифра огромная по тем временам.
Длительность и опасность окружной дороги превратили проблему открытия морского пути на Камчатку в проблему первостепенной важности, имеющую государственное значение.
Без всякого нажима сверху, из Москвы, это почувствовали и сибирские губернаторы, и якутские воеводы, очевидно напуганные убылью служилых людей. В 1710 году губернатор Сибири В. И. Гагарин в специальной инструкции повелел якутскому воеводе Траурнихту «с Ламы проведывать чрез море путь на Камчатку».
И в там же году «осенью некто Василий Савостьянов» отправившийся на Камчатку приказчиком, уже получил от воеводы Дорофея Траурнихта наказ проведать путь с Камчатки до Тауйского острога или Охотска.
Но он ничего не сделал.
Дорофей Траурнихт (тот самый, что отправил Ивана Сорокоумова исследовать Шантары) на этом, однако, не успокоился. Очевидно, он и сам был человеком достаточно инициативным и умным. В 1711 году он дает такой же наказ охотскому приказчику боярскому сыну Петру Гуторову. И Гуторов сделал попытку найти путь на Камчатку. По суше он переехал из Охотска в Тауйский острог, а оттуда на плохоньких суденышках, ботах-однодеревках, вышел в море, но вскоре вынужден был вернуться обратно: опытного кормчего он найти не смог, сам водить суда не умел, да и приборов навигационных у него не было. При таких условиях до Камчатки действительно не дойдешь!
Проблемой морского пути на Камчатку заинтересовался в конце концов сам Петр Первый. Фельдъегерь доставил губернатору Сибири князю Гагарину личный приказ царя проведать дорогу на Камчатку, причем Петр повелевал снабдить мореходов морскими приборами, а в Охотске построить крепкое судно. Снова пришла в движение сложная административная машина. Губернские дьяки составили приказ для нового якутского воеводы Якова Елчина. Говорилось в нем, что должен воевода немедленно послать из Якутска в Охотск сына боярского с двенадцатью казаками, поручив тому идти морем на Камчатку без всяких проволочек, чтобы в том же году вернуться обратно с донесением. Как положено, пообещали дьяки награды и повышения в чинах, а заодно напомнили, чтобы на Камчатке мореходы подчинялись капитану Татаринову, тому Татаринову, который через несколько лет погибнет в самом начале большого путешествия. Гагарин сделал на указе собственноручную приписку и не только подтвердил посулы дьяков, но и велел всем участникам похода прибавить содержания, а сына боярского записать при посылке в потомственные дворяне. В приписке князя Гагарина сказано: послать не охотников, а тех, кому подошла очередь идти в поход. Вот эта часть приписки и сыграла, так сказать, роковую роль. Кроме того, Гагарин, как вы, наверное, заметили, упустил в своем приказе самую существенную часть приказа Петра Первого — о снабжении мореходов судами и навигационными приборами.
Гагарин подписал приказ в феврале 1713 года. По зимним дорогам гонцы быстро доставили его к месту назначения. Воевода Яков Елчин тщательно изучил приказ. Придав особое значение собственноручной приписке губернатора, он справился в своей канцелярии и выяснил, что «очередь» идти на подвиг наступила для боярского сына… Ивана Сорокоумова! «Исследовав» Шантарские острова и сдав дела по Удскому острогу Василию Игнатьеву, боярский сын Иван Сорокоумов прочно осел в Якутске и едва ли помышлял о новых походах и плаваниях. И вдруг — плыть на далекую Камчатку, через все Охотское море!
Делать, однако, было нечего. Получив наказную память, боярский сын Иван Сорокоумов, волею губернатора возведенный в новый дворянский чин, выступил в поход во главе отряда из двенадцати человек.
Примерно в то же время Петр Первый получил в Петербурге донесение губернатора князя Гагарина. Уж кто-кто, а Петр Первый отлично представлял себе, какова расторопность его верноподданных, и понимал, что без серьезной, продуманной организации на успех нечего и надеяться. Вновь фельдъегерь поскакал в далекий Тобольск и вручил губернатору Гагарину повторный категорический приказ снабдить мореходов всем необходимым для трудного плавания. А вслед за фельдъегерем по царскому указу отправились на перекладных через всю страну на побережье Охотского моря умелые и бесстрашные архангельские «лодейщики», кораблестроители-мореходы Никифор Тряска, Кондратий Мошков, Яков Невейцын, Бутин. Они благополучно прибыли в Тобольск; там губернатор Сибири положил им жалованье по 40 рублей в год и дополнительно по пять рублей кормовых на человека. Выполняя приказ Петра, Гагарин разыскал в Сибири знающего толк в морском деле авантюриста Генриха Буша. Голландец по национальности, он служил матросом на кораблях многих стран, а потом нанялся рейтаром в войска шведского короля Карла XII и был взят в плен русскими под Выборгом. Ему, как иноземцу, да еще ссыльному, положили жалованье 15 рублей в год и тоже отправили на Охотское море.
В Тобольске к архангельцам присоединились плотники-умельцы Кирилл Плотницкий, Иван Каргополов, Варфоломей Федоров.
Гагарин на этот раз не поскупился, и кораблестроители получили богатое снаряжение. Выдали им три якоря весом в пять, четыре и три с половиной пуда, 600 аршин толстого холста на паруса, 4 «спуска» (мотка) снастей «мерою в 110 сажен», 5 спусков тонких веревок, на фонари и на компасы выдано было более 15 фунтов слюды, а также пищали, свинец, порох, топоры, долота, тесла, скобели, сверла, пилы, 28 ведер смолы и несколько пудов очень дефицитного в Охотске железа.
А дворянский сын Иван Сорокоумов в это же время действовал не менее бурно, но в ином направлении. Когда он во главе своего отряда появился под стенами Охотского острога, приказчик Поротов из каких-то соображений закрыл ворота и отказался впустить его. Переговоры ни к чему не привели. Тогда бравый предводитель построил «войско» в боевой порядок и пошел на приступ. Долго ли, коротко ли продолжалось это сражение, я не знаю, но закончилось оно победой Ивана Сорокоумова, и приказчик Поротов, запершийся в ясачной избе, в конце концов был пленен.
То ли победа и повышение вскружили голову новому дворянину, то ли махнул он на все рукой — пропадать, мол, так с музыкой! — но забыл Иван Сорокоумов о воеводском наказе и пустился в разгул, а не найдя больше достойных соперников для воинских потех, занялся грабежом населения.
В Якутске после приезда архангельских мореходов сформировали новую партию казаков для открытия морского пути на Камчатку. Во главе ее был поставлен казак Кузьма Соколов, человек не только инициативный, но, как бы мы теперь сказали, и принципиальный.
Архангельских мореходов Никифора Тряску и Якова Невейцына включили в «команду» Соколова, а двух их товарищей послали с другим отрядом казаков искать острова в Восточно-Сибирском море.
Напуганные вмешательством самого царя, сибирские владыки вручили Соколову наказную память, составленную в исключительно строгих тонах. Предлагалось ему идти из Якутска в Охотск «днем и ночми», Отправиться на поиски «Камчатского пути через Дамское море без всякого сомнения» и желательно тем же летом. Посулы на этот раз были еще щедрее: если возвратятся в целости, то по милостивому обещанию государя будут награждены, пожалованы «великою царскою милостью», переменой чинов, повышением окладов и вообще богатством будут «уснабжены»; если погибнут, то бог им «за это вечную жизнь даст», а «богатство» получат по царскому указу их дети и жены.
Но зато и кара казакам обещана пострашнее прежних: если допустят они промедления без причин, или в тот путь не пойдут, или возвратятся, не дойдя до Камчатки, «то быть им в смертной казни и без всякого милосердия и пощады».
Соколову повелевалось вести тщательное описание всего пути, островов — измерять их, снимать чертежи, проведывать, много ли зверя на них и какие люди живут, в какой вере, под чьим владением, какое вооружение и богатство имеют.
Упоминается в наказной памяти и боярский сын Иван Сорокоумов — до Якутска успели дойти слухи о его дебоширстве. Воевода приказал Соколову во всем разобраться на месте, и, если Сорокоумов на Камчатку не ходил, от должности его отстранить, а людей взять под свое командование.
Кузьма Соколов и Никифор Тряска с товарищами прибыли в Охотск в конце лета 1714 года. Иван Сорокоумов сдался без всякого сопротивления; его под конвоем отправили в Якутск. Там дворянина заточили в тюрьму, и он умер через четыре года, оставив о себе далеко не светлую память.
«Уставщиком» — бригадиром — при постройке лодии Соколов назначил Кирилла Плотницкого, а в помощники ему определил Ивана Каргополова и Варфоломея Федорова. Вблизи Охотского острога хороший лес не рос (на это ссылался шведский морской лейтенант, не сумевший построить судно для Елчина), но Кирилл Плотницкий, по дороге в Охотск примечавший места, весной отправился вместе со своими помощниками вверх по реке и там, по среднему течению Охоты, нашел прекрасный строевой лес. Плотники заготовили необходимое количество «хлыстов» и сплавили их по большой воде к плотбищу.
Все лето 1715 года ушло на постройку лодии. Получилась она добротной и ни в чем не уступала тем морским судам, на которых архангельские и мезенские поморы уверенно бороздили Северный Ледовитый океан. По внешнему виду лодия напоминала одномачтовый карбас, в длину достигала восемнадцати метров, а в ширину — шести при осадке всего в три с половиной фута. Название лодия получила гордое — «Восток»!
…Отряд Кузьмы Соколова вышел в плавание летом 1716 года. Управлял лодией Никифор Тряска, а помогали ему Яков Невейцын, Варфоломей Федоров, Андрей Соколов и Генрих Буш.
Никифор Тряска повел лодию вдоль берега на север тем же путем, которым задолго до него проплывали казаки Ивана Москвитина, Алексея Филипова. Лодия достигла устья реки Олы. Неожиданно разыгравшийся шторм угнал судно в открытое море. Никифор Тряска сориентировался по навигационным приборам и повел лодию напрямик к Камчатке: как видно, мореходные качества лодии уже не вызывали у него сомнения. И он не ошибся. Несмотря на сильное волнение, лодия, подгоняемая попутным ветром, резво бежала на восток, и вскоре мореходы увидели высокие скалистые берега Камчатки в районе устья реки Тигиль. Высадиться они не рискнули: прибой грозил разбить шлюпки о камни. А к ночи поднялся крепкий встречный ветер, лодию вновь угнало в открытое море и несло чуть ли не до самого Охотска.
Не будем удивляться злоключениям отважных мореплавателей: они плыли на восток, а летний муссон над Охотским морем дует с востока или юго-востока. Бороться со встречным ветром на парусном судне не так-то просто. Через некоторое время наш знаменитый географ XVIII столетия Степан Крашенинников обобщит опыт мореходов и в своей книге «Описание земли Камчатской» отметит, что путь с материка на Камчатку «труден и продолжителен», а с Камчатки на материк, «напротив того, способен и скор». И объясняется это направлением господствующих ветров.
Никифор Тряска и Кузьма Соколов не знали, что им приходится прокладывать новый путь в наитруднейших условиях. Едва ветер утих, они вновь повели лодию к берегам Камчатки и вновь подошли к устью реки Тигиля. На этот раз прибой был тише, казаки высадились на берег, но нашли только пустые юрты: камчадалы убежали, заметив лодию.
За один день казаки доплыли от устья Тигиля до реки Харьюзовки, потом добрались до реки Ичи. Уже темнело, и Тряска увел лодию подальше от берега. Утром вновь высадились на берег, но людей опять не обнаружили. Лишь у реки Крутогоровой заметили казаки на берегу камчадалку, собиравшую коренья. Они устроили на нее нечто вроде облавы, но, к их удивлению, женщина ничуть не испугалась и на трудно понятной смеси ительменского и русского языков объяснила им, что поблизости живут русские. Она привела Соколова к юртам. Там казаки встретились со своими соотечественниками, занимавшимися сбором ясака.
Лодию ввели в устье реки Колпаковой, что поблизости впадала в море, и там же решили зазимовать. Пока казаки строили зимовье, произошло любопытное происшествие: на берег выкинуло околевшего кита; осматривая его, казаки обнаружили острогу, вогнанную в тело животного. На остроге оказалась надпись. Самые искусные грамотеи пытались ее прочитать, но не смогли и тогда позвали голландца Генриха Буша. Тому не составило труда определить, что острога европейской выделки, и он объяснил казакам, что сделана надпись латинскими буквами. Надо полагать, что не раз после этого выходил Генрих Буш на берег, вглядывался в пасмурную морскую даль с тщетной надеждой увидеть белопарусный бриг, на котором он смог бы бежать из Московии и вернуться на родину. Но мечтам этим не суждено было сбыться…
Зимой Кузьма Соколов съездил в Нижне-Камчатский острог: казаки-ясачники уверяли его, что приказчик Петриковский слишком уж ненасытен в грабежах и совсем о государевой пользе не думает. Предвидя осложнения, Соколов захватил с собой надежных людей, бывальцев, снабдив всех огнестрельным оружием. Никто из ясачников особой разборчивостью в средствах обогащения не отличался, но Петриковский, как видно, всех превзошел жестокостью и ненасытным стяжательством. Находившиеся под его началом служилые люди сразу же встали на сторону Соколова. Петриковского сместили, а все награбленное им конфисковали в пользу казны. У нижнекамчатского приказчика отобрали более 140 сороков (5600 штук!) соболей, около двух тысяч лисиц, двести семь бобров и сто шестьдесят девять выдр! По дороге в Нижне-Камчатск и обратно Кузьма Соколов, как истинный казак, тоже собирал для государя великого мягкую рухлядь. Вернулся он к месту зимовки лодии уже весной.
В начале мая 1717 года Никифор Тряска вывел лодию в море и взял курс на Охотск. В отличие от многих последующих плаваний с Камчатки на материк поход Тряски и Соколова оказался не из легких: они слишком рано вышли, и на четвертый день пути их затерло во льдах. Некоторое время лодия безвольно дрейфовала вместе с ледяными полями. Казаки боялись, что их вот-вот раздавит, но потом ветер переменился, появились разводья, и лодия выбралась на чистую воду. На судне уже кончались съестные припасы, начинался голод; надо было спешить.
К материку лодия подошла между рекою Олой и Тауйским острогом. Мореходы высадились на берег в устье первой встретившейся реки и наловили рыбы.
В Охотск они вернулись 8 июля.
Кузьма Соколов, сдав лодию охотскому приказчику, тотчас отправился в Якутск с донесением. Он прибыл туда в сентябре, передал в приказную избу документы, и в том числе карту, ныне утерянную, а дома совершенно неожиданно, не болея, скоропостижно скончался.
Вдове Соколова и его сыну Афанасию выдали за труды отца привезенную с Камчатки соболью шубу и девять сороков соболей. Что касается других мореходов, то ни Никифор Тряска, ни Яков Невейцын, ни тем более их товарищи обещанных наград не получили.
Исследование Шантарских островов и открытие морского пути из Охотска на Камчатку — это заключительный этап изучения Охотского моря, да, пожалуй, и всего тихоокеанского побережья, землепроходцами. На смену ватажкам казаков и промышленных людей приходят экспедиции, в которых наряду с опытными моряками принимают участие и, специалисты-ученые. На Охотском море экспедиционный период исследования был начат Берингом и Чириковым. Но это уже особая глава в истории географических открытий на Тихом Океане.
После смерти Кузьмы Соколова кормщик Никифор Тряска еще несколько раз водил лодию из Охотска на Камчатку. Вместе со своим приятелем и земляком Кондрата ем Мошковым, тем, что из Якутска был послан на север, а потом приехал на Охотское море, Никифор Тряска кое в чем усовершенствовал лодию, и она служила им безотказно. Когда же она пришла в ветхость, ее вытащили на берег. Позже участники экспедиции Беринга разобрали лодию, для того чтобы использовать железо при строительстве своих кораблей.
В 1725 году Никифор Тряска на новой, им самим построенной лодии повез на Камчатку сборщика ясака Трифонова. У самой цели их настиг свирепый осенний шторм, и лодию выбросило на берег около реки Ичи. Сборщик ясака уехал в Большерецк, а Никифор Тряска остался при своем Детище. Он подвел под днище лодии катки, или городки, как говорили тогда, но ураганный ветер сбил лодию, и ее покалечило о камни. Все-таки за зиму Тряска любовно починил суденышко и весной 1726 года привел лодию в Большерецк. Там Никифор Тряска встретился с Бутиным — четвертым мореходом из Архангельска, отправленным Петром Первым на Охотское море.
Сборщик ясака из каких-то соображений не пожелал исполнить предписание, обязывающее его без промедлений вернуться в Охотск. Он потребовал, чтобы камчатский мореход Бутин составил акт о непригодности лодии к плаванию. Бутин, осмотрев лодию, отказался подписать акт: судно не имело изъянов, да и как могло быть иначе, если чинил ее старый «морской волк» Никифор Тряска!
Увы, Бутин допустил серьезную ошибку: он сказал то, что было на самом деле, а не то, чего желало начальство. За такие: прегрешения многим на белом свете пришлось пострадать! И разумеется, поступок Бутина был расценен как преступление. Морехода не сослали только потому, что дальше Камчатки ссылать некуда, но зато его посадили и казенку. Однако архангелец оказался человеком не робкого десятка и продолжал стоять на своем. Подвела Бутина «общечеловеческая» слабость: Трифонов напоил его, и во хмелю бывалый мореход подписал фальшивый акт. Что и говорить — история не слишком оригинальная.
Никифор Тряска вернулся в Охотск только в 1727 году. Там уже находились участники экспедиции Беринга. Впоследствии капитан-командор засвидетельствовал, что вплоть до августа 1727 года, когда корабль Беринга вышел в море, Никифор Тряска неотлучно находился при экспедиции и принимал участие в подготовительных работах.
В Охотске у Никифора Тряски, бывшего архангелогородца, был свой дом — он заделался истинным охотичем. Дом стоял в южной части Охотской кошки и окнами выходил на море — не родное, но ставшее родным.
Еще раз имя Никифора Тряски встречается в донесении Витуса Беринга, адресованном в Иркутскую провинциальную канцелярию и подписанном 11 октября 1737 года. Напоминая о заслугах Тряски (как видим, забытых не только потомками, но и современниками), Беринг просил выдать старику пособие; надо полагать, дела Никифора Тряски были из рук вон плохи.
Мне самому имя старого морехода в позднейших документах не попадалось, но хороший знаток истории Дальнего Востока А. И. Алексеев утверждает, ссылаясь на архивные материалы, что Тряска числился в списках морских чинов отряда Шпанберга, участника экспедиций Беринга, еще в ноябре 1739 года и, стало быть, принимал участие в плавании к берегам Японии… Если было так, на самом деле, то трудно придумать более достойный финал нелегкой жизни вроде бы и рядового, но славного морехода… Некоторое время потом Никифор Тряска оставался на службе при Охотском портовом правлении, а потом… потом наступил финал, неизбежный для всех…
В упомянутом мной донесении Витуса Беринга от октября 1737 Года называется и старый сподвижник архангельского морехода голландский искатель приключений Генрих Буш. Голландец тоже имел заслуги перед русским флотом: помимо плавания на Камчатку он в 1720 году участвовал в экспедиции навигаторов Ивана Евреинова и Федора Лужина, которые посетили Курильские острова. Беринг писал, что Буш не получал жалованья с 1712 года — двадцать пять лет! — а в 1736 году его уволили по старости со службы и теперь он нищенствует в Якутске…
Вот, пожалуй, и все, что следовало рассказать об охотских мореходах. Время взяло свое, и они уступили место на исторической арене более сведущим людям, так же как их кочи и лодии более совершенным судам — пакетботам.
Но заслуги землепроходцев очевидны, а дела незабываемы. Опыт, накопленный ими в походах и плаваниях, в какой-то степени способствовал успеху последующих экспедиций, и это лишний раз свидетельствует о неразрывной связи землепроходческого и экспедиционного периодов в исследовании тихоокеанских морей.
В каждой книге, в том числе и в книге Истории, есть первая глава. В истории исследования Охотского моря первая, к сожалению полузабытая, глава — одна из самых ярких. Это не означает, что не следует читать книгу дальше. Но это означает, что нельзя начинать с середины.
Полярная миниатюра
Льды
Летом 1649 года якутский Воевода Дмитрий Францбеков, до зимнему пути добравшийся наконец до своей вотчины и сменивший Василия Пушкина, вручил в съезжей избе наказную память служилому человеку Тимофею Булдакову. Наказная память предписывала Булдакову плыть с отрядом казаков вниз по Лене, потом Ледовитым океаном до устья Колымы и там, на Колыме, принять в свое ведение ясачное зимовье.
Колыма к тому времени была уже освоена, плавания по указанному маршруту совершались неоднократно, и Тимофею Булдакову с пятидесятником Константином Степановым и служилыми предстояло, таким образом, заурядное по тем временам путешествие. Оно и началось, как начинались многие другие, походы, и развивались события как бы в замедленном темпе… — Погружены на коч хлебные запасы, свинец, порох, взяты на буксир лодки, которые тогда называли «коломенки», и вот уже мирно поскрипывают уключины, плывут мимо высокие лесистые берега, остаются за кормой зеленые островки.
Среди обычных грузов и обычного имущества вез, однако, Булдаков и нечто такое, что не всегда приходится возить приказчикам, — жалованье казакам, служившим в Колымском зимовье! Почему и отчего расщедрился прижимистый Францбеков — бог весть, но о воеводской щедрости нам еще придется вспомнить.
Плавание Булдакова началось, скорее всего, поздним летом, а год выдался суровым: раньше, чем положено, начались заморозки, дули постоянные встречные ветры, и доплыл Булдаков только до Жиганска, где и зазимовал.
На следующую весну, едва сошел лед, казаки спустили коч на воду. Теперь Булдаков уже спешил и даже не переждал ледоход до конца — серые льдины еще плыли по реке, покачиваясь в мутной тяжелой воде, и коч иногда с хрустом наезжал на них, ломая и подминая под себя.
А Лена становилась все полноводнее. Островки вдруг кончились; к берегам вплотную подступили безлесные скалистое горы, которые якуты называли Хараулах, и Лена, все ускоряя бег, покатилась к морю, понесла на себе коч с такой быстротою, что казаки даже убрали весла, и только рулевой неотступно сидел у правила… А потом Лена, словно с разгона наткнувшись на неодолимое препятствие, разбилась на бесчисленные мелкие протоки, каждая из которых самостоятельно сочилась к морю. Началась дельта.
Коч Булдакова вошел в ту протоку, которая определеннее других заворачивала на восток, и медленно пошел вдоль низких, едва выступающих из воды безжизненных островков; на островках то и дело попадались трупы деревьев, занесенных сюда в половодье; полузасыпанные песком, деревья тянули все-таки вверх излохмаченные голые ветви, на которых кое-где пробивались молодые зеленые побеги. Солнце уже не заходило, оно только опускалось к земле и, как надутый бычий пузырь, тотчас подскакивало вверх, едва коснувшись ее. И такова была сила этого скупого весеннего солнца, что даже обреченные пытались дотянуться до него… Или такова суть жизни — до последнего к солнцу?
На носу коча сидел казак — впередсмотрящий — и методично сбрасывал в воду самодельный лот — трехфунтовую гирю на сыромятном ремне. Он, впередсмотрящий, и увидел первым море: за низким островком показалось ровное бурое поле и послышался легкий шум волн, набегавших на отлогий берег.
Если в отряде Булдакова были, что очень вероятно, служилые, впервые увидевшие море, то, наверно, подивились они непохожести его на грозное взлохмаченное чудище из сказок — Окиян, и обрадовались почти речному спокойствию моря: легче плыть на Колыму. Но бывальцев тишь да гладь, наоборот, обеспокоила, а когда заметили они, что облака на северо-востоке как бы освещены снизу матово-серебристым светом, то окончательно убедились, что совсем недалече льды… И ветер дул с моря. Бывальцы совсем пригорюнились: если льды подойдут к берегу и блокируют устье, ждать придется бог весть сколько времени.
И бывальцы не ошиблись: льды перекрыли все дороги на восток, и четыре недели ждал Тимофей Булдаков разводий, укрывая свой коч за приустьевыми островками.
Булдаков вышел к морю 2 июля, а выйти в море льды позволили ему только 30-го.
…Весна 1946 года выдалась поздней и в Москве, и в Арктике. Мне предложили лететь на Чукотку в мае, но из-за всяких административных неурядиц вылет все задерживался и задерживался, а потом зимние аэродромы приказали ждать следующей осени… И, в итоге, вылетел я на Чукотку лишь в двадцатых числах июля.
В последние две-три недели перед вылетом я почти каждый день уходил с книгами в университетский ботанический сад, устраивался под ракитой у небольшого прудика и работал, подставив спину солнцу. Высокие стены, окружающие сад, защищают его от ветра, густые кроны деревьев глушат уличный шум, и было в саду всегда тихо, тепло и покойно, как бывает в лучшие июльские дни в лесу. Если у меня: уставали глаза, я бродил по зеленым аллеям, «истоптанным» гусиными лапками солнечных бликов, заглядывал в жарко-влажные оранжереи с тропическими кувшинками в бассейнах, с пальмами и причудливыми ампельными цветами, поднимался к «альпийской» горке, которая отнюдь не выглядела там сурово… И когда самолет взмыл в воздух, я увозил с собой на север ощущение теплой летней зелени, ярких южных цветов и горячего солнца.
Архангельск встретил нас прохладной ветреной погодой. Но едва самолет вновь набрал высоту, как началась бескрайняя, на глаз почти не тронутая человеком тайга, и только плавник и плоты на Северной Двине напоминали, что и здесь по тайге прошлись с топором.
Наползли облака. По большим выпуклым окнам самолет хлестало то градом, то дождем. Невидимое солнце зашло, и серые облака стали плотнее, гуще. Но темнота не наступила — в матовом свете пасмурной северной ночи отчетливо различался даже газетный шрифт. Я сначала читал, но потом отложил книгу, вдруг поддавшись странному чувству. Мне казалось, что я чего-то очень нужного не взял с собою и стало беспокойно, но неожиданно я понял: мне просто не хватает… ожидания отлета, к которому я так привык за два с лишним месяца!
Наверное, я незаметно задремал. Когда я снова посмотрел в окно, под крылом самолета расстилалась тундра — серая, бурая, желто-зеленая, с отливающими тусклым металлом озерами, с редкими пятнами белеющих снежников.
Ночью самолет выстыл. Коченели ноги. Изо рта шел пар. Пришлось надеть на себя все теплое. Солнце взошло к полночи, окрасив облака в золотисто-оранжевый цвет, а в четвертом часу утра мы опустились в Игарке.
В Игарке тоже было ветрено и холодно, и теперь всё реже вспоминалось о московском тепле и все чаще думалось, что север еще встретит нас пургой и морозом… Хатанга лишь укрепила меня в этой уверенности, и, когда проплыла под нами дельта Лены и самолет закружил над Тикси — самой северной точкой нашего маршрута, — мы все поспешно и основательно утеплились.
Впрочем, спешили мы напрасно: самолет все кружил и кружил над морем и то резко шел на снижение, то вновь взмывал вверх… В конце концов летчику удалось совершить посадку. Мы, одетые как истинные северяне, вылезли из самолета.
В Тикси в этот день было 27 градусов жары. Ни малейшего ветерка; тяжелый, влажный воздух, густо пронизанный комариным писком, плотно лежал у земли. Низкое солнце пекло, как на юге. Ни признака льдов поблизости. В воде у самого берега плавали где-то смытые зеленые кустики рододендрона с большими кожистыми листьями и крупными желтыми цветами, вдруг напомнившими мне причудливые орхидеи из влажных и душных оранжерей ботанического сада…
Я вспомнил сейчас об этом по контрасту с той обстановкой, в которой находился из-за климатических причуд Тимофей Булдаков, в те же календарные сроки блокированный льдами в устье Лены.
Но, как я уже писал, к 30-му июля «прижимные» ветры сменились, по выражению Булдакова, «отдерными», и губа Буорхая освободилась ото льда.
Не теряя времени, казаки поставили тяжелый кожаный парус, попутный — «пособный» — ветер надул его, и коч, слегка кренясь на левый борт и покачиваясь на волнах, резво побежал на восток.
У противоположного берега губы Буорхая, возле устья реки Омолой, Булдакову вновь встретились льды. Булдаков решил пробиваться. Защищенный прутьем форштевень коча сперва легко крошил подтаявшие льдины, но вскоре коч застрял среди сдвинувшихся паковых льдов… Пожалел Булдаков о своей горячности, да было поздно. Сгонные ветры понесли коч вместе со льдами в открытое море, которое теперь называется морем Лаптевых. Восемь суток продолжался дрейф, и не раз казалось служилым, что льды вот-вот раздавят их коч… К счастью, все обошлось благополучно, а вскоре показался на горизонте берег, и казаки поняли, что принесло их обратно к устью Лены. Два дня провели они еще в ледовом плену, пробиваясь к берегу, и наконец укрылись в протоке за островками.
Льды не раздавили коч, но повредили его. Пришлось заняться ремонтом, да и погода по-прежнему не благоприятствовала плаванию: ветры то угоняли льды в море, то вновь пригоняли их… Только на седьмой день море как будто окончательно очистилось, и тогда «пособный» ветер вновь надул ровдужный парус. Небольшие волны мерно раскачивали судно; весело вскипали буруны перед форштевнем, но, чем ближе подходили казаки к устью Омолоя, тем спокойнее становилось море… А когда слабо разгорелось на горизонте холодное льдистое сияние, то понял Булдаков, что и на сей раз поторопился начать плавание.
Почти все без исключения служилые и промышленные люди того времени в полной мере обладали таким завидным качеством, как терпение; годами могли отсиживаться они в острожке или зимовье, годами — медленно, но верно — пробиваться к намеченной цели. А Булдаков по характеру был торопыга, и не желал он ждать милостей от природы. Только что человек с трудом вырвался из ледяных тисков, — так, казалось бы, пережди теперь, не испытывай второй раз судьбу…
А Булдаков без колебаний опять ввел свой коч во льды! И опять застрял среди льдов. И опять понесло его в море и пригнало к устью Лены…
В устье Лены Булдаков обнаружил целую флотилию — восемь кочей служилых и промышленных людей, осторожные капитаны которых предпочли не в пример ему дождаться все-таки у моря погоды.
Среди этих осторожных капитанов Булдаков встретил Андрея Горелого, того самого, что вслед за Москвитиным вышел на берега Охотского моря.
Горелый держал путь из Якутска на Индигирку, в Уяндинское, или Усть-Яндинское, зимовье, где ему, как и Булдакову на Колыме, предстояло сменить приказчика. Горелый хоть и отправился в путь на год позже Булдакова, но оказался удачливее и, как видите, догнал нашего нетерпеливого казака, чему тот, наверное, отнюдь не обрадовался: что ни говори, а год Булдаков потерял и отвечать за это ему одному.
Прикинув, что если и следующую зиму проведет он на Лене, то выйдет совсем худо, Булдаков решил уговорить осторожных капитанов выйти в море, не дожидаясь, пока совсем оно очистится ото льдов. И капитаны, которых зимовка на Лене тоже не устраивала, разрешили себя уговорить. Едва подули «способные» ветры, как флотилия из девяти кочей во главе с Булдаковым покинула устье Лены и «побежала с великою нужою промежь льды» на восток… А в устье Омолоя… В устье Омолоя вновь поджидали мореплавателей коварные льды. — Но на этот раз, объединившись, казаки «просеклись» сквозь льды и вывели свои кочи на свободную ото льда прибрежную воду — вот что значит коллективный труд!
Но видно, так уж было суждено Булдакову — пережить все, что только можно пережить в морском походе по Ледовитому океану. Только одолели льды — стих пособный ветер, и пришлось мореплавателям взяться за весла… Справа — низкий тундровый берег, слева поблескивают застрявшие на мелководье льды, а казаки гребут и гребут себе по тихой воде, словно по озеру плывут. Тихая вода — хорошо, а вот тихий ход, когда август на исходе, а год необычно суров, — это, разумеется, худо. Что Булдаков нервничал, доказывает эпизод, случившийся на следующий день.
Едва рассвело, вдали обозначились четыре черные точки. Самые глазастые быстро определили, что идут им навстречу кочи, очевидно спешащие в устье Лены, Оказия по тем временам — дело редкое, и Булдаков решил ею воспользоваться и послать воеводе в Якутск подробный рассказ о своих злоключениях. Но едва кочи сблизились, вновь подул пособный ветер, и флотилия Булдакова срочно подняла паруса: теперь Булдаков экономил и на минутах.
А ветер задул ровный и сильный, кочи побежали споро, и уже через сутки, обогнув мыс Буорхая, Булдаков очутился в устье Яны.
Во время одного из своих путешествий я, кстати сказать, побывал в Усть-Янске. На берег мы не выходили. К нам подошла моторка, забрала пассажира и почту, и, пока продолжалась эта операция — она заняла минут пять, — в помещение, набилось столько комаров, что потом мы целый час вели с ними жестокий — если враг не сдается, его уничтожают! — бой. Это все в шутку.
Но совсем не шуточные испытания поджидали в устье Яны Булдакова, да и всех присоединившихся к нему мореплавателей. Они спешили на восток, но ветер в том году был чудовищно переменчив и вновь пригнал с открытого моря льды. Это были не какие-нибудь там блинообразные расплющенные льдины — на берег надвигались торошеные льды, вздыбленные и искалеченные при бесконечных сжатиях, и тут даже у бывальцев похолодело под сердцем… Но избежали беды кочи как раз благодаря грозному характеру льдов: торосы застряли на мелководье, превратившись в безобидные стамухи.
Под защитой стамух и удалось мореплавателям быстро продвинуться на северо-восток, и наконец показался впереди черный уступ, далеко вдающийся в море.
«Святой Нос», сообразили бывальцы. Их, «святых носов», до сих пор немало на севере, а называли так по традиции поморской самые труднообходимые мысы.
…Каменная громада медленно увеличивалась в размерах, словно не коч плыл к ней, а мыс наплывал на него, загораживая небо. День в конце августа еще долог за семьдесят вторым градусом, но засветло «святой нос» миновать кочи не успели и обходили его, рискуя, уже в темноте. Мыса не было видно, но слышалось во мраке, как бьются волны о скалистый берег, и чуть виднелась снежно-белая полоска буруна. Коч, зарываясь в волны, но не сбавляя скорости, шел мимо. Булдаков, стоя на верхней палубе, напряженно всматривался в темноту. Ветер трепал его длинные нестриженые волосы, леденил затылок… Так прошли казаки проливом, который теперь носит имя Дмитрия Лаптева, и вышли из моря Лаптевых в Восточно-Сибирское.
Еще через день Булдаков достиг Хромской губы, в которую впадает река Хрома, или Хромая, как говорили тогда. И там, у Хромой губы, сидели на мели стамухи; и там плавали между берегом и ледовым барьером не растаявшие за холодное лето льдины. А близился сентябрь, по ночам подмораживало, и между старыми льдинами намерзали «ночемержи», или, как говорят теперь, молодик, молодой ледок, казавшийся черным рядом с присыпанными снегом старыми льдинами… Кочи шли сквозь молодик под парусом, калеча прутье и обшивку, а непрочный лед рассыпался черными иглами.
В самой Хромской губе льда, к счастью, не оказалось, и мореплаватели облегченно вздохнули, хотя по матовому оттенку моря бывальцы определили, что может оно замерзнуть в любую ночь. И густела в воде Снежура: начавшийся с утра снегопад все усиливался…
И все-таки казаки решили передохнуть и заночевать в Хромской губе, стоя на якоре… Упали в воду деревянные, с привязанными к ним тяжеленными камнями якоря, натянулись канаты, и стихло шипенье воды за бортом. Колышащаяся снежная кисея скрыла берег… Внизу, в подпалубном помещении, пылал в обитом жестью очаге огонь, было дымно, копотно, но тепло, и казаки дремали, развалившись на оленьих шкурах.
Решение переночевать в Хромской губе мореплаватели приняли вечером 30 августа, но в ту же ночь ударил такой мороз, что море за несколько часов замерзло. Шесть кочей из девяти очутились в плену, а где еще три, — и коч Горелого в их числе, — Булдаков не знал, да и не мог знать.
А коч Горелого тоже вмерз в лед и тоже в Хромской губе, но чуть восточнее, и предстояли Горелому почти такие же испытания на море, что и невезучему Булдакову…
Но сперва казаки едва ли очень обеспокоились, обнаружив поутру, что море застыло: глубины под кочем всего сажень, берег недалеко, нарты загодя приготовлены. Окрепнет молодик, и можно будет тогда уйти на материк, продолжить посуху свой путь. А что не дойти им нынешним летом морем до Колымы — это Булдаков, да и все прочие, конечно, понимали уже.
На третий день лед достиг толщины в полпяди, и был это уже не хрупкий молодик, а солидный молодой лед, обещавший вскоре стать сморозью, прочным льдом, на всю зиму укрывающим осенью арктические моря… Убедившись, что лед выдержит тяжесть нарт и людей, Булдаков, как, впрочем, и вожи с других кочей, велел готовить нарты к походу.
Ночью лед взломало «отдерным» ветром. Казаки схватились за весла, пытаясь пробиться к берегу, но ветер свежал, и после нескольких часов бесплодной борьбы уставшие люди сдались: коч уносило все дальше и дальше в море… А ледяной шторм разыгрывался. Волны приподымали разбитые льдины, сшибали их, перевертывали, крошили, били льдом по бортам коча… Упругие волны не взлетали вверх, и ветер, несший косые струи снега, не срывал с них пену. Отягощенные мелкобитым льдом, волны двигались медленно, но было в их движении что-то неумолимое, беспощадное, и казалось чудом, что коч еще держится на поверхности, не проваливаясь, как нож в сметану, в белое ледяное месиво.
Пять суток продолжался шторм, пять суток носило кочи по морю, а на шестые сутки ветер стих и море сразу же замерзло снова. Как только лед окреп, казаки, как напишет позднее Булдаков, «учали проведывать, земли в которой стороне, не убоячись смерти, ходить по человеку и по два и по три». Землю они не нашли, но обнаружили коч Андрея Горелого в одном дне пути от своих кочей, и Тимофей Булдаков отправился к нему во главе делегации из десяти человек, чтобы окончательно выяснить, где все-таки находится берег.
Горелый, унесенный тем же штормом из Хромской губы, полагал, как и вожи с остальных кочей, что земля — на юге (в чем Булдаков почему-то сомневался), и тогда Булдаков отправил на юг Двух своих людей. Они шли на юг с утра до вечера, но никаких признаков земли им приметить не удалось, и они вернулись. Булдаков велел им продолжать поиски, базируясь, так сказать, на коч Горелова, а сам возвратился к своей флотилии и собрал там великий совет из всех вожей и бывальцев.
Вопрос в повестке дня стоял единственный, но из тех, которые относятся к числу вечных: «Что делать?» Все сходились на том, что кочи надо бросить и по льду идти к земле, но одни предлагали идти напрямик, а другие — сначала к кочу Горелова. Но Горелов при всем желании не смог бы принять у себя экипажи шести кочей, и потому в конце концов все пришли к единому решению: на коч Горелого, который ближе к земле, должен идти Булдаков и «волочить» туда государеву казну; если лед снова взломает, то больше у Булдакова будет шансов спасти людей и казну, находясь у Горелого… От других же кочей отрядили трех человек и послали их проведывать землю напрямик.
На другой день утром… Я чувствую, что повторяю эту конструкцию в рассказе слишком часто, но что поделаешь?.. На другой день утром вытащили казаки нарты на лед, уложили на них государеву казну и свое барахлишко и сели перекусить перед дорогой… И чтобы вы думали? — Лед толщиной уже в поларшина именно в это время снова взломало!.. Лед взломало, а льдины и кочи погнало ветром еще дальше в море и гнало быстрее «парусного побегу».
Можно представить себе настроение казаков! Что ни говори, но только божьей немилостью могли объяснить они такую напасть, ибо точно знали бывальцы, что никогда на этом морском пути такого несчастья не случалось, и даже самые отважные и выносливые приуныли.
Пять суток носили ветры по морю кочи, а когда ветер стих, льдины, теперь уже, наверное, окончательно, смерзлись. Но с удивлением заметил Булдаков, что и без ветра «в море лед ходит по водам». Пожалуй, это первое сообщение о дрейфующих льдах Северного Ледовитого океана, но казакам в ту пору по многим причинам было не до «научных» изысканий. Кончились дрова. Не стало пресной воды, потому что шторм осолонил лед. Подходили к концу съестные припасы. Некоторые служилые оцинжали, да и те, кого цинга пока миновала, чувствовали себя не лучшим образом.
Человеки
В том бедственном, положении, в котором очутился Булдаков, ему уже не потребовался совет бывальцев со всех кочей, дабы ответить на проклятый вопрос: «Что делать?» Двух мнений тут быть не могло: на землю, и как можно скорее.
Казаки, промышленные и торговые люди с других кочей (их уцелело четыре, не считая коча Булдакова) спешно увязывали свое имущество, а Булдаков прикидывал в уме, сколько осталось у него государевой казны и сумеют ли они всю ее унести. И получалось как дважды два, что не сумеют, что придется часть казны бросить, а с этим душа Булдакова никак не могла смириться! Отважный и упрямый, он вдруг оказался еще отменным службистом, рачительным хозяином и в какой-то степени даже канцеляристом, что вскоре проявилось в довольно-таки забавном эпизоде.
Итак, без совета бывальцев и небывальцев Булдаков вполне мог теперь обойтись, а вот без их помощи… И Булдаков отправился просить торговых и промышленных людей, чтоб пособили они «сволочить» государеву казну на берег.
Промышленные люди выслушали Булдакова, и промышленные люди наотрез отказались помогать Булдакову, заявив ему, что и сами-то они «вконец перепропали», и что где земля, они не ведают, и что бор весть, дойдут ли до берега вообще. Где уж тут о государевой казне думать?.. Долго, наверное, переубеждал Булдаков промышленников и торговцев, но понимал он, конечно, что они по-своему правы…
Невеселым возвращался Булдаков к своему кочу. А его служилые люди уже перетащили на лед свое барахлишко, часть государевой казны выгрузили, и совсем худо стало на сердце у Булдакова — сколько добра еще на коче и сколько добра зря пропадет! И тебе свинец, и порох, и медь, и тебе товары менные, и хлебные, припасы, и снасть судовая…
И тут Булдакову пришла в голову блистательная мысль! Не может быть, очевидно, подумал он, чтобы хозяйственные сердца торговых и промышленных людей не дрогнули при виде пропадающего добра!
И Булдаков отдал своим служилым несколько неожиданную команду — велел выгрузить из коча на лед всю подчистую государеву казну, а сам побежал на соседние кочи… Долго ли, коротко ли уговаривал Булдаков промышленных людей собраться у его коча — никто не знает, но уговорил, и бородачи нехотя (своих дел по горло) потопали следом за ним. И увидели пропадающее зазря добро. И дрогнули их хозяйственные сердца. И основательно поскребли они лохматые затылки.
А потом все-таки отказались волочить государеву казну.
За бурной дипломатической деятельностью упустил Булдаков из виду своих казаков. А казаки, пока ходил он по чужим кочам, прикинули, сколько у них своего имущества и сколько вообще они могут унести, не имея ни нарт, ни собак, и решили они общим собранием окончательно: каждый возьмет по три фунта государевой казны. Только по три фунта. У Булдакова аж загривок вспотел от возмущения. Чуть не в рукопашную пошел он на казаков, но сход стоял на своем твердо: и перецинжали они все, и обессилили, и больше трех фунтов тащить им не под силу…
Пришлось Булдакову уступить, но мучился он великим мучением… Раз уж возьмут казаки всего по три фунта, а промышленные и торговые люди ничего не возьмут, значит, все равно пропадать государевой казне, на льду ли, в коче, а результат один будет… Но Булдаков велел всю оставшуюся казну перенести на коч: не мог он бросить добро неприбранным, не мог — и все тут!
Казаки его послушались — и у них слегка сосало под ложечкой, знали они вину за собой — и за работу взялись дружно. И вдруг видят служилые — тащится к ним с других кочей торговый народ! Прав-таки оказался Булдаков, не выдержали купцы и промысловики: жалко им стало добра. И согласились они помочь. Взяли они понемногу, всего по гривенке, что равно фунту, но о большем и просить нельзя было: они на государевом жалованье не состояли.
А Булдаков, раздав по фунту казны, тотчас потребовал с промышленных, и торговых людей… расписки, хотя много всякого имущества и товара бросал на произвол судьбы вместе с кочем! Но коч с товаром — одно, а где люди — там глаз да глаз нужен, и лишняя бумажка, как видно, уже в то время никому не мешала…
Рассевшись на ропаках, кряхтя, как при тяжелой работе, сочинили грамотеи расписки, а за тех, что грамоте не обучены, расписки составил сам Булдаков, а они ему лишь кресты внизу собственноручно подрисовали.
И вот все, что можно, сделано, и даже все формальности соблюдены, и пора в путь.
Последний раз поднялся Булдаков на палубу коча, столько времени бывшего им надежным домом, спустился в подпалубное помещение… Почерневшие угли в очаге еще хранили остатки тепла — решившись уходить, казаки пустили на топливо верхние бортовые доски, — но отнюдь не сентиментальные воспоминания побудили Булдакова учинить кочу последний осмотр… Тщательно проверил Булдаков, хорошо ли уложены грузы и товары, убедился, что уложены хорошо, как надо… Постучал обухом топора по бортам — вроде бы крепкие еще. Может, и выдержат до весны…
Пора бы уж и уходить, а Булдаков снова подошел к государевой казне, вздохнул, крякнул и взвалил на себя вместо трех фунтов полпуда. Плечам тяжелее стало, а душе — легче…
…Едва казаки и промышленные люди тронулись в путь, как вновь пришли в движение льды: черные змейки трещин разбежались по ледяному полю, и лед заколыхался под ногами. Казаки быстро перешли на новое место, но подвижки льда продолжались… Кое-кто предлагал вернуться на кочи, дождаться, пока лед совсем окрепнет, но один из бывальцев, поднявшись на торос, увидел, как раздавило льдами один коч, другой… Поняли казаки, что вовремя расстались с кочами. А пути назад теперь не было.
Десять суток продолжался поход по взломанным и торошеным льдам. Десять суток боролись казаки со смертью. Там, где один не прошел бы — двадцать проходило. Самые ловкие с помощью шестов перебирались Через разводья, устраивали из палок и канатов подобие мостков и переправляли остальных. Скарб просто перекидывали с льдины на льдину. И хотя еда с каждым днем убывала в заплечных мешках, груз казался всё тяжелее. Уходили силы.
Острые льдинки прорезали меховую обувь, и все чаще на трудной ледовой дороге оставались кровавые следы. Казаки отрывали полы кафтанов, обматывали длинными полосами ноги, но обмоток едва хватало на день…
Землю заметили, только подойдя к ней вплотную: за грядой стамух увидели ровное поле берегового припая, которое незаметно сливалось с низким, засыпанным снегом берегом… Перекрестились на радости казаки: море и льды позади, значит, позади и все самое трудное. На земле не пропадешь — она не раздастся, не заколышется под ногами. И не замерзнешь — вон сколько сухого плавника на берегу!.. И вот уже запылали костры, и вот уже безмятежно спят на мерзлой земле бородатые богатыри, подставляя огню то один бок, то другой.
Наутро мастера взялись за изготовление нарт и лыж — дорога предстояла дальняя и нелегкая. И хоть земля действительно не грозила разверзнуться под ногами — белая застывшая тундра, уходившая далеко на юг, где сливалась она с мутным, затянутым пасмурью горизонтом, — эта тундра была и коварна, и загадочна… И Булдаков, и вожи с других кочей думали, что первые русские могут встретиться им лишь в устье Уяндины, крупного притока Индигирки, километрах в пятистах от побережья… Но совсем не, исключено, что поселения русских уже тогда находились значительно ближе. Впрочем, об этом — в следующем очерке.
А пока… Пока служилые мастерили нарты и лыжи, в действие пришли силы, которым предстояло определить заключительный акт в драме Тимофея Булдакова.
Начнем с того, что на пути в Усть-Яндинское зимовье уже был Андрей Горелый со своим отрядом. Его носило по морю десять дней. Коч его погиб, но все имущество казаки спасли и около двух недель «волочили» по льду государевы снасти, парус и всяческие припасы. Андрей Горелый вышел на берег 5 октября, через четыре дня добрался до устья Индигирки, а оттуда шесть недель шел до Усть-Яндинского зимовья, где предстояло ему служить приказчиком. Приняв в свое ведение зимовье, Андрей Горелый, очевидно, роздал жалованье казакам прежнего гарнизона, и местные купцы подивились такому событию — нечасто подобное случалось.
Опередили отряд Булдакова и люди некоего Фомы Кондратьева, вожака с одного из тех кочей, что носило по морю вместе с кочем Булдакова. Видимо, служилые и промышленные люди шли к берегу раздельно, и Фома Кондратьев удачнее — ближе к устью Индигирки — вывел своих…
В Уяндинском зимовье изрядно поголодавшие люди Фомы Кондратьева купили у торговцев муки, выменяли у юкагиров вяленую рыбу и, таким образом, благополучно устроились на зиму… Но они допустили одну невольную оплошность: рассказали в зимовье, что следом за ними идет еще один большой отряд служилых.
И тут на сцену выступает последний из неизвестных героев драмы — купец Степан Ворыпаев.
Купчина рассуждал вполне логично. Если Андрей Горелый привез жалованье и роздал его гарнизонным, значит, и Тимофей Булдаков везет жалованье служилым на Колыму. Если Фома Кондратьев пришел в зимовье без всяких съестных припасов, значит, и Тимофей Булдаков явится и разутым, и раздетым, и… голодным.
И купчина Ворыпаев принимает срочные меры. Через своих покрученников он скупает у торговых людей все излишки съестных припасов, он выменивает всю лишнюю юколу у местных жителей. Он прячет пятьсот пудов своей собственной муки и с нетерпением начинает ждать Булдакова…
А люди Булдакова с «великой нужою, холодны и голодны, наги и босы» топали в это время к Уяндинскому зимовью, и вот уже видны дымы над крепостными стенами…
И вот уже гостеприимно раскрываются срубленные из толстенных бревен ворота и давние знакомцы с коча Горелого, с кочей промышленников встречают казаков. Встречает их и купец Ворыпаев. Изможденный вид казаков радует его сердце, и он, не спеша знакомиться, неторопливо отправляется на свой лабаз. Он еще успеет познакомиться с ними. Со всеми. А с Булдаковым в первую очередь.
Очень скоро дано было убедиться казакам, что все дороги в Уяндинском зимовье ведут на лабаз Степана Ворыпаева: к кому ни обращались казаки, ни у кого не нашлось продажной муки. И даже юколы у юкагиров не оказалось.
Не подозревая худого, отправились казаки к Ворыпаеву, а тот уже ждет их. Муки — сколько вашей душе угодно. Рыбы — пожалуйста. Только платить наличными. Деньгами. У казаков аж глаза на лоб полезли. Деньги тогда широкого хождения не имели и принята была такая система: осенью, перед промыслом, брали служилые в, долг муку и ружейные припасы, оставляли купцам расписки, а к весне расплачивались соболями. Но Ворыпаев и слышать о расписках не хотел — деньги на стол!
А деньги от редкой воеводской щедрости — они колымским гарнизонным предназначались. Так и так растолковывал Булдаков это обстоятельство Ворыпаеву, но что купчине колымские служилые?
Потоптались изголодавшиеся казаки и ушли. А потом снова пришли — есть-то надо! Накинули они по нескольку рублей на пуд, а Ворыпаев все равно не уступает… С отчаяния некоторые соглашались в кабалу к Ворыпаеву идти, волю на неволю меняли, но все равно, ни с чем ушли. Твердо верил купец, что не выдержит Булдаков голодовки и расплатится с ним деньгами служилых.
Но тут нашла коса на камень. Примерный службист и отменный упрямец, Булдаков предпочел голодать, но ни копейки не отдал Ворыпаеву.
Худо пришлось казакам — и среди льдов так худо не было. Побирались они где могли, юколу выпрашивали, костлявую сельдятку, которой собак кормят, лиственницы за острогом обдирали и корой питались; пробовали и сами рыбу ловить, но зимой в тех местах рыба ловится плохо — не случайно ее летом на зиму запасают…
Однажды предпринял Булдаков еще одну попытку добыть муки — послал к Ворыпаеву своего пятидесятника Константина Степанова и велел предложить купцу десять рублей за пуд, что в несколько раз превышало действительную стоимость.
Константин Степанов и пятеро ходивших с ним служилых вернулись с мукой. Ворыпаев продал им по полтора пуда, взяв пять рублей за пуд, но Булдакову не дал ни фунта — понял к тому времени купчина, что не попадут к нему в карман деньги служилых, и хоть на Булдакове решил отыграться.
Но с чего все-таки расщедрился Ворыпаев?
В своей челобитной якутскому воеводе — а купец догадывался, что Булдаков пожалуется и за измывательство над государевыми людьми его могут взгреть, — в своей челобитной Ворыпаев прямо-таки слезами изошел: и словесно-то его казаки поносили, и жизни лишить грозились, и били его нещадно… Я ничуть не сомневаюсь, что казаки действительно и кляли прижимистого купца, и грозили ему, и что отведал он увесистых тумаков. Наверное, и «расщедрился» Ворыпаев с перепугу, когда обозленные казаки взялись за него всерьез.
Но избить купца могли рядовые под благосклонным наблюдением пятидесятника, а не наш примерный службист Булдаков: исчерпав легальные методы воздействия, он предпочел питаться лиственничной корой.
После великого поста, который для наших казаков оказался сверхвеликим, Булдаков отправил Добрыню Игнатьева и Оксенку Скребычкина на побережье океана… искать коч! Да, не больше не меньше. И через несколько месяцев все еще не мог смириться Булдаков с пропажей товаров и припасов! Понимал он, конечно, что нет почти никакой надежды найти коч, что раздавило его льдами за зиму, но вдруг?.. Точно помня, сколько осталось там добра, Булдаков детально распорядился, как поступить с ним, как переправить его на Колыму… Короче говоря, все было предусмотрено хозяйственным приказчиком.
А сам приказчик, покинув негостеприимное Уяндинское зимовье, двинулся с отрядом на восток в свою вотчину, оставив прогоревшего Ворыпаева в его лабазе.
Четыре недели шли казаки до Алазеи, питаясь все той же лиственничной корой. Откуда у них взялись силы на переход через горы и равнины — бог весть, но до Алазеи они дошли, и там казаков встретили по-человечески: и накормили, и согрели, и дали передохнуть. Еще одну неделю занял у них путь до Среднего ясачного зимовья на Колыме.
Наш самолет пролетал над Колымской низменностью, и я отчетливо помню, что она казалась мне не сушей, а колоссальным озером с бесчисленными заболоченными островками. В распутицу или летом Булдаков едва ли сумел бы пройти через низменность напрямик. Но он успел пересечь ее по последнему снегу.
На Колыме Тимофей Булдаков принял ясачное зимовье у боярского сына Василия Власова, а служилых людей взял к себе в полк.
И роздал им долгожданное жалованье — деньгами.
Старинные люди
На подступах
Пройдя Карское море, наш ледокол миновал меридиан мыса Неупокоева на острове Большевик и вошел в пролив Вилькицкого, соединяющий Карское море с морем Лаптевых. Мы приближались к мысу Челюскина — самой северной точке азиатского материка. Береговая линия, круто поднимающаяся на карте к северу, у мыса Челюскина переламывается и начинает спускаться к югу.
Район мыса Челюскина до сих пор пользуется дурной славой у полярных моряков из-за трудного ледового режима: не так-то просто миновать его и пройти из западного сектора Арктики в восточный.
Не повезло и нам.
…Пока мы спали, палубу словно прикрыло белым пуховым ковром. Снег высоким валиком лежал на планшире, оконтуривая весь ледокол, на ступеньках трапов, на поручнях; держался на обледеневшем такелаже. Черные цепочки следов прочерчивали ковер в различных направлениях, но густой липкий снег продолжал идти, и через полчаса на месте следов оставались лишь небольшие белые углубления. Несмотря на то что день стоял на редкость пасмурный и насыщенный туманом и снегом, ощутимо серый воздух незаметно переходил в низкие густые облака, идеально белый арктический снег заставлял щуриться.
Подождав, пока глаза привыкнут, я подошел к борту. Насколько было видно, вокруг лежали тяжелые паковые льды. Уже две недели держали они нас у входа в пролив Вилькицкого. Узкое горло пролива было забито льдом с двух сторон. И мыс Челюскина, мимо которого столько раз проходили караваны судов, по-прежнему оставался недоступным.
Ко мне подошел мой спутник метеоролог Буйнаков, два месяца назад впервые попавший в Арктику.
— Еле движемся, — не столько спрашивая, сколько констатируя факт, сказал он.
— Но все-таки движемся. И это достижение.
Мы помолчали, слушая, как льды скребут обшивку ледокола.
— Пойдемте на ют, посмотрим, что там делается,— предложил я.
Узкий черный канал чистой воды, проложенный ледоколом во льдах, постепенно терялся за кормою. В конце его едва заметно темнело пятно. Это виднелся ближайший к нам транспорт, первый из каравана судов, шедших за ледоколом.
— Н-да, невесело, — сказал метеоролог. — И капитан волнуется, видите, марширует по мостику.
Я был хорошо знаком с капитаном ледокола, выходцем из поморов, уже лет сорок бороздившим моря Арктики, и поднялся вместе с метеорологом на штормовую рубку.
В течение последних трех суток поступали обрывочные, нередко противоречивые ледовые прогнозы, и капитан почти не уходил с палубы, буквально по метру отвоевывая у льдов дорогу к мысу Челюскина. Я спросил у капитана, есть ли новости.
Капитан выпустил изо рта конец длинного серого уса, с которого обсасывал сосульку, и хриплым голосом, ответил:
— Вот ползем потихоньку. До Челюскина недалеко теперь.
— Прогнозы есть?
Капитан хмыкнул:
— Гаданье на кофейной гуще.
— Пошли бы вы отдохнуть.
— Еще один уговариватель нашелся! — ворчливо ответил старик. — К Челюскину же подходим! Шуточное дело, что ли?
Буфетчица, маленькая девушка в ватной куртке, ватных брюках и больших резиновых сапогах, принесла капитану стакан горячего кофе.
— Вот спасибо, голубушка, — поблагодарил капитан. Он расстегнул ворот, штормовки, снял кожаные перчатки и, вынув стакан из подстаканника, стал пить кофе большими глотками.
А резной серебряный подстаканник поставил рядом с собой на планшир, прямо на снег.
Кончив пить, капитан отдал буфетчице стакан и сказал:
— Иди, а то замерзла.
— А подстаканник?..
— Иди, иди, — настойчиво повторил старик и даже легонько подтолкнул девушку к трапу. Ничего не понявшая буфетчица, осторожно ступая по скользким ступенькам, спустилась с капитанского мостика. А капитан, почему-то очень неодобрительно посмотрев на нас, стал маршировать из угла в угол.
Потом он взял подстаканник с прилипшим к донышку снегом, повертел его, в руках, опять сердито посмотрел в нашу сторону и поставил подстаканник на прежнее место.
— Гм, не замерзли вы тут у меня?.. Ветер больно подлый.
Мы ответили, что не замерзли.
Капитан снова взял подстаканник, не глядя на нас, размахнулся и швырнул его за борт. Описав дугу, подстаканник упал в черную полынью. Старик сердито закашлял и повернулся к нам спиной.
— Зачем это он? — шепотом спросил Буйнаков.
— Пойдемте лучше отсюда, — сказал я, и мы спустились в кают-компанию.
— Нет, вы скажите, зачем он бросил подстаканник? — допрашивал меня метеоролог. — Подстаканник же серебряный, я сам видел.
Меня эпизод с подстаканником сначала насмешил. Раньше у моряков существовало поверье: если бросить в море серебряную вещь, то плавание будете удачным. Уставший капитан, видимо вспомнив об этом, по старой памяти решил принести подстаканник в дар морю.
На первый взгляд это и в самом деле было забавно: в век могучих ледоколов, радио и авиации задабривать Нептуна серебряными подстаканниками!
Но скрывалось за этим трогательным жестом и нечто другое — скрывалась большая человеческая усталость, молчаливое признание сложностей и трудностей морской службы. Этот эпизод как-то невольно поставил капитана в моих глазах в один ряд с первыми полярными бороздившими воды Арктики, теми, которые открыли Грумант и Новую Землю, которые отважно выходили из сибирских рек в ледовитые моря и в конце концов прошли на кочах по проливу, отделяющему Азию от Америки. И уж, конечно, мне вспомнились славные наши путешественники Лаптев и Челюскин, вспомнилось имя знаменитого шведа Адольфа Эрика Норденшельда, который первый на судне «Вега» прошел морем мимо мыса Челюскина…
Нам с Буйнаковым захотелось что-нибудь прочитать об истории этих мест. Мы взяли в библиотеке книгу «Моря Советской Арктики», написанную нашим известным полярником, ныне уже покойным профессором Владимиром Юльевичем Виде.
Вот что мы узнали из этой книги.
В 30-х и 40-х годах XVIII столетия в Арктике и на Тихом океане работала Великая северная экспедиция. Считалось, что общее руководство этой экспедицией вначале осуществлял Витус Беринг. Фактически же отряды экспедиции были совершенно разобщены, и ни о каком руководстве с Камчатки или из Охотска моряками, описывавшими Таймыр, не могло быть и речи. Полярные мореходы действовали на свой страх и риск.
Одному из отрядов Великой северной экспедиции было поручено описать участок побережья к западу от устья Лены. Отряд этот, возглавленный лейтенантом Василием Прончищевым, вышел в море в августе 1735 года на дубель-шлюпке «Якутск». В состав его входили подштурман Семен Челюскин, геодезист Никифор Чекин, Мария Прончищева — жена начальника отряда — и около пятидесяти человек команды. Работы этого отряда протекали в очень тяжелых условиях, и экспедиция закончилась трагически. Перезимовав в устье Оленека, Василий Прончищев на следующий год поднялся вдоль восточных берегов Таймырского полуострова до широты 77°29′, то есть почти до островов Фаддея и Самуила, возле которых лед еще не вскрывался, хотя стоял конец августа. Тяжелобольной Прончищев созвал «консилум», и решено было возвращаться на прежнюю зимовку. 9 сентября Василий Прончищев скончался, а 22 сентября, пережив мужа всего на тринадцать дней, умерла Мария Прончищева. Над их совместной могилой моряки поставили высокий деревянный крест. Командование отрядов перешло к Семену Челюскину, который в 1737 году вернулся в Якутск.
В 1739 году новый отряд отправился к берегам Таймыра. На этот раз возглавлял его лейтенант Харитон Прокофьевич Лаптев, а с ним вместе плыли Челюскин и Чекин. Все попытки Харитона Лаптева, обогнуть морем Таймырский полуостров не увенчались успехом. В том же году дубель-шлюпка «Якутск» достигла мыса Фаддея, дальше на север ее не пропустили сплоченные льды. На следующий год Харитон Лаптев повторил штурм Таймырского полуострова, но дубель-шлюпку затерло во льдах и раздавило. Участники плавания спаслись, но на обратном пути четверо из них погибли. Однако и это не остановило мужественного лейтенанта и его спутников — Челюскина и Чекина. Чтобы закончить опись побережья, было решено отправиться на Таймыр санным путем. Это и привело Челюскина на мыс, который теперь носит его имя. 12 мая 1742 года он достиг мыса Фаддея и пошел дальше на северо-запад, ведя съемку. 19 мая Семен Челюскин достиг, крайней северной оконечности азиатского материка. Он записал в тот день в пулевом журнале: «Сей мыс каменной, приярый, высоты средней; около оного льды гладкие и торосов нет. Здесь именован мною оный мыс: «Восточно-Северный». На мысу он поставил маяк — одно бревно, которое вез с собой. Предложенное Челюскиным название мыса продержалось более ста лет. Но в XIX веке известный исследователь Сибири А. Миддендорф предложил переименовать его — в мыс Челюскина.
Почти через столетие после смерти отважного штурмана нашлись люди, между прочим умные, известные люди, которые попытались опорочить имя Челюскина, человека, менее всего помышлявшего о посмертной славе. К их числу относились такие видные, деятели прошлого века, как путешественник Ф. Врангель и академик К. Бэр, причем последний обвинил Челюскина в ложных показаниях. Но у Семена Челюскина нашлись защитники: историк Великой северной экспедиции А. Соколов, путешественник А. Миддендорф и знаменитый шведский мореплаватель Адольф Эрик Норденшельд, тот самый человек с благородным и мужественным сердцем, которому посчастливилось выполнить то, к чему тщетно стремились Василий Прончищев и Харитон Лаптев.
Норденшельду повезло: в год его плавания тяжелые льды не преграждали путь к мысу Челюскина, и 19 августа 1878 года в шесть часов вечера «Вега» бросила якорь, у мыса Челюскина. И вполне понятна радость Норденшельда, записавшего в своем дневнике: «…мы до, — стигли великой цели, к которой в течение столетий напрасно стремились люди. Впервые у самой северной оконечности Старого Света стояло на якоре судно. Не Удивительно, что событие это мы отпраздновали поднятием флага и пушечными салютами, а когда вернулись из нашей поездки на берег, пиршеством с вином и тостами».
Норденшельд плыл вдоль берегов северной Азии на паровом судне; экспедиция его была отлично, на научной основе, снабжена провиантом, оснащена снаряжением.
«Что ж тут удивительного, — подумалось мне. — Вполне естественно, что никто не мог пройти мимо самой северной точки азиатского материка до Норденшельда. Победа Норденшельда — это победа не только мужества, но и техники».
И все-таки это победа. Крупная, историческая. И далась она нелегко. Ведь нелегко даже нам, хотя наш ледокол и сравнивать-то нельзя с маленькой хрупкой «Вегой»…
Старинные люди
Самолет, на котором я вылетел из Тикси, взял курс на восток. Мы летели над Яно-Индигирской низменностью. Под крылом самолета проплывала чуть всхолмленная тундра — ржаво-бурая, с медленными, сильно меандрирующими реками и множеством мелких озер. Сверху тундра казалась безжизненной; лишь изредка мне удавалось разглядеть темные цепочки утиных стай, проносившихся над светлой гладью озер.
На берегу какой-то реки, более широкой, чем другие, я заметил дом, срубленный из свежих, еще желтых бревен. Перед ним у самой воды пылало яркое пятно костра, а с востока — на новый дом, на оранжево-красный костер — наползали, цепляясь за бурую тундру, сизо-белые клубы тумана… И дом, и костер, и облака тумана я увидел издалека и с волнением, трудно объяснимым теперь, ждал, что случится раньше: мы долетим до костра и дома или клубы тумана поглотят их. Это произошло одновременно: прозрачный серый край туманного облака достиг жилья в тот момент, когда мы пролетали над ним.
Не знаю почему, но этот маленький, сам по себе ничего не значащий эпизод вдруг приобрел в моих глазах этакое символическое значение, и я задумался о той трудной борьбе, которую ведет человек за жизнь, а в наши дни и за прогресс в тундре. Я размышлял о суровых природных условиях, об оторванности жителей тундры от остального человечества: ведь совсем недавно над чумами и избами тундровых поселков пролетели первые самолеты и радио связало их со всем миром.
В таком философско-элегическом настроении я пребывал до тех пор, пока не заметил, что самолет снижается. Во время перелета я день и ночь сидел в стеклянном «глазу» самолета, который заменял и дверь, и окна, и поэтому тотчас посмотрел вниз. Туман рассеялся. Вновь плыла под нами мокрая, разбухшая от воды тундра. Никаких признаков жилья мне обнаружить не удалось. Тогда почему же мы снижаемся?.. Что-нибудь случилось с моторами? Мы — я имею в виду пассажиров — стали шутить, посмеиваться, рассуждать о нынешней технике, тем самым выдавая свое беспокойство. Вдруг самолет лег на левую плоскость и, сильно накренившись, свернул с прежнего курса. Зачем-то вышел из передней пилотской части самолета бортмеханик, а потом покинул свое святилище и штурман. При крутом вираже я увидел сравнительно недалеко под нами широкую реку в плоских заболоченных берегах, а затем и тесную кучку домиков.
— Разреши-ка, — сказал мне штурман, молодой парень в форменной фуражке и кожаной куртке на «молнии».
Я молча вылез из стеклянного «глаза», а штурман занял мое место; в руках он держал плотно увязанный в непромокаемую ткань пакет. Выбрав удобный момент, он открыл стеклянный «глаз» и с размаху бросил пакет за борт. Ветер с характерным рвущим звуком мгновенно отшвырнул его назад, к хвостовому оперению.
— Почту сбросили, — догадался кто-то.
— Где мы летим? — спросил я у штурмана, уже закрывшего «глаз» и собравшегося уходить.
— Над Индигиркой, — ответил он. — Чокурдах под нами.
Я тотчас раскрыл карту, нашел Индигирку и селение Чокурдах. Оно расположено на левом берегу реки, неподалеку от того места, где русло Индигирки начинает делиться на рукава, образуя большую дельту. К северу, ближе к океану, располагалось еще несколько селений: Русское Устье, Стариково, Табор, Станчик…
Я снова посмотрел в окно. Индигирка, Чокурдах — все осталось позади…
Как ни коротко было мое знакомство с Индигиркой, но мне впоследствии пришлось не раз вспоминать об этом в буквальном смысле мимолетном свидании, и, как это часто бывает в жизни, скрытая на первый взгляд логика событий прочно увязала в моей памяти ледовый поход к мысу Челюскина с полетом над Индигиркой, или «Собачьей» рекой, как называли ее землепроходцы.
До этого мне не приходилось специально заниматься историей плаваний по Северному Ледовитому океану; я вернулся к проблеме первооткрытий в районе мыса Челюскина случайно.
Однажды, как раз в ту пору, когда я углубился в историю географических открытий XVII столетия, мне в руки попала книга, изданная в 1914 году. Называлась она «Старинные люди у колодного океана», а в подзаголовке значилось: «Русское Устье Якутской области Верхоянского края». Написал ее некто В. М. Зензинов. Имя это мне тогда ничего не говорило. Привлек мое внимание подзаголовок. Я тотчас вспомнил ржаво-бурую тундру, Индигирку, Чокурдах…
Я прочитал эту книгу, и впечатление от нее осталось очень сильное и своеобразное. Мы давно научились с помощью оптических приборов «пронзать» пространство, приближать и рассматривать предметы, недоступные невооруженному человеческому глазу. Но представьте себе, что наряду с телескопом люди изобрели «хроноскоп» — прибор, способный пронзать, рассеивать толщу веков и воочию показывать нам, как жили люди сто, двести, триста лет назад… Если вы это представите, то поймете, какое впечатление произвела на меня книга «Старинные люди у холодного океана». Она послужила мне хроноскопом, с помощью которого я заглянул в далекое прошлое…
Зимой 1911 года политическому ссыльному Зензинову была оказана, так сказать, особая честь: из Якутска его отправили на поселение в такое место, куда не ссылали еще никого, — в Русское Устье. Полтора месяца ехал он на собаках и оленях навстречу сгущавшимся сумеркам полярной ночи. Кончился лес; лишь бесконечные, смежные пространства, сливающиеся вдалеке с низким пасмурным небом, окружали путников. Невесело выглядела Индигирская тундра — ни одного сколько-нибудь заметного предмета, ни одного деревца или кустика, на которых могли бы Отдохнуть быстро устающие от однообразной картины глаза.
— Близехонько теперь, — сказал однажды каюр Зензинову. — Дымы видать.
Полярная ночь еще не кончилась здесь — лишь край солнечного диска показывался над горизонтом, — и в сумеречном свете короткого дня Зензинов с трудом разглядел впереди мутные столбы дыма, неподвижно стоявшие в морозном воздухе. Казалось, что дым идет прямо из снега, — сколько ни вглядывался Зензинов, он не мог различить других признаков жилья. И только когда они подъехали вплотную, он услышал лай всполошившихся голодных собак и заметил приземистые плосковерхие постройки, до крыш засыпанные снегом. Именно тогда и понял Зензинов, почему местные жители определяют величину поселка не по количеству домов, а по количеству «дымов» — так вернее, не собьешься зимой, да и не во всех избах Севера теплится жизнь… Кстати, это учитывали и наши очень далекие предки: в Киевской Руси дань бралась не с «дома», а с «дыма», жилого дома, и в этом была своя логика.
Над Русским Устьем поднималось к низкому небу всего шесть дымов. Когда-то их было значительно больше. Но население Русского Устья постепенно уменьшалось — умирали от кори, от оспы. Поэтому, свободное жилье для Зензинова местный староста нашел без труда; ему отвели маленький домик о двух окнах. Домик этот раньше принадлежал зажиточному русскоустьинцу. Это было можно определить хотя бы по тому, что лишь в одно окно пришлось вставить тонкую льдину, заменитель стекла на дальнем севере; во втором окне красовались обломки слюды и стекла, но зато все рамы запирались шпингалетами, выточенными из мамонтовой кости.
Новый человек в забытом богом и людьми селении — явление крайне редкое, и не удивительно, что Зензинов вызвал живейшее любопытство у русскоустьинцев. Но и сам он, чем дальше, тем больше, заинтересовывался бытом, языком своих односельчан, хотя не так-то просто было разобраться в их жизни. Зензинов видел перед собой типично русские лица, слышал речь, безусловно, русскую, но… он с трудом понимал, что говорят его новые знакомые! Привыкнув к особенностям их произношения — они скрадывали некоторые звуки, не договаривали, — он с удивлением обнаружил в языке русскоустьинцев слова, на слух незнакомые, но вызывающие сложные ассоциаций, приводящие в конце концов к словам знакомым, привычным. Приезжие купцы тоже жаловались, что не понимают индигирцев, Но все это, несмотря на крайне узкий кругозор индигирцев, отнюдь не свидетельствовало об убожестве языка. Нет, подлинный любитель русской словесности обнаружил бы в речи своих собеседников множество хоть и непривычных, но сочных, образных слов, точно передающих особенности местной природы, быта. Например, индигирцы говорили «комарный день», «комарно», и с правомерностью этого словообразования согласится каждый, у кого темнело перед глазами от несметных полчищ комаров. Про неясный, пасмурный день индигирцы говорили «копытный день», «копотно», а туман называли «морок» (вспомним наши выражения: «морока» и «напустить туману»). Вместо глагола «уменьшить» они употребляли глагол «омалить», вместо слова «швея», «портниха» — «шитница», вместо «крыло» — «махало», вместо «легко» — «плавко» («весною плавко ехать»).
Есть у нас выражения «утруска», «утрус», которыми охотно пользуются хозяйственники, когда речь заходит о продуктах. У индигирцев, по крайней мере для муки, имелись более точные слова: «упыль» и «мышеядь».
А вот прислушайтесь, какое великолепное словообразование: вместо «правда» индигирцы говорили «заболь», «самую заболь сказал», то, что наболело, что не дает покоя душе, о чем нельзя молчать!.. Это по-настоящему хорошо.
Встречались слова иного типа, уточняющие понятие о природных явлениях, о характере местности. Например, речная грязь, ил, называлась «няша», а болотная грязь — «якша», морской залив именовался «кулига», а речной — «курья», сухие, поросшие тальником участки тундры называли красивым словом «веретье», которым ныне пользуются и в других районах Сибири.
Но были и другие слова, слова — «ископаемые», определенно вызывающие в памяти образы далекой старины. Так, мы нередко, пользуемся глаголом «приютить», а у индигирцев бытовал еще его прадедушка — глагол «ютить» (хранить, сберегать); отдушину они называли «буйница» (сравни — бойница), вместо «предание» говорили «прилог», вместо «прошлогодний» — «ланской», вместо «рассказ» — «сказка», вместо «прежний» — «досёльный». Широко пользовались индигирцы, такими словообразованиями: «лонёсь» (в прошлом году), «осенёсь» (прошлой осенью), «летось» (прошлым летом), «ночесь» (прошлой ночью).
И постепенно понял Зензинов, что русскоустьинцы говорят на древнерусском, лишь слегка измененном языке, на котором говорили в России при Иване Грозном, при Борисе Годунове, при Алексее Михайловиче…
Надо ли доказывать, что факт этот сам по себе примечателен? Более трех веков небольшое количество русских (русский «остров» в низовье Индигирки насчитывал в то время всего четыреста-пятьсот человек) упорно говорит на языке предков, не поддаваясь или почти не поддаваясь ни влиянию цивилизации, ни влиянию соседних народов — якутов, чукчей, юкагиров!..
Ну, а быт их?
И быт их оказался таким же замороженным, законсервированным, как и язык. Зензинов сразу же обратил внимание, что во всех избах, да и в его собственной, прорублены очень маленькие окна. Ему тотчас объяснили; «Большие окна в избе по-нашему как будто стыдко». В эти маленькие окна, как он быстро убедился, только самые богатые индигирцы вставляли слюду и обломки случайно завезенных купцами стекол, большинство же довольствовалось зимой льдинами, а летом окна оставляли открытыми. Освещали избы рыбьим жиром, положенным в специальные плошки — «лейки». При свете леек Зензинов обнаружил в избах своих новых знакомых палочки с зарубками, — это оказались календари. Индигирцы заготовляли такие палочки сразу на целый год и пользовались ими очень умело; путаницу вносили только високосные годы.
Иногда, но с каждой зимой все реже и реже, рассказывались в низких темных избах былины-старины или затягивались песни. Пели индигирцы тягуче, проголосно, как певали на Руси несколько веков назад, и очень гордились своими песнями, считая, что у них песни настоящие, а у якутов, например, не настоящие — самокладки.
В первые же дни своего пребывания в Русском Устье Зензинов заметил во всех избах и амбарах — «мангазеях» — над дверями и в углах почерненные крестики. Как выяснилось, поместили их там не просто так, а с целью защититься от «шеликанов», этакой нечистой силы, из-за которой незаметно кончаются припасы в амбарах. Индигирцы считали себя истинными христианами, утром и вечером крестились перед образами и творили молитвы, но в то же время они верили в «стихеи» — слепые силы природы, — обожествляли их, олицетворяли и задабривали; заболевая, русскоустьинцы охотнее всего пользовались услугами шаманов. Позднее, уже осенью, узнал Зензинов, что в этот период года нельзя жарить чира (такая рыба) на сковородке, а то остальные, ещё не пойманные чиры рассердятся, а озера «уросить» (капризничать) начнут…
Пришла весна, по количеству дохлых собак у каждой избы можно, было заключить, сильно ли приходилось голодать их хозяевам: подледный лов с летним не сравнишь, им не прокормишься. А тундра между, тем пробуждалась. Возвращались на гнездовья зимовавшие на юге птицы — в воздухе стоял неумолчный свист от бесчисленных стай уток, куликов, трубно кричали, пролетая на большой высоте в синем, очистившемся от зимних облаков небе, белые лебеди. Не менее восторженно вели себя и герой, перенесшие самые лютые морозы в родных местах, — задорно кричали куропатки, попискивали полевки и лемминги, отрывисто тявкали песцы.
И в жизни индигирцев тоже наступила новая пора. Едва на реке образовались весенние забереги — проталины вдоль берегов, а не прибрежный лед, как теперь чаще говорим мы, — как русскоустьинцы дружно взялись неводить, пополняя свои оскудевшие запасы. А как только лед прошел, рыбаки устремились на лайды и виски ставить сети.
С приходом лета промысел У индигирцев принял систематический, планомерный характер. Все население переехало на рыболовные пески, из изб переселилось в земляные урасы. Мужчины на «ветках» — байдарках — ставили сети на «уловах» — там, где сходятся течения и образуются водовороты, а женщины и дети, не умеющие плавать на ветках, неводили у берега. Если удавалось выкроить свободное время, то мужчины отправлялись к морю гусевать — бить ленного, неспособного летать гуся; в хороший год на каждого гусника приходился пай в несколько сотен гусей! Некоторые из индигирцев охотно брались и за другое дело — уезжали добывать по ярам на реке мамонтову кость.
А когда наступала зима, жизнь индигирцев вновь замирала. Единственное, чем они всерьез занимались, — это промыслом песцов. У каждого в тундре стояли свои, доставшиеся от Дедов «пасти» — ловушки, а приманкой для песцов служили заготовленные с лета «мотырки» — кончики крыльев ленного гуся. Ловушки эти, между прочим, четко оконтуривали береговую линию; зимой; когда все заносило снегом, только по пастям можно было определить, где кончается низкий берег и начинается море.
На редкость непритязательными были индигирцы в пище. В сущности их меню сводилось почти к одной рыбе. Чаще всего они ели щербу́ — отварную рыбу, ничем не приправляя ее и даже почти не соля. Жарили рыбу неохотно, хотя все имели запас отличного, густого, как топленое масло, рыбьего жира, и предпочитали печь рыбу в углях. Ни маринадов, ни солений индигирцы в пищу не употребляли и на зиму заготавливали лишь ю́колу, борчу́ и ва́рку. Юкола — это распластанная, провяленная на солнце и прокопченная над камельком рыба; борча — костяные остовы рыбы, пошедшей на юколу, и всякая мелкая вяленая рыбешка, высушенная и истолченная, ее хранят в сумках из налимьей кожи; варка — это борча, проваренная в рыбьем жире.
Умеют печь индигирцы пироги — «пирожейники», — где и тестом, и начинкой служит рыба, а также оладьи, блины, «барбаны» (толстые лепешки) из мороженной и мятой икры. Лакомством считалась строганина — замороженная рыба, которую во время еды строгали ножом. Строганину, юколу и борчу подавали вместо сластей и сухарей к чаю. Муки в хозяйстве индигирцев всегда было маловато, но и ей они находили особое применение: пережаривали, например, в рыбьем жире, а потом пили с чаем; этот напиток — «пережар» — как очень питательный обычно употребляли в дальних поездках, при зимних осмотрах песцовых пастей. Кроме того, ржаную муку «мутовили» в щербе, то есть смешивали, и получалось новое блюдо, — «бутугас». Мясо, та же гусятина или оленина, попадало на стол индигирца редко.
Итак, нетрудно прийти к заключению, что в 1912 году обитатели Русского Устья жили, говорили, верили, питались так же, как и их предки — землепроходцы XVII столетия на своих дальних службишках. Конечно же, казаки и Ивана Москвитина, и Алексея Филипова, покоряя и исследуя берега Охотского моря, ели юколу, борчу, варку; наверное, находились среди них кулинары, приготовлявшие пирожейники и барбаны из икры и даже добавлявшие в барбаны сладковатые корни «макарши» — живородящей гречихи. И так же защищались они почерненными крестиками от самых опасных врагов — злых шеликанов, суливших новую голодовку.
Все эти оригинальные наблюдения заставили Зензинова задуматься о причинах, позволивших русскому населению Индигирки сохранить в течение трех веков такую самобытность, задуматься о истории индигирцев. Действительно, почему-то почти все другие русские, населявшие Сибирь и даже север Сибири, не законсервировались так, как русскоустьинцы.
Зензинов не имел возможности провести строго научные изыскания. Но он записал чрезвычайно любопытные предания. Далеко не сразу Зензинов завоевал доверие индигирцев — его долго побаивались, замолкали, обрывали песни, когда он подходил. Но в конце концов привыкли. И однажды старик Голыжинский, живший в Косухине, у самого моря, поведал ему любопытную историю; позднее Зензинов слышал ее и от других.
…Давным-давно, еще, при царе Иване Грозном, многие жители северных районов России — дворяне, — спасаясь от тягот ратной службы, бежали из родных поместий к Студеному морю. А когда и там стали настигать их царские опричники, когда и там замучили их поборами, свободолюбивые северяне построили боты и кочи, погрузились в них вместе с женами и детьми, со всем домашним скарбом и поплыли морем из поморской земли в ту сторону, где каждое утро восстает солнце, — на восток. Много лет плыли они, хотя никто и не помнит точно, сколько вьюжных зим просвистело над беглецами. Летом беглецы заготавливали впрок рыбу, мясо, били ленного гуся, а когда замерзали моря — строили зимовья. Немало беглецов погибло в пути — опухали они сначала, вываливались у них зубы, и наступала смерть. По всем морским берегам разбросаны их могилы. А потом научились беглецы спасаться от страшной этой болезни: пили горячую оленью кровь, поедали зеленоватую горчащую массу — непереваренную пищу — из оленьих желудков. И новые люди нарождались в походе, и вырастали дети, отправившиеся в путь маленькими.
Случались такие годы, когда льды уносило далеко на север, и тогда вольные люди бежали на кочах все дальше на восток, но случалось и так, что льды все лето стояли у берегов, и приходилось зимовать на прежнем месте…
Никто не знает, сколько времени провели они в пути, прежде чем подошли к Необходному носу, — далеко на север выдался он, и всегда много льда возле него плавает. С трудом «просеклись» беглецы сквозь лед и потом снова зазимовали на берегу океана — били тюленей, кололи спицами моржей, охотились на «божьих» — диких — оленей… А в какое-то лето, когда уже перестало солнце западать за горизонт, отогнало ветрами льды от берегов и по свободной воде добежали поморы до устья Индигирки-реки… Насельники местные, юкагиры, не хотели впускать неведомых им людей в устье, но после жаркого сражения отошли юкагиры от устья в глубь тундры. И решили тогда беглецы-поморы остаться на реке Индигирке и других землиц не искать, Собрали они плавник на берегу, выстроили себе избы у протоки, которая теперь называется Русскоустьинской, и потомки их до сих пор живут там.
Разные рассказчики не совсем одинаково передавали эту историю, но все они сходились в одном: предки их пришли на Индигирку морем. Но если морем, значит, вокруг Таймырского полуострова, мимо мыса Челюскина, значит, на три столетия раньше Адольфа Эрика Норденшельда.
Но почему же тогда казаки, открывшие Индигирку в 30-х годах XVII столетия, ничего не сообщают о поселениях русских? Ведь встреча, с соотечественниками должна была удивить их!.. Иван Ребров, например, первым из казаков пришедший на Индигирку с моря (он вышел из устья Лены и побывал сначала на Яне), определенно утверждал: «Преж меня на тех тяжелых службах, на Янге и на Собачьей, не бывал никто, проведал я те дальние службы».
Объяснить это можно двояко: либо легенда ошибается, и русскоустьинцы пришли на Индигирку не при Иване Грозном, а позднее, когда казаки уже открыли эту реку, либо, придя раньше казаков, но боясь снова попасть на ратную службу, русскоустьинцы затаились, сознательно избегали встреч с соотечественниками. Второй вариант, между прочим, объяснил бы нам причину законсервированности быта и языка первых поселенцев на Индигирке: ведь этим они отличаются от всех остальных русских в Сибири, а какие-то обстоятельства должны же были обусловить эти отличия.
О времени появления русских на Индигирке можно спорить. Но нельзя не заметить, что все легенды единодушно утверждают: беженцы из Руси пришли на Индигирку морем.
Погибшие мореплаватели
В 1940 году на восточное побережье Таймырского полуострова отправилась гидрографическая экспедиция. Главного управления Северного морского пути во главе с астрономом-геодезистом А. И. Косым. Основная задача экспедиции состояла в уточнении карт таймырского побережья; следовательно, участникам ее предстояло облазать, осмотреть и заснять каждую бухту, каждый островок. Столь детальные работы раньше не проводились на восточном берегу Таймыра, поэтому нет ничего удивительного в том, что сотрудникам экспедиции посчастливилось сделать чрезвычайно интересные археологические открытия.
14 сентября 1940 года гидрографическая шхуна «Норд», находившаяся в распоряжении экспедиции, подошла к северному острову в группе островов Фаддея и высадила на него топографическую партию под начальством Н. И. Линника. В поисках места для постройки Триангуляционного пункта геодезисты пошли На рекогносцировку вдоль берега и случайно заметили выступающий из-под земли, потемневший от времени край медного котла. Прервав работу, геодезисты и топографы временно превратились в археологов и занялись изучением местности. Без особого труда обнаружили они среди камней старинный топор, сковородки, кастрюли, ножницы, сгнившие свертки мехов, медную гребенку и некоторые другие неизвестно как попавшие сюда вещи. Все это валялось в пяти-десяти метрах от воды, и в шторм волны должны были подступать вплотную к «кладу».
Сотрудники партии сообщили руководству экспедиции о неожиданном открытии и получили задание ещё раз осмотреть местность. 26 сентября на остров вторично высадились участники экспедиции. И вновь им удалось сделать ценные находки. Внимание полярников привлекла насыпь: на размытом валу из мелкой гальки и булыжников лежали большие тяжелые камни, словно придавливавшие что-то находящееся внизу. Полярники были опытными людьми, повидавшими немало диковинок на севере, но такого рода образования им встречать не приходилось. Не без основания заподозрили они, что эта насыпь — дело человеческих рук. Осторожно в одном месте они начали вести раскоп, и догадка их тотчас подтвердилась. Под слоем камней, им попались изогнутые медные пластинки, оловянные тарелки, а потом сгнивший мех. Аккуратно развернув лоскутья, полярники нашли странные небольшие монеты овальной формы. На одной стороне каждой монеты можно было разглядеть изображение всадника с мечом или копьем, на другой — какие-то надписи. Позднее специалисты-нумизматы без особого труда все это расшифровали. Оказалось, что всадник на монетах — это Георгий Победоносец, а изображение его в свое время было гербом Московского княжества. Георгия Победоносца с копьем вычеканивали на копейке, с мечом — на полкопейке, или деньге.
При дальнейших раскопках полярники нашли серьги, перстни, нательные кресты, бусы (в том числе янтарные) и даже поломанную пищаль.
Полярники решили, что им посчастливилось найти клад. Но поступили они в высшей степени разумно: прекратили раскопки, заключив, что этим должны заняться специалисты, которые по характеру захоронения сумеют установить, кто и когда спрятал вещи на островах Фаддея. Полярникам показалось, что люди, оставившие клад, зарыли его наспех, очевидно очень торопясь, и только драгоценности уложили более или менее аккуратно.
…Минула зима. В марте 1941 года топограф Линник, матрос Малыгин и каюр Рыкалов отправились заготавливать дрова. Примерно в ста километрах к юго-востоку от мыса Челюскина, на восточном берегу залива Симса, они нашли остатки бревенчатой избушки, от которой сохранилось всего три венца. Избушка была очень маленькой — два метра в длину, два в ширину, — и все-таки внутри имелась перегородка, отделявшая от основной части закуток шириной всего сантиметров в шестьдесят-семьдесят, справа от входа сохранилась печь из каменных плит.
По типу избушка походила на те «поварни», которые и теперь строят промысловики на севере… Остатки таких поварен тоже не редкость. Дровозаготовители разобрали венцы на топливо, хотя и заподозрили, что перед ними остатки старинной постройки. Стужа, сковавшая землю, снег помешали Линнику с товарищами сделать раскопки, и отряд ушел с дровами на базу, к месту зимовки, в общем-то не придав никакого значения находке.
Летом того же года в район избушки пришли две топографические партии, получившие задание произвести съемку по побережью от мыса Лаптева до мыса Фаддея и на островах Вилькицкого. Одну партию возглавлял Линник, другую — А. С. Касьяненко.
Топографы шли пешком. На нартах, запряженных собаками, везли клады. Сделав за день большой и утомительный переход, топографы разбили лагерь, как потом выяснилось, в двухстах метрах от разобранной зимой избушки. Пока они сушились и готовили ужин, двое энтузиастов-охотников отправились пострелять уток. Один из них, моторист Саблуков, случайно прошел мимо остатков избушки и заметил валявшиеся, медные котлы, такие же, как на острове Фаддея.
После этого топографы занялись раскопками, но повели их не очень аккуратно: мерзлую землю рубили топорами и попортили кое-какие предметы. Все-таки им вновь посчастливилось сделать интересные находки. Помимо котлов, монет и перстней топографы нашли компас, солнечные часы, огниво с кремнем и трутом, полозья от нарт. В простенке за печкой они обнаружили множество мелких костей песцов, которыми питались жители избушки. Наконец они нашли остатки плоскодонной лодки и… кости двух погибших людей: в метре от входа в поварню валялись две черепные коробки, видимо вытащенные наружу зверьками, а в закутке был найден обломок верхней челюсти с зубами…
Почти все, что удалось собрать на острове Фаддея и в заливе Симса, сотрудники экспедиции передали в Красноярске в краеведческий музей. Находки тщательно изучил работник музея Б. О. Долгих, который вскоре опубликовал статью под названием «Новые данные о плавании русских Северным морским путем в XVII веке». Долгих сделал первые интересные выводы. Проанализировав находки, он пришел к заключению, что, во-первых, вещи, обнаруженные на острове Фаддея и в заливе Симса, принадлежали одним и тем же людям; что, во-вторых, плавание было совершено скорее всего около 1620 года и, наконец, что шли мореходы с запада на восток…
Но если так, значит, не «Вега» Норденшельда первой подошла к мысу, который теперь носит имя Челюскина…
После топографов, привлеченный слухами о кладе, на острове Фаддея и в заливе Симса побывал некто Широких, каюр. В поисках клада он беспорядочно перерыл места захоронения и сжег на костре остатки лодки (к счастью, уцелели обломки шпангоутов и обшивки).
А в 1945 году на место гибели неведомых мореплавателей прибыла специальная экспедиция во главе с археологом А. П. Окладниковым, Археологи произвели тщательные раскопки и нашли немало новых интересных вещей. Когда экспедиция вернулась в Ленинград, все находки были подвергнуты тщательному изучению; в частности, заново была исследована нумизматом И. Г. Спасским казна мореплавателей. Нумизматический анализ позволил установить, что промышленники кончили собирать деньги до 1617 года. Очевидно, они в том же году вышли в море.
Вот как можно представить себе историю этой промышленной экспедиции.
Где-то на севере России, скорее всего на побережье Белого моря, близ Архангельска, Онеги или Мезени, крупный предприниматель — торговый человек — решил снарядить и послать далеко на север, в богатые соболем края, промышленную экспедицию. Торговый человек сам не раз водивший кочи по студеным морям, — был наслышан о Енисее, Пясине, а может быть, и Хатанге. Не исключено, что он в молодости побывал в Обской губе и на реке Тазе, в городе Мангазее. Уже после того, как прочно осел он на своем торговом дворе, бывальцы рассказали ему, что самые отчаянные из промышленников уходили морем на северо-восток, за реку Пясину. Немногие, правда, возвращались оттуда, да и неизвестно, далеко ли удавалось им пройти, но не зря рисковали они… Мангазею в ту пору велеречивцы называли «златокипящей государевой вотчиной». Но «златокипящих» мест немало и за Мангазеей, к востоку от нее; об этом догадывался не один наш торговый человек. Теперь мы знаем, что торговый человек не ошибался в своих предположениях: минет еще несколько десятилетий, и вся Сибирь превратится в «златокипящую вотчину». Значит, наш безымянный торговец был инициативнее и смекалистее других, смелее шел на риск! Отчаянное предпринимательство и страсть к безудержной наживе отнюдь не были чужды ему!
Но как все-таки следует оценить почин торгового человека?.. Что это — чистейшая авантюра, основанная на туманных слухах, или наш предприниматель имел достоверные опросные сведения?
Документально установлено, что еще в «смутное время», когда шла в России жестокая борьба с польскими интервентами, сибирский воевода послал на северо-восток экспедицию под начальством морехода Луки; Произошло это около 1609 года. Экспедиция ушла далеко за Енисей и будто бы нашла там много новых рек; островов, богатых птицей и зверьем. Лука умер во время путешествия, но спутники его вернулись… А в 1610 году повел коми за Енисей, к устью Пясины (Пясинги-реки), двинянин Куркин…
Следовательно, наш торговый человек был дерзок, но не безрассуден: он рассчитывал оказаться при крупном барыше. Снаряженная им промышленная экспедиция была, надо полагать, первой по времени после Луки и Куркина, Снаряжал ее торговый человек не скряжничая. Об этом свидетельствует хотя бы то, что он доверил своему приказчику — есть основания предполагать, что это был некто Акакий, по прозвищу Мураг,[10] — большую казну. На острове Фаддея и в заливе Симса топографы и археологи нашли 3336 копеек и 143 деньги (полкопейки), отчеканенные в Москве, Пскове, Новгороде, Ярославле. По счетной системе XVI столетия это составляло в общей сложности 34 рубля 3 алтына 3 деньги. О величине этой казны говорит следующее: если произвести соответствующие пересчеты на 1882 год (в этом году специально изучал курс русских денег историк В. О. Ключевский), то окажется, что при стоимости хлеба 90 копеек за пуд казна мореплавателей равнялась примерно 500 рублям. И еще необходимо учесть, что часть казны могла пропасть, потеряться, а некоторое количество найденных монет разобрали «любители» древностей на сувениры.
Итак, деньгами промышленную экспедицию торговый человек снабдил неплохо. Но на Крайнем Севере деньги в то время имели лишь относительную ценность; там преобладала меновая торговля. Вместе с приказчиком и фактическим руководителем похода Акакием Мурагом торговый человек тщательно подобрал ассортимент меновых товаров. Оба они отлично знали, что большим спросом у местного населения пользуются медные котлы, оловянные тарелки, чарки.
Степан Крашенинников во время своего путешествия по Сибири в XVIII веке слышал, что когда-то за медный котел плавили столько собольих шкурок, сколько их в нем умещалось… И металлическую посуду в большом количестве погрузили на коч. Знали торговцы и о любви туземцев к украшениям из олова и свинца (сами русские в то время тоже инкрустировали свои изделия оловом) и захватили их для обмена. Кроме того, взяли они с собой пурты (слитки железа), иголки металлические, бусы — бисер и одекуй, колокольцы-кутасы, медные и серебряные Перстни, украшенные орнаментом. Этот товар считался легальным, сбывался он легко и выгодно, причем обе стороны оставались довольны результатами мены. Вот, например, игла. Ведь это необычайно ценная вещь в хозяйстве. Окладников в книге о полярных мореходах рассказывает, что на Лене ему удалось записать любопытное предание о «прежних людях»: «Сидит мужчина и горько плачет. «О чем ты? — спрашивает его товарищ. — Уж не сын ли твой умер?» «Нет, — ответил ему плачущий, — разве стал бы я о сыне плакать?.. Последняя костяная игла у меня сломалась!»» Пусть чувствуется в этом предании веселая шутка или легкая насмешка, но ведь сломать последнюю иглу — это действительно горе!.. И не случайно в Сибири в качестве подарков раздавали туземцам, принесшим ясак, круглые и трехгранные железные иглы.
Но кроме товаров законных торговый человек снабдил свою экспедицию и контрабандой: железными топорами, ножами, металлическими наконечниками для стрел, то есть оружием, продавать которое туземцам строжайше запрещалось властями. Но чем запретней товар, тем дороже его можно продать! Топоры, например, оценивались так: сколько собольих шкурок протаскивается сразу через отверстие для топорища, столько и цена ему!..
В XVII столетии экспедиции такого рода никогда не были чисто торговыми. Они организовывались как торгово-промысловые, их участники сами промышляли, и промысел иной раз приносил больше дохода, чем торговля. Разумеется, организаторы экспедиции все это учли: мореходов снабдили материалами для устройства ловушек, сетями-обметами на соболей, особыми стрелами для охоты, в том числе томарами — стрелами с тупыми, грушевидной формы наконечниками, сделанными из моржовой, мамонтовой кости или цельных кусков дерева. Они убивали мелких пушных зверьков, а шкурку напортили. На случай встречи с крупными хищниками имелись рогатины. Взяли мореходы с собой и рыболовные принадлежности — большую морскую сеть с грузилами-кибасами (в сумочку из полос бересты вкладывался камень), железные крючки, гарпуны. Захватили они упряжь для оленей и собак; собак везли на судне, а оленей рассчитывали приобрести на месте.
Наконец, и организаторы экспедиции, и ее участники знали, что в районах, населенных «кровавой самоядью», как тогда говорили; далеко не все встречи с туземцами кончаются миром. Поэтому мореходы запаслись луками, колчанами с боевыми стрелами (пользовались русские этим оружием очень умело, что отмечали все иностранцы-очевидцы), ножами, пищалями, бочонком зелья-пороха, пулями и свинцом, пулелейками.
Одежду все имели добротную — выделанные меха, зипуны из английского и своего сермяжного сукна, кафтаны с золочеными шнурками, сапоги на каблуках с металлическими подковками, рукавицы.
В распоряжение экспедиции был предоставлен коч — плоскодонное судно с одной мачтой, с досками, скрепленными деревянными гвоздями — нагелями и прутьями — вицами; борта были укреплены прочными шпангоутами, которые в те времена назывались хорошим русским словом «упруги» или «опруги». Торговый человек снабдил коч мореходными приборами — солнечными часами и компасом, который мореплаватели ласково называли «маточка». А на случай зимовки, чтобы не скучал народ, захватил с собой Акакий Мураг шахматы, искусно вырезанные из мамонтовой кости.
Но кто были те люди, которых завербовал в свою команду приказчик торгового человека?.. В XVII веке рядовой промышленный люд делился на «своеужинников» и «покрученников». Первые из них имели свою собственную охотничью снасть — ужину, а вторые, любители дальних странствий, отправлялись в скитания с пустыми руками и, чтобы кое-как просуществовать, «крутились», нанимались к самостоятельному «опытовщику», предпринимателю и целиком зависели от него.
Скорее всего именно такими покрученниками и была укомплектована команда, но кроме грамотея-приказчика были включены в нее опытные моряки, по морям «староходцы», умевшие обращаться с компасом и солнечными часами. Любопытно, что в экспедиции принимала участие женщина: в избушке на берегу залива Симса археологи обнаружили остатки сарафана, типичной одежды русских женщин. Впрочем, особенно удивляться присутствию женщин на коче не приходится: женщины сплошь да рядом совершали походы вместе с мужчинами, и именно поэтому русские, оседая на Крайнем Севере, создавали постоянные колонии. Не исключено, что во время плавания экипаж коча пополнился и туземной женщиной. Об этом свидетельствует находка зеркала с изображением кентавра (китавраса русских преданий); бронзовые зеркала с кентаврами были чуть ли не обязательной принадлежностью туалета у ненцев и хантов (а позднее у бурят, юкагиров).
Всего отправилось в странствие человек десять-двенадцать.
…Коч вышел в море, очевидно, весной 1617 года. Никто не звонил в колокола, не палил из пушек; просто очередная торгово-промысловая экспедиция покинула гавань и взяла курс на восток. Ветер надул сыромятный парус, мореходы убрали весла, и коч, слегка наклоняясь и зарываясь носом в воду, помчался навстречу восходящему солнцу…
Мореходы миновали Канин Нос, на котором возвышались пять деревянных, крестов, низкий остров Колгуев, прошли Югорским Шаром мимо Вайгача и пересекли бурное Мангазейское море — так называлась тогда юго-западная часть Карского моря. Видимо, где-то в районе Обской губы или Енисейского залива наши мореходы остановились на зимовку. Там они неплохо, поторговали, поохотились и увеличили свой экипаж. Весной, едва сгонные ветры освободили прибрежную полосу моря ото льда, коч продолжил плавание. Теперь путь его пролегал мимо безлюдных, никому не ведомых берегов. Тщетно осматривали мореплаватели землю в надежде увидеть дымы кочевий, но даже местные жители не рисковали пасти стада оленей на суровом Таймыре.
Погода благоприятствовала мореходам, ледовые условия в том году, надо полагать, были не тяжелыми. Коч забирался все дальше и дальше к северу, солнце давно уже не опускалось к горизонту. И вдруг береговая линия резко изменила направление. Коч побежал на юго-восток. Мореходы едва ли могли знать, что миновали самую северную точку Азиатского материка; они не подозревали, что первыми (или в числе первых — вспомним индигирцев!) совершили великий географический подвиг. И конечно, даже самая пылкая фантазия не могла подсказать им, что примерно через двести пятьдесят лет после них у «приярого» мыса бросит якорь шхуна «Вега», на флагштоке взовьется вымпел, прогремят пушечные салюты и знаменитый полярный исследователь Норденшельд поднимет бокал вина и провозгласит тост за великую победу…
Наши мореходы просто потолковали между собой о изменении маршрута и продолжили путь.
Близилась осень, и мореплаватели решили встать на вторую зимовку в небольшом заливе, который теперь именуется заливом Симса. Место показалось им удачным, на берегу валялось много плавника, из которого можно было выбрать бревна для строительства поварни, запасти дрова; в тундре попадались олени, песцы, тучами носились над болотами и озерками птицы.
И они поставили зимовье — тот самый небольшой дом с каменкой, остатки которого через триста двадцать лет нашли топографы.
Медленно тянулось время в течение долгой полярной ночи. В маленькой поварне было тесновато — лежать на полатях приходилось вплотную друг к другу. Когда в каменке ярко разгорались сухие дрова, любители садились играть в шахматы, а Акакий Мураг наносил замысловатый орнамент на рукояти своих ножей; на одном из них он красивой славянской вязью вырезал свое имя… Через триста двадцать пять лет орнаментированные им ножи попали в Ленинград, в кабинеты специалистов, и там удалось прочитать не очень-то понятную неискушенным надпись: Акакий Мураг — единственное имя, дошедшее до нас. На документе, заботливо спрятанном в ножны, сохранились, к сожалению, только слова «Жалованная грамота…»
Полярные мореходы XVII столетия не делали многолетних запасов продовольствия, они жили преимущественно на «подножном корму», обеспечивая себя провизией на месте. Точно так же действовали Акакий Мураг и его товарищи. Но надежды их на успешную охоту зимой не оправдались: олени откочевали далеко на юг, и только нахальные, совершенно не боявшиеся людей песцы стаями бродили вокруг. Начался голод. Пришлось забыть о брезгливости и взяться за «поганую пищу», каковой считались песцы. Их убивали в большом количестве, выбрасывали никому не нужные шкурки (они войдут в моду лет через сто пятьдесят, когда выбьют соболя) и ядовитую печень, а мясо варили. Тщательно обглоданные косточки, расколотые черепа, из которых извлекался мозг, зимовщики бросали за печку, к стене.
Мореходы были отрезаны от всего мира тысячеверстной снежной пустыней, никто не мог прийти к ним на помощь, и они знали это. Почти не стихая, выли над их маленькой плосковерхой поварней пурги, выдувая остатки тепла и заставляя людей теснее прижиматься друг к другу, слышалось тявканье голодных песцов.
От недоедания развилась цинга, и трое зимовщиков (трое, а не двое, как думали топографы) погибли. Видимо, это были Акакий Мураг, иначе его ножи не остались бы в поварне, женщина, носившая сарафан, и кто-то еще…
Остальные мореходы, едва вскрылось море, срочно погрузились на коч, бросив часть имущества и компас (оставшиеся в живых пользоваться им, очевидно, почти не умели), и поплыли дальше, на юго-восток. Там они надеялись встретить людей.
Последний акт трагедии разыгрался на острове Фаддея, там, где встретили непроходимые льды участники Великой северной экспедиции — Прончищев и Лаптев. Наверное, бурей или надвинувшимися льдами коч выбросило на берег и покалечило так, что починить его оставшиеся в живых после крушения уже не смогли. Надо думать, что они ненадолго пережили утонувших: все их имущество брошено на острове Фаддея, там же оказалось и бронзовое зеркальце с китаврасом — последняя забава туземной женщины…
Вот, пожалуй, и всё, что можно рассказать об этой арктической трагедии. Отважные мореплаватели погибли. Неудачно закончились и все дальнейшие известные попытки пройти морем вокруг Таймырского полуострова.
Но означает ли это, что не было неизвестных нам походов, закончившихся успешно? Походов тайных; участники которых сами стремились скрыть свои истинные цели?.. Думаю, больше того — уверен, что такие походы были.
…Вспомним о полулегендарном землепроходце Пенде, который, если верить преданию, достиг устья Лены в самом начале XVII столетия. Вспомним легенды индигирцев. Они определенно утверждают, что русские пришли на Индигирку морем!
И вновь приходится посетовать, что мы все еще недостаточно настойчиво стремимся до конца раскрыть историю первых плаваний и походов русских по Северному Ледовитому океану. Да, мы узнали, что около, 1620 года промышленные кочи шли на восток вдоль Таймыра. Но как мы узнали об этом?.. Случайно. А между тем многие районы Севера, и прежде всего побережье Таймыра и близлежащих островов, нуждаются в планомерном, систематическом обследовании специалистами-археологами и историками. И медлить с этим нельзя. Время безжалостно уничтожает смутные следы, оставленные на далеком севере первыми мореплавателями. И не только время. Многое уничтожается людьми. Без злого умысла, по неведению, но все-таки уничтожается.
Можно не сомневаться, что если археологи в ближайшие годы приступят к планомерному обследованию необжитых районов севера побережья Таймыра, Северной Земли, то вскоре будут сделаны новые любопытнейшие открытия.
Пока же очевидно одно: все таймырское побережье русские обошли морем в XVII и XVIII столетиях.
Берега несправедливости
Беринга, Берингов, Берингово
Я никогда не был на Командорских островах, но слышал, как волны разбиваются о их скалы.
Мы плыли по Берингову морю с Чукотки, полуострова, который с севера омывается Чукотским морем, с востока — Беринговым проливом, отделяющим Азию от Америки, а с юга — Беринговым морем. Путь наш лежал к берегам Камчатки, к городу со старинным названием Петропавловск. Неожиданная радиограмма изменила курс транспорта: у Командорских островов на камни село какое-то судно. Буксирный катер пытался стащить его на глубокую воду, но лопнули все тросы, а судно так и осталось на мели. Наше участие в этом происшествии свелось к тому, что мы завезли туда новый металлический трос. Происходило все это ночью, мы легли в дрейф, и стало так тихо, что до слуха нашего донесся глухой плеск океанских волн, набегавших на прибрежные скалы. А потом подошел буксирный катер, на него перегрузили с транспорта бухты троса, и мы отправились дальше.
Вот, собственно, и все. Но сейчас именно с этого незначительного эпизода мне захотелось начать сложный процесс распутывания истории первоначального исследования северной части Тихого океана, сложный тем более, что делать это я собираюсь в обратном порядке.
Два острова, не считая мелких скал и кекуров, входят в состав Командорской группы. Первый из них, самый крупный, называется островом Беринга, второй, поменьше, — Медным.
Ранняя история этих островов весьма любопытна. На них разыгрался заключительный акт одной из тихоокеанских трагедий.
В самом начале ноября 1741 года по Тихому океану, почти в буквальном смысле слова без руля и без ветрил, плелся на запад к берегам Камчатки двухмачтовый пакетбот «Св. Петр». Командиром на нем числился датчанин Витус Беринг, носивший звание капитан-командора русского флота. Витус Беринг, ослабевший от болезни, давно уже не выходил из своей каюты, в управление судном не вмешивался, да им почти никто и не управлял, потому что все были больны и измучены; Каждый день за борт сбрасывали одного, а то и двух умерших. Все ждали неминуемой гибели. Часто дули встречные ветры, и, хотя пакетбот почти все время шел под малыми нижними парусами, стакселями и рифлеными триселями, судно нередко сносило назад. «Никакое красноречивое перо не в состоянии было бы описать наших крайних бедствий», — отметил в эти дни в своем дневнике один из самых деятельных и умных участников плавания — натуралист Стеллер. Капитан-командор в столь трудной обстановке сумел предложить лишь одну радикальную меру: в случае спасения православным сделать пожертвования в пользу церкви в Петропавловске, а лютеранам — в… Выборге, на другом конце планеты!
4 ноября утром погибающие мореплаватели увидели впереди по курсу землю — высокие горы с присыпанными снегом вершинами. Где находится пакетбот — толком никто не знал. Но плыли люди к Камчатке, спасение надеялись найти на Камчатке и поэтому очень легко и охотно желаемое приняли за действительное. «Невозможно описать, — сообщает тот же Стеллер, — как велика была радость всех нас, когда мы увидели этот берег! Умирающие выползли наверх, чтобы увидеть его собственными глазами, и каждый сердечно благодарил бога за его великую милость к нам. Даже больной капитан-командор вышел наверх. Все осведомлялись о здоровье друг друга, все изъявляли надежды на отдых и успокоение. Нашли даже спрятанный где-то бочонок с водкою, которым еще более усилили общую радость… Открывшаяся земля казалась Камчаткою!»
Выбравшийся на палубу Витус Беринг слишком хорошо знал побережье Камчатки, чтобы ошибиться и принять за нее незнакомую землю. Кроме того, по счислению, даже самому оптимальному, до Камчатки нужно было плыть еще несколько десятков миль, а полуденная «обсервация» подтвердила, что пакетбот находится севернее Авачинской бухты, где недавно был основан Петропавловск — порт с большим будущим.
Как следовало поступить в этом случае командиру?.. Кажется, двух мнений на этот счет быть не может. Любой руководитель на месте Беринга, не утративший чувства ответственности за жизнь подчиненных, обязан был сообщить им, что радость их преждевременна, и приказать плыть дальше, к порту, где их ждало теплое жилье и обильная пища, столь необходимая больным цингой.
Капитан-командор поступил иначе.
В его каюте собрался «консилиум», на который приползли все, кто еще мог двигаться, в том числе и нижние чины. На этом консилиуме Беринг предложил плыть дальше в поисках Авачинской бухты. Измученная команда, в отличие от капитан-командора уверенная, что судно находится у берегов Камчатки, с ним не согласилась, и все, кроме Овцына, встали на сторону офицеров Вакселя и Хитрова, которые высказались за немедленную высадку на берег.
Одна из особенностей характера Витуса Беринга заключалась в том, что, как увидим дальше, твердость он проявлял лишь в тех случаях, когда выбирал более легкий путь. В данном случае он твердости не проявил и тем самым подписал смертный приговор и себе и многим другим.
…Тихий попутный ветер, слабо надувая обветшалые паруса, двигал пакетбот к скалистому берегу. В версте от него уже под вечер следующего дня попытались стать на дагликс-якорь на глубине в двенадцать сажен. Но перепревший канат почти тотчас лопнул, и пакетбот понесло на скалы. Второй якорь тоже не удержал судно. И тут Берингу повезло последний раз в жизни: волны перебросили пакетбот через буруны в тихую заводь, не повредив его. Там моряки бросили с правого борта последний плехт-якорь, который и остановил судно на безопасном расстоянии от берега.
Минула ясная лунная ночь. Утром мореплаватели спустили на воду последнее сохранившееся у них гребное суденышко — лангбот. В него село несколько человек из числа тех, которые еще могли держаться на ногах, среди них Стеллер. Благополучно добравшись до берега, они удачно поохотились, Стеллер набрал целебной противоцинготной травы, и все это отправили на пакетбот Берингу. Началась перевозка больных. Все участники плавания свидетельствуют, что на больных убийственно действовал свежий холодный воздух. Во время плавания, главным образом за последние дни, погибло двенадцать человек, а при перевозке с пакетбота на берег — девять. К счастью, стояло маловетрие и волны не мешали перевозкам.
На берегу те, кто посильнее, выкапывали ямы, прикрывали их сверху парусиной и туда укладывали больных. 8 ноября в такую яму уложили тщательно закутанного Витуса Беринга. Через месяц эта яма стала его смертным одром.
Витус Беринг держался очень спокойно, казался довольным. Умница Стеллер, несмотря на все пережитое, не утративший любознательности, успел за несколько дней многое осмотреть на острове и однажды привел Берингу доказательства, что они находятся не на Камчатке. Беринг с ним согласился, но ему, видимо, не хотелось внушать эту мысль команде.
Понимая, что люди ждут от него каких-то дальнейших указаний, он 1 декабря отправил нескольких матросов выяснить, где они находятся — на острове или на матерой земле. Беринг не дождался результатов этой рекогносцировки. Он Скончался через семь дней, 8 декабря 1741 года.
Всего на острове погибло девятнадцать человек, многие из которых, в том числе-и сам Беринг, остались бы живы, если бы могли получить хороший уход.
Но для спасения нужно было приказать плыть дальше.
Этого капитан-командор Витус Беринг не сделал.
Расположенные к востоку от Камчатки острова ныне называются Командорскими, а самый крупный из них — островом Беринга. Что ж, капитан-командор открыл эти острова, капитан-командор трагически погиб на них. Последующие поколения мореплавателей и картографов не погрешили против здравого смысла и справедливости, таким способом увековечив имя Витуса Беринга на географической карте.
Но Командорские острова составляют западное звено островной дуги, отделяющей Тихий океан от… Берингова моря.
Что же, очевидно, это море тоже открыто капитан-командором?
Увы, нет. Капитан-командор немало плавал за свою шестидесятилетнюю жизнь, но ни одного моря ему открывать не довелось.
Море, которое ныне носит имя Витуса Беринга, открыл холмогорец Федот Алексеев Попов.
Командорские острова, ограничивают Берингово море на юго-западе. На севере оно переходит в узкий Берингов пролив.
Берингов?.. Значит, его открыл капитан-командор Витус Беринг?
Увы, нет. Капитан-командор кое-какие проливы открыл, например между островами Алеутской гряды, но честь открытия этого пролива принадлежит не ему.
Пролив, который отделяет Азию от Америки и который ныне носит имя Витуса Беринга, открыл холмогорец Федот Алексеев Попов.
Но может быть, открытие Федота Алексеева Попова было забыто и Витус Беринг окончательно доказал существование пролива?
Нет. О проливе в начале XVIII века знали многие, да и сам Беринг слышал о нем. Сведения эти проникли в науку благодаря плаванию Федота Алексеева. Попова. Кроме того, поход Беринга ровным счетом ничего не доказал.
Но может быть, Беринг был первым мореплавателем, увидевшим и описавшим оба берега пролива?..
Нет. Это сделали подштурман Федоров и геодезист Гвоздев, которых послал в поход некто Шестаков. Кстати, сделали они это после того, как Беринг побывал в проливе.
— Ну а где же Семен Дежнев? — вправе спросить читатель.
Почему автор умалчивает о казаке Дежневе, том самом, именем которого назван крайний северо-восточный мыс азиатского материка, о том самом, про которого пишут книги, которому ставят памятники, которого теперь повсюду прославляют как первооткрывателя пролива?.. Неужели автор забыл о нем?
Нет, автор не забыл о скромном и отважном казаке Семене Дежневе. Беда лишь в том, что мыс, который ныне носит его имя, открыт Федотом Алексеевым Поповым.
Вот как?.. Значит, он раньше Дежнева подплыл к нему? Нет. Но посмертных «взаимоотношений» между Федотом Алексеевым Поповым и Семеном Ивановым Дежневым мы пока затрагивать не будем. К ним мы еще вернемся.
Ни Федот Алексеев Попов, ни Семен Дежнев, ни Витус Беринг, ни его славный спутник Алексей Чириков, ни Федоров, ни Гвоздев не заботились о дележе «курицы славы» (пользуясь выражением Маяковского). Просто, без всякой помпы они делали то, что считали нужным, или то, что им поручали. И все-таки трудно найти на географической карте место (хотя их немало), где эта самая пресловутая «курица славы» была бы поделена столь несправедливо. Менее всего повинны в этом первооткрыватели — даже тени подозрения не должно пасть на них. Вина целиком ложится на плечи их потомков.
Потомкам же следует и разобраться в этом.
Не для того, чтобы принизить одних за счет других. Просто любое историческое исследование должно быть пронизано уважением к человеку. Просто нельзя, чтобы исторические события заслоняли от историка живых людей, реальную расстановку сил, подлинных вдохновителей и руководителей, потому что чины важны для современников, но не для историков. И еще потому, что нет в истории человечества ничего ценнее прекрасных душевных качеств реальных людей, тех, что жили задолго до нас, их творческой инициативы, их самозабвения, готовности идти на подвиг во имя поставленной цели. Самое важное в истории — это накопление человеческого в человеке. Очень труден и сложен этот процесс, часты, к сожалению, рецидивы, отбрасывающие целые слои общества назад. Но все-таки психологическая эволюция человечества продолжается, накопление человеческого в людях происходит неуклонно, и это приведет в конце концов к созданию человека новой формации, человека будущего, о котором мы сейчас только мечтаем.
Вот почему нельзя разбазаривать драгоценные приобретения прошлых поколений и вот почему всегда необходимо отличать золото от позолоты, а творчество — от слепого повиновения власть имущим. И по этой же причине нельзя исторически оценивать участников предприятия по их чинам. Главное — человеческое в человеке, его моральный вес, духовная, нравственная ценность. Но это главное учитывалось далеко не во всех случаях, часто на первый план выдвигались моменты формальные. Именно поэтому многие исторические события следует подвергнуть моральному переосмыслению.
К чему это иной раз приводит, мы увидим из наших дальнейших расследований.
Бухта Гавриила
На северо-востоке нашей страны, от Парапольского дола у основания полуострова Камчатки до берегов Анадырского залива, протягивается Корякский хребет. Горные кряжи подходят вплотную к побережью и образуют многочисленные бухты. Одна из них называется бухтой Гавриила. Впервые я услышал о ней давно, теперь уже более десяти лет тому назад.
Я летел На Чукотку. Наш самолет всего за трое суток преодолел колоссальное пространство от Москвы до Берингова моря и опустился в Анадыре. Первое, что мы увидели, — это тучи чаек. Именно тучи. Чайки преследовали рыболовные суденышки, караулили сети, вились Над причалами, над невысокими домами селения. Но потом мы забыли про чаек — внимание наше, мягко выражаясь, привлекли комары. Вообще различных комаров на белом свете очень много, кажется, более пятисот видов. Так эти были большущие, рыжие, мохнатые, словно они завернулись от холода в цигейковые шубки. Количество их не поддавалось никакой оценке. Я пытался писать дневник, но не выдержал, захлопнул тетрадь, а на следующий день обнаружил между страницами засушившихся комаров.
Нам долго не давали разрешения на вылет, но потом мы все-таки покинули Анадырь. Мне предстояло работать в бухте Угольной, но добраться до нее было непросто.
Я немало ездил и немало видел различных мест, но до сих пор убежден, что трудно найти на земле уголок более красивый, чем бухта Провидения, точнее, бухта Эммы в этом заливе. Не берусь точно передать ее красоту, объяснить, чем она прекрасна. По крайней мере красота ее не броска — она лаконична, сдержанна, сурова, как все, кроме цветов, на севере. Серые, цвета шинельного сукна, сопки, белые пятна снежников и глубокая зеленая вода, в которой отражается низкое серое небо, — вот, пожалуй, и все. Но потому, что в бухте Эммы зеленые не склоны, а вода, что белые не облака, а снежники в ложбинах, простая гамма красок поражает, оставляет совершенно незабываемое впечатление и волнует. Во всяком случае так было со мной.
Из бухты Провидения в бухту Угольную мне пришлось отправиться на катере, который назывался «Победа», имел в длину двадцать шагов, а в ширину шесть. Мы вышли из бухты Эммы, идеально защищенной от морских волн, под вечер. Во фьорде нас уже качало, но вполне деликатно. Берега фьорда отвесны, как стены средневекового замка, и так же монолитны. Я стоял на палубе, смотрел по сторонам и вдруг увидел на стене, на самом Верху, одинокий крест. Он выделялся очень рельефно и четко на фоне еще светлого неба. Никто не знал, над чьей могилой он поставлен, и никто не мог сказать, давно ли поставлен, Но что не в наши дни, в этом сомневаться не приходилось. Очевидно, давно, еще тогда, когда плавали здесь парусные шхуны и промышляли ныне почти исчезнувшего морского котика.
Крутая волна у выхода из фьорда в Берингово море заставила меня перенестись из прошлого в настоящее. Пришлось уйти в кубрик.
…Проснулся я через четырнадцать часов. Кубрик был залит водой, и, когда катер кренился, вода переливалась с одной стороны на другую, увлекая за собой окурки, куски мертвенно-бледного хлеба из американской пшеничной муки, обрывки бумаги. Справившись с чувством вялости, безразличия, я заставил себя подняться и вышел на палубу. Теперь мы шли вдоль берега. Прямо из воды поднимались срезанные морем отвесные склоны сопок — отрогов Корякского хребта. Мы подплывали к бухте Угольной. Часов в шесть вечера маленькая «Победа» стала у пирса, и мы почувствовали под ногами твердую почву. Впрочем, сначала она не показалась нам твердой, и мы все были убеждены, что она карается, так же как палуба катерка.
А катерок, почти не задерживаясь, отошел от пирса и снова взял курс в открытое море.
— Куда он пошел? — спросил я.
— В бухту Гавриила, — ответили мне. — Это миль сто отсюда.
Никаких исторических ассоциаций это название в тот момент у меня не вызвало. Гавриила так Гавриила. Они, эти исторические ассоциации, возникли позднее. В поселковой библиотеке я взял книжку о Витусе Беринге и из нее узнал, что свое, первое плавание вдоль северо-восточных берегов Азий он совершил на судне, которое называлось «Св. Гавриил».
Это открытие настроило меня на романтический лад.
В свободные часы я усаживался на берегу моря и подолгу смотрел вдаль, провожая глазами темные дымки пароходов, которые, не заходя в Угольную, шли прямо на Провидение. Я фантазировал, и в моем воображении частенько возникал парусник «Св. Гавриил», отважно плывущий вдоль пасмурных, неприветливых берегов на север, к проливу, который теперь носит имя руководителя экспедиции Витуса Беринга. Я представлял его себе отважным, не ведающим страха и сомнений мореплавателем, открывателем новых земель, суровым, закаленным; непреклонным, овеянным ореолом заслуженной славы…
Итак, поговорим о Витусе Беринге. Дележ «курицы славы» в северной части Тихого океана уже поставлен нами под сомнение. Но может быть, духовная значимость Витуса Беринга, его моральный вес столь велики, что именно поэтому следует оправдать посмертную славу мореплавателя?..
Всего вреднее в таких вопросах бездоказательность. Перейдем теперь к последовательному изложению событий. Мореплаватель Витус Беринг возглавлял две экспедиции — Первую Камчатскую и Вторую Камчатскую. Начнем с Первой, той самой, во время которой бот «Св. Гавриил» прошел мимо бухты Угольной.
Первая Камчатская экспедиция была послана поличному указу императора Петра Первого. Организация ее имеет свою длинную и небезынтересную предысторию, но мы подробно останавливаться на ней не будем. Выясним лишь причины, побудившие Петра Первого отправить экспедицию в столь отдаленные края.
Петр Первый стремился к всемерному развитию торговли. В частности, он был совсем не прочь установить прямые торговые отношения с Индией, которые сулили немалую выгоду. Но западные торговые пути в Индию давно контролировались другими державами, конкурировать с которыми Россия не могла. Иное дело, если бы удалось найти восточный путь в Индию и Китай вдоль берегов Азии, открыть так называемый северо-восточный проход, который безуспешно искали многие выдающиеся мореплаватели, в том числе и Виллем Баренц…
Но тут помимо чисто практических трудностей вопрос упирался в одну из сложнейших географических проблем XVI–XVIII веков: соединяется Азия с Америкой или нет?.. Если соединяется, то морской путь из устья Двины в Китай не проложишь, как советовал сделать это царский спальник Федор Степанович Салтыков. А вот если между материками существует пролив… Короче говоря, выяснить это было бы очень полезно не только для науки, но и для государства. Вот почему Первая Камчатская экспедиция состоялась.
Но любопытно, что в тот год, когда смертельно больной император собственноручно писал инструкцию для экспедиции, уже многие знали, что пролив между Азией и Америкой существует. Более того, Петр Первый сам имел карту, на которую был нанесен этот пролив. Очевидно, Петр не решился довериться этой карте, к чему у него имелись основания. Но тут мы должны сделать небольшое отступление.
На многих географических картах пролив, отделяющий Азию от Америки, — его называли Анианский — появился задолго до того, как был в действительности открыт. Анианский пролив придумал — буквально придумал — итальянский картограф Гастальди в 1562 году. Он же назвал его Анианским. Никаких разумных оснований для нанесения этого пролива на карту у Гастальди не было. На некоторых других своих картах он изображал Азию соединенной с Америкой. Но эта картографическая «утка» совпадала с горячим желанием и ученых, и мореплавателей найти северо-восточный проход, ведущий к богатейшим странам Южной Азии, и поэтому ей охотно, бездумно поверили.
Однако после 50-х годов XVII века в литературу проникают уже совершенно достоверные, основанные на фактах сведения о проливе между Азией и Америкой. Они исходили от людей, так или иначе связанных с Сибирью, местные жители которой в ту пору говорили об этом проливе как о чем-то совершенно очевидном. Так, католический патер Юрий Крижанич, за интриги высланной из Москвы в Сибирь и проживший там пятнадцать лет (с 1661 по 1676 год), в своей книжке «История Сибири» определенно утверждал, что русскими доказана возможность сквозного плавания вдоль северных и восточных берегов Азии. В атласе Ремезова, законченном в 1701 году, указан свободный морской путь из устья Колымы до Камчатки и даже Амура. Плененный под Полтавой швед Страленберг провел в Сибири тринадцать лет (до 1722 года) и составил за это время три карты Сибири, одну из которых преподнес Петру Первому. Вернувшись на родину, он опубликовал книгу и приложил к ней карту. На этой карте Против устья реки Индигирки сделана следующая надпись: «Отсюда русские, пересекая море, загроможденное льдом, который северным ветром пригоняет к берегу, а южным отгоняет обратно, достигли с громадным трудом и опасностью для жизни области Камчатки», то есть прошли проливом, отделяющим Азию от Америки. В Петербурге рукописной картой Страленберга пользовались иностранцы; вскоре в Западной Европе появились карты, основанные на его материалах.
«Таким образом, — совершенно справедливо заключает академик Л. С. Берг, — ко Времени Первой Камчатской экспедиции Беринга (1725–1729 гг.) не только в Сибири, но и в Западной Европе было уже хорошо известно, что Азия не соединяется с Америкой» («Открытие Камчатки и экспедиции Беринга». М.-Л., 1946).
Но может быть, сам Беринг по какой-то случайности не знал об этом?.. Знал. На пути к Тихому океану он летом 1725 года писал из Енисейска в одном из своих «представлений», что разрешить вопрос о соединении Азии с Америкой можно было бы с меньшим «коштом», издержками, если плыть не с Камчатки на север, а из устья Колымы на восток к реке Анадырь, впадающей в Тихий океан, потому что там «пройти всемерно возможно, о чем новые Азийские карты свидетельствуют, и жители сказывают, что прежь сего сим путем хаживали».
Всеми этими сведениями о северо-востоке Азии картография и вообще наука обязана в первую голову Федоту. Алексееву Попову, а также Семену Дежневу. Витус Беринг ехал открывать уже открытое и знал это.
Имело ли смысл при таких условиях все-таки посылать экспедицию?.. Безусловно, потому что хоть о проливе и знали, но в целом картографический материал был очень противоречив, и истину трудно было отличить от фальши, потому что не было никаких письменных свидетельств о плаваниях (отписки Дежнева в то время еще не нашли), потому что отсутствовали географические сведения о проливе. Так что Петр Первый поступил вполне логично, не доверившись карте Страленберга.
Но почему Витус Беринг встал во главе такой экспедиции?.. Чтобы ответить на этот вопрос, познакомимся, с некоторыми фактами из биографии прославленного мореплавателя.
Витус Беринг родился в 1681 году в Дании, в городке Хорсенсе. Юношей он совершил плавание на голландском корабле в Ост-Индию, и это обстоятельство сыграло решающую роль в его жизни. В 1703 году он вернулся в Амстердам, и там молодого моряка завербовали на русскую службу. В России Беринг возил лес на остров Котлин, где строилась «фортеция» Кроншлот (будущий Кронштадт), командовал дозорным кораблем, следившим за действиями шведов, участвовал на двадцатипушечной шняве в Прутском походе Петра, затем был переведен в Балтийский флот, сражался со шведами; постепенно его повышали в чинах и переводили на все более и более крупные военные корабли. Очевидно, служил Беринг добросовестно, но о его заслугах и личных качествах можно судить по следующему факту, После окончания Северной войны он в отличие от многих других офицеров не был повышен в чинах. Беринг обиделся и подал в Адмиралтейств-коллегию прошение об отставке, которая немедленно была приняла. 10 марта 1724 года Беринг уже получил паспорт на выезд в Данию, но минула весна, затем лето, а Беринг все не уезжал из Петербурга на родину.
Почему?.. Видимо, потому, что его прошение об отставке было всего лишь демаршем, предпринятым с целью добиться повышения, и поспешность Адмиралтейств-коллегии обескуражила незадачливого дипломата. Беринг отлично понимал, что возвращение в Данию не сулит ему ничего хорошего, что нигде он не сможет занять столь высокого и обеспеченного положения, как в России. Вот почему он продолжал сидеть в Петербурге, надеясь через друзей хотя бы восстановиться во флоте.
В августе 1724 года кто-то напомнил о Витусе Беринге императору, и тот предложил Берингу вернуться во флот в прежнем чине. Беринг тотчас согласился на это. Он даже согласился на перевод с девяностопушечного корабля на шестидесятипушечный, которым командовал три года назад.
Но теперь нам предстоит ответить еще на один вопрос: почему, подыскивая начальника для Первой Камчатской экспедиции, Адмиралтейств-коллегия остановила свой выбор на Беринге?.. Вот тут-то и сыграло роковую роль то обстоятельство, что Беринг бывал в Ост-Индии, а Петр затевал экспедицию прежде всего с целью проложить туда морской путь.
Едва ли можно усомниться в том, что Беринг принял известие о новом назначении без всякого восторга. Наука его не интересовала ни до экспедиций, ни во время экспедиций; соединяется ли Азия с Америкой, ему, разумеется, тоже было безразлично. Но Витус Беринг понимал, что против монаршей воли не пойдешь, что Петр крут и проще простого угодить в страшную отставку. Он покорно согласился, и монаршья воля, сдвинув его с места, потом уже в течение двух десятилетий подталкивала в спину к бессмертию. Беринг легонько упирался, искал пути к отступлению, медлил, колебался, но монаршья воля все-таки возвела его на пьедестал столь высокий, что молва поставила Беринга в один ряд с великими мореплавателями…
Теперь давайте разберемся, каковы все-таки были личные качества главы Первой Камчатской экспедиции. Дело это щекотливое, при некоторой предвзятости в отношении к Берингу легко впасть во грех необъективности и поэтому лучше всего сослаться на мнения авторитетов. Александр Петрович Соколов, историограф русского флота, в книге «Северная экспедиция», опубликованной в 1851 году, писал, например, что Беринг был «человек знающий и ревностный, Добрый, честный и набожный, но крайне осторожный и нерешительный, Легко подпадавший влиянию подчиненных и потому малоспособный начальствовать экспедициею, особенно в такой суровый век и в такой неорганизованной стране, какою была Восточная Сибирь в начале осьмнадцатого века». Тот же Соколов, касаясь взаимоотношений Беринга с подчиненными во время Второй Камчатской экспедиции, полагает, что капитан-командор был, «может быть, и любимый ими (подчиненными. — И.3.), но не уважаемый; не питавший ни к кому злобы (это не совсем точно. — И.3.), но недостатком стойкости озлоблявший многих; ревностный, но не довольно деятельный…».
Л. С. Берг в своем капитальном исследовании, которое уже упоминалось, повторяет характеристику Соколова, а от себя добавляет: «Он был чересчур осторожен и слишком придерживался правила (даю в переводе с латинского. — И.3.): «если ты не хочешь сделаться игрушкой ветров, берегись». К тому же к научным вопросам он не выказывал никакого интереса».
Участники Первой Камчатской экспедиции покинули Петербург в конце января — начале февраля 1725 года, почти сразу же после смерти Петра Первого. В состав экспедиции кроме Беринга входили лейтенанты Алексей Чириков, Мартын Шпанберг и некоторые другие, В конце следующего 1726 года, участники экспедиции добрались до Охотска. В 1727 году, в самый разгар строительства новой, лодии, в Охотске появились наши старые знакомые архангельские мореходы Никифор Тряска и Кондратий Мошков. Оба они приняли активное участие в делах экспедиции и немало помогли Берингу в строительстве вспомогательной лодии, получавшей громкое название «Фортуна» («Судьба»).
Однако, когда эту «Фортуну» спустили на воду, чтобы отправиться на восточное побережье Камчатки, Беринг не рискнул плыть на ней. Очевидно, и Никифор Тряска, и Кондратий Мошков убеждали мореплавателя дерзнуть, ссылаясь на свой собственный опыт, не исключено, что они предлагали воспользоваться их услугами, но Витус Беринг на уговоры не поддался. На первых порах «Фортуне» был доверен один Шпанберг, а вместе с ним, видимо, и Кондратий Мошков: (плавал ли Тряска на судах Беринга, я, к сожалению, не знаю). Шпанберг прекрасно сплавал на «Фортуне» до Большерецка на Камчатке и обратно. После этого Беринг переплыл на лодии через Охотское море, но идти вокруг Камчатки отказался наотрез, хотя и знал, что зимой придется проделать адову работу по переброске огромного груза с одного берега Камчатки на другой. Чириков и Чаплин прибыли в Охотск позже других, догоняли Беринга на маленькой ладье и воздействовать на решение начальства не могли. Президенту Адмиралтейств-коллегии Апраксину Беринг донес следующее: «Весьма желали итти кругом Камчатского носа, но для осеннего времени и за жестокими ветрами на таком карбусе итти не посмел, чтоб не случилось какого-либо несчастья и не учинилось в той экспедиции великого препятствия».
Во что обошлись участникам экспедиции и камчадалам эти соображения Витуса Беринга, можно заключить, прочитав следующие строки из книги Л. С. Берга: «Теперь согласно плану начальника экспедиции надлежало весь груз перевезти посуху на восточную сторону Камчатки, в Нижнекамчатск, на расстояние в 900 км. Предприятие это очень трудное, которого можно было бы избежать, если бы обогнуть Камчатку водою».
…Зимой часть грузов на камчадальских собаках была перевезена на восточный берег Камчатки. Это дело Беринг описывает так: «Каждый вечер в пути для ночи выгребали себе станы из снегу, а сверху покрывали, понеже живут великие метелицы, которые по тамошнему называются пурги, и ежели застанет метелица на чистом месте, а стану себе сделать не успеют, то заносит людей снегом, отчего и умирают». Для несчастных камчадалов экспедиция Беринга была сущим бедствием: со всех селений были собраны собаки, так что население осталось без перевозочных средств. Кроме того, камчадалы, занятые перевозкой грузов, упустили удобное зимнее время для звериного промысла. Большая часть доставленных собак погибла, так что и на будущее время собственники их были разорены. Сборщики же ясака требовали с камчадалов пушнину, и Л. С. Берг вполне обоснованно предполагает, что «одним из поводов к восстанию 1731 г. были также непомерные тягости, возложенные на камчадалов экспедицией Беринга».
Перевезти за зиму весь груз не удалось, и летом следующего года ныне всеми забытый архангельский мореход Кондратий Мошков вывел роковую «Фортуну» из Большерецка, обогнул морем Камчатку и благополучно прибыл в Нижнекамчатск, где в это время заканчивалось строительство бота «Св. Гавриил».
13 июля 1728 года бот «Св. Гавриил» вышел в море и взял курс на север. Он миновал полуостров Олюторский, бухту Гавриила, бухту Угольную, залив Креста, бухту Провидения и ровно через месяц, 13 августа, достиг северо-восточного угла Чукотского полуострова. Береговая линия, ранее круто поднимавшаяся на северо-восток, там резко изменила направление и пошла на северо-запад. И Беринг, и Чириков, и Шпанберг, и Чаплин, и матрос Кондратий Мошков, очевидно, не без интереса осматривали угрюмые скалистые берега…
Инструкция, написанная Петром Первым, обязывала Беринга искать, где Азия сошлась с Америкой. Поскольку Америка находилась на востоке, а береговая линия повернула на запад, было всем ясно, что в данном конкретном месте Америка с Азией не соединяется. Как следовало поступить мореплавателю, слышавшему ранее о морском пути из устья Колымы до Камчатки и о проливе, но посланному проверить все это и нанести пролив на карту?.. Такой мореплаватель обязан был принять одно из трех решений: 1) повернуть на восток и плыть через пролив до тех пор, пока корабль не достигнет Америки, или 2) плыть на запад до устья Колымы, или, на худой конец, 3) вести корабль на север до тех пор, пока какое-нибудь неодолимое препятствие не преградит путь. Будто бы просто и самоочевидно. Однако Беринга это совершенно не устраивало. Еще ничего не открыв и ничего не доказав, он созвал «консилиум» и стал советоваться, что делать дальше, словно уже было выполнено все, что от него требовалось. Вот тут-то и проявились в полной мере человеческие качества Беринга и его помощников Алексея Чирикова и Мартына Шпанберга. На этом консилиуме со всей очевидностью выявилось превосходство совсем еще молодого, двадцатипятилетнего Алексея Чирикова над своими начальниками.
Но кто такой этот Алексей Чириков?.. Давайте выясним это, прежде чем говорить о его первом крупном споре с Витусом Берингом. Вновь предоставим слово Александру Петровичу Соколову, историографу: «…Алексей Ильич Чириков был лучшим офицером своего времени, краса и надежда флота, умный, образованный, скромный и твердый человек, в котором «морская служба не смогла ожесточить чувствительное сердце», по свидетельству Миллера. Выпущенный из Морской академии в 1721 г. за отличие прямо в Унтер-Лейтенанты, через чин мичмана, занимавшийся сперва во флоте, потом в Академии обучением гардемаринов, он был представлен Петру Великому… Сиверсом и Сенявиным для посылки в первую экспедицию вместе с четырьмя другими офицерами (Шпанберг, Зверев, Косенков и Лаптев), которым, писали они, «оная экспедиция годна». Назначенный тогда вместе с Шпанбергом под команду Беринга и произведенный при этом (1725 г.), опять не в очередь, за отличие в лейтенанты, он уже успел оказать в этой экспедиции благоразумную твердость своими советами и по возвращении в 1730 г. вознагражден следующим чином — Капитан-Лейтенанта».
А теперь вернемся к консилиуму, происходившему 13 августа 1728 года под 65°30′ с.ш. в проливе, который ныне носит имя Беринга. Легко можно предположить, что Беринг вообще не прочь был бы немедленно плыть обратно. Но оба помощника его высказались иначе.
Мартын Шпанберг предложил еще в течение трех дней идти на север, а потом возвращаться, даже если ничто не помешает дальнейшему плаванию.
Совершенно по-другому отнесся к делу Чириков. Он рассуждал так: поскольку неизвестно, как далеко простираются на север берега Азии, и, следовательно, не исключено, что севернее Чукотского Носа они все-таки сходятся с американскими, нужно плыть до устья реки Колымы или до льдов. По мнению Чирикова, только таким способом можно было доказать, что Азия и Америка разделены морем. Если же берег начнет сильно уклоняться к северу, то надлежит начиная с августа заняться поисками места для зимовки, причем для этой цели Чириков рекомендовал достичь земли, расположенной против Чукотского Носа, то есть Америки, а на следующий год продолжить исследования.
«Беринг не последовал совету рассудительного и храброго моряка, — пишет академик Л. С. Берг, — а между тем к разрешению поставленной экспедиции задачи нужно было идти только таким путем, какой предлагал Чириков: надлежало плыть к устьям Колымы, на что по состоянию погоды и льдов, а также по времени — 15 (26) августа — была полная возможность. Только этим способом можно было удостовериться в том, что между Азией и Америкой нет соединения. Осторожный командор присоединил свой голос к мнению Шпанберга».
Но выдержки у Беринга не хватило и на три дня. Уже 15 августа посреди чистого моря при ясной спокойной погоде «Св. Гавриил» повернул обратно и пошел по своим «следам», не уклоняясь в сторону, что исключило самою возможность дальнейших географических открытий. Такое поведение Беринга впоследствии было осуждено нашим великим ученым М. В. Ломоносовым. Что касается объяснений самого Беринга, то они свидетельствуют о его формальном отношении к заданию, 6 полном отсутствии у Беринга личной заинтересованности в успехе предприятия.
Что же нового дало плавание Витуса Беринга, что прибавило оно к тому, что было уже известно о проливе, которому позднее мореплаватель Кук присвоил имя Беринга?.. Увы, очень немного. Что Азия не соединяется с Америкой, он не доказал, берегов Америки, не увидел, путь до Колымы не проведал. Он просто побывал в проливе, где до него уже бывали, увидел то, что до него видели, убедился, что к северу от Чукотского полуострова нет земли, что также было известно, и торопливо вернулся обратно.
Короче говоря, географическое значение плавания Витуса Беринга оказалось гораздо меньшим, чем могло бы быть при ином отношении к делу. Беринг действовал как робкий исполнитель чужой воли, лишенный любознательности и творческого огонька. Моральное, нравственное превосходство Чирикова над своим начальником никаких сомнений вызвать не может.
Эту характеристику великолепно подтверждает поведение Беринга в следующем 1729 году. В Нижнекамчатске местные жители сообщили Берингу, что в ясные дни к востоку от Камчатки видна земля. Беринг решил, что речь идет об Америке, но имелись в виду Командорские острова — те, на которых Беринг провел последний месяц своей жизни. 5 июня Беринг вывел «Св. Гавриила» в море, намереваясь достичь эту видимую простым глазом землю, но уже 8 июня, из-за того что начался сильный ветер и на море спустился туман, повернул обратно. Прославленный мореплаватель не стал дожидаться даже прояснения погоды — под всеми парусами направился он в Охотск, а 29 августа уже прибыл в Якутск. Надо ли доказывать, что в данном случай Витус Беринг не выдерживает никакого сравнения с землепроходцами, с теми, что шли проведывать новые земли на свой страх и риск, кого не могли остановить не то что ветер с туманом, но и преграды неизмеримо более грозные…
Путь к Командорам
1 марта 1730 года Беринг прибыл в Петербург. Встретили его там очень холодно. И Адмиралтейств-коллегия, и Сенат констатировали, что поставленной Петром Первым задачи он не решил, и выразили ему свое неудовольствие. Никаких наград за экспедицию Беринг не получил, хотя и был по очереди произведен в капитан-командоры.
В декабре 1730 года по указанию Сената Беринг написал предложения об улучшении управления Охотским краем. Во втором из этих предложений он высказал мысль, что к востоку от Камчатки могут быть открыты новые земли — Америка или близлежащие острова, то есть те, от поиска которых он отказался на третий день пути из-за ветра и тумана.
В Сенате вначале заинтересовались только первым предложением, но затем обратили внимание и на второе. Поскольку Беринг уже бывал в Охотске, решено было поручить ему управление краем и попутные поиски новых земель. Впоследствии Сенат и Адмиралтейств-коллегия убедились, что управлять краем и совершать плавание одновременно — задача Невыполнимая, и управителем края был назначен Скорняков-Писарев.
Обычно инициативу в организации Великой северной экспедиции целиком приписывают Берингу. Это неточно. Во-первых, он писал свои предложения по прямому указанию Сената. Во-вторых, идея исследования северного и восточного побережий России с целью описания и проведывания пути в Индию и Китай высказывалась спальником Салтыковым в его предложениях Петру Первому; Беринг в этом не оригинален. Но все-таки, составляя свои предложения, он воскресил эту идею, а потом в меру своих сил осуществил ее. Этого достаточно, чтобы имя Беринга навсегда осталось вписанным в летопись отечественной и мировой науки. Но рядом с ним, а частью и впереди него должны быть вписаны другие имена — забытые или полузабытые. Перед отправкой в новую экспедицию Витус Беринг просил, чтобы ему присвоили чин шаутбенахта, то есть контр-адмирала, но ему отказали. Чириков за это время был повышен в чине дважды, причем «не по старшинству; а по знанию и достоинству».
Теперь на некоторое время оставим Беринга.
Через год после того, как участники Первой Камчатской, экспедиции покинули столицу, в 1726 году, в Петербург прибыл некто Афанасий Шестаков, казачий голова из Якутска, и представил правительству карту, на которой против северо-восточной оконечности материка Азия была нанесена суша под названием Большая Земля, то есть Америка. В те дни, когда Беринг только подъезжал к Охотску, Афанасий Шестаков, совершенно уверенный в существовании Большой Земли и в том, что она недалеко от Азии, взялся покорить и северо-восток Азии, и Америку. В Петербурге Шестакову поверили, и под его начальством была снаряжена огромная экспедиция, насчитывавшая более четырехсот человек. Осенью 1729 года Шестаков, прибыл в Охотск и застал там оставшегося не у дел после отъезда Беринга архангельского морехода Кондратия Мошкова. Поскольку Кондратий Мошков плавал с Берингом и видел северо-восточную оконечность Азии своими глазами, Шестаков взял его в экспедицию. Весной следующего года, уже находясь где-то в районе Пенжинской губы, Шестаков приказал отправить корабль к берегам Большой Земли. А через три дня энергичный казак погиб в сражении с чукчами. После Шестакова командование принял капитан Дмитрий Павлуцкий. Осенью он послал в плавание два судна. Одно из них разбилось у берегов Камчатки. Судьба второго сложилась иначе. Вел его подштурман Иван Федоров, вместе с ним в качестве помощника плыл геодезист Михаил Гвоздев, а матросом — наш старый знакомец неутомимый мореход Кондратий Мошков, человек, биографией которого следовало бы поинтересоваться нашим историкам. Летом 1732 года, когда Беринг готовился отправиться из Петербурга во вторую экспедицию, Иван Федоров достиг восточных берегов Чукотки, а через некоторое время открыл Северо-западную часть Америки — полуостров Аляску. Таким образом, первыми мореплавателями, достигшими северо-западных берегов Америки и собственными глазами увидевшими как западные, так и восточные берега пролива, названного в честь Витуса Беринга, были Федоров, Гвоздев, Мошков и их товарищи. Одно время острова, расположенные в Беринговом проливе, называли островами Гвоздева (Федоров умер, а Гвоздев сообщил о плавании). Но теперь даже, этот легкий след стерт с географических карт равнодушными руками: если вы посмотрите на карту Берингова пролива, то убедитесь, что острова Гвоздева ныне называются островами Диомида. Люди, сделавшие то, на что не осмелился Беринг, забыты…
Указ об организации Второй Камчатской экспедиции был издан 17 апреля 1732 года, но из Петербурга участники экспедиции выехали лишь в феврале 1733 года. Вся экспедиция с возвращением в Петербург была рассчитана на шесть лет (первая продолжалась пять лет). В октябре 1734 года Беринг приехал в Якутск. Чириков в это время руководил передвижением огромного обоза, Шпанберг отправился в Охотск строить суда.
В Якутске капитан-командор обосновался прочно. Нельзя преуменьшать стоявшие перед ним трудности, например, по снаряжению северных отрядов. Но видимо, Берингу и не очень хотелось ехать дальше. Адмиралтейств-коллегии пришлось приложить колоссальные усилия, чтобы убедить Витуса Беринга выехать из Якутска. Историограф Соколов свидетельствует, что Адмиралтейств-коллегия, всячески выгораживая Беринга перед Сенатом, ибо он вел себя так, что экспедицию вот-вот могли прикрыть, «посылала ему подтверждение за подтверждением поспешать походом, выговор за выговором за медленность и нераспорядительность, стращала ответственностью, угрожала взысканием, приводила в пример разжалованных за нерадение лейтенантов Муравьева и Павлова, даже лишила его (в 1737 году) прибавочного жалования «за неприсылку в Коллегию надлежащих ответов и за нескорое отправление в надлежащий путь». Сенат приказал «крепчайше исследовать» о неисполнении порученного Берингу и Шпанбергу».
Лишь эти крайние меры побудили наконец капитан-командора летом 1737 года перебраться в Охотск, где уже хлопотали Чириков и Шпанберг.
А в 1738 году, по истечении шестилетнего срока, Кабинет императрицы поставил вопрос о прекращении экспедиции. Нельзя не согласиться с логичностью этого шага: а) срок, назначенный для выполнения, истек, б) расходы составили 300 000 рублей — сумму колоссальную по тому времени, в) а экспедиция даже не приступила к выполнению основного задания. К счастью, экспедицию все-таки решено было продолжать, потому что Адмиралтейств-коллегию возглавляли воспитанники Петра, подлинные ревнители морского дела.
Несмотря на долгое пребывание в Якутске, Беринг покинул его, так и не завершив организацию экспедиции, и это отрицательно сказалось на положении в Охотске: люди голодали, суда строились на редкость медленно. Работы осложнились сквернейшими отношениями между сибирскими властями и участниками экспедиции, во-первых, и между самими участниками экспедиции, во-вторых. Все это проистекало главным образом потому, что Беринг не пользовался авторитетом. Вообще же большего количества кляуз, доносов, сплетен, жалоб, грязи, чем во Второй Камчатской экспедиции, трудно себе представить. Соколов с горечью констатирует, что «сцены происходили постыдные». Но тот же Соколов пишет: «Весьма замечательно, что в кляузных делах этой экспедиции, которой все члены перессорились между собой и чернили друг друга в доносах, имя Чирикова остается почти неприкосновенным; мы не нашли на него ни одной жалобы…»
Но Алексей Чириков, определенно один из самых честных и принципиальных участников экспедиции, был поставлен в такие условия, что почти не мог проявить инициативу. В 1738 году Чириков подал прошение об увольнении из экспедиции. «Понеже я, премилостивый государь, — писал он графу Головину, — обращаюсь в ней (в экспедиции. — И.3.) истинно без пользы, понеже предложения мои к господину капитану-командору о экспедичном исправлении от него за благо не приемлются, токмо он, господин командир, за оные на меня злобствует».
Три года просидел Беринг в Охотске. В мае 1740 года Адмиралтейств-коллегия направила ему полное глубокой иронии и вместе с тем раздражения послание: «Из полученных Коллегиею рапортов усмотрено только одно, что леса заготовляются, суда строются и паруса шьются. А к которому времени будут готовы и в надлежащий путь отправится, о том не показано. Из чего Коллегия иначе рассуждать не может, что оное чинится через не малое время от неприлежного старания к скорому по инструкции исполнению; и потому что лесам давно надлежало быть приготовленным, и судам построенным, и парусам сшитым, а не так, как в оном (то есть Беринга. — И.3.) рапорте объявлено: для шитья тех парусов и дела такелажа строются избы…» Беринг порой прибегал к хитростям, шитым белыми нитками: по малейшему поводу он вступал в переписку с Петербургом, а от запроса до ответа проходило погоду.
В Петербурге эту хитрость, разумеется, раскусили. В том же послании Берингу предлагается «в путь свой отправляться без всякого замедления, не утруждая, яко излишними, без всякого действия, переписками и не ожидая впредь подтвердительных указов, понеже о том многими чрез всю его тамо бытность указами наикрепчайше подтверждено…».
В это же время Алексей Чириков предложил Берингу, чтобы тот отпустил его одного на небольшой бригантине «Михаил» в плавание к берегам Америки. Чириков обещал вернуться к осени в Охотск, но Беринг остался верен себе: он сослался на инструкцию, в которой подобное плавание не было предусмотрено, и отказал Чирикову. Так сорвалось смелое плавание, наверняка вписавшее бы славную страницу в историю географических открытий.
В сентябре 1740 года из Охотска наконец вышли в море два пакетбота — «Св. Петр» (им командовал Беринг) и «Св. Павел» (им командовал Чириков). Однако путь они держали не к берегам Америки, а на Камчатку — экспедиция перебиралась на новую базу, в Авачинскую губу, одну из лучших гаваней мира. Там еще летом штурман Иван Елагин, описывавший берега Камчатки, построил пять жилых домов, казармы и амбары, основав, таким образом, новое поселение, в наше время превратившееся в крупнейший город и порт Камчатки — Петропавловск. 27 сентября в Авачинскую губу Прибыл на «Св. Павле» Чириков, а 6 октября добрался Беринг, хотя его судно было лучше по мореходным качествам.
Л. С. Берг почему-то полагает, что именно день приезда Беринга следует считать днем основания города Петропавловска, названного в честь кораблей экспедиции. Однако почему Л. С. Берг так считает, понять трудно: ведь Беринг прибыл в губу, описанную, а вероятно, и открытую штурманом Елагиным, и в основанное Елагиным поселение. Очевидно, что Петропавловск заложили в те дни, когда строили там дома, а не тогда, когда с опозданием после Чирикова прибыл туда Беринг.
Весной 1741 года Беринг собрал консилиум для того, чтобы решить, куда направить корабли — прямо на восток, к берегам Америки, или же на юго-восток, к фантастической Земле Гама, которую астроном Хозеф Делиль нанес на карту, выданную Берингу в Петербурге. На этой карте вообще не было земли к востоку от Камчатки. Вопреки своему собственному убеждению Беринг подчинился мнению астронома Дела Кройера, брата составителя карты. Решено было искать Землю Гамы.
Это было первым шагом капитан-командора на пути к гибели.
4 июня 1741 года «Св. Петр» и «Св. Павел» вышли в море. Впереди, как и полагается начальнику экспедиции, плыл Витус Беринг, за ним — Алексеи Чириков, Уже на следующий день «Св. Петр» уклонился от намеченного курса к югу, заворачивая в бескрайние просторы Тихою океана. Чириков вынужден был догнать капитан-командора и указать ему на ошибку. Беринг обиделся и не пожелал объясняться. Но 6 июня не очень-то уверенный в себе капитан-командор приказал — «Св. Павлу» под командованием Чирикова выйти вперед. Таким образом, «Св. Павел» фактически превратился во флагманское судно, а Чириков — в главное действующее лицо.
Через шесть дней Беринг предложил прекратить поиски Земли Гама и взять курс на Америку. Чириков согласился с ним. 20 июня суда потеряли друг друга из виду. Чириков направил свой пакетбот к берегам неведомого материка, твердо и уверенно прокладывая курс.
Совершенно иначе повел себя Беринг. Оставшись один, он испугался, что действия его все-таки не соответствуют букве инструкции, и снова повернул на юг; потом он опять повел пакетбот на восток, но часто и необоснованно менял курсы; в конце концов он изменил юго-восточный курс на северо-западный.
Так было сделано еще несколько шагов на пути к гибели.
Историограф Соколов пишет: «Таким образом, направляя курсами нерешительно, кружа путем и еще замедляя плавание несвоевременными предосторожностями, после полуторамесячного, впрочем благополучного, плавания, около полудня 16 июля… наконец увидели на севере высокую сопку и высокие хребты гор, покрытые снегом. Это была гора, названная потом именем Св. Ильи, одна из высочайших на Американском континенте».
20 числа пакетбот Беринга подошел к острову, который ныне называется Каяк. Счисление велось не очень точно: определенная Берингом долгота оказалась почти на 8 градусов западнее истинной, и среди историков и картографов более столетия продолжался спор, куда именно пристал Беринг.
Далее началось непостижимое.
«Всякий легко себе вообразит, — рассказывает натуралист Стеллер, — как велика была радость всех нас, когда мы наконец увидели берег! Со всех сторон обратились с поздравлениями к Капитану, до которого более всех относилась честь открытия. Однако ж Капитан не только что весьма равнодушно выслушивал эти поздравления, но, рассматривая берег, даже стал пожимать плечами… Находясь потом в каюте со мною и Плениснером, он так выразился: «Мы теперь воображаем, что все открыли, и строим воздушные замки, а никто не думает о том, где мы нашли этот берег? Почему знать, не будем ли мы задержаны пассатными, ветрами? А берег нам незнакомый, чужой, провианта на прозимовку не хватит!»
Беринг даже не сделал попытки высадиться на материк, подойти к нему, хотя высокие горы определенно указывали, что перед ним большая земля. Он послал людей на остров за водой и запретил ехать вместе с ними натуралисту Стеллеру; тот вырвался лишь после страшнейшего скандала. Стеллер провел на острове около десяти часов и за это время вопреки желанию Беринга собрал уникальный научный материал, переоценить который просто невозможно. Но едва Стеллер вернулся к месту высадки, как Беринг тотчас потребовал, чтобы натуралист немедленно вернулся на судно, угрожав в случае неподчинения оставить его на острове.
Л. С. Берг пишет: «С горьким чувством отмечает Стеллер, что на подготовку экспедиции ушло 10 лет, а на самые исследования ему было предоставлено всего десять часов: «якобы только для взятия и отвозу из Америки в Азию американской воды приходили». Упреки Стеллера здесь совершенно справедливы».
Но даже воды Беринг не пожелал взять в нужном количестве. 21 числа, имея обыкновение вставать поздно, он рано утром выбрался на палубу и приказал поднимать якоря, хотя матросы не успели наполнить водой все бочки. Офицеры уговаривали Беринга подождать, но капитан-командор проявил железную непреклонность и сделал еще один шаг на пути к гибели, потому что затем вновь пришлось подходить за водой к берегу. Пакетбот «Св. Петр» отправился в обратное плавание, невероятно тяжелое, закончившееся трагически.
Но может быть, капитан-командор Витус Беринг действовал строго в соответствии с инструкцией? Может быть, ему запрещалось исследовать открытые земли, завязывать отношения с туземцами? Ведь нам памятно, с какой пунктуальностью выполнял Витус Беринг инструкцию!
Что ж, обратимся к инструкции. Вот она: «Когда самые американские берега найдутся там, то на оных побывать и разведать подлинно, какие там народы и как то место называется и подлинно ли те берега американские, и, учиня то и разведав, с верным обстоятельством поставить все на карту, и потом итти для того же разведывания подле тех берегов, сколько время и возможность допустит…»
Как видите, в некоторых случаях Витус Беринг не очень-то считался с инструкцией! Он даже запамятовал, что в своем предложении обещал «установить торги с тамошними обретающими землями», то есть с Америкой.
Чем закончилось плавание Витуса Беринга, мы уже знаем. Петляя, поворачивая то на юг, то на север, пакетбот «Св. Петр» влачился по волнам до тех пор, пока не набрел на остров, в земле которого и доныне покоится прах капитан-командора.
Совершенно иначе сложилась судьба «Св. Павла», руководимого Алексеем Чириковым. С борта «Св. Павла» землю увидели на сутки с половиной раньше, чем с борта «Св. Петра», а подошел к ней Чириков на пять суток раньше Беринга. Посланная на берег шлюпка вернулась, не найдя подходящего места для стоянки. Чириков повел пакетбот вдоль берега. 17 числа, заметив залив (на самом деле пролив), Чириков вновь послал к берегу шлюпку с десятью вооруженными людьми во главе со штурманом Абрамом Михайловичем Дементьевым. Чириков выдал Дементьеву письменную инструкцию, в которой штурману предлагалось найти якорную стоянку для пакетбота, вступить в переговоры с местным населением, узнать у них, как называется страна, под чьей властью находится, сколько в ней жителей, и, чтобы установить хорошие отношения с туземцами, одарить их подарками. Кроме того, Дементьеву поручалось внимательно осмотреть побережье, узнать, какие растут деревья и травы, нет ли драгоценных камней и руд, особенно серебряных (Чириков даже дал Дементьеву образец серебряной руды).
Как видим, задание не такое уж маленькое, особенно если учесть, что на следующий день Чириков намеревался подвести пакетбот к берегу, чтобы самому приступить к исследованиям и пополнить запасы воды. Сравнение опять не в пользу Беринга…
Лангбот с Дементьевым и матросами отвалил от борта и, ныряя среди волн, пошел к берегу. С борта «Св. Павла» десятки глаз следили за счастливцами, которым было суждено первым ступить на неведомую землю. Чем дальше отходил лангбот, тем меньше он казался, и все-таки моряки видели, как лодка приблизилась к берегу… Минули сутки. По уговору Дементьев должен был вернуться, но напрасно Чириков осматривал в подзорную трубу побережье: все было пусто, тихо, никто не плыл обратно к пакетботу и никто не подавал условного знака с берега. Впрочем, виной тому могла быть густая пасмурь, заволакивающая горизонт, скрывающая побережье. Прошел второй день, третий… Несмотря на ветер, Чириков держал пакетбот под малыми парусами у самого берега.
Минула неделя. 23 июля на берегу, примерно там, где высадился Дементьев, заметили огонь. Чириков послал к берегу последнее гребное судно — маленькую лодку, в которую сели боцман Сидор Савельев, матрос, плотник и конопатчик. На этот раз с пакетбота видели, что лодка благополучно пристала к берегу… Но условного сигнала не подал и Савельев. На следующий день у берега появились две лодки. Сначала моряки подумали, что это возвращаются их товарищи, но вскоре убедились, что, в лодках сидят индейцы-тлинкиты. Тлинкиты что-то кричали морякам, но подъехать к пакетботу не захотели. После этого Чириков не без основания заключил, что все посланные на берег люди либо пленены, либо убиты.
Как ни тяжела была потеря пятнадцати человек, но самым трагичным было то, что пакетбот «Св. Павел» лишился всех своих гребных судов. Теперь мореплаватели при всем желании не могли высадиться на берег, хотя им очень нужно было пополнить запасы воды.
Некоторое время пакетбот еще плыл вдоль берега материка там, где вплотную к морю подходит южная оконечность величественного хребта Св. Ильи, — высокие горы, покрытые ледниками, уходили в поднебесье.
26 июля решено было возвращаться на Камчатку. Если бы не гибель шлюпок, Чириков еще немало времени провел бы у берегов Америки. Он так и писал: «И если б не учинилось объявленного несчастия, то б еще довольное время путь продолжать могли». Когда Чириков записывал это в судовом журнале, капитан-командор Витус Беринг шестые сутки плыл к дому.
Одни и те же бури трепали пакетботы Беринга и Чирикова, одни и те же встречные ветры заставляли их уменьшать парусность и лавировать, одну и ту же Алеутскую гряду обследовали они по пути, одни и те же болезни валили с ног экипажи пакетботов. И все-таки Чириков и его помощник штурман Иван Елагин точно прокладывали курс и вывели свой пакетбот к Авачинской губе за месяц до того, как сбившийся с пути Беринг наткнулся на Командорские острова.
Впрочем, вновь пора предоставить слово авторитетам, чтобы избежать обвинения в необъективности. Вот заключение Соколова, причем выделенные слова подчеркнуты им: «Итак, открыв Американский берег полуторами сутками ранее Беринга, в долготе одиннадцатью градусами далее; осмотрев его на протяжении трех градусов (почти трехсот пятидесяти километров. — И.3.) к северу и оставя пятью днями позже, Чириков возвратился на Камчатку — восемь градусов западнее Берингова пристанища — целым месяцем ранее; сделал те же на пути открытия Алеутских островов; во все это время не убирая парусов и ни разу не наливаясь водою; тоже претерпевая бури, лишения и смертность, более, впрочем, павшую у него на офицеров, чем на нижних чинов. Превосходство во всех отношениях разительное! По времени истинное торжество морского искусства!»
Так оно и было на самом деле — превосходство разительное во всех отношениях. И прежде всего превосходство нравственное, человеческое. Моральное переосмысление событий из истории исследования северной части Тихого океана не оставляет повода сомневаться в том, что слава Беринга настолько же искусственно раздута, насколько искусственно приглушена слава подлинного победителя Алексея Чирикова, по словам М. В. Ломоносова, «главного в этой экспедиции». А Чириков заслужил право на такую же посмертную славу, как и Беринг.
Но тень Беринга затмила не только Чирикова. Она невольно затмила память еще об одном человеке, первооткрывателе пролива Беринга и Берингова моря, — я имею в виду Федота Алексеева Попова. Опять-таки виноват в этом не капитан-командор, которого менее всего интересовала посмертная слава; и конечно же, виноват в этом не Семен Дежнев, искусственно поставленный современными исследователями на место всеми забытого организатора экспедиции. Виноваты в этом мы, ныне здравствующие, виноваты те из нас, кто за фактами не желает видеть людей; те, которым важно на каждое событие иметь монументальную символическую «фигуру» и которым безразличны человеческие судьбы, безразличны подлинные, живые люди с творческим огоньком в душе, те, кто на свой страх и риск делал первый, самый трудный и опасный шаг.
Костяные стрелы
Начнем с утверждений, которые многим кажутся очень странными.
Знаете ли вы, что вовсе не Магеллан был первым кругосветным путешественником, что слава его ныне незаслуженно раздута и писать о нем статьи и книги — занятие не из достойных?.. Современники этого мореплавателя поступили гораздо правильнее, чем потомки, восславив спутника Магеллана баска Себастьяна Эль-Кано. Этот Себастьян Эль-Кано, человек, разумеется, не лишенный мужества, сделал все от него зависящее, чтобы сорвать кругосветную экспедицию. Он находился в числе мятежников, взбунтовавшихся во время зимовки в бухте Сан-Хулиан на пустынном побережье Южной Америки, и навел на адмиральский корабль пушки. Магеллан, этот вознесенный потомками мореплаватель, не пожелал, однако, выполнить требования мятежников. С непостижимой решительностью и находчивостью он разгромил мятежников, расправился с вожаками, а баска Эль-Кано милостиво простил. Впоследствии Эль-Кано посчастливилось стать шестым по счету капитаном судна «Виктория» и живым добраться до Испании. Король Дон-Карлос не только пожаловал Эль-Кано пенсию, но и утвердил ему фамильный герб, на котором изображен земной шар, омытый океаном с плывущими корабликами, а наверху сделана надпись по-латыни: «Ты первым объехал вокруг меня».
Но лично я на сей счет придерживаюсь особого мнения. По моему глубокому убеждению, первым кругосветным мореплавателем был не Эль-Кано и уж, конечно, не Магеллан, а итальянец Антонио Пигафетта, вышедший из Испании вместе с Магелланом, а вернувшийся в Испанию вместе с Эль-Кано.
— Почему? — спросите вы.
— Потому, — отвечу я, — что он оставил описание первого кругосветного путешествия.
Предвидя возражения, спешу сам высказать их. «Как, что за смехотворные рассуждения?.. Не Магеллан ли несколько лет вынашивал идею кругосветного плавания к островам пряностей, не он ли приложил колоссальные усилия для того, чтобы организовать экспедицию, покинул родную Португалию, не он ли разгромил мятежников, не он ли провел эскадру через пролив, который теперь называется его именем, и через Тихий океан к Филиппинским островам?..»
Все это так. Но Магеллан погиб. Это во-первых. Магеллан не оставил описания своего путешествия. Это во-вторых.
Следовательно, мои доводы пока остаются неопровергнутыми…
В бытность свою на Чукотке я обычно проводил свободное от работы время на так называемом опорном пункте Полярного института земледелия, а если говорить проще — на крохотном теплично-огородном хозяйстве. Заправлял этим хозяйством Василий Михайлович Соловьев, ленинградец, агроном, более пятнадцати лет проживший вместе с женой — своим единственным помощником — на севере. В бухту Угольную он перебрался сравнительно недавно, а ранее работал на Анадыре, в Марково. Вся Чукотка расположена в зоне тундры, но в бассейне, реки Анадырь местами сохранились «островные», окруженные со всех сторон тундрой леса из тополя, ивы-кореянки, лиственницы, осины, березы. Там, в районе Марково, где климат теплее, чем на побережье, Василий Михайлович выращивал, на опытных, полях не только картофель и корнеплоды, по и некоторые зерновые культуры.
Иное дело в бухте Угольной. Здесь Василию Михайловичу пришлось повести более жестокую и менее удачную борьбу с природой. Правда, на его крохотных «полях» зеленели всходы овса и ячменя, но культуры эти не вызревали, даже не колосились. В открытом грунте удавался только табак-самосад да некоторые корнеплоды — репа, турнепс. Зато в теплице буйствовала почти тропическая зелень — огуречные лозы вились по стенам и стеклянному потолку, с подвязанных кустов томатов свешивались большие зеленоватые гроздья плодов…
Вот в этой самой теплице я и обнаружил сложенную в уголке кучку старых костяных наконечников для стрел. Я извлек их на свет и стал с любопытством рассматривать. Оказалось, что Василий Михайлович нашел их у себя на опытном поле, когда вскапывал его весною. Участок Соловьева находился почти на самом берегу моря, в устье реки Угольной. Место это — удобное, заметное, и нет ничего удивительного в том, что раньше здесь располагалась чукотское становище. Я обратил внимание на странную форму наконечников: одни из них были трехгранными, заостренными, а другие имели форму лодочки с загнутым носом. Мне показалось, что вторые очень неудобны и едва ли могли пригодиться на охоте.
— Напрасно так думаешь, — возразил мне Василий Михайлович, когда я поделился с ним своими соображениями. — Просто у этих стрел разное назначение. Этими, трехгранными, охотились, скажем, на оленей, а теми, что лодочкой, — на морскую птицу.
— Как — на морскую? — не понял я.
— Так, обыкновенно. Представь себе, что ты выстрелил в сидящую на воде птицу стрелой с острым наконечником и стрела упала на воду рядом с птицей. Что произойдет в этом случае?
— Птица улетит, а стрела потонет, — ответил я.
— Вот именно потонет. А стрела, у которой наконечник в виде лодочки с плоским дном, не потонет, а подпрыгнет и все равно стукнет птицу. Как плоский камень. Знаешь, «блины» делают на воде? Вот и вся нехитрая.
Действительно, все оказалось очень нехитро, но очень мудро. Я живо представил себе сцену охоты на птиц.
— А сейчас… чукчи так уже не охотятся? — наивно спросил я.
— Конечно, нет, — улыбнулся Василий Михайлович. — Им давно уже винчестеры и винтовки больше пришлись по душе. Ну, а раньше стрелами охотились. И воевали. Они ведь отважные воины. Дежнев тут когда появился? Лет триста назад? Вот в его людей они и стреляли костяными стрелами — кое-кого убили, кое-кого ранили. Ты ж, наверное, читал об этом?
Я подтвердил, что действительно кое-что читал.
— У нас в районе Марково, — продолжал Василий Михайлович, — есть такое место, Крепость называется. Говорят, раньше там острог стоял. Сейчас Анадырь подмывает эту Крепость, и однажды вымыло казака, — благодаря вечной мерзлоте он сохранился так, как будто вчера помер. Здоровенный малый в меховой куртке, красной рубахе, в шароварах и торбазах. На пальце у него сохранилось, кольцо, а на голове — черный венчик, на котором написана дата смерти — 1794 год. Этот тут уже ничего не открывал. Служил верой и правдой. Если ты историей интересуешься, я тебе могу дать книжки, у меня есть.
Я действительно заинтересовался историей и прочитал несколько книг о доберинговском этапе исследования. Они были посвящены преимущественно Дежневу. Но в моих глазах фигуру Дежнева вскоре заслонил другой путешественник — Федот Алексеев Попов, который в литературе больше известен как Федот Алексеев.
Вот о нем, о событиях, происшедших в 40-х годах XVII века, мы теперь и поговорим, поговорим о людях, которые задолго до Витуса Беринга сделали почти то же, что было поручено ему.
Если вы возьмете книгу Л. С. Берга, уже упоминавшуюся в этом очерке, — «Открытие Камчатки и экспедиции Беринга» — и откроете ее на 27-й странице, то найдете там раздел, который называется «Плавание Дежнева 1648 года через Берингов пролив». Занимает этот раздел около двенадцати страниц и начинается так: «В 1648 году якутский казак, устюжанин Семен Иванович Дежнев, — выйдя из устья Колымы на шести кочах, обогнул мыс Восточный, или Дежнева, и высадился к югу от устья Анадыря». Далее разбирается, как он совершил плавание и что из этого получилось.
В этом разделе есть подраздел «Отчет Дежнева», а в подразделе цитата, в которой случайно оказалось имя торгового человека Федота Алексеева. Что это за личность — никому неизвестно, и пришлось Л. С. Бергу сделать следующее примечание: «Федот Алексеев Попов был холмогорец, приказчик одного торгового человека. Фактически он был главою экспедиции; однако после него не осталось никаких письменных документов» (курсив мой. — И.3.).
Ну раз после него не осталось никаких письменных документов — так какой же он руководитель! А что он организовал экспедицию и совершил плавание — так Магеллан тоже организовал и тоже совершил, а первый кругосветный путешественник все-таки Пигафетта! Кроме того, Федот Алексеев, как и Магеллан, погиб во время плавания, а Дежнев, как и Пигафетта, остался жив. Уже этого одного достаточно, чтобы вею славу приписать Дежневу и Пигафетте!
Отделавшись от Федота Алексеева крохотным примечанием в подборе, академик Л. С. Берг продолжил повествование о походе Дежнева.
Однако все же упомянут Федот Алексеев Попов… И вообще ему в этом отношении везет. Вот, например, в «Энциклопедическом словаре», вышедшем в свет в 1955 году, в статье «РСФСР» из Федота Алексеева Попова сделали двух землепроходцев — Федота Алексеева и Попова. Там так и написано: «Федот Алексеев, Попов и Семен Дежнев открыли пролив между Азией и Америкой…» Вот как велика популярность этого человека!
Но давайте проследим ход событий, приведших к историческому плаванию вдоль северо-восточных берегов Азии. В 30-х годах XVII века крупный московский купец Василий Усов встретился с помором, уроженцем Холмогор — знаменитого села на Северной Двине, вблизи которого позднее родился Ломоносов, — неким Федотом Алексеевым Поповым, позднее получившим прозвище Холмогорец. Где произошла эта встреча — в Москве или у берегов Белого моря, — можно лишь догадываться. Но мне лично кажется, что торговые дела привели Усова на Северную Двину и там нашел он помощника, человека умного, с трезвой практической смекалкой, настойчивого, решительного. Как все поморы, этот человек детства плавал по Белому морю, знал в своих края каждую скалистую луду, обнажающую в отлив голую коричневую спину, каждый крохотный баклыш — островок, все удобные салмы и залудья. Вполне возможно, что плавал он и по Баренцеву морю, ходил вместе со старшими на суровый Грумант; он много повидал в жизни, и на его богатый опыт вполне можно было положиться. Звали этого человека Федотом Алексеевым Поповым. И московский купец Василий Усов сделал его своим приказчиком.
Так или иначе это происходило, поручиться нельзя. Но вот что бесспорно: в 1638 году московский купец царский гость Василий Усов отправил большую партию своих товаров в далекую, неведомую, тогда Сибирь; доверил он свои товары Федоту Алексееву Попову и устюжанину Луке Васильеву Сиверову. Как нужно вести прибыльную торговлю в Сибири, Усов, разумеется, отлично представлял себе. Он знал, что несколько тысяч километров придется пройти его приказчикам по горам, лесам, сплавляться по рекам, а может быть, и выходить в ледовые моря; он знал, что путь этот опасен, что разбойные ватажки бродят по лесам, и понимал, что только опытным и решительным людям можно доверить товары; наконец, царскому гостю не надо было рассказывать, как выгодно, чтобы приказчики его первыми пришли в неведомую землю, какой это принесет барыш; а если так, то во главе должен стоять человек, который сумеет организовать людей и, если потребуется, повести их за собою через моря и горы на новые реки, на сторонние земли.
Всем этим требованиям удовлетворял Федот Алексеев — холмогорец, помор.
Вот почему Усов послал его в Сибирь и вот почему он сделал его старшим в караване. А что Федот Алексеев был старшим, говорит хотя бы тот факт, что при разделе с Сиверовым к Федоту Алексееву перешло почти две трети имущества.
И Усов не ошибся в выборе вожака. Лука Сиверов в конце концов дезертировал — ушел в монастырь, «в немощи постригся», как печально сообщил через много лет купец Усов. Что касается Федота Алексеева Попова… Впрочем, нет смысла забегать вперед.
В июне 1641 года Федот Алексеев прибыл в Енисейск и выправил там проезжую грамоту — таможенный пропуск — на Лену. Любопытно, что по дороге в западносибирских городах Федот Алексеев не торговал, боясь продешевить.
На следующий год караван Федота Алексеева прибыл в Якутск. Приказчики быстро сориентировались в городе и сообразили, что на большой барыш и здесь рассчитывать не приходится: Якутск был заполнен такими же, как они, посланцами российских купцов.
Федот Алексеев принял решение уходить из Якутска. В этом Сиверов согласился с ним. Но Федот Алексеев рвался на дальние земли, а Сиверов стремился обосноваться поближе. Тут-то они и поделили имущество…
В 1642 году якутские купцы и промышленники во главе с крупным предпринимателем Андреем Дубовым, назначенным целовальником, организовали морскую экспедицию на реку Оленек, в которой приняло участие около ста человек — очень много по тому времени.
К этой экспедиции был прикомандирован в качестве сборщика государева ясака один из самых выдающихся полярных мореходов XVII столетия — казак Иван Ребров. Промышленники сами попросили отпустить его с ними, обязавшись доставить Реброва на Оленек на собственных судах. Под этим прошением подписался и Федот Алексеев. Ребров в свою очередь подал челобитную государю с обещанием собирать для казны пушнину, добытую на Оленьке.
Поход этот обычно именуют походом Реброва. Очевидно, что это не совсем точно. Но вот что важно учесть. Снаряжая на свои средства крупные промыслово-торговые экспедиции, промышленники обычно приглашали с собою представителя местной власти, служилого человека. Делалось это, во-первых, для того, чтобы придать походу «законный» (в глазах администрации) характер, а во-вторых, чтобы обезопасить себя на будущее от произвола местных властей, потому что промысел и торговля в Сибири лимитировались пошлинами, различными правилами (например, существовал большой список запрещенных к продаже товаров), а «свой» представитель власти мог быть посредником между торговцами и администрацией и избавлял купцов от всяких подозрений.
Но случай с Ребровым особый. Промышленники пригласили с собой не просто представителя власти, сборщика пушнины в государеву казну, а опытного морехода, первооткрывателя реки Оленек. Еще в самом начале 30-х годов XVII века пятидесятник Илья Перфильев возглавил в Жиганске крупный отряд казаков, гулящих и промышленных людей, пожелавших идти в низовья Лены. Среди этих людей был и Иван Ребров, тобольский казак. Очевидно, он сумел быстро выдвинуться, потому что в 1633 году, когда отряд Перфильева в устье Лены разделился на две партии, одну из них возглавил Ребров. От устья Лены он поплыл на запад-и открыл Оленек… А позднее именно Иван Ребров проложил морской путь на Яну и Индигирку.
Не приходится сомневаться в том, что, приглашая Ивана Реброва, промышленники хотели заполучить не просто представителя власти, а известного морехода, бывальца, знавшего те места, куда они собирались вести кочи.
6 июля 1642 года якутский таможенный голова Дружина Трубников выдал Федоту Алексееву Холмогорцу грамоту, в которой говорилось, что идет Федот Алексеев на «стороннюю» реку Оленек на рыбную ловлю и на соболиный промысел и везет с собою «хлебного запасу и промышленного заводу и русково товару»: семьсот пудов муки ржаной, четыре пуда меди зеленой в котлах, два пуда олова, двадцать фунтов одекуя мелкого и большого, десять фунтов бисеру, сто аршин белого сукна, пятьдесят колькольцев-кутасов, триста пятьдесят саженей неводных сетей, двадцать сколотое подошвенных, двадцать пять обметов собольих, шестьдесят топоров, два пуда «прядена» неводного, сто аршин холста среднего и толстого. Всего товару было по таможенной оценке на тысячу двадцать пять рублей.
Вместе с Федотом Алексеевым отправились в странствие его племянник Емельян Степанов, двадцать три покрученника и пять своеужинников.
Купеческий караван, ведомый Иваном Ребровым, благополучно прибыл на Оленек. Однако надежды купцов на успешный промысел и, следовательно, на скорое обогащение не оправдались. Не удалось Федоту Алексееву наладить и меновую торговлю с местными жителями, на которую он рассчитывал. Надо полагать, что виною тому были сами промышленники: они повели себя так, что воинственные эвенки восстали и вытеснили пришельцев из лесов, богатых соболем, в тундру, населенную никому не нужными в то время песцами.
Примерно в 1644 году Федот Алексеев и его спутники начали движение на восток, которое всего через четыре года завершилось открытием крайней северо-восточной оконечности Азиатского материка. Федот Алексеев вернулся на Лену, но, не заезжая в Якутск, перебрался сначала на Яну, потом на Индигирку, на Алазею, а зимой или весной 1647 года прибыл на Колыму.
Почему спешил Федот Алексеев? Почему не задержался он на таких крупных реках, как Индигирка, Алазея?
Ответ на это можно дать только один: Федота Алексеева не устраивала деятельность на уже открытых и в значительной степени обобранных землях, он рвался на «оперативный простор», стремился стать хозяином новых, неведомых земель.
По этой же причине не устроила его и Колыма, где уже хозяйничали приказчики крупных купцов.
И холмогорец Федот Алексеев, беспокойный и настойчивый человек, в тот же год решает организовать торгово-промысловую экспедицию на реку Погычу, или… Анадырь, слухи о которой уже дошли до Колымы. И не только решает, он организовывает ее.
Как он организовал экспедицию?.. Самым обычным способом, так же, как организовывали все другие «опытовщики» — инициаторы дальних походов. Федот Алексеев располагал крупными средствами, имел верных людей; он построил кочи, скупил хлебные запасы. Прослышав о новой экспедиции, сулящей крупные барыши, на огонек устремляются своеужинники, промысловики со своим «заводом», снаряжением, но без крупных средств: организовать свою экспедицию им не под силу, но присоединиться к экспедиции они могут. — Федот Алексеев охотно принял их, понимая, что, чем сильнее будет его отряд, тем больше земель они смогут покорить. И вскоре под его «знаменем» оказывается более шестидесяти человек; четыре коча, а это уже сила!
К числу инициаторов похода, признавая приоритет холмогорца Федота Алексеева, следует, очевидно, отнести и постоянно промышлявших вместе с ним своеужинников Осташа Кудрина, Дмитрия Яковлева, Максима Ларионова, Юрия Никитина, Василия Федотова и, разумеется, племянника Федота Алексеева Емельяна Степанова. Колымский приказчик Второй Гаврилов сообщает, что с Федотом Алексеевым в поход отправилось двенадцать покрученников. Как видно, половину своих людей Федот Алексеев оставил на промысел в бассейне Колымы.
Как протекали события дальше?.. Организовав экспедицию, снарядив кочи, Федот Алексеев, привыкший действовать наверняка, отправился к колымскому приказчику Второму Гаврилову…
Впрочем, здесь уже пора переходить к Полемике с теми исследователями, которые вопреки исторической правде, вопреки логике событий искусственно возвеличивают Семена Дежнева, превращая его в этакий монумент, расчищают ему место, сознательно принижая других землепроходцев. Предоставляю слово М. И. Белову, человеку, безусловно, знающему историю землепроходчества, но который немало способствовал искажению истины. Вот как он излагает события в книге «Семен Дежнев», опубликованной в 1955 году: «Явившись к приказчику Нижне-Колымска, он (Федот Алексеев. — И.3.) стал просить у него служилого человека в поход, так как хотел открыть анадырские торги и промыслы не украдкой, а официально, с разрешения казны. Памятно ему было и оленекское предприятие. Ехать в «новую землицу» без казаков он не решался» (выделено мною. — И.З.).
Сохранился рассказ о ходе этих переговоров, который принадлежит непосредственному очевидцу колымскому приказчику Второму Гаврилову. Вот он: «…в нынешнем во 155 году (1647 год) июня в… день пошли на море москвитина гостиной сотни торгового, человека Алексея (здесь ошибка — Василия. — И.3.) Усова прикащик Федотко Алексеев Колмогорец с покрученниками двенадцать человек, а иные збирались промышленные люди своеужинники, а сверх их собралось пятьдесят человек, пошли на четырех кочах той кости рыбьего зуба и соболиных промыслов проведывати. И тот Федотко Алексеев Колмогорец с товарищи к нам в съезжую избу словесно прошал с собою служилого человека. И бил челом государю Якуцкого острогу служилой человек Семенка Дежнев ис прибыли, а челобитную подал в Съезжей избе, а в челобитной явил государю прибыли на новой реке на Анадыре 47 соболей, и мы его, Семенку Дежнева, отпустили для тое прибыли с торговым человеком с Федотом Алексеевым» (выделено мною. — И.3.).
Кажется, все ясно: ни у кого не было сомнений в том, что в море пошел Федот Алексеев и инициативные промышленники-своеужинники, присоединившиеся к нему. Случилось это после того, как Федот Алексеев получил «казаков» в лице Семена Дежнева и «решился», отчалить. Как получил — тоже ясно: пришел и попросил с собою служилого. Вызвался ехать Семен Дежнев — его и отпустили с торговым человеком.
А М. И. Белов по поводу этой же цитаты рассуждает таким образом: «Из простого (?!) рассказа колымского приказного человека видно, что Федот Алексеев шел в поход всего с 12 покрученниками, большую часть своих людей он оставил на Колыме; Основную массу участников первого похода Дежнева (?!) составляли своеужинники, промышленники, имевшие свои капиталы и ведшие промыслы самостоятельно, независимо от Федота Алексеева».
Направленность этих рассуждений сомнений вызвать не может. И нежелание считаться со свидетельством Второго Гаврилова, и, наконец, попытка изобразить мелких промышленников совершенно самостоятельными людьми, хотя, методы организации экспедиций того времени достаточно хорошо известны, — все это служит одной цели: изобразить Федота Алексеева рядовым участником плавания, поставить на его место Семена Дежнева, которого Федот Алексеев взял с собой, короче говоря, направлено на то, чтобы искусственно возвысить Дежнева, расчистить ему место.
Как доказывается недоказуемое, легко проследить по книгам М. И. Белова: «Семен Дежнев», 1948, «Русские мореходы в Ледовитом и Тихом океанах», 1952 (сборник документов с обширными примечаниями М. И. Белова), и «Семен Дежнев», 1955. Не будем обращать внимания на мелочи, например на то, что в книге 1955 года М. И. Белов на странице 62 утверждает, что спутники Федота Алексеева находились «в разной степени зависимости от своего вожака», а на странице 64, что они были независимы и, следовательно, никакого «вожака» не существовало; или на то, что, по мнению М. И. Белова, изложенному на странице 62, Федот Алексеев «имел намерение пройти на реку Анадырь под охраной (!) казаков», а на странице 64 тот же Федот Алексеев пускается в плавание, взяв с собой одного Дежнева, который при всем желании не смог бы охранять шесть десятков добрых молодцев с пищалями и саблями. Все это, повторяю, мелочи.
Вот что значительно серьезнее. В конце 1952 года М. И. Белов писал: «Следует несколько подробнее остановиться на подготовке его (Дежнева по контексту. — И.3.) морского похода на Анадырь, тем более что в литературе при освещении этого вопроса допущен ряд фактических неточностей — нередко организацию и саму идею похода исследователей приписывают торговому человеку Федоту Алексееву, а С. Дежнева изображают «прикомандированным» к отряду Алексеева».
Упрек этот, в высшей степени серьезный, относится, надо полагать, в первую голову к колымскому приказчику Второму Гаврилову — очевидцу событий! — в «простом» рассказе которого события освещаются именно так. Что же, в конце концов полемика допустима и с первоисточником. А что касается приемов доказательства… Возможен, например, такой прием: утверждай, не доказывая. В статье «Дежнев» второго издания БСЭ можно прочитать нижеследующее: «Под начальством Федота Алексеева… известного под фамилией Попов, была организована торгово-промысловая экспедиция. Д(ежнев) присоединился к экспедиции в качестве представителя государственной власти (сборщика ясака). Плавание экспедиции летом 1647 не увенчалось успехом… 20 июня 1648 экспедиция вышла в повторное плавание…» А четырнадцатью строчками ниже читаем: «Экспедиция Д(ежнева) сделала выдающееся географич. открытие». Просто, убедительно и придраться не к чему!
Вернемся теперь к «критике» М. И. Беловым колымского приказчика Второго Гаврилова, рассказавшего о событиях без всяких ухищрений. Продолжим прерванную цитату из книги М. И. Белова: «Правильный ответ на этот вопрос может быть дан на основе изучения таможенных документов участников похода Дежнева. В делах якутской таможни нам удалось обнаружить «выписи» и проезжие грамоты дежневцев…» Что ж, об этих грамотах и «выписях» Второй Гаврилов мог ничего не знать…
В первой части цитаты речь шла о том, что некие злоумышленники приписывают Федоту Алексееву организацию экспедиции и саму идею похода.
«Разрушается» это мнение своеобразно. М. И. Белов ссылается на два документа — таможенные грамоты. Одна из них была выдана Федоту Алексееву еще летом 1641 года на провоз товаров и хлеба из Енисейского острога к Ленскому волоку. А вторая выдана в июне 1646 года приказчикам Афанасию Андрееву и Бессону Астафьеву, которые приняли участие во втором плавании Федота Алексеева. В этих грамотах содержится перечень товаров, которые везли с собой приказчики, и все. Почему из этого перечня следует, что не Федоту Алексееву принадлежит идея похода и организация экспедиции, я лично судить не берусь, а М. И. Белов никак не поясняет своей мысли. Очевидно, ссылкой на эти грамоты он хотел сказать, что помимо капитала Федота Алексеева большой капитал вложили в экспедицию и другие приказчики. Это верно. Но Афанасий Андреев и Бессон Астафьев приняли участие во втором походе, а не в первом, так что они не могли оказать влияния на организацию этой экспедиции вообще и на возникновение идеи похода у Федота Алексеева в особенности.
М. И. Белов еще раз воспользуется этими приказчиками царского гостя Василия Гусельникова, чтобы принизить значение Федота Алексеева, «мешающего» Дежневу. В книге 1955 года, описывая подготовку второго похода Федота Алексеева, М. И. Белов инициатору уделяет семь строчек, а приказчикам купца Гусельникова — шестьдесят шесть, причем оказалось, что и средств-то у Гусельникова в торговлю было вложено больше, чем у Василия Усова, и служила ему «целая армия оборотистых, смышленых, жадных до наживы, инициативных и смелых людей, родиной которых было русское поморье. Они без боязни пускались в опасные морские плавания…». Видите, не то, что горемыка Федот Алексеев, который без казачьей охраны шагу ступить не смел, плыть без них «не решался». Одна беда, что повели оба приказчика Гусельникова за собой в поход восемь человек, а Федот Алексеев — двадцать девять.
Но вернемся к событиям весны 1647 года. Итак, Дежнев приглашен в экспедицию Федота Алексеева. Есть ли у нас основания полагать, что Дежнева взяли на «руководящую работу», что экспедиции только и не хватало «вождя», чтобы поставить сыромятные или холщовые паруса и двинуться в неведомое?.. В дошедших до нас документах определенно утверждается, что промышленники просто взяли Дежнева с собою, отнюдь не склонив перед ним непокрытых голов, Но давайте попробуем разобраться в этом, так сказать, невзирая на документы. Попробуем решить вот какой вопрос: мог ли Семен Дежнев претендовать на роль вожака большой торгово-промысловой экспедиции?.. Увы, на этот вопрос придется ответить отрицательно, потому что Семен Дежнев не выдерживает сравнения, например, с Иваном Ребровым, тоже приглашенным в торгово-промысловую экспедицию. Мы уже знаем, что Иван Ребров был первооткрывателем реки Оленек, что он проложил морской путь на Яну и Индигирку и, таким образом, имел заслуженную репутацию бывалого морехода.
Дежнев же к моменту организации экспедиции Федота Алексеева как вожак и мореплаватель проявить себя не успел, и со стороны руководителя было бы чистейшей нелепостью передать ему бразды правления. Не согласились бы на это и другие промышленники, которые, безусловно, уважали пожилого, многоопытного приказчика Федота Алексеева и ни в коем случае не предпочли бы ему безвестного казака, хоть и наделенного мужественной и честной душой.
У читателей, знакомых с книгами о Дежневе, могло сложиться впечатление, что к 1647 году Семена Дежнева чуть ли не вся Россия знала. Достигнут же этот «эффект» тоже не очень хитрым путем: просто Дежневу приписывалась руководящая роль там, где он был всего-навсего рядовым служакой. Возьмем для примера книгу В. И. Самойлова «Семен Дежнев и его время» (1945 год), книгу искреннюю, но методологически далеко не совершенную. Послали казачьего вожака известного в истории Сибири землепроходца Дмитрия Михайлова Зыряна с небольшим отрядом, в который входил Дежнев, собирать ясак, и (откройте страницу 51) тотчас Дмитрий Зырян оказывается оттесненным на второй план, а на первый выдвигается Дежнев: «Добравшись до Яны очень быстро и удачно, — сообщает Самойлов, — видимо благодаря качествам организаторов похода — Дежнева(!) и Зыряна, — собрали большой ясак». Отправил воевода Головин знаменитого землепроходца Михаила Стадухина на Оймякон, и тотчас обнаруживается, что во главе этого отряда стояли два человека: атаман Стадухин и рядовой Дежнев (страница 59). На следующей странице уже говорится об отряде Дежнева, на странице 63 начальниками отряда называются Дежнев и Стадухин, а далее по контексту, Стадухин переводится в рядовые, хотя на самом деле он встал во главе объединенного отряда (своего и Дмитрия Зыряна), а вожаками именуются Дежнев и Зырян (страницы 63–64). В Нижне-Колымском острожке, оказывается, обосновалось «тринадцать человек во главе… с Дежневым и Вторым Гавриловым» (страница 64).
Этим же самым приемом продвинут Семен Дежнев и в руководители экспедиции Федота Алексеева, хотя тот же Самойлов утверждает, что «главным организатором экспедиции был Федот Алексеев Попов, приказчик богатых устюжских торговцев Усовых» (страница 66).
Но может быть, мы все-таки не правы, может быть, Семен Дежнев в 1647 году уже превратился в крупного казачьего вожака?.. Нет, М. И. Белов определенно пишет, что Дежнев был незаметным, ничем себя не проявившим казаком, все эти годы находившимся в тени (загляните на страницу 51 книги 1948 года издания и на страницу 42 книги 1955 года издания).
Так зачем же такой вожак потребовался промышленникам и Федоту Алексееву?.. М. И. Белов объясняет это… чудом. Я не шучу. Вот посмотрите, как патетически оповещает он об этом читателей: «Добраться до конца этого гигантского горного хребта (водораздела между Тихим и Ледовитым океанами. — И.3.) становится заветной мечтой тех, кто раньше всех открыл эту истину, — казаков отряда Зыряна и Стадухина. Как увидим ниже, никому из этих вожаков не суждено было побывать на самой крайней северной точке «камня». И лишь незаметному, ничем особенно не проявившему себя и все эти годы находившемуся как бы в тени казаку Семену Дежневу удалось довести до конца обследование северо-востока Сибири, начатое в 30-е годы XVII века Ребровым, Бузой и Зыряном. И с того момента, когда он решится на этот великий подвиг (то есть последовать за Федотом Алексеевым и его товарищами, — И.3.), его личность вырастает в значительную фигуру, полную энергии, воли и целеустремленности, — она становится великой» (страницы 51–52 в книге 1948 года. Выделено мной, — И.3.). Вот, оказывается, в чем дело!
Кроме того, по широте душевной Семен Дежнев «взял на себя полную материальную ответственность за экспедицию на реку Анадырь» (как полагает М. И. Белов). Каким способом он собирался нести полную материальную ответственность за экспедицию, организованную владельцами частнособственнического капитала, бог весть. Впрочем, разгадать эту загадку не удалось и самому М. И. Белову. По крайней мере при переиздании книги он опустил это смелое утверждение. Речь же, строго говоря, шла просто-напросто о том, что Дежнев обязался доставить с Анадыря в государеву казну энное количество соболей. А какую он нес «материальную ответственность», легко вообразить, если вспомнить, что почти все участники второй экспедиции погибли, а Дежнев благополучно служил дальше, не думая возмещать потери ни купцу Усову, ни купцу Гусельникову, хотя и стал богатым человеком.
Вот как первое плавание Федота Алексеева превратилось в «первое плавание Семена Дежнева».
В июне 1647 года кочи Федота Алексеева вышли в море. На одном из них Федот Алексеев вез в бессмертие казака Семена Дежнева. Тяжелые зимние льды преградили кочам дорогу. Вскоре суда вынуждены были вернуться. Семен Дежнев занялся промыслом, а Федот Алексеев, тоже, конечно, не забывавший о собственной выгоде, начал исподволь готовить, повторный поход. Очевидно, прежний опыт подсказывал ему, что год на год не приходится, что ледовая обстановка на следующий год может сложиться иначе.
И Федот Алексеев не ошибся.
Поговорим теперь об организации второго похода Федота Алексеева. Это тем более необходимо, что исследователи почему-то не обращали внимания на один весьма показательный факт, позволяющий судить о подлинных заслугах Федота Алексеева в истории географических открытий. М. И. Белов пишет, что накануне второго похода обстановка на Колыме изменилась, увеличилось число желающих принять в нем участие и что, стремясь сохранить первенство среди торговых людей, Федот Алексеев вынужден был увеличить число своих покрученников (страница 64 в книге 1955 года).
В действительности же все происходило несколько иначе.
Дело в том, что многие участники первого похода по разным причинам не приняли участия во втором походе Федота Алексеева. Это можно доказать с помощью простой арифметики. В первом плавании участвовало 64 человека, во втором — 90, но 30 из них — это гулящие люди Герасима Анкудинова, присоединившиеся к мореходам без разрешения властей. Значит, в основной отряд Федота Алексеева входило 59 человек, меньше, чем во время первого похода. Из них в первом походе определенно не принимали участия люди торгового гостя Гусельникова (10 человек), которые прибыли на Колыму перед, самым началом второго похода, и 17 покрученников Федота Алексеева. Следовательно, лишь половина участников первого похода — 32 человека — согласилась идти во второй поход. Это — если считать и 13 покрученников Федота Алексеева, участников обоих походов. Без них — всего 19 человек из 51. Число участников первого похода, желавших идти во второй раз на Анадырь с Федотом Алексеевым, уменьшилось в два с половиной раза!
Осуществление похода на Анадырь находилось под угрозой срыва. В этой обстановке Федот Алексеев принимает решительные меры к тому, чтобы все-таки осуществить поход. Для этого он мобилизует всех зависящих от него людей — двадцать девять человек! — которые и составили основное ядро отряда (вместе с вожаком 30 человек). К ним присоединилось 18 своеужинников и 10 человек купца Гусельникова, а также Дежнев.
Только самоотверженным усилиям Федота Алексеева обязана географическая наука тем, что летом 1648 года русские кочи обогнули северо-восточную оконечность Азии.
Помогал ли ему в осуществлении этого замысла Семен Дежнев? Уверен, что помогал, потому что он не только согласился поехать снова с Федотом Алексеевым, но и настойчиво боролся за это право с казаком Герасимом Анкудиновым.
Дело в том, что Герасим Анкудинов, подлинный сорвиголова, отчаянный казак-буян, прослышав о замысле Федота Алексеева, возгорелся желанием принять участие в плавании. Узнав, что с Федотом Алексеевым собирается плыть Дежнев, он подал встречную челобитную, в которой требовал, чтобы вместо Дежнева назначили приказчиком новых земель его, Анкудинова, обещая привезти больше соболей, чем Дежнев.
По мнению М. И. Белова, эта челобитная «свидетельствует и о том, что С. И. Дежнев, а не кто-нибудь другой, например Федот Алексеев, как об этом пишет В. Ю. Визе… был душой и главой подготовлявшегося похода вдоль Чукотского полуострова».
Но давайте попробуем решить, на чье еще место мог претендовать служилый человек Герасим Анкудинов?.. На место Федота Алексеева, приказчика купца Усова?.. Или на место Афанасия Андреева, приказчика купца Гусельникова?.. Или на место одного из их покрученников?
Семен Дежнев был единственным служилым человеком, прикомандированным к экспедиции Федота Алексеева, и только на его место мог претендовать другой служилый человек — Герасим Анкудинов. Поэтому их борьба за право участвовать в экспедиции Федота Алексеева, а точнее, за право нажиться на новых землях совершенно не может служить доказательством того, что Дежнев был «главой» и «душой» экспедиции.
Ища способы возвысить Семена Дежнева, М. И. Белов делает такое заключение: «Свой отряд Семен Дежнев снарядил на личные средства. Позднее он писал, что поднимался на новые реки «на свои деньги» и что от «морского разбою (гибели судов во время бури) обнищал и одолжал великими неокупными долги» (стр. 70, книга 1955 года). Это заключение абсолютно бездоказательно и находится в противоречии с многократно повторенным М. И. Беловым утверждением, что Дежнев принадлежал к казачьей голытьбе. Это во-первых. Во-вторых, как мы помним, ранее М. И. Белов объявил, что своеужинники независимы были от богатого Федота Алексеева. Почему же они и Алексеев попали в зависимость к бедняку Дежневу, поплыли на его средства?..
Дежнев же позднее сообщил в отписке лишь то, что поехал в экспедицию на свои средства. Снаряди он на собственные средства отряд, он не преминул бы напомнить об этом, как сделал это тот же Анкудинов («А я, холоп твой государев, поднимаюсь на твою государеву службу своим животом, судном и оружием, порохом и всякими заводы поднимаю»).
Теперь уже определенно известно, что Дежнев до похода на Анадырь был рядовым казаком с очень и очень скромными средствами; вернулся же с Анадыря он обладателем крупного капитала (одной моржовой кости он вывез для себя на 3000 рублей, а жалованья служилому человеку полагалось в год 5 рублей).
О том, как организовывался второй поход и как попал туда Дежнев, имеется его собственное свидетельство, не оставляющее места для кривотолков. Вот оно: «…торговые и промышленные люди били челом тебе, великому государю, а на Ковыме-реке таможенному целовальнику Петру Новоселову подали челобитную, чтоб их торговых и промышленных людей, Федота Алексеева с товарищи, отпустили по твоему государеву указу на новую на Анандыр-реку и на иные сторонные реки для прииску новых неясачных людей, где б тебе, великому государю, мочно было в ясачном сборе прибыль учинить».
Кажется, ясно — экспедицию организовали торговые И промышленные люди, Федот Алексеев с товарищами, они же подали челобитную целовальнику Новоселову, который разрешил им плавание.
Дежнев же попал в экспедицию так: «А обо мне, холопе твоем Семенке, те торговые и промышленные люди били ж челом, чтоб мне, холопу твоему, итти с ними вместе для своего государева ясачного збору и для прииску новых неясачных людей и для твоих государевых всяких дел» («Первая челобитная Семена Дежнева» в книге Самойлова. Выделено мной. — И.3.).
Вот и все. Пригласили Дежнева торговые люди — он поплыл с ними. Будь Дежнев действительно организатором похода, он бы так и написал. Делать из этого секрет не имело никакого смысла.
И вообще, Второй Гаврилов имел право назначить служилого человека приказчиком новых земель, но назначать его руководителем торгово-промысловой экспедиции, созданной на частные средства, руководителем морского похода у него не было ни прав, ни оснований.
Кочи Федота Алексеева вышли из устья Колымы в Восточно-Сибирское море около 20 июня 1648 года и повернули на восток. Лето выдалось ранним, сравнительно теплым, и льды унесло от берегов. Однако кочи землепроходцев того времени под прямыми парусами могли ходить только по ветру; ветры же на беду установились встречные, и это очень замедлило плавание. Недели через две после начала похода разыгралась буря, во время которой два коча (из семи) отделились от каравана и разбились о скалы. Их экипажи благополучно выбрались на сушу, но там на мореплавателей напали местные жители и всех их перебили. Остальные кочи во главе с Федотом Алексеевым сумели пристать к берегу и переждали бурю; потом они продолжили путь. Вскоре мореплаватели увидели «первый Святой Нос от Колымы» — мыс Шелагский, затем миновали пролив Лонга, не заметив острова Врангеля, и Федот Алексеев сделал первые выдающиеся географические открытия — открыл Чукотское море и Чукотский полуостров.
Встречные ветры по-прежнему мешали плыть на восток, внезапные бури грозили гибелью. Еще на два коча уменьшился караван Федота Алексеева. Судьба этих кочей не ясна. Однако есть основание полагать, что их занесло на Аляску и там, на побережье Кенайского залива, мореходы сначала образовали небольшую русскую колонию», а потом смешались с местными жителями — эскимосами или индейцами…
Но оставшиеся три коча, которые вели неустрашимые люди — вожак экспедиции Федот Алексеев, гулящий атаман Герасим Анкудинов и представитель властей Семен Дежнев, — продолжали путь вдоль суровых, неприветливых берегов Чукотского полуострова.
И первого сентября, в Новый год по старомосковскому календарю, Федот Алексеев, Герасим Анкудинов и Семен Дежнев обогнули Большой Каменный Нос и круто повернули к юго-западу.
Так был открыт пролив, который теперь носит имя Беринга, гораздо менее заслужившего эту честь, чем руководитель торгово-промысловой экспедиции Федот Алексеев.
У входа в Берингов пролив вновь началась буря, и о скалы разбило коч предприимчивого казака Герасима Анкудинова. Пришлось сделать остановку и подобрать потерпевших кораблекрушение.
Лишь два коча из семи вышли в бурный пролив Беринга. Там Федот Алексеев совершил еще одно открытие — открыл острова, которые некоторое время назывались островами Гвоздева, а теперь называются островами Диомида.
Следуя вдоль юго-восточных берегов Чукотки, Федот Алексеев миновал мыс Чаплина (он назван в память участника первой экспедиции Беринга) и где-то в этом районе вновь высадился на берег. Очевидно, он хотел наладить деловые отношения с местными обитателями, начать с ними меновую торговлю и, вероятно, узнать дорогу к реке Анадырь. Береговые чукчи напали на пристанище мореплавателей. Бой закончился победой русских, но вожак экспедиции Федот Алексеев был ранен.
Пришлось кочам вновь выйти в море, хотя уже штормило и ветер усиливался с каждым часом. Некоторое время кочи держались неподалеку от берега, но потом ураганный ветер вынес их в море, которое открыл Федот Алексеев, но которое называется Беринговым.
В течение нескольких часов Федот Алексеев и Дежнев, человек, которому отныне припишут все открытия вожака и организатора экспедиции, видели друг друга, но потом их разнесло в разные стороны.
Больше им не суждено было встретиться.
Выдержать этот шторм смог лишь коч самого опытного мореплавателя — Федота Алексеева. Дежнева и его спутников выбросило на берег, и они пешком отправились на Анадырь.
А Федот Алексеев, пристав к берегу и, очевидно, посоветовавшись с гордым и самолюбивым Герасимом Анкудиновым, решил плыть дальше на юг. И они проделали путь, почти равный пройденному. Сколько времени у них ушло на это — сказать трудно. Видимо, месяца два — сентябрь и октябрь. Но коч Федота Алексеева плыл на юг по морю, которое целиком не замерзает даже в суровые зимы, и поэтому льды не мешали им, а штормы они могли пережидать в многочисленных бухтах. Во время этого плавания Федот Алексеев и его товарищи открыли Корякский хребет, отроги которого вплотную подступают к морю. Они миновали Олюторский полуостров, Карагинский залив, они подошли к берегам Камчатки и первыми из русских увидели ее огнедышащие горы — вулканы, о существовании которых не подозревал никто из них. Разумеется, при этом они ничуть не заботились о приоритете и не подозревали, что потомки припишут честь открытия Камчатки атаману-головорезу Атласову, казаку исключительного ума, но который, что про него ни говори, все-таки побывал на Камчатке через пятьдесят лет после Федота Алексеева, Герасима Анкудинова, Емельяна Степанова и их отважных сподвижников.
Наших же мореплавателей волновали более серьезные житейские проблемы: близилась зима, снеговой покров в горах с каждым днем спускался все ниже, пора было подумать о зимовке. К счастью, именно в это время подплыли они к устью реки Камчатки и без долгих раздумий ввели в нее коч. До ледостава они успели подняться довольно далеко вверх по ней, до устья реки Никул, и там зазимовали.
Федот Алексеев, надо полагать, даром времени на Камчатке не терял: занимался меновой торговлей, промышлял камчатского соболя, то есть проделывал то же самое, что и все торговые люди в Сибири.
Весной следующего года Федот Алексеев вышел в море и повел коч дальше на юг.
А добрая память о нем — именно о нем! — надолго сохранилась среди местных жителей — ительменов, которые даже переименовали речку Никул в Федотовку. Они рассказывали о Федоте Алексееве и его товарищах казаку Атласову в 1696 году, они рассказывали о Федоте Алексееве нашему знаменитому ученому-географу Крашенинникову, участнику Второй Камчатской экспедиции, почти через столетие после того, как Федот Алексеев покинул речку Никул…
Это ли не свидетельство огромного морального авторитета Федота Алексеева, организатора и руководителя экспедиции, совершившей столько замечательных географических открытий?.. Остаться в памяти народа без всяких на то декретов — лучшего кажется, и пожелать нельзя…
А в те дни, когда камчадалы осматривали опустевшее зимовье (они не тронут его, и оно сохранится на многие десятилетия до Крашенинникова, что вновь говорит в пользу Федота Алексеева), — в эти дни коч вышел в Тихий океан.
Да, именно в Тихий океан. Федот Алексеев, Герасим Анкудинов, Емельян Степанов и их товарищи были первыми русскими, бороздившими воды Тихого океана, а не его окраинных морей. Это тоже факт примечательный и тоже никем не оцененный.
За лето Федот Алексеев обогнул южную оконечность полуострова Камчатки — мыс Лопатку, открыл северные Курильские острова, вышел в Охотское море и достиг устья реки Тигиль, что впадает в Охотское море на западном берегу Камчатки.
Во время зимовки Федот Алексеев и Герасим Анкудинов, по слухам, погибли от цинги. Оставшиеся в живых люди не поладили между собою. Это заметили коряки и воспользовались разладом: они напали на русских и многих убили. Те, кому посчастливилось уцелеть, весной ушли на коче в море, и дальнейшая судьба их неизвестна. Так по крайней мере рассказала «якутская баба», бывшая с Федотом Алексеевым, позднее попавшая в плен и освобожденная Дежневым. Думают, что они погибли. Однако вот на что следует обратить внимание. Спутники Федота Алексеева покинули берега Камчатки в 1650 году. А в самом начале 1653 года гостиной сотни торговый человек Василий Усов подал царю Алексею Михайловичу челобитную, в которой просил, чтобы якутский воевода прислал Федота Алексеева, если он появится на Лене, вместе с товарами в Москву. Между прочим, говорится в этой челобитной следующее: «…колмогорец Федот Алексеев Попов с тем моим животом пошел на великую реку Лену, а с Лены пошел в неведущые земли и вести, государь, про него лет с восемь и более не бывало (то есть в 1644–1645 годах. — И.3.). А ныне, государь, мне, холопу твоему, ведомо учинилось, что идет тот Федот к Русе, а живот есть или нет, тово я, холоп твой, не ведаю»[11]. Из этого можно заключить, что кто-то из спутников Федота Алексеева (а вдруг он сам? Так ли уж мы должны верить рассказу «якутской бабы»?) остался жив, вернулся в Якутск, и молва об этом докатилась до Москвы.
Я лично не сомневаюсь, что о Федоте Алексееве и его спутниках со временем будут найдены новые документы, которые позволят нам полнее представить себе облик и дела выдающегося русского мореплавателя.
Что касается казака Дежнева, то он благополучно достиг Анадыря и несколько лет служил там. По разным причинам и в разное время он продиктовал свои отписки, благодаря которым мы узнали о плавании Федота Алексеева.
В этом очерке, стремясь восстановить заслуги Федота Алексеева, я невольно противопоставлял его Семену Дежневу. Я действительно убежден, что Федот Алексеев как личность на голову выше прославленного Дежнева.
Из этого, однако, не следует, что Дежнев был заштатным землепроходцем. Нет, он фигура заметная, он имеет заслуги перед географической наукой, важнейшие из которых участие в плавании Федота Алексеева, составление челобитных с упоминанием о плавании и вполне самостоятельное открытие реки Анадырь. Этого уже вполне достаточно, чтобы навсегда внести имя Дежнева в книгу истории географических открытий. Но этого недостаточно для того, чтобы безудержно восхвалять его, изображая «величайшим мореплавателем всех времен и народов», как это делает, например, М. И. Белов. Уже на первой странице своей книги 1955 года он ставит Дежнева в один ряд с Колумбом и Магелланом, что, мягко выражаясь, несколько преувеличено, а далее… далее мы узнаем и более любопытные вещи…
Так, на странице 73 читаем: «В документах, написанных со слов Дежнева, встречается целый ряд наблюдений над условиями плавания у берегов далекого северо-востока. Приходится удивляться, что эти замечания были сделаны человеком, всего лишь один раз побывавшим у северных берегов Чукотки» (выделено мною. — И.3.).
Что же это за наблюдения?.. Вот первое: «Наметанный глаз Дежнева подметил самый существенный признак северо-восточных морей — их чрезвычайную ледовитость». Этому действительно приходится удивляться, потому что на странице 75 М. И. Белов сообщает, что «три месяца путешественники плыли по Чукотскому и Берингову морям, не встречая льдов». Но оказывается, Дежнев сумел сделать во время короткого плавания и более существенные выводы, требующие многолетних систематических наблюдений, например что не каждый год относят льды от северных берегов Чукотки. У М. И. Белова это называется «сверить свои наблюдения с рассказами местных жителей», хотя на самом деле Дежнев просто пересказал наблюдения чукчей.
А делаются такие заключения вот для чего: «Ни Колумб, ни Васко да Гама, ни даже Магеллан… не ознаменовали свои путешествия столь ценными наблюдениями!»
В книге же 1952 года М. И. Белов изображает неграмотного Семена Дежнева чуть ли не образованнейшим человеком своего времени, осведомленным о крупнейших географических проблемах XVII столетия. На странице 93 М. И. Белов сообщает: «Здесь на берегу «Большого Чукотского Носа» (современный мыс Дежнева) была сделана остановка, во время которой промышленники побывали на островах Берингова пролива, населенных эскимосами. Приняв эти острова за берег Новой Земли, или Америки, С. И. Дежнев продолжал путь.
Для С. И. Дежнева было совершенно ясно значение сделанного им открытия, когда он сообщил якутскому воеводе Ивану Акинфову (документ 34), что прошел по «морю-окияну» мимо островов, населенных эскимосами, что берега, «матерой земли» нигде не соединяются с «Новой Землей» (Америкой).
Беда не только в том, что Дежневу приписано то, чего он не знал, о чем не думал и о чем не мог знать. Беда в том, что это научно оформленное рассуждение со ссылкой на документ 34, с кавычками, которые должны означать, что слова взяты из этого документа, — вымысел М. И. Белова. Документ 34 помещен на 118 странице той же книги, и ничего подобного в нем не содержится, — есть лишь указание, что плавание проходило по «великому морю-окияну».
Итак, на географических картах вы легко найдете имена Беринга и Дежнева. Но при всем желании не удастся вам найти имя Федота Алексеева, первооткрывателя Чукотского моря и Чукотки, мыса Дежнева и пролива Беринга, Берингова моря и Камчатки. Имя его забыто. Не увековечены, как они того заслуживают, на географических картах имена подштурмана Федорова, геодезиста Гвоздева и капитана Алексея Чирикова — «главного» во Второй Камчатской экспедиции.
Вот почему я назвал этот очерк «Берега несправедливости».
Написал я его не для того, чтобы призвать к переименованиям. Теперь объективно это принесло бы лишь вред картографии и географии.
Я написал его главным образом для того, чтобы воздать должное замечательному русскому человеку, отважному мореплавателю, жизнью своей заплатившему за великие географические открытия. И если теперь всерьез проводить аналогию с плаванием Магеллана, то разве не ясно, что в отношении Магеллана историческая справедливость в конце концов восторжествовала (ныне никому не приходит в голову называть первым кругосветным путешественником Себастьяна Эль-Кано или Пигафетту), а в отношении Федота Алексеева историческая справедливость все еще остается нарушенной? И разве не ясно, что Дежневу так же нелепо приписывать руководящую роль в экспедиции, которой он не руководил, как и Пигафетте?.. Руководитель экспедиции и летописец экспедиции — это все-таки не одно и то же…
Имя Федота Алексеева Попова — организатора и руководителя исторического плавания вдоль берегов северо-восточной Азии — должно быть известно народу, так же как известно имя его спутника Дежнева, и уж, конечно, не меньше, чем имя Витуса Беринга.
Федот Алексеев достоин такой славы.
Участие в споре
Памятные пустяки
Для москвича все экспедиции, естественно, начинаются в Москве, но всегда они начинаются по-разному, и подробности эти почему-то прочно врезаются в память.
Моему отъезду в первую экспедицию, в Туву, сопутствовали событий трагикомические.
Был май 1945-го. Праздничный вечер дня Победы я провел под землей, на станции метро. Черт догадал меня, спеша на Красную площадь, выйти из поезда на центральной станции: она оказалась до отказа забитой людьми, и часа два в духоте и тесноте я, как маятник, качался, повинуясь движению плотно сбитой толпы, слушая вскрики, вздохи, стоны, звон где-то выдавленных стекол… Когда наконец стихия вынесла меня на поверхность, основные торжества уже закончились, но я радовался и тому, что видел небо над головой…
Лишь дома я заметил, что каким-то образом стер себе правую ногу. Нога начала нарывать. Мои познания в медицине были предельно скромны, но из-за истощения, нарывы тогда случались у меня часто, и я твердо усвоил, что лечить их надо ихтиоловой мазью.
За несколько дней до выезда в экспедицию наш дом на Можайском шоссе неожиданно подвергся нашествию крыс. Бог весть откуда они взялись, но появились они в преогромном количестве. Ночью крысы с писком носились по комнате, забирались ко мне на кровать и, считая меня неодушевленным предметом, топали по спине, по плечам, по ногам. Я не обращал на них внимания, потому что крысы вели себя вполне пристойно и не кусались.
Но буквально в ночь перед отъездом какая-то сумасшедшая крыса укусила меня за нос. Разумеется, после, этого я прогнал ее и, включив свет, посмотрел на себя в зеркало: на самом кончике носа красовалась двойная, нанесенная резцами ранка. Поскольку никакого иного лекарства, кроме ихтиоловой мази, у меня не нашлось, я намазал нос ихтиолкой и снова лег спать.
Утром я не вспомнил о ночном происшествии и сразу занялся предотъездными делами. Где-то около часа дня, выкроив несколько свободных минут, я забежал в парикмахерскую, ибо не очень-то верил в существование оных в Туве. Первое, что я увидел, опустившись в кресло, — это… коричневый нос!
Я похолодел. Но не потому, конечно, что пробегал полдня с коричневым носом. Начитанный Поля де Крюи, я только теперь сообразил, что спешить мне надо не на вокзал, а на пастеровскую станцию делать уколы против бешенства! Один укол я бы успел сделать, но один укол ничего не решает, и, значит, следовало отказаться от экспедиции. Я провел в раздумьях несколько тяжких минут. Конечно, если крыса бешеная, то надо остаться. Ну а если она не бешеная и я зря останусь и не попаду в экспедицию?.. Было мне тогда немногим больше семнадцати, и часа через три, хромой и с покусанным носом, я уже сидел в поезде.
А на пути в экспедицию, о которой я сейчас собираюсь рассказывать, стояли преграды уже совсем иного свойства.
В первые послевоенные годы при географическом факультете МГУ еще существовало учреждение, которое коротко называлось НИИГ, а длинно — Научно-исследовательский институт географии. В 1948 году НИИГ организовал Восточно-Сибирскую экспедицию, которую возглавил замечательный ученый и человек Николай Николаевич Колосовский. Среди прочих отрядов значился в экспедиции и Восточно-Саянский, привлекший мое особое внимание. Экспедиция комплектовалась преподавателями, аспирантами и студентами МГУ, и в иное время я, наверное, без особого труда попал бы в экспедицию. Но в 1948 году я заканчивал университет и уже знал, что рекомендован в аспирантуру. Значит, в июне — государственные экзамены, в августе — приемные, и никаких тебе экспедиций.
И все-таки в экспедицию я попал. Наверное, это не частый случай в педагогической практике, но мне разрешили сдавать экзамены в аспирантуру раньше… чем я сдал государственные экзамены. Было это и весело, и удобно: сдашь экзамен по основам марксизма в аспирантуру, а дня через два идешь сдавать его как государственный; или, наоборот, сдал спецпредмет как государственный, а через день уже сдаешь его как аспирантский экзамен… Времени мне такая практика сэкономила уйму, и, главное, не пропал полевой сезон: Николай Иванович Михайлов, которому предстояло руководить работами в Восточном Саяне, зачислил меня с женой к себе в отряд.
Помню, что выехали мы из Москвы под проливным дождем, и дождь сопровождал нас до Урала. А за Уралом началась такая жара, что в пору было все что угодно отдать за пасмурное небо. «Молитвы» наши хоть и с опозданием, но дошли куда следует…
Экспедиция базировалась на Иркутск. Сначала предполагалось, что задержимся мы там совсем недолго, но на трудные по тем временам хозяйственные дела ушел почти месяц. Задержки накаляли, я бы сказал, обстановку в экспедиции, ибо «верхний предел» нашей работы зависел не от нас, а от сроков наступления зимы, которая в горах начинает напоминать о себе уже в конце августа.
Итак, повторяю, «средняя температура» нашей экспедиционной жизни приблизилась к критической, когда наконец наступил день отъезда. Рано утром 15 июля меня разбудил заместитель начальника экспедиции по хозяйственной части Ковзан.
— Беги, поднимай женщин, — лаконично распорядился он.
Женщины — моя жена Тамара и коллектор Нина Бергер — жили в другом общежитии, через улицу.
Я вышел из дому. Рассвет едва намечался. На противоположной стороне под ярким электрическим фонарем сидела какая-то компания. Я рысцой припустил к женскому общежитию, и тотчас за спиной у меня раздались крики. Сделав вид, что ничего не слышу, я продолжал трусить в указанном начальством направлении — объясняться с ночными гуляками мне вовсе не хотелось. Теперь сзади слышался топот. Я перешел на более крупную рысь и был уже метрах в двух от ворот во двор общежития, когда раздалась короткая команда: «Фас!»
Отлично поняв ее значение, я резко остановился и обернулся: меня настигала овчарка, отпущенная на длинный поводок.
— Разве от собаки убежишь, — укоризненно сказал мне проводник.
Известно, что фантазия человека беспредельна, но при всем желании я бы никогда не угадал, что на кратчайшем пути через улицу попаду в железные руки… угрозыска!
Вот тут мне стало примерно так же худо, как в тот момент, когда я увидел свой коричневый нос в зеркале парикмахерской. Поскольку я точно знал, что не совершил к настоящему моменту ни кражи со взломом, ни ограбления, то напугали меня арифметика плюс логика. Я посмотрел на часы — половина пятого утра, с минуты на минуту придет машина. До женского общежития я не добежал — пусть двух метров, но все-таки не добежал, и дамы спят. Меня сейчас уведут в милицию и начнут выяснять, кто я, что я и откуда, и на это уйдет немалое время… Машина придет в срок и а) женщин не будет, б) меня не будет, в) грузить машину придется начальству, чего оно испокон века не любит, г) выезд задержится на неопределенное количество часов, а «температура», как я уже говорил…
На всякий случай я решил представиться сотрудникам угрозыска как можно солиднее, даже назвал себя аспирантом, хотя приказ о моем зачислении мог быть издан только осенью. На угрозыск моя саморекомендация не произвела никакого впечатления. Под конвоем меня отвели к тому самому фонарю, возле которого я и заметил компанию — прошу прощения — группу сотрудников уголовного розыска.
Город еще спал. Дул ветерок, чуть шевеля обрывки бумаги, но, что было весьма некстати, вдруг принялся накрапывать дождь. На другой стороне улицы светились два окна в нашем общежитии, и я видел за желтыми стеклами темные силуэты своих начальников, которые собственноручно что-то там укладывали. Я обратил внимание сотрудников угрозыска на эту подробность и попросил их там, за желтыми окнами, окончательно установить мою личность. Один из сотрудников, человек в шинели без погон, поколебавшись, отправился в общежитие.
— А погодка портится, — сказал милиционер, лично ко мне приставленный. — Может, к добру, что мы тебя… это… задержим.
Погодка действительно портилась, а начальственные тени всё двигались и двигались за желтыми стеклами, и все так же неторопливо.
Человек в шинели без погон вернулся и сказал про меня:
— Отправим его к Демидову. Пусть разбирается. Проводишь его, Ефремов.
Очень маленький, я бы даже сказал миниатюрный, милиционер выступил вперед, небрежно, но так, чтобы я увидел пистолет, распахнул плащ и предупредил:
— Побежишь — стрелять буду.
— Больно-то надо мне бегать, — сказал я. — Вы нам отъезд срываете.
— А хочешь — пробегись, — сказал проводник овчарки, смотревшей на меня добрыми карими глазами. — Все равно догоним.
— Шаг вперед, и держись левее, — распорядился мой конвоир и положил руку на расстегнутую кобуру.
В другое время я бы смеялся, но сейчас мне хотелось взвыть. Я молча шагал впереди миниатюрного милиционера, выполняя его распоряжения («Направо! Еще раз направо!») и пытаясь угадать, разговаривал человек в шинели с кем-нибудь из наших или нет.
Вместо «черного ворона» меня усадили в грузовик и наконец доставили к лейтенанту Демидову. Буквально через минуту туда же ворвался Ковзан. Был он заспан и неумыт, но полон энергии и вооружен мандатом. Лейтенант Демидов подробнейшим образом ознакомился с мандатом, прочитав его от первой до последней строчки, повертел мандат, и мне даже показалось, что второй раз он читал его не сверху вниз, а снизу вверх.
— Значит, ошибочка вышла, — признал лейтенант Демидов, отпуская меня.
Машину загрузили без моей помощи. И женщины уже приготовились к отъезду, когда я пришел. Оказывается, их разбудила сторожиха: очень уж ей хотелось сообщить моей жене, что меня забрали в милицию.
— Игорь, вы не могли побыстрее уладить там свои дела? — сурово осведомился Николай Иванович Михайлов.
Пожав плечами, я влез в машину и прикрыл вещи, уложенные в передней части кузова, плащ-палатками — вся мостовая уже была в черных дождевых оспинках. Мы тоже завернулись в плащ-палатки и сели спиной к ветру.
Час, второй, третий шла машина, петляя по горным дорогам, а дождь все не прекращался, и было скучно и холодно, и зло брало на нескончаемый дождь. Мы невесело шутили, что сами выпросили его себе в дорогу.
Дождь ненадолго поутих в весьма торжественный и удачный момент: шоссе повернуло почти под прямым углом, подъем кончился, и с перевала нам открылся Байкал. Темный — темнее хмурого неба — и спокойный, словно ветры не решались потревожить его, он уходил на севере в туман как в бесконечность, а с юга к нему робко подступали черные сопки… Два года назад, возвращаясь с Чукотки, я увидел Байкал впервые, и увидел его в бурю. Где-то, не доезжая Читы, я неожиданно свалился с тяжелой ангиной, вовсю температурил и почти не вставал со своей верхней боковой полки. И Байкал, будто учтя мое бедственное положение, сам почти вплотную подошел ко мне: белые волны с такой силой били в скалистый и укрепленный камнями берег, что брызги долетали до моего окна и чистейшие струйки байкальской воды змеились по стеклу, как в дождь…
Во время «великого сидения» в Иркутске мы ненадолго съездили на Байкал, в Лиственничное, а из Лиственничного — на биологическую станцию в Большие Коты. Байкал был тих и прозрачен, и сквозь зеленоватую воду даже на сравнительно большой глубине виднелось желтоватое дно. Мы завтракали, черпая кружками из-за борта, и любовались лесистыми сопками и падями… А на обратном пути с сопок внезапно сорвалась сарма, к счастью не очень сильная, короткие резкие волны зашлепали в низкие борта катерка «Биолог», и пошел сильный крупный дождь… Такой, как сейчас у Култука, Байкал был невзрачен и слишком уж сер и пасмурен, но мы, выворачивая шеи, все смотрели и смотрели на него, пока машина спускалась к поселку…
В Култуке ласково повеяло с Байкала влажным и теплым, но едва машина вновь пошла вверх, к очередному перевалу, как с гор нахлынул холодный, с дождем воздух.
Дождь так и не кончился до вечера, до тех сумеречных часов, когда мы наконец увидели Мондинскую котловину и село Монды — конечный пункт нашей поездки. Оттуда, из села, нам предстояло уйти в горы.
Второе пересечение
Ясное утро в горах, даже если оно тихое, запоминается звонким, как весенняя капель.
Право же, утром ничто не напоминало серого вчерашнего дня. Вспенен и полноводен Иркут?.. Но не такая уж это невидаль для горной реки. Присыпаны снегом окрестные вершины?.. Но ведь и это в горах не редкость, а слепящая белизна летнего снега — она как раз противоположна вчерашней мрачности, вчерашней хмури… Воздух чист и морозен, и хочется дышать глубоко и часто, чтобы как можно больше вобрать его в себя. Изумрудная трава чуть тронута дымчатым налетом инея. Иней исчезает тотчас, как только солнце, подымаясь из-за гор, касается травы, и опрокинутая на землю радуга бежит по следам ночной тени, словно угоняя ее прочь…
Мы поселились в школе, на краю села Монды. Каникулы, школа пустует, и из щелей на крыльце торчит трава. Вещи сложены в сенях, а единственный класс — это, так сказать, наша жилая комната. Окна класса выходят на юг, к реке, и можно сколько угодно любоваться Иркутом и плосковерхими сопками за ним.
За время долгого пути под дождем имущество наше все-таки немножко подмокло и, главное, отсырели черные сухари, коими мы запаслись месяца на три. Подождав, пока солнце прогреет землю, мы расстелили плащ-палатки и высыпали на них из крафтовых мешков сухари, а дабы сбежавшиеся со всей деревни собаки и куры не расправились с ними по-своему, организовали надежную оборону.
Не все необходимые дела — дела интересные, и за просушиванием сухарей каждый развлекался как мог. Сначала мы пробовали читать, но вскоре обнаружили, что противники наши умело просачиваются сквозь оборону, пока глаза опущены в книгу… Пришлось книги отложить, и только Николай Иванович Михайлов, пользуясь своим, начальственным положением, продолжал читать. Он читал журнал «Известия Всесоюзного Географического общества», в котором была опубликована статья С. В. Обручева под названием «Орография и геоморфология восточной половины Восточного Саяна». Это — про район наших работ, и, стало быть, Михайлов тоже находился при деле.
…Сочувствуя нашему бедственному состоянию, он время от времени рассказывал нам о прочитанном.
— Обручев выделяет в котловине два комплекса террас, — говорит, не отрываясь от журнала, Михайлов. — Современные, — он топает ногой по современной речной террасе, — и третичные или четвертичные, сложенные рыхлыми конгломератами, — Михайлов показывает большим пальцем себе за спину, и я смотрю в том направлении, но вижу не террасы (их и не видно с нашего места), а резко вписанные в голубое небо белые, с черными ребрами вершины Мунку-Сардыка.
Курица, кося на меня круглым глазом, боком-боком приближается к сухарям и бурно гневается, когда я, разгадав ее маневр, грожу ей прутиком.
— А вон те террасы, — теперь палец Михайлова указует в северном направлении, — все исследователи считают моренами, оставшимися от четвертичных ледников.
Эта особенность Мондинской котловины прежде всего бросается в глаза: обращенный на юг склон ее поднимается вверх крутыми уступами; лес растет только на горизонтальных площадках, и поэтому темные лесные полосы чередуются со светлыми степными.
— Если они правы, то в Мондинской котловине, там, где мы сейчас сидим, некогда лежал ледник мощностью до четырехсот метров, — продолжает Михайлов.
…Я слушал его, но — теперь можно честно признаться — без особого интереса. Тогда я думал, что экспедиция в Саяны — моя последняя сухопутная экспедиция и впредь я буду странствовать лишь по морям и океанам: мне хотелось заняться биогидрологией, совсем молодой в то время научной дисциплиной, изучающей влияние живых организмов на режим водных бассейнов. А Саяны — они, чтобы не пропал сезон и чтобы посмотреть незнакомые мне места, в которые потом я уже никогда не попаду…
— А кто здесь путешествовал? — спрашиваю я из вежливости.
— Да много народу, — говорит Михайлов и откладывает журнал, чтобы поточнее припомнить, кто именно. — Вот Сергей Владимирович Обручев… У Преображенского есть интересные статьи… А еще раньше Комаров, путешествовал, Кропоткин, Черский…
— Черский!? — я сделал такое резкое движение, что курица с кудахтаньем отскочила в сторону. — Действительно! А я и не вспомнил…
Черский… Значит, второй раз пересеклись наши маршруты…
Первый раз — во время путешествия на Чукотку. Я побывал тогда в поселке, который в то время назывался Кресты Колымские. Мы поднялись на крутой, но невысокий берег, поросший редкими лиственницами, карликовой березкой, шиповником, и очутились в просторном и чистом, застроенном побеленными мазанками селении… Все — в поселке выглядело свежим, недавним, и я удивился названию — Кресты Колымские. Местный товарищ, подтвердив, что поселок возник недавно, сказал:
— Говорят, крест стоял на берегу — большой, деревянный. Потому так и назвали.
Такие — большие, деревянные — кресты на севере не редкость. Ставили их над могилами, ставили в благодарность за счастливое избавление от опасности, и немало встречается названий со словом «кресты»: Нижние Кресты, Верхние Кресты, Крестовое, Крестовый перевал… И вот Кресты Колымские.
Выйдя из столовой, где нас отлично — и весьма своевременно — покормили, я остановился на краю обрывистого берега. Солнце зашло, но не стемнело. Над широкой тихой Колымой тучей носились ласточки. Они мельтешили перед глазами, и мне казалось, что из-за них я не могу вспомнить что-то очень важное, такое, что непременно и немедленно нужно вспомнить… Не знаю, почему так получается, но среди отрывочных, мелькающих, как ласточки, мыслей вдруг, выделилась одна: Кресты Колымские выстроены примерно там, где полвека тому назад умер во время своего последнего путешествия известный исследователь Сибири Иван Дементьевич Черский. По обычаю того времени на месте его гибели спутники поставили высокий деревянный крест…
Дома я храню как реликвию тоненькую, в четыре листика, брошюрку, которую теперь, наверное, не достанешь ни за какие деньги. Она называется «О последних днях путешественника по Сибири Ив. Дем. Черского. Читано на заседании Физико-Математического Отделения Академии Наук 16 декабря 1892 года». Вот что рассказано в ней (я цитирую лишь с небольшими сокращениями):
«Академия Наук получила из Средне-Колымска следующее письмо, написанное по просьбе вдовы покойного путешественника Ив. Дем. Черского и сообщающее потрясающие подробности о последних днях покойного. Оно составит собою яркую страницу в длинной истории мучеников науки.
Еще за много дней до выезда из Верхне-Колымска с целью исследовать р. Колыму покойный Иван Дементьевич предчувствовал, что дни его сочтены, и говорил о своей близкой кончине как о чем-то верном и неизбежном. Это предчувствие и даже твердая уверенность были в нем так сильны, что он еще в Верхне-Колымске делал разные распоряжения и приготовления как относительно продолжения экспедиции после его смерти, так и относительно судьбы его сына, 12-ти летнего мальчика, на случай если бы жена не перенесла его смерти. Все эти предсмертные распоряжения покойный Ив. Дем. изложил письменно и отдал их Верхне-Колымскому священнику Василию Егорьевичу Сучковскому для прочтения, но с условием, чтобы он держал их в секрете от жены Черского.
Уверенность в близкой своей кончине заставляла Черского работать сверх сил в такое время, когда он уже был очень болен. Он приводил в порядок свои коллекции, обрабатывал их и составлял обо всем отчеты для Академии Наук.
По словам свящ. Сучковского, покойный Ив. Дем. при отъезде своем из Верхне-Колымска 31 мая почти точно определил день своей смерти. «При самых лучших условиях, — говорил он, — я надеюсь протянуть еще недели три, но больше — вряд ли». И почти угадал: он умер 25 июня в 10 часов и 10 минут вечера.
…Прощаясь со свящ. Сучковским, покойный сказал: «Я уверен, что уже более не в состоянии буду Вам писать и вряд ли даже, смогу подписать продиктованное мною письмо». К неизбежности такой близкой смерти покойный относился совершенно спокойно: одно, что его беспокоило, — это участь жены и ребенка после его смерти. К спокойному отношению к самому факту смерти примешивалось горькое чувство о том, что жена его, быть может, не перенесет такого сильного удара и оставит единственного ребенка — 12-ти летнего мальчика — круглым сиротою в столь далеком краю…
Несмотря на свою болезнь и на уверенность в близкой смерти, покойный Ив. Дем. совершенно не щадил себя и целые дни и ночи проводил на узком сидении в носовой части карбаса, откуда делал всякие наблюдения. Он не оставлял этого места и по ночам, несмотря на резкую противоположность в температурах дня и ночи, сильно отражавшуюся на состоянии его здоровья. Только во время остановок покойный Ив. Дем. перебирался в кибитку, разбитую на карбасе, с намерением отдохнуть и уснуть. Но засыпать ему не удавалось — только, бывало, ляжет, как глубокий хриплый кашель, сопровождавшийся отделением пенистой мокроты, иногда с примесью кровяных жилок, заставлял его подыматься и принимать сидячее положение, которое его несколько облегчало. В таком сидячем положении ему изредка, но ненадолго удавалось засыпать. 3 июня покойный Ив. Дем. прибыл на Сиен-томах и оттуда послал ко мне человека, чтобы взять у меня наперстянки (Digitalis) и лечебник. Захватив с собою лечебник, я сам отправился повидаться с Ив. Дем. и застал его сидящим в кибитке.
…Вид покойного Ив. Дем. произвел на меня тяжелое впечатление. Его худое, как щепка, тело, желтый цвет лица с густым землистым оттенком и дрожащие руки так и говорили, что этот человек уже не жилец более на белом свете. Но он, по-видимому, крепился, желая успокоить жену свою. Несмотря на то что кашель очень затруднял ему речь, он все время моего свидания с ним, часа 4, говорил не переставая. После одного из сильных приступов кашля покойный, смеясь, сказал мне: «Слышите, какая музыка, а ведь не болит, ничуть не болит, только изредка при надавливании на грудь или бока ощущаю боль, и вот так, без всякой боли, пожалуй, и уснешь навеки. Впрочем, смерть меня не страшит: рано ли, поздно ли, но всем одна дорога. Я могу только радоваться, что умираю в ваших палестинах, через много-много лет какой-нибудь геолог найдет, может быть, мой труп и отправит его с какой-нибудь целью в музеум и таким образом увековечит меня», — закончил покойный Ив. Дем. с шуточной улыбкой на губах. Я был поражен спокойствием этого человека, уверенного в близкой смерти, и готовностью встретить ее, его способностью интересоваться на краю могилы жизнью людей, с которыми так или иначе сталкивался, живя в Верхне-Колымске, интересоваться каждой мелочью, так или иначе относящеюся к предмету его исследований, его способностью переходить от разговора о близкой и неминуемой смерти к разговору о том, как несчастные инороды (мы говорили о якутах и ламутах) страдают от всевозможного рода и вида кулаков значительно больше, чем от суровых условий страны. Он не только говорил об этом, но и переживал каждое слово, что заставило меня прекратить этот разговор, так как при повышенном пульсе и увеличенной температуре я считал для него очень вредным всякое волнение. Почти с таким же глубоким чувством покойный Ив. Дем. сожалел о том, что вот в такой-то косточке недостает маленького кусочка для того, чтобы она могла годиться в коллекцию, и т. п.
Но как ни разнообразна была наша беседа, все же она главным образом вращалась на том, что ему ужасно больно, что Академиею затрачена такая масса денег на экспедицию, которой не суждено быть законченной. Покойный Ив. Дем. утешался лишь тем, что он сделал все, что от него зависело, чтобы довести экспедицию хоть до Нижне-Колымска даже в том случае, если он по дороге туда умрет. «Я сделал распоряжение, — говорил покойный, — чтобы экспедиция не прерывалась до Нижне-Колымска даже в том случае, когда настанут мои последние минуты, и чтобы меня все тащили вперед и даже в тот момент, когда я буду отходить. Я радуюсь тому, что успел познакомить жену с целью моих исследований и подготовить ее настолько, чтобы она сама могла после моей смерти закончить экспедицию до Нижне-Колымска, а там уже экспедиция должна считаться законченной».
При мне покойному Ив. Дем. уже трудно было выходить из кибитки на свое обычное место для наблюдений, и супруга его во время остановок делала вместо него наблюдения и сообщала ему результаты, которые он, сидя в кибитке, заносил в своей дневник.
Когда я, простившись с Ив. Дем. и со всей его семьей, вышел из карбаса и стал у берега, чтобы подождать, когда отчалит карбас, я видел, как Ив. Дем., облекшись в теплое Пальто, употреблял неимоверные усилия, чтобы перебраться из кибитки на носовую часть карбаса, то есть сделать всего лишь два шага. «Прощайте, прощайте!» — сказал мне покойный, как только карбас тронулся, а глаза его так и говорили: «Прощайте, прощайте навсегда!»
После этого дня ему становилось все хуже и хуже, но все же до Средне-Колымска он сам продолжал делать наблюдения и лично заносил их в дневник.
…Но с 20 июня покойный Ив. Дем. уже не в состоянии был писать и поручил сыну своему, Александру Ивановичу, заносить в дневник все делаемые наблюдения.
После выезда из Средне-Колымска кашель стал уменьшаться, но лежать Ив. Дем. все же не моги потому почти все дни и ночи проводил в сидячем положении. Только, бывало, ляжет, как спазмы начинали его мучить и заставляли подыматься. В таком состоянии он пробыл до утра 25 числа. Ночь с 24 на 25 июня покойный провел особенно скверно. Рано утром (25 июня) он призвал одного из рабочих и попросил, чтобы ему подали супу. Съев одну тарелку, он попросил другую, после чего выпил еще два стакана чаю. «Нет, ничего не помогает, — сказал он, полагая, что пища и питье окажут на него хорошее влияние и дадут ему возможность хоть немного вздремнуть, — видно, сегодня мой час настал». Незадолго до полудня его схватила сильная одышка. Уже одними лишь жестами, без слов покойный дал понять жене, чтобы ему прикладывали холодные компрессы к шее, после которых одышка его оставила. Но моментально вслед за этим кровь хлынула из носу и, застаиваясь в горле, свертывалась в густые комки, которые он сам, а также и жена его старались вытаскивать оттуда при помощи пинцета. В это время покойный Ив. Дем. старался подготовить жену. «Подготовься, Маша, к страшному удару и будь мужественна в несчастье», — сказал покойный Ив. Дем. жене. Он не терял сознания до последней минуты и даже делал распоряжения о том, какие лекарства подавать жене и какую нужно будет оказать ей помощь на случай, если ей сделается дурно.
За 3–5 минут до смерти покойный Ив. Дем. сидел, опустив голову на руки, и о чем-то, кажется, думал. Но, услышав разговор жены с сыном, разговор о том, как сын должен поступить со всеми оставшимися после Ив. Дем. бумагами, в случае если она (жена Ив. Дем.) не выживет после его смерти, поднял голову и стал прислушиваться к этому разговору, и, когда разговор был окончен, произнес, обращаясь к сыну: «Саша, слушай и исполняй!» — и с этими словами умер.
Ив. Дем. скончался на реке Прорве, куда часа за два до смерти жена его пристала, предвидя близкую кончину мужа. Но как только он скончался, поднялась буря, которая помешала дальнейшему плаванию и задержала весь экипаж на этом месте в течение 3-х суток. Тело покойного Ив. Дем. было положено в один из карбасов и укрыто брезентом и корой, чтобы предохранить его от влияния дождя и снега. На четвертые сутки буря утихла и экипаж тронулся дальше до Омолона (30 верст от Прорвы), оставив на месте кончины Ив. Дем. большой деревянный крест. На Омолоне тело покойного Ив. Дем. пролежало еще трое суток, пока юкагиры, населяющие это место, копали могилу и ладили гроб. 1 июля в 4 часа пополудни был совершен обряд погребения и тело покойного засыпалось могильной землей.
Женою покойного Ив. Дем. заказана деревянная ограда вокруг могилы, за Постановкой и содержанием которой в исправности обещал следить среднеколымский исправник Владимир Гаврилович Карзин.
Марфа Павловна Черская выедет отсюда (из Средне-Колымска) по первому зимнему пути — в последних числах октября».
…Согласитесь, что тогда, на Колыме, у меня появились основания и для раздумий о подвиге, о человеческом мужестве, и для грусти, с которой всегда вспоминаешь ушедших из жизни, да еще так ушедших. И я вспоминал тогда не только Черского. На теплом по-летнему колымском берегу я видел зимние полярные льды, запряженные собаками нарты… Продовольствия в нартах лишь на половину пути — туда, до полюса… В нартах лежит обессиливший больной человек с компасом в руках. Он следит, чтобы его спутники из жалости к нему не повернули обратно — строго на север должны идти они, идти до конца…
Да, всем памятен подвиг Георгия Седова, до последнего вздоха шедшего к своей цели. Памятен по праву, но особый ореол придала подвигу цель — Северный полюс! Цель Черского — не столь ярка и заманчива, не столь романтична — исследование Колымы и Приколымья, — но с точки зрения человеческой подвиги этих двух исследователей равнозначны.
И удивительно сплетение судеб их — Черского и Седова. Такое и нарочно, не придумаешь!
Марфа Павловна выполнила обещание, данное мужу, и довела карбасы экспедиции до Нижне-Колымска, но устье реки осталось неизученным. Эстафету от Черских принял Седов: в 1909 году он возглавил экспедицию, подробно описавшую устье Колымы. А пятью годами позже больной, как и Черский, и тоже знающий, что он погибнет, Седов повторил подвиг Черского среди льдов полярного океана.
Я думал об этом под ровный гул моторов самолета, и еще я думал, что к юго-западу от нас — мы удалялись от него — находится могучий горный хребет, который носит имя Черского…
И вот опять мои пути-дороги пересеклись с давним маршрутом знаменитого путешественника, и на этот раз пересеклись основательно: день за днем буду идти я по тем местам, вдоль тех же рек и через те же перевалы, по которым проходил караван Черского… Так и было: мы прошли по долине Иркута, поднялись на плато Нуху-дабан, спустились в долину Оки… И однажды пришло мне странное чувство — чувство возвращения на север, к тем местам, где закончил свои дни Черский. Это случилось на перевале Нуху-дабан. Мы поднялись выше леса, и началась гольцовая зона — высокогорная тундра. Здесь еще лежали снежники и холодные ручьи звенели среди камней. А вдоль ручьев, у края снежников, буйно цвели мои давние знакомцы — полярные цветы, и что-то похожее на ликование охватило меня. Я вспоминал Чукотку, вспоминал Охотское море, и все, что было и ушло, сейчас вдруг собралось здесь, на перевале Нуху-дабан, и под чавканье копыт по болоту верилось в торжество жизни, в доброту, в протянутые через время дружеские руки…
Я остался собирать гербарий, а караван пошел дальше. Наш проводник Дамба вел его по какой-то неразличимой издали тропке, и караван то исчезал за скалами, то появлялся вновь, медленно приближаясь к голубому озерку, врезанному в рыжие тундровые берега… Я уложил растения в гербарную папку, и когда поднялся и отыскал караван, то увидел, что он остановился — меня ждали.
На берегу озера с неподвижной, вблизи коричневатой водой я спросил Михайлова, кто присвоил горам на северо-востоке Сибири имя Черского. Я помнил, что горы эти открыты недавно, но не знал, кем именно.
— Обручевым, — ответил Михайлов. — Сергеем Владимировичем Обручевым.
Неожиданные коррективы
В том году в Саянах снегопады начались рано, и осенью мы выходили из гор трудно. Очередной сильный снегопад настиг нас в ночь перед подъемом на перевал Саган-Шулуты. За перевалом начиналась река того же названия, и по ущелью ее мы рассчитывали спуститься в Мондинскую котловину. Будь в отряде все благополучно, мы преодолели бы все расстояние за полтора дневных перехода, но, к несчастью, одна из лошадей сильно повредила себе заднюю ногу, и двигались мы в последние дни медленнее, чем обычно.
Утром, когда лагерь проснулся, все уже было скрыто под снегом, и снег продолжал идти, бесшумно опускаясь на скалы, на палатки, на вьючные сумки… Больной конь лежал, вытянув худую шею, и от мокрого бока его шел пар.
Посоветовавшись за завтраком, мы решили переждать снегопад из-за больной лошади. Снег скрадывает камни, кочки, рытвины, и коню придется трудно — так думали мы. Вскоре, однако, стало очевидным, что надежды на прояснение нет — снег все усиливался, и тогда проводник заволновался. Опять же — вот житейская диалектика! — из-за больной лошади решено было срочно свертывать лагерь и уходить. Во-первых, коня легче провести по перевалу, пока снег не Очень глубок, а во-вторых, трава скрыта снегом, разрывать который трехногому коню не по силам, и кормить его нечем: как все местные лошади, конь не ест даже хлеб.
Итак, с некоторым опозданием, рискуя не одолеть перевал до темноты, мы все-таки вышли в поход.
Если не считать переправы через незамерзшие, но замерзающие реки, то самым трудным оказался не подъем на перевал, а путь по перевалу. В отряде нашем и до несчастья с рыжим конем не было полного комплекта лошадей — двое поочередно шли пешком, — а теперь пеший отряд увеличился до трех человек.
Я вел больную лошадь. Как на грех, перевал оказался сильно заболоченным. Болота чередовались с россыпями скользких острых камней, скрытых снегом. Болотная жижа еще не замерзла, конь то и дело по брюхо проваливался в трясину, и вытаскивать его оттуда приходилось чуть ли не на руках, потому что он не мог отталкиваться больной ногой. Немногим легче было и на курумах, где конь проваливался в невидимые расщелины, оскальзывался, сбивая себе в кровь щиколотки.
Мы тоже и увязали в трясине, и падали, поскользнувшись на камнях. Я насквозь промок почти до пояса, но настроение у меня было превосходным: я прощался с Сибирью, прощался с горами, и такой заключительный аккорд тогда меня вполне устраивал!
А снег — густой и липкий — не прекращался ни на минуту. Сильный ветер нес его почти параллельно земле, и многослойная кисея скрывала горы, скрывала караван, едва мы с рыжим застревали в очередной колдобине, но искать караван мне потом не приходилось: буро-желтая перекопанная тропа точно указывала его путь.
Честно говоря, при такой дороге не до любования пейзажами, как бы хороши они ни были. Я смутно помню размытые очертания близких сопок, черноту отвесных скал, черную змейку на дне глубокого незамерзшего каньона… Запомнились отчетливо только две как бы вырванные из общего ряда картинки… Спустившись на дно поперечной лощины, я потащил лошадь, перекинув повод через плечо, на крутой противоположный склон. Ветра в лощине не было, снег падал ровно, но едва мы вышли на бровку, как порывом ветра словно приподняло белую пелену, и вдалеке я увидел караван: плотно запахнувшись в плащ-палатки и укрывшись от ветра за коричневой отвесной скалой, меня поджидали мои спутники, а лошади, сгрудившись, все стояли хвостами к ветру, низко опустив головы… Взлетевшая было пелена вновь опустилась к земле, и бесчисленные штриховые линии быстро-быстро замазали белым картину… А под вечер, когда мы спустились к лесному поясу, нам открылся совершенно неожиданный пейзаж. У верхней границы леса лиственницы почему-то не пожелтели, а стали янтарными. Черные с подветренной стороны стволы их казались озаренными янтарным сиянием, а дальше все было мутно-белым, словно художник нарочно не дорисовал задний план, чтобы ярче выделить черно-янтарные деревья…
Силы были уже на исходе, когда мы шли по лесу, но глаз автоматически продолжал фиксировать детали, из которых особенно запомнилась мне одна, странная: все без исключения деревья пожелтели, но сломанные ветки на них оставались еще свежезелеными.
Заночевали мы в снегу, на крохотной площадке в ущелье над рекой, а потом был еще один трудный день, и вновь мы разбили лагерь уже в Мондинской котловине, в осиннике, и крепко уснули — уже ни о чем не заботясь — под шелест вечно трепещущих бронзовых листьев…
Потом были еще маршруты (но уже на машине) по Тункинской котловине, потом ночевали мы в Култуке на берегу Байкала, и солнце, на несколько секунд показавшись из-за туч, упало алой каплей в его черные волны… И — Москва.
А в Москве очень скоро обнаружилось, что в ближайшее время мне не удастся изменить род занятий и переквалифицироваться в биогидролога. Причин тому было несколько. Во-первых, для биогидрологических работ требовалась солидная экспериментальная база где-нибудь на берегу моря, а ее не оказалось. Во-вторых, и самими специалистами работы эти велись от случая к случаю и постепенно заглохли. В короткие же аспирантские годы все подымать заново самому и налаживать было более чем сложно — нереально. В-третьих, я числился аспирантом на кафедре физической географии СССР, и у кафедры имелись свои виды на меня. В-четвертых, мои собственные интересы постепенно обрели иное направление: меня увлекла тогда еще совсем слабо разработанная теория физической географии… Короче говоря, я довольно легко смирился с неосуществимостью своих прежних намерений, и теперь, много лет спустя, только рад этому.
Но чего я определенно не хотел, так это возвращаться в Саяны, в тот же самый район. Меня влекли иные дали, мне требовался географический простор, и мысленно я уже странствовал по горам и пустыням Средней Азии. Но… Вот это самое «но» оказалось настолько весомым, что и тут я потерпел фиаско.
Существовали моральные обязательства — меня устраивали в экспедицию несколько, так сказать, необычным путем, и теперь сбегать из нее было неприлично. Существовали обязательства деловые. Восточно-Сибирская экспедиция вела исследования, необходимые для только намечавшихся тогда больших строительных работ на Ангаре у Иркутска, и нашему отряду, в частности, предстояло решить, можно ли проложить железную дорогу в верховьях рек Иркута и Оки. Поскольку за первый сезон осмотреть весь район мы не успели, то в следующем сезоне продолжить исследования разумнее всего было бы прежними «главными силами»… Существовало, наконец, мнение кафедры, — правильное, как я теперь понимаю, мнение: нечего метаться по стране, и раз уж я попал в Саяны, то там и должно мне провести основательные исследования.
Вот так «железная» логика обстоятельств пресекла все мои фантазии и точно определила маршрут будущего года: Москва — Иркутск — Монды — и далее по усмотрению начальства.
И когда все это окончательно определилось и утряслось, мне не осталось ничего больше, как засесть за литературу по району.
Я начал с той статьи Обручева в «Известиях ВГО», которую читал в Мондах Михайлов, и сразу же вернулось ко мне прежнее ощущение второй встречи с Черским и захотелось узнать подробности об экспедиции, открывшей хребет Черского. Теперь, в Москве, это было нетрудно, а вскоре с помощью букинистов я даже стал обладателем весьма потрепанной и утратившей несколько страниц книги «В неведомых горах Якутии». Написал ее Сергей Владимирович Обручев, а вышла в свет она в 1928 году. Книга эта настолько хороша и увлекательна, что обидно пересказывать ее в нескольких строках. Но что поделаешь?
Итак, интереснейшие события, которые мне предстоит скучно изложить, происходили в 1926 году.
После долгих и трудных хлопот инициатору и руководителю экспедиции на северо-восток нашей страны С. В. Обручеву удалось получить необходимые средства на исследование бассейна Индигирки — огромного «белого пятна» на карте нашей родины. Вместе с прилегающими географическими, и тоже неисследованными, районами «белое пятно», достигало по площади чуть ли не миллиона квадратных километров!.. Сложись судьба Черского иначе, «пятно», видимо, заметно сократилось бы в размерах… А после Черского в течение тридцати пяти лет географические экспедиции не посещали северо-восточных районов Азиатского материка.
И вот экспедиция в Якутске. В ее составе кроме начальника горный инженер В. А. Протопопов, горный техник И. Н. Чернов и геодезист К. А. Салищев. В те годы, когда я учился на геофаке, Константин Алексеевич Салищев, уже профессор, заведовал кафедрой картографии, я постоянно видел его на факультете, и это придало какой-то особо приятный оттенок моим изысканиям.
Из Якутска путь экспедиции лежал на северо-восток, и был этот путь параллелен той караванной тропе, по которой ехал на Колыму вместе с женой и сыном Иван Дементьевич Черский. За три с половиной десятилетия до Обручева, уже миновав верховья Индигирки, Черский встретил горные хребты и замерил их простирание. Вопреки прежним представлениям хребты эти тянулись не вдоль основных рек района — Индигирки и Колымы, а поперек, в сторону большой низменности, изображенной на картах в верхней части бассейна Индигирки.
Эту низменность и намеревалась исследовать в первую очередь экспедиция С. В. Обручева. И на месте низменности она обнаружила девять горных цепей высотой до двух с половиной тысяч метров, а кое-где и более того.
Отнюдь не только к этому неожиданному открытию свелись научные результаты экспедиции. Нам сейчас важен, однако, именно этот результат, потому что, вернувшись в Ленинград и сделав доклад об открытиях в Географическом обществе СССР, С. В. Обручев предложил назвать обнаруженные им горные цепи хребтом Черского, и предложение его было принято.
Так появилось имя Черского на карте нашей страны.
Помните? — в разговоре со священником Сучковским Черский шутливо говорил, что рад умереть на севере: когда-нибудь труп его будет найден нетленным в вечной мерзлоте, выставлен в музее, и, таким образом, некий геолог увековечит его имя…
С. В. Обручев заканчивает свою книгу так: «Желание Черского исполнено, но иначе: его памятник — в 1000 километров длины, 300 ширины и до 3000 метров вышины; по площади больше Кавказа и выше всех гор Северной Сибири[12]. Это, быть может, последний большой хребет, который можно открыть на земном шаре».
…Я не придерживаюсь наивных, на мой взгляд, приемов некоторых романистов, если уж изображающих героя, то героя по всем статьям: и ростом чтоб вышел, и в плечах чтоб косая сажень, и взор чтоб не меньше как орлиный… И все-таки удивительно несоответствие облика Черского его делам. Вот передо мной его фотография — фотография человека физически явно не сильного, скорее даже болезненного. Длинные волосы аккуратно расчесаны на косой пробор. Высокий с большой левой залысиной лоб. Небольшие глаза за очками в железной оправе; глаза чуть грустные, внимательные, добрые; взгляд их не очень уверен и слегка насторожен, словно Черский все время боялся кому-нибудь причинить боль, и боялся, что боль причинят ему. Лицо несколько удлиненное или кажется таким из-за небрежной, никак не подстриженной бороды… Сельский учитель, великовозрастный семинарист…
А Черский начал самостоятельную жизнь бурно — с оружием в руках. Был он литовцем по национальности, родился в Виленской губернии в 1845 году, а в 1863-м уже сражался в рядах польских повстанцев против царского режима. Он пережил поражение восстания, пережил плен и с недрогнувшим сердцем отправился в ссылку в Сибирь. Впрочем, это была не простая ссылка — Черского забрили в солдаты и послали служить в Омск.
Пять лет тянул солдатскую лямку этот действительно слабый физически и болезненный человек, и не только тянул, но еще и усиленно занимался самообразованием. И даже увлекся геологией под влиянием известного путешественника по Центральной Азии Г. Н. Потанина.
В 1869 году Черского демобилизуют по болезни, и, все еще оставаясь под надзором, он вскоре переезжает в Иркутск, где живое участие в судьбе ссыльного принял крупный сибирский географ А. Ф. Усольцев.
И там, в Восточной Сибири, геолог-самоучка, не имевший никакого специального или даже систематического образования, проводит серию блестящих исследований, работая в Сибирском отделении Русского географического общества. Он странствует по Саянам и Прибайкалью, он производит первое детальное геологическое изучение Байкальского побережья и составляет подробную карту. Он публикует статьи и книги по геологии и географии Сибири, большую палеонтологическую монографию о послетретичных млекопитающих, предлагает, наконец, первую геологическую схему строения всей Сибири, которой потом широко пользуются западноевропейские ученые (крупнейший европейский геолог того времени Эдуард Зюсе потом назовет ее «изумительной и далеко опередившей тогдашние воззрения»).
В 1875 году по ходатайству Географического общества Черского амнистируют, но он продолжает жить в Сибири, в той Сибири, что сначала поневоле, а потом и по привязанности стала его второй родиной… Лишь в 1885 году он переехал в Петербург, причем по пути провел геологические исследования вдоль всего тракта от Байкала до восточного склона Урала… Он совсем неважно чувствовал себя уже тогда, когда добивался в Петербурге организации своей последней экспедиции…
Согласитесь, что после ознакомления с событиями столь крупного географического, да и человеческого, масштаба, после всех моих раздумий о них, — после всего этого возвращение — пусть пока по литературе, — на мондинско-иркутский наш «пятачок» не могло не показаться мне скучноватым. Сначала я обнаружил лишь одно светлое пятно — статью самого Черского, напечатанную в 1881 году в «Известиях Восточно-Сибирского отделения Русского Географического общества». Статья называлась «К вопросу о следах древних ледников в Восточной Сибири», и писалось в ней в том числе и о нашем районе… Но дальнейшее знакомство с литературой существенно подправило мое настроение.
Возвращение
Когда транссибирский экспресс вновь увозил нас из Москвы в Иркутск, память моя уже была отягчена содержанием доброго десятка статей и книг, посвященных району наших работ. Я весело переносил «отягчение» не только потому, что в молодую голову можно вместить без всякого ущерба для нее черт те сколько полезных и бесполезных сведений, но еще и потому, что предчувствовал вероятность научного спора, и очень привлекала меня тогда возможность скрестить с известными многоопытными исследователями свою шпагу… С Сергеем Владимировичем Обручевым в первую очередь, кстати сказать.[13]
В Иркутске меня ожидал сюрприз. Географ и краевед, знаток Сибири Василий Иннокентьевич Подгорбунский однажды затащил нас в библиотеку Иркутского отделения Географического общества и, между прочим, показал… рукописный дневник Черского! Вот она передо мной — линованная тетрадь в жестком переплете; неровный некрасивый почерк, выцветшие лиловые чернила… Отличным, навсегда врезавшимся в память штрихом остался для меня этот крохотный эпизод.
И вот мы снова в Мондах. За год ничего не изменилось в пределах котловины, но изменилось мое отношение к ней, если можно так выразиться. Теперь я уже не окидывал равнодушным взглядом ее склоны, теперь меня интересовали и современные террасы вдоль Иркута, и древние конгломератовые и особенно уступы на северном склоне котловины, которые всеми почти исследователями признавались за морены.
Я покривлю душой, если стану утверждать, что при первом же взгляде на мондинские ступени усомнился в их ледниковом происхождении. Вовсе нет. Но в Москве, вспоминая наш прошлогодний маршрут вверх по долине Иркута, я никак не мог припомнить там сколько-нибудь очевидных следов работы ледника… Ледник оставляет после себя корытообразную, или, как мы говорим, троговую, долину с ровным дном и сглаженными склонами, а долина Иркута была типично эрозионной — ее пропилила река… Или я чего-нибудь не заметил?.. Ведь и П. И. Преображенский, и С. В. Обручев определенно утверждали, что, начинаясь высоко в горах, в Ильчирской котловине, Иркутский ледник достигал Мондинской и, по Обручеву, спускался еще ниже, имея в длину чуть ли не двести километров.
Что в Ильчирской котловине некогда лежал ледник — я знал, потому что своими глазами видел котловину прошлым летом. Но как могло случиться, что следы ледниковой работы сохранились в котловинах, а между ними их нет?
Короче говоря, во всем этом мне очень хотелось разобраться, а решение загадки имело бы, между прочим, не только теоретическое, но и практическое значение. Дело в том, что высокогорные пастбища находятся, как правило, в древних ледниковых долинах с ровным днищем, а в узких эрозионных для пастбищ просто нет места… Если некогда в Саянах существовали мощные, в сотни километров длиной, ледники, то, очевидно, Восточный Саян располагает значительным резервом еще не используемых пастбищ для животноводства. Если же ледники были маленькими, то при дальнейшем увеличении поголовья скота придется изыскивать иные резервы кормов… Стало быть, я только обрадовался бы, подтвердись точка зрения Обручева… Но на сомнения меня наводили не только собственные наблюдения. Я помнил и о противоположной точке зрения… Черского. Да, в той статье, о которой я упоминал выше, Черский определенно писал, что в бассейне Иркута и Китоя в послетретичное время лежали маленькие ледники, а вовсе не такие грандиозные, какими представлял их себе Сергей Владимирович Обручев.
Итак, мне предстояло вмешаться в их заочный спор.
По первоначальным планам отряд наш должен был вновь перевалить через Нуху-Дабан и потом уйти далеко вниз по долине Оки. Уже на месте, взвесив все «за» и «против», Николай Иванович предложил мне отделиться и детально исследовать заинтересовавший меня район, чтобы разобраться в его прошлом.
На том и порешили. А чтобы сразу взять «быка за рога», мы изменили маршрут и пошли в горы не через Нуху-Дабан, а вверх по долине Саган-Шулуты, по той самой, по которой убегали от снегопадов минувшей осенью. А суть дела вот в чем: Саган-Шулута глубоко врезается в склон Мондинской котловины, и мы надеялись, что она поможет нам проверить подлинность морен, вскрыв основания ступеней.
Не знаю, почему эта простейшая мысль не пришла в голову никому из предшествующих исследователей. Сергей Владимирович Обручев, правда, передоверился своему помощнику и потом взял его выводы за основу своей гипотезы. Мы же легко убедились, что ступени — из плотных коренных пород, что это скалистые уступы, лишь сверху прикрытые рыхлыми отложениями. Ни о каких моренах, таким образом, говорить уже не приходилось.
Покачиваясь в седле, я с удовольствием размышлял о новых доказательствах против гипотезы Обручева, когда заметил, что ехавший впереди каравана проводник Дамба остановил коня и что-то говорит Михайлову, показывая вокруг. Подъехав ближе, я понял, что мы находимся на той площадке, на которой провели прошлой осенью последнюю ночь в горах… Еще торчали из земли колышки для палатных растяжек, торчал из ствола лиственницы клин, вбитый для конской упряжи, чернело незаросшее костровище… Но тогда косыми струями несся мимо нас снег, тогда кедры сбрасывали на нас сырые холодные пластины, а теперь цвели цветы, зеленели травы, и лишь черный круг от нашего костра напоминал о прошлогодней буре… И о тех, кто был с Нами в прошлом году, а теперь работал совсем в иных краях. На Обском севере, например. В такой же глуши — в такой, что ни письма не пошлешь, ни телеграммы…
Конь, несколько раз нетерпеливо дернув поводья, самостоятельно принял решение догонять караван.
В Ильчирскую котловину отряд наш спустился днем. Пока мы развьючивали лошадей, Михайлов, устроившись на теплом валуне, занялся какой-то писаниной.
Писал он долго, сосредоточенно и, судя по результатам, успешно, ибо вышло из-под его пера:
«ПРЕДПИСАНИЕ»
младш. научному сотруднику Саянского отряда И. М. Забелину!
А в «Предписании» говорилось: «В соответствии с общим планом работ Саянского отряда Восточно-Сибирской экспедиции НИИГ на 1949 г. Вам предлагается произвести следующие работы:
1. Площадное ландшафтное обследование Ильчирской и Мондинской котловин и окружающих их склонов горных массивов Тункинских и Китойских гольцов.
2. Маршрутное обследование участка дорожной трассы в районе ее спуска с Центрально-Саянского нагорья в область Тункинского межгорного понижения.
…Во второй части задания следует обследовать маршрутами 2 варианта спуска дороги с плато Центрального Саяна: а) от озера Окинского или Сусер в долину р. Иркута, к устью Белого Иркута (с визуальной, сверху, оценкой проходимости долины Иркута ниже устья р. Тумелик) и б) от Ильчирской котловины по долине р. Ихе-Ухгун с выходом к поселку Мойготы или Туран.
В результате работ должна быть дана предварительная оценка проходимости этих вариантов и выбран наиболее рациональный.
…Для выполнения полевых маршрутов Вам выделяется на 2,5 месяца проводник с окладом в 450 р. и 2 верховые лошади».
Вот так я превратился из рядового в главнокомандующего, и, когда уменьшившийся почти вдвое отряд Михайлова скрылся в долине Иркутного Гаргана, обозрел поле предстоящих научных сражений.
Не очень-то величественным выглядело оно, это «поле». Бурое, в мочежинах, болото. Спокойная, с угловатыми камнями на дне, река — Черный Иркут, вытекающая из озера Ильчир. Редкостойный лиственничный лес и тот лишь на склонах, где посуше. На болоте — ерник, круглолистная березка, карликовые ивы, болотный рододендрон, курильский чай с желтыми «кнопочками» цветов, редкие стебельки белой горечавки; осока еще, конечно, и ситник. Каменистые холмы. Сглаженные сопки за ними. И низкое мокрое небо. Вот и все.
По предложению моего проводника Балагына, добрейшего круглолицего бурята, мы оставили все наше имущество на сухом холмике и налегке верхами отправились вниз по Черному Иркуту к устью Тумелика.
Как вы, наверное, заметили, в выданном мне «Предписании» о древнем оледенении не говорилось ни слова. Но проблема эта присутствовала в «Предписании», так сказать, незримо. От прошлого края зависело распределение современных ландшафтов. И от прошлого края зависело… дорожное строительство: одно дело, если ледники сгладили и расширили речные долины, и совсем другое, если реки текут в узких крутосклонных ущельях…
В устье Тумелика я оставил Балагына с лошадьми, а сам полез на вершину гольца, чтобы, согласно «Предписанию», сделать «визуальную, сверху, оценку проходимости». Лез я долго и даже порядочно устал, потому что еще не втянулся в работу, но когда вышел на вершину, то забыл и про усталость, и про все прочее: ничего более красивого в Саянах я еще не видел!.. В описаниях, претендующих на художественность, такие места обычно называют «дикими»: узкие, как след гигантского меча, ущелья с белыми нитями рек по дну, редкие деревья, цепляющиеся за неразличимые сверху уступы на почти отвесных скалах, каким-то чудом проложенные звериные тропки, рыжие под блеснувшим солнцем вершины гольцов… Я все стоял и стоял на пронизывающем ветру, любуясь открывшейся картиной, и лишь с большим запозданием, очень медленно поднялась откуда-то из глубины, постепенно проясняясь, мысль: ледников здесь, конечно, никогда не было и никогда Ильчирский ледник не спускался по Иркуту в Мондинскую котловину.
…Уже осенью, когда вовсю снежило, мы с Балаганом, закончив все основные исследования в верховьях Иркута и Китоя, заночевали под перевалом Тумелик. Переход до перевала был пустым, без работы. Я по обыкновению шел пешком (моя лошадь — под вьюком) и от нечего делать швырял палку в то и дело вспархивающих куропаток. К концу дня я под набил руку, и один из моих бросков, достиг цели, что вызвало бурный восторг восседавшего на лошади Балагына. «Совсем шкура не портил — в голову попадал!» — с несвойственным ему темпераментом восклицал он чуть ли не через каждые сто шагов. На ночлеге Балагын действовал с необычной энергией, сам натаскал воды, сам ощипал куропатку, и мы сварили из нее пшенный суп, оказавшийся весьма наваристым.
А после ужина Балагын, ненадолго отлучившись, вернулся к костру с ветками можжевельника, или арсы, как его там называют. Он положил ветки на еще раскаленные угли, на ветки выскреб остатки пшена из котелка, добавил к ним несколько птичьих косточек и присыпал все это щепоткой сахара… Удачливый день с куропаточьим супом остался уже позади, а наутро предстоял дам нелегкий путь по долине Ихе-Ухгуна, имевшей дурную славу: разумно было на всякий случай ублажить всевышнего!
Пока Балагын занимался священнодействиями, я расстелил кошму и спальный мешок, повесил на колышки сырые ботинки и лег. Снег кончился. Сквозь размазанные по небу облака просвечивали звезды. В теплом спальном мешке приятно было дышать студеным горным воздухом и приятно было, глядя на звезды, думать и о том, что уже сделано, и о том, что еще ждало впереди.
Я расценивал свою работу на Ильчире как весьма удачную. Мне удалось установить, что в доледниковое время котловина имела наклон в сторону, противоположную современной, и, таким образом, Ильчирский ледник вообще смещался не к Иркуту, а к Китою. Котловину я теперь называл Ильчиро-Китойской. Ее перегородила морена, изменившая течение рек, но в тектоническом отношении истоки Иркута и Китоя были едины…
«Спор, таким образом, состоится, — думал я. — Во всеоружии новых фактов я непременно выступлю против Преображенского, против Обручева…»
Забегая вперед, скажу, что по своим материалам я написал и напечатал статью под названием «О характере последнего оледенения в верховьях рек Иркута и Китоя». Она не прошла незамеченной: Сергей Владимирович Обручев откликнулся на нее в работе «Восточная часть Саяно-Тувинского нагорья в четвертичное время», в которой отстаивал свою точку зрения. Я тоже не собирался сдаваться и опубликовал «Несколько замечаний к статье С. В. Обручева…».
Тогда, морозной ночью у перевала Тумелик, все это было еще в далеком будущем, а близким будущим был переход по Ихе-Ухгуну. Я знал, что он уже не внесет сколько-нибудь серьезных изменений в мои взгляды, и знал, что, несмотря на забавные предосторожности Балагына, день будет обычным — с болотными топями, с крутыми подъемами и спусками — один из многих почти одинаковых дней.
И потому менее всего размышлял я о предстоящем маршруте. Я думал о странном стечении обстоятельств: мне предстояло выступать на стороне Черского против исследователя, увековечившего его имя на географической карте…
История одного рудника
Труд и горе были неразлучны со мною.
И. П. АлиберБотогол
Ночь на 31 августа 1948 года наш небольшой физико-географический отряд Восточно-Сибирской экспедиции Московского университета провел у подножия Бельских гольцов, в самом центре Восточного Саяна. Утром нам предстояло подняться на перевал Батын-Дабан, а затем выйти к Ботогольскому графитовому руднику. Лагерь мы разбили на берегу небольшой прозрачной речки Тустук. Долину Тустука когда-то занимал ледник. Он сгладил соседнюю вершину, нагромоздил около нее моренный холм; одолеть выходы твердых коренных пород ледник не смог, и они сохранились в виде останца-ригеля; поперечная гряда морен, почти перегородившая долину, показывала, до какого места обессилевший ледник смог доползти.
Ночью прошел дождик, но к утру прояснилось и подморозило. Вышли в маршрут мы рано, когда тайга еще не успела согреться. Лишь на освещенных солнцем ветвях лиственниц ледяные иголки инея свернулись в радужные водяные капельки; промерзший моховой покров с хрустом ломался под ногами.
Километра через три тропа резко свернула в сторону и по притоку Тустука, речке Дабан-Джилге, стала круто подниматься. Вскоре мы взобрались выше лесного пояса; последние мелкие лиственницы еще отважно карабкались вверх по скалам, но потом и они отстали.
Высшая точка перевала Батын-Дабан находится на высоте 2273 метров над уровнем моря. Там, на небольшом плато в пределах гольцового пояса, мы взяли «точку», то есть описали местность и пополнили наш гербарий высокогорными растениями, ближайшими родственниками тех, что обитают в тундре на Крайнем Севере. Пока мы работали, небо затянуло белесовато-серой пасмурью. Сильный студеный ветер нес над перевалом мелкий сухой снег.
По другую сторону перевала снова начался лес, но не лиственный, а кедровый, с густыми зарослями бадана, плотные листья которого сушат и заваривают вместо чая. В тех районах Восточного Саяна, где мы до сих пор путешествовали, преобладала светлохвойная тайга и кедровый лес встретился нам впервые. Поэтому начальник отряда Николай Иванович Михайлов и я остались, чтобы Собрать гербарий, а все остальные пошли дальше, спеша к руднику. Здесь, в кедровом лесу, уже сказывалась разница в высоте; снег сменился мелким дождем. Ждать улучшения погоды не приходилось. Того и гляди мог зарядить настоящий дождь, и мы времени даром не тратили.
Чем ниже спускались мы по склону Бельских гольцов, тем хуже становилась дорога. Мы вели трех лошадей — верховую и двух вьючных, а тропу перегораживали то завалы из кедровых деревьев, то гигантские корни. Крутые спуски, рытвины чередовались с такими узкими Проходами между стволами, что лошади с вьюками застревали, и нам несколько раз пришлось снимать с лошадей груз. Из-за непрерывной возни с вьюками да еще потому, что вот-вот должны были мы прийти в Ботогол и разбить лагерь, ни я, ни мой спутник не обращали внимания на дождь. А он все усиливался и усиливался. Ветер стих, и тучи плотно уселись на вершинах сопок, спустив в долины мутно-белые языки.
Наконец мы догнали наших товарищей и пошли медленнее. Некоторое время я еще срывал кустики Дымчато-синей, крупной и вкусной, как виноград, голубики, но руки быстро окоченели; тогда я спрятал правую в карман, чтобы она оставалась в «боевой готовности».
Дождь падал ровными тяжелыми струями. Текло за ворот, промокли спина и плечи.
Часа через два с половиной проводник Дамба вывел нас на ровную, хорошую для тайги дорогу. Похолодало уже настолько сильно, что к дождю начали примешиваться серые хлопья снега. А пока мы искали место для лагеря, дождь окончательно сменился снегом. Мы брели по болоту, увязая в трясине и чувствуя, что дело принимает серьезный оборот, — мы замерзали по-настоящему. Мужчины, что естественно, были прежде всего озабочены лошадьми и местом ночлега, а наши женщины, моя жена и коллектор Нина Бергер, у которых зуб не попадал на зуб, вдруг запели. Я не помню сейчас слов их песни, но я помню, что она казалась мне бессмысленной и что она раздражала меня. Но я знал: их нельзя сейчас останавливать, пусть поют что угодно. Пусть уж лучше поют…
После долгих поисков Дамба и Михайлов разыскали небольшую полянку, мы загнали туда лошадей и зубами развязали заледеневшие, набухшие узлы на вьюках. Поставив палатки, мы тут же на снегу разделись, бросили совершенно мокрую одежду, забрались в палатки и переоделись в сухое. Возиться с ужином никому не захотелось; все единодушно решили ограничиться горячим чаем.
Несмотря на усталость, холод, слякоть, что, как известно, не располагает к созерцанию красот природы, мы все-таки не смогли не полюбоваться великолепным Зрелищем: притихшая тайга была окутана густой снежной кисеей, которая то слабо колыхалась, то ниспадала ровно, почти не отклоняясь в сторону; лиственницы опустили ветви и застыли не шевелясь. Если бы не сырость, если бы не хлюпавшая под ногами грязь, право же, можно было бы подумать, что дело происходит не 31 августа, а под Новый год.
Снег шел всю ночь, не прекратился он и утром. Земля, кочки, пни, поваленные деревья — все скрылось под ним; снег повис на ветвях лиственниц, согнул в дугу тонкие деревца. Было так тихо, что мы слышали, как шуршат снежинки, скатываясь по тенту, как шипят они, попадая в костер. Изредка снежные комья срывались с деревьев, и мы невольно вздрагивали — так внезапно нарушалась тишина.
Ночью температура опустилась до трех-четырех градусов мороза; все подмерзло, и наст ломался под ногами. Мы развели огромный костер и устроили всеобщую сушку. Но едва взошло солнце, как снег снова стал мокрым, липким; теперь то, что мы сушили, сохло, а то, что было, надето, мокло. Комья снега, повисшие на лиственницах, стали влажными и скользкими; все чаще они срывались с ветвей, и ветви облегченно раскачивались, избавившись от тяжкого преждевременного груза. Тайга медленно, но верно очищалась от снега; только На земле лежало толстое, лишь чуть уплотнившееся покрывало да на пнях подобно шляпкам грибов сидели снежные колпаки.
Сушить одежду — занятие нужное, но не очень увлекательное. Коротая время, мы разговорились о Ботогольском графитовом руднике. На старых картах он именовался либо Мариинским, либо Алиберовским.
— Алиберовский, Алиберовский, — несколько раз повторил я, вслушиваясь в странное звучание этого слова.
— Купец такой, кажется, был, — не очень уверенно сказал Михайлов. — Алибер.
Купец?.. Не могу сказать, чтобы эта справка чем-либо заинтересовала меня. Правда, я подумал, почему именем купца назвали рудник?.. Впрочем, мало ли незаслуженной славы роздано на земле. Вот вам еще один пример. Но справедливость все-таки восторжествовала, и теперь все называют рудник Ботогольским, потому что он расположен на вершине Ботогольского гольца. Лишь на старых, никому не нужных картах сохранилось это странное название — Алиберовский…
Снег кончился. Выглянуло солнце, и с лиственниц полилась звонкая капель.
Михайлов и Дамба оседлали лошадей и поехали в поселок к управляющему рудником. Нам все-таки хотелось осмотреть этот маленький промышленный оазис в центре Саян, рудник, находящийся выше границы леса, на лобастой вершине, выскобленной ветрами.
На следующее утро, выбравшись из лесу и форсировав болото, мы выехали к рудничному поселку Ботогол. Он стоит на берегу одноименной речки, в неширокой пади у подножия огромного гольца. Невелик рудничный поселок — полтора-два десятка по-сибирски, не жалея места, раскинутых бревенчатых домов, выстроившихся в два ряда вдоль улицы, котельная с лесопилкой, кузница, магазин, вот, собственно, и все, что увидели мы. Около ста пятидесяти километров отделяют этот поселок от ближайшего селения. Сто пятьдесят километров бездорожья, узких горных троп, завалов. Лишь зимой устанавливается более или менее сносная дорога по замерзающим рекам, и тогда из села Инга, что стоит у выхода из гор на автостраде, приходят за графитом обозы.
Разработки находятся метров на семьсот выше поселка, и рабочим каждый день приходится подниматься туда, делая по петляющей дороге около четырех километров в одну сторону. Эта вырубленная в скалах дорога тянется от поселка к разработкам; раньше по ней спускали графит, и за многие годы она почернела. Мне эта дорога почему-то показалась черной траурной лентой, вьющейся по белому снежному савану. Я снова подумал об Алибере, и как-то неуловимо сравнение это увязалось у меня с тем, что я успел узнать о купце.
— Дорогу еще Алибер строил, — прервав мои размышления, сказал начальник участка. — Так и служит с тех пор. Крепко он тут строил.
— Сколько ж она служит?..
— Годов сто, однако, не меньше.
Мы поднялись по этой столетней дороге на самую вершину, к разработкам, и там остановились. Прекрасный вид открылся нам оттуда на залесенные пади, на засыпанные снегом платообразные гольцы. На дальних склонах лес казался множеством темных точек, рассыпанных по белому полю. Безоблачно голубело небо, а вдали виднелось озерко — овальное голубое стеклышко, вставленное в каменный склон.
— Вот так и работаем, — сказал начальник участка. — Редкую декаду снегом нас не присыпает. — Заметив, что мы продолжаем любоваться окрестностями, он добавил:
— С Крестовой горки еще лучше вид, вон оттуда, — он махнул рукой в сторону.
Я оглянулся.
— Крест там, что ли, стоит?.. Почему Крестовая?
— Часовня раньше стояла. При Алибере еще. И после него, сказывают, стояла. Потом сожгли.
— Алибер, Алибер. Что ж, кроме этого купца, никого и не было тут?
— Как не быть, были, — равнодушно ответил начальник участка. — Так разве ж всех упомнишь?.. Пойдемте дальше что ли.
По дороге он рассказал нам, что разработки графита на Ботогольском гольце в настоящее время ведутся преимущественно открытым способом и только в Корнелиевском и Алиберовском штоках имеются подземные выработки. Рудник теперь в значительной степени механизирован — установлены компрессоры, сооружен бремсберг.
Мы вошли в штольню. У входа в нее по стенам сочилась вода, скапливаясь на полу в зеленоватые лужи. Шагов через двадцать картина резко изменилась: вода под ногами высохла, а стены засеребрились густым инеем; потом и иней исчез. Я, приложил руку к стене, и на серой поверхности ее остался темный отпечаток моей ладони: стена чуточку подтаяла.
Раньше мне приходилось бывать на медно-никелевых рудниках Мончегорска, апатитовых рудниках Кировска. Конечно, ботогольские штольни ни в какое сравнение не шли с теми первоклассными рудниками, оборудованными по последнему слову техники, с высокими подземными галереями, освещенными электричеством, и даже с буфетами под землей.
Но было в крохотном графитовом руднике что-то очень симпатичное, притягательное, вероятно, именно то, что он такой небольшой, что вокруг него почти незаселенные горы, глухая тайга, бурные реки, что даже летом чуть ли не каждую неделю засыпает его снегом, наконец, что гордо и независимо расположился он на вершине лобастого, с бритой макушкой Ботогольского гольца и вот уже сто лет добывают из его недр великолепный по качеству графит…
Больше ничего не удалось мне узнать в тот день о Ботогольском руднике и его основателе — купце Алибере.
На следующее утро мы еще раз проехали по широкой улице поселка, спустились по долине Ботогола к реке Хончен, а потом ушли в сторону по Хошиголу. Началась на редкость скверная дорога, дорога не в буквальном, конечно, смысле, потому что даже постоянные тропинки не проложены по берегам этих рек. Лошади то и дело по брюхо увязали в болоте, и нам приходилось прибегать к самым решительным мерам, чтобы заставить их подняться и идти дальше. Когда же кончилось болото, началась тайга, густая, заваленная буреломом. Колючие ветви хлестали нас по лицам, и тем, кто осмеливался ехать верхом, приходилось все время быть начеку: могло зацепить суком и выбросить из седла…
Вполне понятно, что в этот день я не мог позволить себе такую роскошь, как размышления о Ботогольском руднике, а потом было много еще таких же дней, были другие экспедиции, другие горы, города, страны…
Но все-таки о Ботогольском руднике и его основателе я не забыл…
Немножко рассуждений
Алибер… Уже теперь, много лет спустя, взявшись писать этот очерк, я задумался: что привлекло меня в этом человеке, в его судьбе?..
Так сказать, субъективная, личная сторона мне ясна. Да, я был в маленьком горняцком поселке, расположенном вдалеке от всяких, даже «грунтовых, неулучшенных» дорог; там я услышал имя Алибера. Я ничего, ровным счетом ничего не знал о нем раньше. О нем попросту всюду забыли. И помнили только в крохотном поселке Ботогол, который он покинул почти сто лет назад.
Вот в этом, пожалуй, и заключается главное: Алибера всюду забыли, а там помнили.
Почему?.. Чем заслужил он столь долгую память о себе?..
И я решил заняться изучением деятельности Алибера. Сейчас уже эта работа закончена. Но должен честно признаться, что я до сих пор очень мало знаю об Алибере. Зато я убедился, что раньше им интересовались многие, что жизнь его и деятельность изучались такими крупными учеными, как, например, А. Ферсман, И все-таки Алибера забыли. Я смог составить себе более или менее цельное представление только о главном деле его жизни: столетие назад он создал в совершенно необжитом, безлюдном районе Сибири, в центре Восточного Саяна, графитовый рудник, слава о котором разнеслась по всему миру. Да, по всему миру, потому что миллионы людей держали в своих руках немецкие карандаши Фабера, на которых было написано, что они сделаны из «сибирского графита Алибера», превосходного по своим качествам, не знающего конкуренции.
И постепенно я понял, что мой интерес к Алиберу, к его деятельности имеет не только субъективные, но и объективные причины и, конечно же, вторые значительно важнее, существеннее первых. Я говорю об общественной значимости жизни Алибера.
Думается, что тут мы коснулись одного чрезвычайно досадного, но разительного пробела в наших знаниях истории географии, пробела тем более обидного, что относится он к самой главной и светлой стороне человеческой деятельности. Я имею в виду покорение, преобразование природы человеком. Не открытие новых земель, а освоение уже открытых. Это следующий закономерный этап. Путешественники-первооткрыватели для того и прокладывали дороги в неизвестное, чтобы следом за ними пришли промышленники, люди с топорами и лопатами, пришли преобразователи.
Эта книга — рассказы географа. А имеет ли этот второй этап отношение к географии?
Да, имеет. И притом самое непосредственное. Во-первых, постепенный переход от описаний к изучению, а от изучения к преобразованию — это и есть особенность развития физической географии как науки. Но во-вторых, наряду с физической географией существует и экономическая география. Долгое время они были объединены, слиты в одну науку — единую географию. Теперь они существуют раздельно, хотя и сохранили многочисленные связи. У экономической географии есть своя история, первоначально в значительной степени общая с физической географией, затем самостоятельная.
Чем занимается физическая география, мы уже выяснили. У экономической географии свои, особые задачи, и о них придется коротко сказать.
У экономико-географов нет единого мнения о предмете своей науки. Я изложу в двух словах содержание этой науки так, как оно представляется лично мне.
Есть у нас так называемое отраслевое направление в экономической географии. У меня оно особых симпатий не вызывает, и вот по каким причинам. Представители «отраслевого» направления считают, что экономическая география — это наука о закономерностях размещения отраслей народного хозяйства при различных способах производства и о тех изменениях, которые вносятся в общие закономерности под влиянием местных условий; что размещение производства эта наука изучает в развитии, в динамике. Так, повторяю, думают представители «отраслевого» направления. Вообще в таких теоретических взглядах ничего порочного нет, вопросы эти должны изучаться, но беда в том, что к экономической географии все это имеет лишь косвенное отношение, ибо не дает этой науке своего особого предмета исследования: «размещение» таковым быть не может, а каждая наука, претендующая на самостоятельность, должна изучать или материальный объект, или какую-нибудь конкретную форму движения. Возьмем политическую экономию. Эта наука «выясняет законы, управляющие производством»[14]. Но производство всегда размещается по территориям стран, и политическую экономию, безусловно, интересуют особенности развития производства, скажем, в Соединенных Штатах и в Индии, в Англии и Китае. Современная история — это прежде всего история развития производства; но при развитии производства изменяется размещение отраслей народного хозяйства, и это, разумеется, интересует историческую науку. Так что сводить экономическую географию к изучению закономерностей размещения отраслей народного хозяйства — это значит рассматривать ее как второстепенную, подсобную дисциплину при истории и политической экономии.
Значительно любопытнее, своеобразнее «районное» направление, которое и представляется мне подлинной экономической географией. Представители районного направления считают, что предметом исследования их науки являются экономические районы. Дело в том, что различные отрасли народного хозяйства никогда не размещаются по территории более или менее крупной страны равномерно. В зависимости от исторических тенденций развития, от трудовых навыков населения, наличия природных ресурсов, неравномерности развития производства и отдельных его отраслей на территории крупных стран всегда складываются экономические районы. Если для примера взять Советский Союз, то едва ли придется доказывать, что такие экономические районы, как Средняя Азия и Север европейской части РСФСР, сильно отличаются друг от друга. Вот эти-то районы, а также особенности Их формирования и должна изучать экономическая география, потому что никакая другая наука этим не занимается.
Но как бы ни понимали экономическую географию, очевидно одно: она имеет дело с производством, с промышленностью и сельским хозяйством, она начинается с освоением открытых и изученных физико-географами пространств, территорий.
Именно в этом направлении и трудился купец Алибер. Он пришел в Саяны, в необжитой, еще слабо изученный район, разыскал там месторождение графита и создал превосходный по тому времени рудник. Он начал промышленное освоение этого далекого уголка Восточной Сибири, а Саяны до сих пор относятся к числу слаборазвитых в экономическом отношении районов страны.
Поиски
Поиски сведений о купце Алибере я начал с различного рода справочников. Разумеется, первым делом взялся я за второе изданий Большой Советской Энциклопедии. Открыв соответствующий том, я по алфавиту добрался до египетского султана Али-бея. Далее следовала статья «Алиби» — небезызвестный термин из области юриспруденции, определяющий такое положение, когда обвиняемый в момент преступления находится в другом месте. О купце Алибере же, как говорится, ни слуху ни духу. Не отчаиваясь, я немедленно взялся за пятый том, рассчитывал найти упоминание о Ботоголе. И нашел. Нашел статью о… Ботогольском гольце. В ней, очевидно из скромности, умалчивалось, что там имеется графит, который добывают уже около ста лет. Трудно придумать другое объяснение этому, потому что в следующем томе в статье «Бурят-Монгольская АССР» из этого факта не делается тайны.
Зато в первом издании БСЭ, в томе, вышедшем в свет в 1926 году, меня ожидала удача: там я обнаружил статью «Алиберовский прииск». Вот что написано в ней: «Алиберовский прииск расположен примерно в 300 км. от ю.в. от Иркутска. Прииск содержит виды графита превосходного качества, к-ый шел для выделки карандашей немецкой фирмы Фабера. Разрабатывался в 1848–1858 финляндцем Алибером, со смертью которого разработка прекратилась».
Это было уже серьезно, и я смог сделать некоторые выводы. Во-первых, Алибер по национальности, очевидно, был финном (финляндцем); во-вторых, он умер в 1858 году там же, где провел последние годы жизни, — в Саянах; в-третьих, с его смертью добыча графита прекратилась. Последнее не совсем соответствовало тому, что я слышал на руднике, но ведь ошибиться мог и начальник участка.
Я не успокоился на этом и продолжил поиски сведений о купце Алибере на страницах справочных изданий между «Али-беем» и «Алиби». И если теперь я очень твердо усвоил, что султан Али-бей родился в 1728 году в Абхазии, ребенком был продан в рабство, сумел, однако, выдвинуться и захватить власть в Египте, отчаянно дрался с турками и в конце концов раненым попал в плен к собственному зятю, который и отрубил ему голову, — если все это я очень хорошо усвоил, то мои сведения о финляндце Алибере почти не пополнились. Я надеялся, что старые словари окажутся более внимательны к нему, но надежды мои не оправдались. В Энциклопедическом словаре Брокгауза и Ефрона (1890 год) между «Али-беем» и «Алиби» я обнаружил Алибера, но… это был не тот Алибер, не купец, а французский придворный врач барон Жан-Луи. В трехтомном Энциклопедическом словаре, изданном под редакцией доктора философии М. М. Филиппова в 1901 году, я опять-таки обнаружил только врача Алибера. Зато в Русском энциклопедическом словаре профессора Березина (1873 год) между «Али-беем» и «Алиби» оказалось целых три слова: «Али-бей-эль-аббаси» (под таким именем странствовал по Африке и Азии испанский путешественник кавалер Доминго-Бадия-и-Леблинг), «Алибер» (врач) и, наконец, еще один «Алибер». Вот что прочитал я в этой последней статье: «Алибер, тавастгусский купец, известный открытием в Сибири богатой руды графита самого лучшего качества (см. Графит)». В Большой Энциклопедии (том I, СПб., 1902 год) в статье «Алиберовский прииск» сам Алибер назывался тавастгусским купцом, как и в предыдущем случае, но утверждалось, что рудник работал с 1847 по 1860 год, что, как вы сами видите, противоречит статье первого издания БСЭ. Кроме того, из справки следовало, что даже в 1902 году добыча графита продолжалась, правда в небольшом количестве, для нужд какой-то Иркутской лаборатории, занимавшейся переплавкой золота, из графита изготовляли плавильные тигли. В этой же статейке приводится латинское начертание имени Алибера — Alibert, и я обратил внимание, что пишется оно так же, как имя французского врача.
«Уж не француз ли Алибер? — подумал я тогда. — Что имя у него не русское и не финское — это же очевидно!»
И я заглянул во французские энциклопедические издания. Увы, в них непременно присутствовал врач Алибер, но даже в Большом Универсальном словаре Пьера Ларусса сибирский промышленник, вероятный уроженец Франции, не значился…
Тогда я решил расшифровать слово «тавастгусский». Это оказалось несложно. В прошлом на юго-западе Финляндии находилась Тавастгусская губерния. Центром ее был город, расположенный на берегу красивого, обрамленного хвойным лесом озера Ванайя-веси. Город этот имел два названия: шведское — Тавастгус (или, по теперешней транскрипции, Тавастехус) и финское — Хяменлинна.
Пожалуй, нет нужды излагать дальнейшие перипетии моих поисков. Как говорится, ищущий да обрящет. В конечном итоге поиски увенчались частичным успехом: в руки мне попала книга, большая, но не очень толстая, в крепком коленкоровом переплете красновато-коричневого цвета. Я помню, когда это случилось, — в мае 1956 года. Называлась она так: «La mine de graphite de Siberie, decouvert en 1847 par M. J. P. Alibert», а издана была в Париже в 1865 году. Моих знаний французского языка хватило, чтобы перевести заглавие «Сибирская графитовая шахта, открытая в 1847 году И. П. Алибером». Кажется, ценнее находку и вообразить нельзя, тем более что в подзаголовке разъяснялось, что в книге собраны отчеты и заключения академий, научных обществ и газет, относящиеся к сибирскому графиту.
Но самое любопытное заключалось в том, что на титульном листе книги имелась собственноручная дарственная надпись Алибера. Привожу ее полностью, сохраняя описку: «В Публичную библиотеку и Румянцевскую Музей. И. П. Алибер. Москва, 26 мая 1866 года». Придя в себя от неожиданности, я занялся анализом надписи. Во-первых, сделана она была, вероятно, красными чернилами, которые выцвели и стали коричневыми; почерк мелкий, с легким наклоном в правую сторону, четкий, исключительно ровный. Во-вторых, очень характерна подпись: буква «л» в ней не русская, а латинская, росчерк же в точности похож на лежащий скрипичный ключ. В-третьих, в верхнем левом углу наискось было поставлено: «№81». Очевидно, в руки мне попал восемьдесят первый экземпляр книги, преподнесенной Алибером к 26 мая 1866 года; также очевидно, что преподносил книгу человек в высшей степени аккуратный, привыкший к строгому учету, иначе бы он не нумеровал книги. И только в последнюю очередь сообразил я, что попала ко мне эта книга ровно через девяносто лет после того, как Алибер преподнес ее Публичной библиотеке в Москве.
Итак, в 1866 году Алибер находился в Москве и, следовательно, не мог умереть в 1858 году, как об этом сообщено в первом издании БСЭ. Впрочем, БСЭ частенько ставит такого рода задачи перед читателями. Например — тут уже речь идет о втором издании — в статье об актерах Васильевых сказано, что Васильев Павел Васильевич умер в 1879 году, однако в «1887 он еще раз пытался вернуться на императорскую сцену, но получил отказ». Я не осмеливаюсь в данном случае критиковать царских чиновников, потому что случай этот из ряда вон выходящий. Что же касается Алибера, то трудно было надеяться, что с ним повторилась точно такая же история. Впрочем, теперь я уже мог не тратить время на пустые догадки — нужно прочитать книгу, насчитывающую 134 страницы текста, и все загадки разрешатся сами собой.
И я подробно ознакомился с книгой. В ней действительно собраны официальные документы и сообщения, касающиеся сибирского ботогольского графита, из русских, английских, французских, немецких газет и журналов, причем все тексты переведены на французский. Надо признать, что попал я в забавное положение: со словарем в руках пришлось мне переводить с французского снова на русский статью какого-то журналиста Львова, опубликованную 15 августа 1859 года в «Иркутской газете», заключения различных русских научных обществ (в том числе Императорского русского географического общества), письма официальных лиц… Не очень благодарная работа, скажем прямо.
О том, что мне удалось узнать, — а удалось мне узнать не так уж много, потому что Алибер рекламировал не себя, а графит, — я расскажу несколько позднее, сведя воедино материалы, собранные мной по крупицам.
Пока же мы остановимся на следующем немаловажном обстоятельстве. Вся деятельность Алибера в Сибири проходила в те годы, когда генерал-губернатором Восточной Сибири был князь Николай Николаевич Муравьев-Амурский — человек в высшей степени примечательный, крупный государственный деятель, оставивший заметный след в истории нашей страны. Нам нет надобности вдаваться в детали биографии Муравьева-Амурского, но кое-что все-таки сказать придется, потому что в сборнике помещено письмо, которое генерал-губернатор направил Алиберу уже после того, к аж тот покинул Ботогол, а может быть, и Иркутск. В этом письме дается оценка деятельности Алибера в Сибири, и оценка очень высокая. Но чтобы понять значение этого письма, необходимо составить себе некоторое представление о Муравьеве-Амурском как о человеке и администраторе. Осуществить это не очень трудно, потому что земляки-дальневосточники не забывают о нем, и работы о Муравьеве-Амурском время от времени выходят в свет.
Губернатор
Николай Николаевич Муравьев, выходец из старинной дворянской семьи, родился в 1809 году, окончил Пажеский корпус — закрытое военно-аристократическое учебное заведение, сражался с турками в Болгарии, потом воевал на Кавказе. В 1841 году он имел чин генерал-майора, а в 1844 году ушел с военной службы и был назначен тульским военным и гражданским губернатором. Человек резкий, прямой, безусловно честный, он повел энергичную борьбу с губернскими неполадками, рутиной, бесстрашно указывал самому императору Николаю Первому на коррупцию чиновничества и так далее. О его решительности говорит хотя бы тот факт, что в 1846 году он подал на имя царя записку с предложением… отменить крепостное право! Для губернатора, что и говорить, это шаг весьма радикальный…
Насколько можно судить, именно этим своим поступком он и обязан тому, что попал на генерал-губернаторство в Восточную Сибирь. Требования Муравьева очень быстро надоели высоким государственным чиновникам, да и самому императору немало докучали. А тут еще отменить крепостное право!.. Выгонять человека умного, энергичного, в общем-то преданного самодержавию было бы непрактично. Это понимал Николай Первый. Но держать его в центре России слишком беспокойно. Лучше направить энергию этого человека на что-нибудь другое, например послать его в необжитой еще, дикий край, где ему некогда будет раздумывать о крепостных крестьянах.
Так или почти так, видимо, рассуждал император. Встреча самодержца с тульским губернатором состоялась рано утром в селе Сергеевском — Николай Первый ехал куда-то на юг. Едва Муравьев вошел, как император объявил ему о новом назначении. Должно быть, забавно выглядели они рядом — император, высокий, массивный, прямо-таки живой монумент, и маленький, подвижной, резкий в движениях Муравьев… Царские приказы не обсуждаются. Велев губернатору прибыть в Петербург за наставлениями, государь-император отбыл…
А свою деятельность на новом посту Муравьев начал весьма оригинально. Он сразу же, еще в Петербурге, взял под свое покровительство нелюбимого властями, очень беспокойного человека — флотского офицера Невельского, того самого, который потом исследовал Амур и окончательно доказал, что Сахалин — остров. Это во-первых. Во-вторых, по приезде на место он разогнал всех старых чиновников, взяточников и казнокрадов и окружил себя энергичными молодыми людьми; он даже осмелился привлечь на государственную службу политических ссыльных — декабристов, что было запрещена самим императором, Муравьев сумел несколько облегчить и участь жен декабристов княгинь Волконской и Трубецкой, замечательных русских женщин, последовавших в добровольное изгнание за своими мужьями. Ближайшим помощником Муравьева стал иркутский губернатор В. Н. Зарин — человек безукоризненной честности. Муравьев приблизил к себе А. Л. Шанявского, впоследствии основателя Московского народного университета, Н. М. Ядринцева, — известного публициста, этнографа, исследователя Сибири…
Н. Н. Муравьев много занимался проблемой заселения восточных районов нашей страны, особенно Приамурья и Приморья. Достаточно сказать, что главным образом благодаря его усилиям были основаны такие города, как Хабаровск, Владивосток, Николаевск-на-Амуре (Николаевск заложил в 1850 году Г. И. Невельской), а также десятки сел. Одним из самых крупных событий, связанных с именем Муравьева, было урегулирование пограничного вопроса с китайским правительством: Айгунский договор, а также некоторые дополнительные соглашения привели к установлению границ между Россией и Китаем. За успешное выполнение этого крупного государственного дела Муравьев был возведен в графы с, прибавлением к фамилии приставки Амурский.
Очень показательны отзывы современников о Муравьеве-Амурском. Герцен, например, говорил, что один Муравьев-Амурский стоит целого кабинета министров.
Известный ученый-географ и революционер-анархист П. А. Кропоткин писал следующее: «Пост генерал-губернатора Восточной Сибири в продолжение нескольких лет занимал замечательный человек — граф Н. Н. Муравьев. Он был очень умен, очень деятелен, обаятелен как личность и желал работать на пользу края… Ему удалось отделаться почти от всех старых чиновников, смотревших на Сибирь, как на край, где можно грабить безнаказанно, и он окружил себя большей частью молодыми, честными офицерами, из которых многие имели такие же благие намерения, как и сам он». Знаменитый русский писатель И. А. Гончаров, встретившийся с Муравьевым в 1854 году, писал: «В беседах с ним я успел вглядеться в него, наслушаться его мыслей, намерений, целей! Какая энергия! Какая широта горизонтов, быстрота соображений!..»[15]
Что и говорить, отзывы достаточно убедительны и выразительны, им невозможно не поверить. Да, Муравьев-Амурский был человеком принципиальным, дальновидным, умным.
И вот как он отозвался о первостатейном купце И. П. Алибере. Привожу основную часть его письма полностью:
«Монсеньер.
Выставка прекрасных изделий из графита, добытого в Вашей шахте, выставка, которую я сегодня осмотрел с большим интересом и с живым удовольствием в залах Сибирского отделения Императорского географического общества, заставила меня вспомнить о всех обстоятельствах, связанных с вашей пятнадцатилетней тяжелой работой в стране, так же как и о исключительной энергии, которую Вам пришлось проявить, чтобы достигнуть плодотворных результатов в таком обширном предприятии, как добыча графита.
Мне вспомнились трудности и препятствия, которые, казалось, должны были парализовать Ваши усилия; но благодаря настойчивости, восхитительной энергии, горячей вере в лучшее будущее и твердости, с которой Вы боролись с неудачами, Вы добились наконец желанных результатов, принесших Вам уважение и почет. Я Вас поздравляю от всего сердца и искренне радуюсь успехам Вашей светлой деятельности, за которую Вы ныне справедливо вознаграждены.
Я не могу также воздержаться от того, чтобы не воздать Вам должное за то, что во время Вашего пятнадцатилетнего пребывания в Восточной Сибири Вы являли собой пример хорошего гражданина, полезного стране. Все свои усилия Вы направляли на развитие промышленности, во имя которой с благородной самоотверженностью Вы принесли в жертву долгие годы и вынесли тягчайшие трудности; в меру своих сил Вы принимали участие в облегчении судеб человечества…
Все эти обстоятельства побуждают меня, как главу страны, к приятной обязанности выразить Вам, Монсеньер, мою искреннюю признательность и просить Вас принять уверения в моем совершеннейшем уважении и моей преданности.
Иркутск, 23 августа 1860 г.»
Это тоже выразительно и тоже убедительно. Человек типа Н. Н. Муравьева-Амурского не написал бы такое письмо без серьезных к тому оснований. Не приходится сомневаться, что тавастгусский первостатейный купец Алибер заслужил этот отзыв.
Наиболее полные сведения о деятельности Алибера я почерпнул, однако, не из этой изданной в Париже книги, а из его собственной статьи «Об отыскании графита в Восточной Сибири тавастгусским первостатейным купцом Алибером». Эта небольшая статья была опубликована в «Вестнике Императорского русского географического общества» за 1854 год (выпуск IV). Из нее я и взял фразу, поставленную эпиграфом к этому очерку. Уже после того, как я вчерне закончил этот очерк, мне посчастливилось найти статью А. Ферсмана и С. Писарева о Алибере, опубликованную в 1921 году в журнале «Природа». Авторы этой статьи, имели возможность воспользоваться материалами, переданными одному из них неким Верфелем — личным другом Алибера, и поэтому статья их содержит живые любопытные детали. К сожалению, статья Ферсмана и Писарева, вышедшая в трудное для Советской России время, осталась почти незамеченной. Только этим и можно объяснить то обстоятельство, что первое издание БСЭ похоронило Алибера на сорок семь лет раньше, чем следовало. Кое-какие сведения о Алибере мне удалось также найти в некоторых других книгах, преимущественно в работах натуралистов, посетивших Восточный Саян в прошлом веке, когда там все еще помнили о Алибере. Поэтому сейчас я могу хоть и не полно, но все-таки связно рассказать о его деятельности.
Алибер и другие
Теперь я знаю, что Алибер по национальности был французом, что родился он во Франции в 1820 году в семье не очень богатого промышленника, скорее всего коммерческого деятеля. Видимо, родители Алибера были людьми высокой культуры и сумели дать сыну не только хорошее образование, но и привить ему вкус к изящному, к искусству, развить в нем любознательность.
Однако юность Алибера прошла отнюдь не безоблачно. Уже с четырнадцати лет, в связи с тем что ухудшилось материальное положение многочисленной семьи отца, ему пришлось думать о заработках. Очевидно, используя старые отцовские связи, юный Алибер отправился в Англию. Что он там делал при столь незначительном возрасте, угадать затруднительно, и я подозреваю, что год его рождения, указанный в статье Ферсмана и Писарева, нуждается в уточнении. Если же он действительно родился в 1820 году, то приходится признать, что мы имеем дело с вундеркиндом совершенно исключительных способностей, потому что далее А. Ферсман и С. Писарев сообщают, что он мгновенно усвоил приемы различных торговых английских фирм и к семнадцати годам уже организовал в Петербурге крупное меховое дело.
Что Алибер был человеком с незаурядными способностями — это истина, не требующая доказательств. Но все-таки я сам не верю в некоторые детали только что приведенного рассказа о его ослепительной юности.
Мне лично кажется, что Алибер действительно прошел коммерческую школу в Англии, но в более позднем возрасте. Я убежден, что именно там у него возникла мысль переселиться в Россию и заняться торговлей мехами — крючок, на который попадалось множество иностранцев начиная с XVII века и даже раньше. Видимо, он полагал, что именно в России сможет с наибольшей пользой проявить свою бьющую через край энергию и выгодно вложить капиталы, хотя вся его дальнейшая жизнь показала, что он не относился к числу беспардонных стяжателей. Что он прибыл в Финляндию в шестнадцатилетнем возрасте, в это верится слабо, но давайте удовлетворимся тем фактом, что он все-таки прибыл туда.
В тихом и чистеньком финском городке, официально именовавшемся тогда по-шведски Тавастгус, он задержался, наверное, ровно столько времени, сколько потребовалось ему, чтобы превратиться в тавастгусского первостатейного купца, на что, заметим в скобках, требовались немалые средства. Затем он переехал в Петербург и там приобщился к меховой торговле.
Я лишен возможности разложить дальнейшие события по хронологическим полочкам. Но, затевая различные коммерческие мероприятия, молодой первостатейный купец, как видно, нередко попадал в крайне затруднительное материальное положение. Во время одного из таких кризисов неотчаивающийся француз встретился с семьей Пермикина — известного русского искателя самоцветов, главным образом нефрита и лазурита, знатока Сибири, и в частности Саян. В семье Пермикиных Алибер начал свою службу парикмахером (1), а потом сделался учителем французского языка. Разумеется; он менее всего собирался удовлетвориться такого рода деятельностью, каким-то способом сумел поправить свои финансы и снова бросился в бой. Молодой Пермикин, надо полагать, заинтересовал Алибера Сибирью, той самой страной, которая поставляла на европейский рынок драгоценные меха. Но заинтересовал он его не столько мехами, сколько горным делом И, между прочим, золотопромышленностью.
В Сибирь Алибер впервые попал, видимо, в 1844 году, отправившись туда закупать меха. Он не ограничился закупкой мехов и вложил довольно крупные средства в золотую промышленность. Там, в Восточной Сибири, окреп интерес француза к далекой стране, столь непохожей на его родную Францию. Не приходится сомневаться, что он выезжал из Иркутска в тайгу, побывал на берегу замерзшего, укутанного льдом и снегом Байкала. Колоссальные просторы дикой, необжитой страны, могучие горные хребты, заросшие вековой тайгой, Ангара, не застывающая даже в лютые морозы, слухи о богатствах, сокрытых в горах, — все это, разумеется, не могло не произвести впечатления на пылкого сердцем, но холодного умом Алибера. Романтика скитаний и коммерческий расчет — вот две причины, надолго привязавшие его к Сибири. Горные богатства… Я уверен, что Алибер не только слышал о них, что он видел самородки золота, темно-зеленые валуны нефрита, отливающие металлом темные куски графитовой руды, найденные в реках…
И тут мы подходим к одной из самых загадочных страниц в жизни Алибера. Проведя несколько месяцев в Сибири, он неожиданно забросил свои коммерческие дела, на перекладных покатил в Петербург, а оттуда за границу.
По словам самого Алибера, он «с давнего времени» вникал в дела карандашного производства. Чем был вызван этот интерес, на что рассчитывал первостатейный купец, все более увлекаясь идеей самому заняться добычей графита, объяснить нелегко, но можно попробовать. На первый вопрос отчасти отвечает сам Алибер: интерес к карандашной промышленности подогревался кризисом, который переживала эта столь необходимая отрасль в то время.
В течение нескольких столетий чуть ли не монопольным поставщиком высококачественных карандашей была Англия. Еще в 1565 году в Англии открыли вскоре ставшее знаменитым Борроудельское месторождение графита в графстве Камберленд. Карандаши, изготовлявшиеся фирмой Брокмана, приобрели всемирную известность и фактически не знали конкуренции. Англичане чрезвычайно ревниво относились к репутации своей карандашной промышленности и следили, чтобы борроудельский графит не попадал на предприятия иностранных фабрикантов; вывоз его в естественном виде был строжайше запрещен, и на мировой рынок поступала только готовая продукция — карандаши Брокмана.
Итак, карандаши Брокмана изготовлялись из превосходного самородного графита. Его конкуренты тоже изготовляли карандаши из графита, но более низкого качества и примешивали к нему какие-то жирные вещества; но это лишь в малой степени улучшало их, и сравнения с брокмановскими они все равно не выдерживали.
Но в 1840 году, как раз к тому времени, когда начал активную деятельность Алибер, великолепный борроудельский графит кончился, месторождение истощилось, фабрикантам пришлось перейти на изготовление карандашей из графита, ранее забракованного. Они очищали его химическим путем и прессовали. Качество брокмановских карандашей резко снизилось, потому что тогда еще не научились приготовлять высококачественный прессованный графит; в нем оставались пустоты, трещинки, он легко ломался. Ища пути искусственного улучшения графита, английские фабриканты предприняли отчаянные попытки найти новые месторождения высококачественного самородного графита. Они не жалели средств, экспедиции обшарили самые дальние уголки обширной Британской империи, но ничего не нашли. Запасы второсортного графита тоже подходили к концу. Цена на графит, поднялась до 400 франков за 1 килограмм.
Понятно, что при такой ситуации открытие месторождения отличного графита и создание собственной карандашной фабрики сулили большие выгоды. Это, очевидно, и воодушевляло первостатейного купца Алибера.
А вот на что он рассчитывал… Тут мы вновь вступаем в область догадок. Казалось бы, неудачный опыт англичан должен был несколько обескуражить Алибера, но этого не случилось. Впрочем, может быть, виной тому некто Черепанов. Но не стоит спешить. Так или иначе, а в 1844 году Алибер уехал за границу знакомиться с карандашной промышленностью.
Он побывал во Франции, Германии, Швейцарии и, конечно, в Англии. Вид агонизирующих карандашных предприятий Брокмана доставил ему некоторое удовольствие и укрепил в намерении разыскать графит. В 1845 году он возвращается в Россию и совершает стремительный наезд в Иркутск. В 1846 году он вновь уезжает за границу, вновь посещает рудники и карандашные предприятия. Первоначальные коммерческие соображения переходят у Алибера в страсть, манию. Теперь уже ничто не может остановить первостатейного купца в намерении отдать все свои средства и силы захватившей его идее.
И вскоре Алибер стал обладателем графитового месторождения.
В статье, написанной им самим, есть такое свидетельство: «В 1846 году, быв по торговым делам моим в Восточной Сибири, я познакомился с горными местностями этого края и, смотря на богатство разнородных каменных пород Саяна и его отраслей (отрогов, как бы сказали мы теперь, — И.3.), предположил обозреть цепь гор, лежащих подле китайской границы, с целью осуществить давно питаемое мною желание отыскать хороший графит. Для того, собственно, сделал я несколько поездок на линии водораздела рек Иркута, Китоя, Белой и Оки. Во многих местах этих горных стран я встречал разные валуны графита, но качеством своим он был обыкновенный и не углублялся в недра земли, а образовывался на поверхности только небольшими гнездами. Впоследствии, после долгих, постоянных трудов и усилий, наконец мне представился счастливый случай открыть коренное месторождение этого минерала в одном из отрогов Саянского хребта, в недрах Ботогольского гольца, лежащего невдалеке и почти в равномерном расстоянии от истоков вышеозначенных четырех рек».
Исторических героев, тем более героев определенно положительных, как известно, рекомендуется писать светлыми красками. И я сейчас едва осмеливаюсь бросить одну-единственную темную тень на образ, первостатейного купца Алибера: история открытия месторождения графита придумана им самим от начала до конца. Доказать это не так уж сложно. Во-первых, страницей ранее Алибер пишет, что в 1846 году он изучал карандашное производство за границей. Во-вторых, так сразу приехать в неведомую горную страну, не имеющую даже приблизительной карты, не говоря уж о карте геологической, и в течение двух-трех месяцев найти столь горячо желаемое месторождение графита — это прямо-таки сказочная история. В-третьих, существует объективный рассказ о том, как был открыт графит на Ботоголе, человека, совершенно не заинтересованного ни в судьбах рудника, ни в саморекламе, ни в том, чтобы как-то опровергнуть Алибера.
Понять и даже извинить Алибера, сочинившего эту историю, не трудно. Ботогольский графит был самой сильной, самой всепоглощающей любовью в его жизни, его гордостью и его горем; он отдал ему всю душу, чуть ли не все средства, ради графита он обрек себя на многолетний каторжный труд в горах, в тайге вдали от всяких культурных центров.
Примем это к сведению и не будем больше вспоминать об оплошности первостатейного купца…
Что Алибер находил в долинах рек валуны графита, что до него доходили слухи о месторождениях этого минерала — все это бесспорно. Но так же бесспорно и то, что до 1847 года Алибер не имел достоверных сведений о жильных месторождениях графита в Восточном Саяне. И в то же время он настойчиво изучал геологию, горное дело и карандашное производство — чудится в этом что-то фанатичное. А вот что не подлежит сомнению: свою главную ставку в жизни француз Алибер делал на Восточную Сибирь и прилагал немало усилий к тому, чтобы создать себе хорошую репутацию у сибирской администрации и купечества. Об этом говорит хотя бы тот факт, что в 1845 году он пожертвовал двенадцать тысяч рублей ассигнациями в пользу жителей города Троицкосавска, пострадавших от пожара.
Во время одного из своих наездов в Сибирь Алибер познакомился в Иркутске с выбившимся в офицеры казаком Черепановым, человеком, сыгравшим огромную роль в его жизни, хотя первоначально они отнеслись друг к другу совершенно равнодушно, и лишь одно-единственное событие в жизни Черепанова, очевидно, заинтересовало Первостатейного купца.
Казак Черепанов принадлежал к своеобразному, тяжелому для окружающих типу людей. Судя по его собственным запискам, он искренне тяготел к знанию, к литературной деятельности, но ни образование, ни, попросту говоря, умственные способности не позволили ему добиться сколько-нибудь значительных успехов в жизни. И все-таки статьи Черепанова печатались в петербургских газетах, а дневники и даже повести в «Библиотеке для чтения», выпускавшейся небезызвестным Бароном Брамбеусом — Сенковским, востоковедом, писателем, издателем. Отдельные небольшие успехи подогревали пыл Черепанова, делали его заносчивым, самоуверенным, а более многочисленные неудачи создали ему в собственных глазах ореол непонятного страдальца. Все это, разумеется, накладывало особый отпечаток на его отношения к людям.
Черепанов немало странствовал по Восточной Сибири, служил в разных местах, — совершил поездку в Китай, в Пекин. Дневник, который Черепанов вел во время путешествия в Китай, Сенковский опубликовал в «Библиотеке для чтения». Из-за этого дневника и возник затяжной, на многие годы конфликт между Бароном Брамбеусом и сибирским казаком.
Вся беда заключается в том, что в Китае Черепанов пришел к выводу, который можно оценить как весьма оригинальный, но трудно признать здравым. Черепанов решил, что Великая китайская стена построена вовсе не для защиты внутренних районов страны от врагов, ибо, по мнению Черепанова, для этой цели не имело смысла строить ее на скалистых вершинах — достаточно было перегородить ущелья. Вот какое соображение он высказывает (цитирую по его воспоминаниям): «Стена эта сделана с целью еще более возвысить скалы и тем защитить страну от северных ветров и холода» (набрано курсивом).
Барона Брамбеуса нередко и совершенно справедливо обвиняли в редакторском произволе. Но в данном случае трудно разделить негодование Черепанова, сердито написавшего: «Знаменитый ученый этот впервые сделанное заявление столь замечательного исторического факта вычеркнул и на поле написал «ерунда»».
Увы, действительно ерунда. Но Черепанов был достаточно самоуверен, чтобы не посчитаться с мнением Сенковского, и через двадцать пять лет (!) в своих воспоминаниях все-таки обнародовал это соображение, превратившееся у него в нечто очень напоминающее навязчивую идею.
В конце 30-х годов прошлого века Черепанова назначили начальником Тункинского пограничного отделения, и он поселился в селе Тунка.
Мне приходилось бывать в Тунке. Это очень приятное и своеобразное место. Село расположено в обширной Тункинской котловине, у южного склона Восточного Саяна, по соседству с прекрасным сосновым бором. О климатических достоинствах этого места говорит хотя бы тот факт, что неподалеку от Тунки расположен курорт Аршан — один из самых известных в Восточной Сибири, располагающий целебными источниками. На севере котловину замыкает монолитная стена Тункинских гольцов — над дном котловины вершины их возвышаются более чем на полтора километра, а на юге видны пологие сопки отрогов Хамар-Дабана. Как почти всюду в Восточной Сибири, лето здесь сравнительно теплое, но зимой свирепствуют лютые морозы.
Черепанов пришел в восторг от своего нового местожительства и позднее засвидетельствовал это в воспоминаниях: «Тункинская котловина защищена от севера великолепнейшими в мире скалами Саянского хребта, и здесь уже частию пахнет югом. Если бы подобно китайцам провести по скалам этим великую стену, то был бы в Тунке чистейший юг. Вот факт, поддерживающий мою мысль о цели китайской великой стены».
Видите, как все просто. Достаточно построить на хребте, имеющем высоту две с половиной — три тысячи метров, десятиметровую стену, как в Тунке тотчас получится «чистейший юг». А главное, теперь доказано назначение китайской стены!
В такого рода размышлениях, а также в усердных молитвах Черепанов и проводил свое время.
И вдруг эти столь полезные для общества занятия были прерваны: к Черепанову явились местные охотники-буряты и пожаловались, что у них нет свинца. Спустившись на некоторое время с горних высот на грешную землю, Черепанов отдал охотникам весь свой свинец, а потом снял со стенных часов свинцовые гири, сверху покрытые листовой медью, и шутя сказал, что сейчас добудет для них свинец из меди. Буряты по наивности все приняли за чистую монету и ушли от всемогущего начальника потрясенными. Весть о подвиге Черепанова передавалась из улуса в улус; вскоре к нему явился охотник-бурят и выложил на стол куски какого-то темного минерала, «Вот, нойен, — сказал он, — ты сумел медь превратить в свинец, а у нас свинца целая гора, но мы не можем растопить его».
Черепанов узнал графит в темном с металлическим блеском минерале…
Как и все в Восточной Сибири, Черепанов понаслышке был знаком с золотопромышленностью и знал, что графитовые плавильные тигли завозят в Россию из Англии, что золотопромышленникам они обходятся дорого. Поэтому он заинтересовался месторождением, съездил на Ботогол, а в 1842 году по его приказанию крестьянин Кобелев добыл на Ботоголе тридцать пудов графита и доставил его на Иркутский солеваренный завод. Оттуда графит передали на пробу на Тельминскую фабрику, изготовлявшую огнеупорные горшки, но графит, видимо потому, что Кобелев взял его с самой поверхности, забраковали.
Года через два-три после этого Черепанов и Алибер встретились в Иркутске. О чем говорили эти два столь разных человека, угадать трудно. Может быть, Черепанов рассказал анекдот о какой-то француженке, которая так надоела своему супругу, что он обещал заплатить ей по тысяче франков за каждые сто верст, отделяющие их друг от друга, после чего предприимчивая соотечественница Алибера помчалась из Парижа на Камчатку. Может быть, Черепанов упомянул о графите, которому уже не придавал особого значения. Однако никаких практических результатов эта встреча не дала.
В 1846 году Черепанов по каким-то своим нуждам отправился в Петербург и захватил с собой образцы графита, намереваясь предложить месторождение казне. Смысл операции этой совершенно ясен: Черепанов хотел сбыть в казну признанный негодным графит и поручить за это денежное вознаграждение. Но министр финансов Вронченко отказался принять месторождение в казну и посоветовал Черепанову самому заняться добычей графита. Надо ли говорить, что Черепанова менее всего устраивала такая перспектива!
Вот тут-то и прослышал о заявке Черепанова недавно вернувшийся из-за границы первостатейный купец Алибер. Он тотчас наведался к своему сибирскому знакомому и предложил ему триста рублей за право разрабатывать графит. Черепанов, недолго думая, положил даровые деньги в карман, и открытое бурятами Ботогольское месторождение графита перешло в собственность Алибера.
Впоследствии Черепанова поддразнивали, что он за триста рублей продал Алиберу семь миллионов, и мысль эта некоторое время досаждала казаку. Но потом он успокоился. Встретив Алибера через несколько лет, он убедился, что тот пребывает (цитирую) «в таких же «худых душах», как и мы, грешные».
Да, разработка графита далеко не сразу принесла Алиберу известность и богатство. Но из Петербурга в Иркутск он отправился окрыленным.
Проект первостатейного купца Алибера нашел самую горячую поддержку у нового генерал-губернатора Восточной Сибири Н. Н. Муравьеву. Ведь именно такие люди — образованные, честные, энергичные — и были нужны Муравьеву для претворения в жизнь его замысла: освоить, заселить обширную, но пустынную губернию. Муравьев к тому времени уже знал, что Алибер пожертвовал двенадцать тысяч рублей в пользу жителей Троицкосавска. Но Алибер не скупился и на новые взносы: он делает пожертвование на приют в Иркутске, приношение в пользу католической церкви в городе, участвует в каких-то благотворительных делах и окончательно завоевывает расположение генерал-губернатора.
Но все это для Алибера лишь средства, а не цель. Не задерживаясь в Иркутске, он нанимает рабочих и уезжает в горы.
Так началась для Алибера новая жизнь, жизнь удивительно непохожая на все прошлое, привычное, ставшее, казалось, необходимым. Он перестает интересоваться золотопромышленностью, забрасывает торговлю мехами. Его капитал составляет около восьмидесяти тысяч рублей серебром, и Алибер готов все до последней копейки вложить в новое предприятие, веря, что будет вознагражден сторицею. Уже эти поступки характеризуют Алибера как человека сильной воли, решительного, не останавливающегося на полпути. И последующие семь лет, почти безотрывно проведенные им в горах, на Ботоголе, целиком подтверждают это.
Обогнав основную партию рабочих, идущих с грузом, Алибер с небольшим отрядом уехал вперед. Дней десять пробирался он по нехоженым ущельям, готовил еду на костре, спал под открытым небом, расстелив кошму. И наконец пришел к Ботогольскому гольцу. Алибер знал, что графитовое месторождение находится на самой маковке гольца, выше границы леса. Снизу, с речки Ботогол, виден был ему заросший лесом склон, круто уходящий вверх, и массивная лысая вершина. Алибер едва сдержал желание немедленно подняться туда — уже вечерело и люди устали за день… Очень приятно забираться вечером под теплые одеяла, когда холодные горные ветры уже шумят в долинах, но вылезать из-под одеял утром, особенно когда трава вокруг серебрится инеем, — это, знаете ли, сомнительное удовольствие! Впрочем, трехминутное неприятное ощущение с лихвой окупается, едва пройдет первый озноб: студеный горный воздух обладает удивительным свойством пробуждать в человеке светлое, здоровое, сильное; в эти минуты кажется, что все по плечу, что на самое трудное дело с избытком хватит сил, и руки начинают слегка зудеть от неутолимой потребности в работе.
Вот в таком задорном, бодром настроении проснулся Алибер рано утром. Ему действительно казалось в те минуты, что все очень просто, стоит лишь подняться на вершину, вогнать в твердую землю кайло, и тут же откроются ему, как по волшебству, залежи великолепного самородного графита…
Солнце взошло, но еще не выглянуло из-за сопок — в ущельях долго приходится ждать свидания с ним. Хрустела под ногами укутанная изморозью заледеневшая трава. Рабочие рубили сучья для костра, и удары топоров звенели в морозном воздухе. Тайга ожила только с появлением солнца. Сначала осветились вершины гор, на постепенно косые лучи его достигли дна ущелий. Но тайга не наполнилась гомоном — редко-редко прокричит ястреб, и опять все стихнет…
Алибер, не спеша, взбирался по склону. Теперь он на все смотрел глазами хозяина, будущего владельца рудника. И он думал, что по такому крутому склону не спустишь графит, что придется тут Строить дорогу, и даже прикидывал в уме, во что она обойдется. Получалось дороговато, но Алибера сейчас ничто не могло смутить.
Он взошел на голец и остановился на самой высокой его вершинке, той, что позднее получит название Крестовая. Он увидел широкие пади, лесистые горы — все это лежало сейчас под ним, принадлежало ему, и он гордо расправил плечи. Лишь на секунду закралось в его душу сомнение — выдержит ли он долгое одиночество?.. Что если путь к графиту окажется труднее, чем он предполагал?.. Но в такой радостный день не было и не могло быть места сомнениям… Они пришли потом, значительно позже.
В первые же дни Алибер убедился, что графита здесь действительно немало. Но добытые образцы не отличались высоким качеством и определенно уступали борроудельскому, содержа в большом количестве инородные примеси.
Алибера это не смутило, потому что многого он и не ожидал: высококачественный самородный графит на поверхности не найдешь; чтобы добраться до него, нужно вскрывать жилу, снимать разрушившиеся, выветрившиеся слои. Но среди плохого карандашного камня нет-нет да и попадались небольшие прожилки отличного графита.
И Алибер понял, что разведку здесь надо ставить серьезно, что затраты окупятся, но не очень быстро, не через один год.
Вскоре познакомился Алибер с местными жителями — кочевниками-сойотами. В середине прошлого века сойоты, объединенные ныне в Сойотский национальный район, занимались только оленеводством — разводили северных оленей и пасли их на высокогорных ягельных пастбищах, напоминая по образу жизни обитателей далекой тундры — ненцев. Некоторых из сойотов Алибер нанял к себе на работу. Но этим отнюдь не ограничились его взаимоотношения с местным населением. Умного, с широкой натурой купца поразил исключительно низкий жизненный уровень сойотов, примитивность их хозяйства: не говоря уж о посевах, они не имели даже крупного рогатого скота и овец, как их соседи-буряты. С этим Алибер смириться не мог и решил преобразовать жизнь сойотов. Он и действительно немало сделал для них, но видеть в этом лишь благотворительный акт, конечно, нельзя. В Алибере романтик легко уживался с рачительным и даже расчетливым хозяином, дельцом. Но делец этот думал не только о том, чтобы наполнить карман, урвать куш побольше и скрыться. Фантазируя о будущем, Алибер наверняка представлял себе Саяны преображенными, живущими иной, цивилизованной жизнью; воображение рисовало ему многолюдный поселок, выросший вокруг рудника, связанный дорогой с Иркутском. Но если так, то промышленность должна иметь, говоря современным языком, свою сельскохозяйственную базу, чтобы рабочие не нуждались в молоке, мясе, яйцах, овощах. Но как создать такую базу?. Завести в глубь Саян русских пашенных крестьян?.. Это слишком дорого обошлось бы, да и кто гарантировал бы Алиберу, что крестьяне смогут наладить хозяйство в непривычных для них условиях?.. И Алибер избрал другой путь, наиболее разумный. Он решил внедрить скотоводство и огородничество в хозяйство местных жителей — сойотов и обеспечить в будущем свой рудник продуктами, которые пока что все до последней крупинки приходилось доставлять во вьюках, на лошадях.
Далеко не все впоследствии сложилось так, как мечталось Алиберу. Два года добывал он графит с небольшой партией рабочих, добывал и летом, и зимой, складывал штабелями выпиленные куски, но добраться до хорошего графита все не удавалось. Вместе с сибиряками он, француз-южанин, стойко переносил свирепые морозы, ветры, от которых, казалось, вот-вот застынет кровь. И рабочие, и сам Алибер ютились во временных бараках, из которых сквозные ветры выносили за ночь тепло.
В конце концов Алибер пришел к выводу, что нужно либо все бросить, либо играть ва-банк: нанять еще рабочих и уже сейчас создавать нормальные условия жизни. Он выбрал второй путь, отлично сознавая, что на карту поставлено все его состояние, все его будущее. Он увеличил число горнорабочих до ста человек, в изобилии завез на рудник продукты, взрывчатку, развернул капитальное строительство. На берегу речки Ботогола, у подножия гольца, он построил так называемую заимку Алибера — отличную ферму с теплым скотным двором, конюшней, птичником и вместительным жилым домом. Он выписал породистый скот, домашнюю птицу, завел собак, лошадей, кошек. Часть скота Алибер роздал сойотам, предварительно обучив их уходу за ним. Рядом с фермой он разбил огород и стал выращивать на нем, на удивление сойотам, редиску, редьку, картофель, капусту. Посреди фермы Алибер поставил деревянную юрту с застекленными окнами — для сторожа-сойота.
Но основные строительные работы развернулись на вершине гольца, там, где велись разработки. От крытого входа в шахту Алибер провел галерею к обширной общей столовой, а постройку над шахтой превратил в Красивую островерхую башню с цветными стеклами в окнах и флюгером на маковке, на котором высек надпись: 1847 год. В центральной части гольца он выстроил себе виллу с верандой, отдельной кухней и людской и тут же пр соседству добротные, прочные дома для рабочих; хозяйственные и бытовые строения вроде бани он поместил несколько в стороне. На вершинке, которая теперь известна под названием Крестовая, Алибер воздвиг часовню с высоким католическим крестом и цветными витражами. Между строениями рабочие выложили ровные дороги и обнесли их невысокими барьерами из пустой породы. Отвалы и низкопробный графит Алибер приказал рабочим не разбрасывать, а складывать по строго намеченному им плану, и, когда они выполнили его распоряжение, рудничный поселок стал похож на миниатюрный средневековый замок с каменными стенами и бастионами — тут полностью сказался привитый Алиберу с детства вкус к изящному. Но Алибер по обыкновению думал не только о красоте. Из тех же скальных обломков он сложил два ветрореза и высокую толстую стену, направленную под углом к господствующим в зимнее время ветрам. Эти сооружения не только защищали жителей поселка от ветра, но и отбрасывали в сторону снег. В это же время Алибер начал строительство той самой дороги от нижнего поселка к верхнему, которая так великолепно сохранилась до сих пор. Предвидя трудности, которые возникнут при вывозке графита, Алибер наметил построить дорогу от Ботогола до Голумети протяжением более чем в сто пятьдесят километров и маркировал трассу высокими католическими крестами с одной перекладиной.
А когда бытовые условия наладились, Алибер все усилия направил на поиски графита. Он организовал посменную круглосуточную работу, и горняки, надо полагать, трудились на совесть, потому что нигде не платили так хорошо и нигде не кормили так сытно, как на шахте Алибера. Да и хозяин держался просто, не боялся трудной работы, сам сортировал графит, а ведь это тоже много значит.
…Год шел за годом. Алибер странствовал по окрестностям рудника, вел геологические исследования, искал самоцветы, тщательно вел дневник погоды, записывая температуру и направление ветра, отмечал землетрясения, грозы. Если было настроение — музицировал, а ясными ночами изучал в телескоп звездное небо…
Работы в руднике не прекращались ни на час, все глубже становилась шахта, глуше звучали в ней взрывы, но на-гора выдавался по-прежнему лишь низкосортный графит. Жестокому испытанию подвергались не только воля, но и карман Алибера. Не раз нависала над ним угроза полного разорения, не раз кредиторы угрожали ему долговой тюрьмой. Алиберу приходилось бросать рудничные дела и ехать в Иркутск улаживать свои запутанные отношения с местными финансистами. В 1851 году Алибер составил товарищество с неким Занадворовым. Однако впоследствии компаньон не принес Алиберу ничего, кроме неприятностей.
На Ботоголе жизнь по-своему наладилась, выработался особый, ставший привычным ритм, реже вспоминалось об одиночестве, оторванности от цивилизации. Иногда на рудник заезжали охотники, ссыльные, сойоты, буряты, и всех Алибер встречал как желанных гостей. Летом он занимался… садоводством. Да, рядом со своей виллой, там, где не рос даже выносливый «сибиряк» — кедровый стланик, он разбил крохотный садик, точнее, цветничок. С восточной, видимо наиболее безветренной, стороны, домика росли и цвели у него обитатели низкогорий: желто-оранжевые огоньки, синие акониты, белая чемерица, соссюрея, астры и даже лилия-саранка, выбрасывающая среди лета крупные красные цветы. Эти своеобразные цветоводческие опыты Алибера подтверждают, что не высота, а незащищенность от ветра в зимнюю и особенно весеннюю пору является главной причиной скудности растительного мира на вершинах гор Южной Сибири.
Появились у Алибера в округе любимые места; у излучин рек он поставил красивые беседки. Немало времени проводил он на Охоте — стрелял диких коз, кабанов, северных оленей, изюбрей. Время летело незаметно, и Алибер перестал волноваться, нервничать; он жил и работал спокойно, методично.
И вдруг все рухнуло. Именно рухнуло. Иначе невозможно оценить происшедшее. Графит кончился. Казавшееся неисчерпаемым гнездо выработалось. Дальше шли плотные сиенитовые породы, в которых лишь с большим трудом удавалось обнаружить слабые признаки графита.
Это произошло в 1853 году.
Более жестокого удара судьба не могла нанести Алиберу. Шесть лет почти нечеловеческих усилий, одиночества, заброшенности, шесть лет самозабвенной веры в успех, шесть лет риска, который стоил ему почти всего состояния, — и вдруг крах!
Что пережил Алибер, вообразить почти невозможно. Снова и снова спускался он в шахту, обследовал выработки, не зная, что предпринять. Ближайшие помощники Алибера, которым успели опостылеть и ледяной голец, и не сулящая прибыли работа, советовали все бросить и возвращаться в Иркутск. Но они работали ради денег, а первостатейный купец пытался воплотить в жизнь свою мечту.
И Алибер принял решение, которое могло прийти либо в минуту помешательства, либо в минуту озарения.
Он приказал долбить сиенит, чтобы разрушить перемычку, отделяющую верхнюю, уже выработанную часть жилы от нижней. Какова мощность этой перемычки — метр или сто метров, Алибер знать не мог. Но он не внял голосу здравого смысла, он потребовал, чтобы его помощники перешли от ненужных советов и рассуждений к делу, а если они не верят ему, если они не хотят работать, он их не задерживает, он найдет людей, которые пойдут с ним до конца.
И вновь в глубине шахты зазвучали взрывы.
Алибер, посуровевший, еще более замкнувшийся в себе, почти не выходил из шахты. Лишь вечером, измучившись за день, он отправлялся по ровной, выложенной плитами дороге на Крестовую вершину, в часовню, которой никто, кроме него, не пользовался, потому что он был единственным католиком в округе. Предзакатные лучи солнца, преломляясь в цветных оконных стеклах, создавали совершенно Особое, неповторимое освещение внутри часовни, и Алибер, этот человек с несгибаемой волей, погружаясь в золотистый полумрак, наивно возносил молитвы своему католическому богу, прося у него помощи. Но он не только молился, он отдыхал. В полной тишине, при странном, нездешнем освещении Алибер находил успокоение среди дорогих ему вещей. И главный алтарь с портретами католических святых, и богато переплетенное Евангелие, покрытое розовой тафтой, украшенное кружевами и гретами, и хромолитографические копии двух картин XIV века на библейские сюжеты — все это было своим, дорогим, связанным с семейными традициями, все это облегчало самовнушение, придавало силы для продолжения почти безнадежного предприятия.
3 февраля 1854 года очередным взрывом в боковой Мариинской выработке выбросило на дно шахты вместе с кусками сиенита графитовые обломки. Их принесли Алиберу. Он взял обломок и… глазам своим не поверил: это был великолепный, ни в чем не уступающий борроудельскому графит, именно такой, о котором мечтал Алибер.
Так случилось невероятное.
В честь боковой Мариинской разведки и весь рудник — уже не воображаемый, а настоящий — получил название Мариинский.
Но удача была слишком велика, слишком неожиданна, чтобы так просто поверить в нее. Алибер срочно упаковал лучшие образцы графита и поскакал в Иркутск, чтобы подвергнуть его лабораторному анализу. Когда тщательный анализ подтвердил самые смелые предположения Алибера, первостатейный купец, геолог и астроном-любитель сделал доклад в Сибирском отделении Императорского русского географического общества.
Вот как сам Алибер характеризует графит в статье, опубликованной Географическим обществом: «Открытый сибирский ботогольский графит по свойственной ему крепости отлично распиливается во всю длину куска, по желанию даже на самые тонкие части и имеет притом чрезвычайную плотность (что и составляет высокую его ценность, ибо кусок самого лучшего природного графита, быв превращен в порошок, сделался бы уже совершенно ничтожным), а потому будет употребляться, как и прежний знаменитый комберлендский, в натуральном виде, и из него можно будет делать все виды карандашей, означаемых в Англии по сортам известными, принятыми там литерами. Приготовленный из сибирского графита карандаш мягок, цвета самого приятного, легко и скоро уступает резине, не оставляя никаких следов писанного, а между тем не стирается от прикосновения других тел и, наконец, принимает без повреждения самый тонкий очин, который нескоро требует возобновления, как это повторяется беспрестанно на карандашах искусственных».
Убедившись, что драгоценного графита в шахте много, что находка не случайна (в короткий срок было добыто около двадцати пяти пудов), Алибер воспрянул духом, будущее виделось ему в самых радужных красках. Алибер не сомневался, что настала пора великих свершений, что через некоторое время он создаст в Петербурге карандашную фабрику, ни в чем не уступающую заведениям знаменитого Брокмана, и наладит выпуск карандашей, превосходных по качеству, дешевых, доступных по цене всем сословиям. Увлекаясь, Алибер мечтал учредить карандашную фабрику уже в январе следующего 1855 года, причем фабрику обширную, способную конкурировать с иностранными не только в России, но и за рубежом. И конечно, он верил, что карандаши его станут известными всему просвещенному миру!
Свое сообщение в Сибирском отделе Географического общества Алибер закончил следующими весьма и весьма выразительными словами, ярко характеризующими и самого первостатейного купца: «Настоящий успех мой стоит мне очень дорого: восемь (точнее, семь. — И.3.) лет я провел в диких горных дебрях и был предоставлен всем лишениям, очень естественным при таком образе жизни, перенес всякого рода страдания. Труд и горе были неразлучны со мною. Ко всему этому при моих настойчивых поисках я потерял затраченный вообще по этому делу весьма значительный капитал — свыше восьмидесяти тысяч рублей серебром. Но Бог благословил мои труды, и теперь во мне живет одна мысль: что кроме собственной моей пользы, которую доставит мне мое открытие, я несомненно надеюсь, что могущественная Россия присоединит к значительному числу своих мануфактурных и фабричных производств и эту новую ветвь промышленности, которая впоследствии сделается потребностью всей Европы и других частей света».
К сожалению, планам этим не суждено было сбыться. Нет оснований сомневаться, что Алибер со свойственной ему энергией и настойчивостью пытался воплотить мечту в жизнь. Но собственных средств ему не хватало. Пришлось приступить к долгим и сложным переговорам с компаньоном Занадворовым. В конце концов тот обещал построить на свои средства карандашную фабрику и поставить на рудник новейшее оборудование.
Алибер снова уезжает на рудник. Он не жалеет средств и быстро завершает строительство дороги от заимки до разработок. Позднее стоимость ее оценили по два рубля за каждый вершок ширины. Очевидно, еще дороже обошлось Алиберу благоустройство тропы от Ботогола до села Голуметь: пришлось вырубать лес, гатить болота, укреплять склоны. Но Алибер верил в полный успех, и ничто не смущало его. Горести остались в прошлом, и теперь вновь по ночам в звездное небо смотрел объектив телескопа — Алибер со спокойной совестью мог созерцать движение светил.
В эти годы по Саянам странствовал давнишний знакомый Алибера искатель самоцветов Пермикин — тот самый, в семье которого первостатейный купец служил брадобреем и учителем французского языка. Бывшие друзья к этому времени превратились в соперников. Ни одним словом не упомянули они друг о друге в своих записках, хотя работали бок о бок и, вероятно, встречались.
…Минул январь 1855 года. Занадворов даже не приступил к строительству карандашной фабрики. Опять началась для Алибера трудная пора переговоров и уговоров, и в конце концов понял он, что на Занадворова рассчитывать не приходится. Следовательно, только самые решительные меры могли спасти предприятие Алибера, могли спасти его от банкротства.
И он принял эти меры. В 1856 году он заключил контракт на поставку графита в Нюрнберг, на известную карандашную фабрику А. В. Фабера. Прекрасный графит произвел должное впечатление на владельцев фабрики. Дальность, перевозки — почти семь тысяч верст без железных дорог по Сибирскому тракту — не смутила высокие договаривающиеся стороны. Контракт, надо полагать, был заключен на выгодных для сибирского промышленника условиях.
Все это и привело к тому не слишком приятному для нас факту, что сибирский графит тоненьким ручейком потек из России в Германию. Его везли на крестьянских розвальнях по зимним дорогам; с каждым шагом заиндевевших на морозе понурых лошадок возрастала цена графита. Во сколько обходился он Фаберу, неизвестно, но совершенно очевидно, что в конечном итоге Фабер с лихвой окупил затраты. Крупную партию графита Алиберу даже удалось отправить в Германию морем. В те годы благодаря усилиям Н. Н. Муравьева-Амурского на Амуре было организовано сквозное судоходство. Алибер сплавил графит по Шилке и Амуру до моря, а оттуда при посредничестве Русско-Американской компании графит отправился через Тихий, Индийский и Атлантический океаны в Гамбург.
Рудник Алибера превратился в образцовое предприятие. Вот как выглядел он в тот год, когда Алибер навсегда покинул его. Предоставляю слово иркутскому журналисту и инженеру Львову: «…на сто пятьдесят верст в округе вы не увидите ничего, кроме голых скал, постоянно покрытых снегом (это, конечно, преувеличение. — И.3.) и поднимающихся выше растительного пояса.
Наконец по узкой дороге, врезанной в скалистый склон, вы взбираетесь к шахте, расположенной на высоте 7300 футов над уровнем моря.
Заметив издалека часовню, вы проходите еще немного и с удивлением обнаруживаете постройки, окруженные балюстрадами и галереями, широкие дороги и каменные мостовые. Наконец, когда вы достигаете пологого подъема, слева открывается вам здание с застекленной крышей.
Это вход в шахту, которая называется «Колодец». Но колодец этот служит не для подъема воды, а для извлечения из недр земли ценного минерала. Слово это — «колодец» — может создать впечатление у тех, кто бывал в шахтах или слышал о них, что речь идет об огромной глубине и узкой лестнице, по которой спускаются, держась обеими руками за перекладины, чтобы не упасть в пропасть. Ничего похожего. Войдя под стеклянную крышу, вы забываете, что находитесь в шахте. Не будь машин, напоминающих о действительности, вы могли бы подумать, что попали в какой-нибудь подземный дворец. Вы спускаетесь на восемь саженей по широкой и некрутой лестнице с прочными красивыми перилами; затем, если вам захочется, можете спуститься еще на восемь саженей по лестнице менее хорошей, чем первая, но гораздо более удобной, чем в других шахтах.
Там, приглядевшись, вы замечаете при свете шандалов графитовую жилу, вскрытую в твердых сиенитовых породах…»
Далее Львов описывает пиршество рабочих, не слишком изысканное, но очень сытное, происходившее в галерее, соединяющей шахту с кухней, рассуждает о трудностях, связанных с доставкой провизии, и, что более интересно, описывает огород, расположенный на вершине гольца (!), там, где температура даже летом редко поднимается выше трех градусов тепла (17 июня, в день приезда Львова, выпал глубокий снег); и все-таки Алиберу удавалось выращивать там картофель и морковь!
«Продолжим наш осмотр, — предлагает Львов. — Мы не будем входить в апартаменты владельца шахты, хотя дверь, ведущая в большую английскую кухню, открыта, в окно виден стенной ковер приятной расцветки, приготовлены столы для беседы… Пройдем в ворота и осмотрим высокую толстую стену, сложенную из камней, высотой в три сажени и толщиной в две с половиной сажени; она протягивается на пятьдесят саженей.
Эта стена, построенная из скальных обломков, выброшенных из подземных галерей, предназначена для защиты шахты от постоянных осенних ветров, которые могут без таких предосторожностей засыпать снегом шахтовладельца и постройки. Перед стеной поднимаются два ветрореза высотою в пять и длиною в пятнадцать саженей, направленные под острым углом к господствующим ветрам… Благодаря всем этим сооружениям во время бури на самой вершине Ботогольского гольца образуется тихий участок.
Далее виднеется еще одно обширное строение, в котором графит сортируется, распиливается и упаковывается. Добротные ящики из кедровых досок ждут, чтобы их послали в Нюренберг, на карандашную фабрику Фабера, куда свозят графит со всего света…
…Мы обошли многие постройки, не заметив нигде небрежно вбитого гвоздя… Все на Ботоголе сделано, прочно, солидно, с расчетом на долгое время…
Поднявшись еще на сотню метров к северу, по улице, огороженной каменными парапетами, вы придете в часовню…»
А за часовней находились открытые разработки — там подсекли близко подошедшую к земной поверхности графитовую жилу…
После посещения Львова долгое время все еще оставалось в прежнем виде на руднике, но сам Алибер больше ни разу не появился на Ботоголе. Он покинул его, навсегда, несмотря на то что внешне дела шли хорошо, аккуратно распиленный на параллелепипеды графит отправлялся в Нюрнберг, а карандаши с лаконичной надписью «Сибирский графит Алибера» уже завоевали себе широкое признание.
Алибер уехал неожиданно, сказав, что уезжает по делам рудника. Вероятно, что так оно и было. Его волновали нелады с Занадворовым, систематически обманывавшим своего компаньона, волновала дальнейшая судьба замышленного им предприятия. Видимо, трудно было Алиберу смириться с мыслью, что роль его сведется к роли поставщика графита немцу Фаберу…
В Иркутске Алибер предпринимает последнюю отчаянную попытку наладить карандашное производство. Он встречается с влиятельными людьми, жертвует деньги для жителей села Голуметь, организует в помещении Географического общества выставку изделий из графита, ту, которую посетил Муравьев-Амурский.
Потом Алибер уезжает в Петербург, все еще на что-то надеясь. Но все более крепнет в нем решение не возвращаться на рудник. В Петербурге Алибер узнает, что за последние годы значительно подвинулась вперед техника очистки и прессования графита, что теперь хорошие карандаши получают и из низкосортного минерала. Алибер понял, что обстановка изменилась в невыгодную для него сторону. Он взвешивает все «за» и «против». Разумеется он принимает в расчет и то обстоятельство, что финансовое положение его значительно поправилось, что состоянию его могут позавидовать многие промышленники. И Алибер принимает решение: он дарит все хозяйство на руднике своему голуметскому доверенному, а скот велит раздать сойотам.
Долгий, наиболее славный период в жизни Алибера кончился, кончился не так, как ему хотелось. И все-таки Алибер мог гордиться сделанным. И он гордился. Вся его дальнейшая жизнь была лишь отсветом ботогольской эпопеи, и Алибер понимал это.
В 1860 году Алибер возвращается во Францию. Он богат, лечится от ревматизма на лучших курортах Франции, не жалеет средств. Но мысленно он все время возвращается в далекую Сибирь, на маленький рудник, затерянный среди лобастых гольцовых вершин, туда, где провел молодость, где оставил самое дорогое, что.
Имел в жизни, лучшую часть самого себя. Алибер сделал все от него зависящее, чтобы популяризовать сибирский графит. Десятки свидетельств и дипломов собрано в его книге. Они были выданы авторитетными учреждениями, в том числе Русским географическим обществом. В Париже, Лондоне, Вене, Гавре и других западноевропейских городах устраивает он художественно оформленные выставки изделий из графита, а также дарит их крупнейшим, европейским музеям, и те охотно принимают их, потому что Алибер превратил свой превосходный графит в подлинные произведения искусства. Так, в один из крупнейших парижских музеев Алибер пожертвовал большую художественную группу с бюстами Ермака и Александра II. Однако основную часть своих богатейших сибирских коллекций, а впоследствии и весь свой архив Алибер оставил в небольшом городке Риоме, что расположен в Оверне, неподалеку от крупного промышленного центра Франции Клермон-Феррана. На то были особые причины…
…В 1865 году Алибер в Париже получил из типографии первые экземпляры книги о ботогольском сибирском графите. В том же году на рудник, покинутый хозяином, приехал знаменитый географ, впоследствии революционер-анархист, П. А. Кропоткин. Внизу, в долине Ботогола, Кропоткин увидел заимку Алибера — дом хозяина, скотные дворы, застекленную юрту сойота-сторожа, который в отсутствие Алибера позволил себе лишь небольшое отступление от правил: завесил окна тряпьем. Кропоткин поднялся по черной от графита дороге на вершину гольца. Странная картина открылась его взору: безлюдно и мертво было на вершине гольца, но все сохранялось в строгом порядке. И старик сойот, взобравшийся на голец вместе с гостями, ревниво следил, чтобы они, не дай бог, не совершили чего-нибудь недозволенного. Шахта с машинами, склады с инвентарем оставались незапертыми, но все в них было в полной сохранности. Кропоткин заглянул в дом Алибера, имевший вполне жилой вид; казалось, что хозяин отлучился ненадолго и вот-вот вернется — черноволосый, чуть тронутый сединой, подвижной, веселый — и пригласит гостей за стол, накрытый дорогой скатертью, пододвинет мягкие удобные кресла, велит раздуть самовар и в ожидании чая предложит почитать газеты, которые так и лежали семь лет на столе веранды…
Но ничего этого не случилось и не могло случиться. Лишь мысленно Алибер мог перенестись на вершину Ботогольского гольца, войти в свой уютный дом, прислушаться к посвисту ветра за окнами… Такие воображаемые путешествия Алибер совершал множество раз, а если становилось уж слишком тоскливо, наведывался в гости к графу Н. Н. Муравьеву-Амурскому, который, после того как его принудили уйти в отставку, тоже поселился во Франции, в Париже.
А потом богатый рантье Алибер не выдержал и придумал себе забаву, за которой скрывалась глубокая грусть. Он поселился в Риоме, в городке, расположенном среди невысоких гор, в Центральном французском массиве, и начал вкладывать огромные средству в строительство игрушечного Ботогола на облюбованной им вершине… Так и провел последние десятилетия своей жизни этот оригинальный, щедро одаренный природой человек — торговец мехами и золотопромышленник, добытчик графита и астроном-любитель, инженер и меценат. Он дожил до преклонного возраста и умер в Париже в 1905 году.
История графитового рудника, разумеется, не кончилась с отъездом Алибера. Он переходил из рук в руки; некоторое время подвизался там Пермикин. Однако все новые владельцы крохотного, но получившего всемирную известность рудника не оставили по себе памяти в народе. Одни потому, что не выдерживали сравнения с Алибером, другие потому, что не пожелали отдать руднику столько сил и энергии, сколько отдал Алибер. В 70-х годах прошлого столетия, когда Ботогол посетил Черский, все там еще оставалось в полной сохранности. Но позднее все было разрушено, сожжено и растащено.
Лишь в 1916 году месторождение вновь досталось энергичному человеку — С. В. Рутченко. Шла первая мировая война, потребность в графите возросла, и Рутченко, последний частновладелец, развернул бурную деятельность. Он значительно увеличил добычу графита на Ботоголе, которая понемножку, кустарно продолжалась почти все время, собрался построить дорогу от Ботогола до Черемхова, задумал создать графитовую фабрику…
Революция прервала деятельность Рутченко. 14 апреля 1920 года Советская власть национализировала Мариинский прииск. Но лишь в 1925 году трест «Русские самоцветы» решил возобновить добычу графита. Осенью следующего года на рудник прибыло двадцать два горняка во главе с заведующим разработками П. К. Коровым.
Они восстановили заброшенный, разрушенный (в который раз!) рудник, вернули его к жизни…
На этом можно поставить точку. Но мне хочется сказать еще два слова. Конечно, Алибер и его рудник — это капля в промышленном море современной Сибири. Но ведь у каждой капли есть своя, часто очень поучительная и своеобразная история, и вообще без этих «капель» не было бы и «морей», не было бы того, что ныне, после новых грандиозных строек, образует экономическую базу советского общества. Мы очень многим обязаны тем людям, которые трудились на нашей земле до нас. И мы обязаны быть внимательны к их памяти. Мы должны ценить подлинных тружеников и изучать результаты их трудов. Если мы будем поступать именно так, то в наши скрижали будут занесены не только землепроходцы, открывшие Амур для русских, не только Невельской, проложивший дорогу в его устье, но и Муравьев-Амурский, создавший на нем поселения, внесший столь значительные изменения в географию нашей страны.
История преобразования и освоения земли таит в себе массу увлекательного, захватывающего. История крохотного Ботогольского рудника — наглядное тому доказательство.
Вот почему хочется верить, что наряду с книгой по истории географических открытий будет написана еще одна, не менее интересная книга — история географических преобразований, история освоения земель, открытых путешественниками и мореплавателями.
Примечания
1
Десятники, пятидесятники, сотники, «письменный голова» — так назывались различные казачьи начальники в XVII веке.
(обратно)2
Так рассказал об этом спутник Москвитина, казак Нехороший Иванов Колобов.
(обратно)3
Известно только, что из Якутска его вместе с Копыловым отправили обратно в Томск.
(обратно)4
Название речки происходит от обилия ягод шикши, или вороники, — мелкого полукустарничка из вересковых, которую в устье Амура до сих пор называют сикшей.
(обратно)5
Чозения, иначе — ива-кореянка, у местных жителей — ветла, одно из основных лесообразующих растений на Пенжине, на Анадыре. — И.3.
(обратно)6
Для тех, кто заинтересуется подлинными отписками казаков, я хочу напомнить, что Колыма у них называлась несколько иначе — «Ковыма», — И.3.
(обратно)7
Что значило получать «полный оклад жалования», видно по следующему примеру. В 1646 году пятидесятник Курбат Иванов подал воеводе челобитную от имени четырехсот ленских служилых людей. Челобитчики сначала жалуются на трудности «всяких служб»: зимних и летних, конных и струговых, нартных и лыжных, на то что приходится им есть «и траву, и сосну, и коренья, и всякую скверну принимать и помирать голодную смертию». Потом челобитчики перечисляют, во что обходится им «служебный завод»: пуд муки стоит от двух до четырех рублей, «лошаденки», цена которым на Руси два-три рубля, на Лене продаются за двадцать-тридцать рублей, лыжи идут по два рубля, нарты — по рублю, «шубные кафтаны» — по три рубля, «шуба — одевальная» — четыре рубля… Чтобы соотнести эти расходы с тем «богатством», на которое вообще мог рассчитывать казак, возвращаясь из Сибири на родину, достаточно сказать, что рядовой казак имел право вывезти с собой мехов всего на сумму пятьдесят рублей. Все остальные меха считались «пенной» рухлядью и отбирались в пользу казны на таможнях, буквально перегородивших дорогу из Сибири за Урал.
Рассказав о делах своих, челобитчики дальше просят из-за таких издержек ради государевой — службы выдать сполна недоданные «хлебные оклады» за 1642–1646 годы, прибавить хлебного и денежного жалованья и не брать десятой пошлины с их хлебных покосов и рыбных ловель… На челобитной написано: «Чтена, в столп», то есть ходу ей никакого не дали и просто подшили к делу. Так что полное жалованье — вещь серьезная. За ушничество приплачивали неплохо.
(обратно)8
См. «Якутия в XVII веке». Якутск, 1953, стр. 234.
(обратно)9
Василий Игнатьев получил еще одно важное задание; ему предлагалось выделить двух человек и отправить их на поиски дороги из Удского острога в Нерчинск.
(обратно)10
Мураг, очевидно, происходит от карельского (лопарского) слова «мур» — море; отсюда же Мурман, Мурманский берег, а теперь и Мурманск. Видимо, приказчик Акакий Мураг был опытным мореходом и заслужил такое прозвище.
(обратно)11
См. «Открытия русских землепроходцев и полярных мореходов XVII в. на северо-востоке Азии». Сборник документов. Составлен Н. С. Орловой. М., 1951. (Выделено мной, — И.3.)
(обратно)12
По уточненным данным, хребет Черского немного ниже хребта Сунтар-Хаята.
(обратно)13
Наш спор состоялся, и об этом я рассказываю на последующих страницах своего очерка. Но сейчас мне предстоит, прервав сноской рассказ, сделать грустное признание. Очерк этот писался, когда Сергей Владимирович Обручев был жив. Очерк выйдет в свет после его неожиданной смерти, случившейся в 1965 году. О живых и об ушедших из жизни невольно пишется по-разному. Я думал, что Обручев прочтет мои страницы, и представлял себе его чуть ироническую усмешку при чтении, — усмешку большого ученого и человека, отлично понимающего мимолетность таких разногласий, которые возникли у нас, и знающего, что наука творится вечно.
Сергей Владимирович еще при жизни вошел в книги по истории географии. Редкое счастье, скажем прямо. На долю немногих оно выпадает. Я не был сколько-нибудь близко знаком с Сергеем Владимировичем. Если мне не изменяет память, мы виделись всего раза три, и однажды Сергей Владимирович извинялся, что задерживает мою статью, против него же направленную, ибо хочется ему сразу опубликовать ответ, а со временем худо… Сергей Владимирович был невысок ростом, сухощав, жилист. Увидев его впервые, я подумал, что он будет таким же долгожителем, как его отец Владимир Афанасьевич Обручев… Этого не случилось, и ничего теперь не изменишь.
Но жизнь настоящего ученого в науке не кончается с его смертью. Подумав, я решил ничего не изменять в очерке. Плохая или хорошая, но это моя книга — о Живых. Не всегда об идеально хороших, гладких и удобных, но всегда — о Живых. — И.3.
(обратно)14
«Политическая экономия», 1954, стр. 10.
(обратно)15
Подробнее о Муравьеве можно прочитать, например, в книге М. Штейна «Н. Н. Муравьев-Амурский». Хабаровск, 1946.
(обратно)

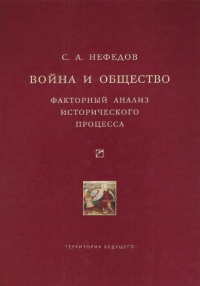
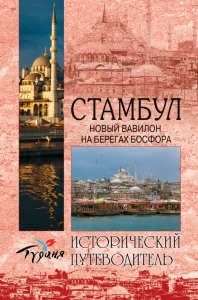

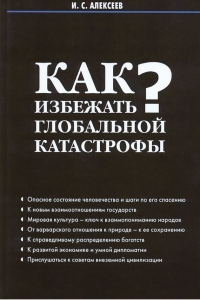
Комментарии к книге «Встречи, которых не было», Игорь Михайлович Забелин
Всего 0 комментариев