С. С. Смирнов • Рассказы о неизвестных героях
От автора
В то время когда и разыскивал защитников Брестской крепости и собирал материал об этой героической обороне, у меня был разговор с одним из моих товарищей, тоже литератором
— Зачем тебе это?! — упрекнул он меня — Искать сотни людей сличать их воспоминания, просеивать множество фактов. Ты же писатель, а не историк. У тебя уже есть главный материал — садись и пиши повесть или роман, а не документальную книгу.
Признаюсь, искушение последовать этому совету было очень сильным. Основная канва событий в Брестской крепости уже прояснилась, и, если бы я писал повесть или роман с придуманными героями, священное право литератора на вымысел оказалось бы на моей стороне и я имел бы выражаясь по военному, «полную свободу маневра» и был бы избавлен от «цепей документализма». Что и говорить, соблазн был велик, а к тому же в нашей литературной среде как то так повелось, что роман или повесть считаются уже сами по себе первым сортом а документальная или очерковая книга — вторым или третьим. Зачем же добровольно становиться третьесортным автором, если можно самим определением жанра шагнуть повыше.
Но когда я думал обо всем этом, в голову приходила и другая мысль. Ведь если я напишу роман или повесть с вымышленными героями, читатель не различит в этой книге, что было на самом деле и что просто придумано автором. А события Брестской обороны, мужество и героизм крепостного гарнизона оказались такими, что пре восходили любой вымысел, и именно в их реальности, правдивости заключалась особая сила воздействия этого материала. Кроме того, судьбы героев Бреста, сложные и порой трагические, становились гораздо более впечатляющими, когда читатель знал, что это действительные, а не придуманные писателем люди и что многие из них живут и здравствуют сейчас рядом с ним.
И мне вспомнилось остроумное сравнение нашего замечательного писателя Самуила Яковлевича Маршака.
— Предположим, что писатель побывал на Луне, — шутя сказал как-то он. — И вдруг, вернувшись оттуда, он сел писать роман из лунной жизни. Зачем? Читатель хочет, чтобы ему просто, «документально» рассказали, что собой представляют лунные жители, как они живут, что едят, чем занимаются.
В героической истории Великой Отечественной войны в силу сложных исторических причин есть и доныне немало «белых пятен», подобных обороне Брестской крепости, о которой мы тогда знали едва ли не меньше, чем о Луне. И просто, «документально» рассказать читателям об этом было и остается, по-моему, очень важным делом Вот почему я не стал писать «романа из лунной жизни». Правда, когда книга «Герои Брестской крепости» вышла из печати, мой товарищ литератор уже не повторял своих упреков, и, думаю, если ему сейчас напомнить о том разговоре, он возмутится и скажет, что никогда этого не говорил.
Эта книжка такого же «документального» жанра, что и книга о Брестской крепости. Каждый из рассказов, содержащихся в ней, мог быть превращен в повесть или даже роман Но автор остался при своем мнении и хочет прежде всего рассказать читателю о том, что было на самом деле, и о тех неизвестных героях, которые были или есть и сейчас на нашей советской земле. Потому тут нет вымысла, и все, о чем я рассказываю, происходило в жизни.
Быть может, иные из литераторов и читателей упрекнут меня в некоторой сухости изложения, в отсутствии ярких метафор или сравнений, пейзажа, диалога. Но мне кажется, что температура повествования должна быть обратно пропорциональна температуре материала, а то, о чем я здесь пишу, — добела раскаленный материал удивительных героических подвигов наших людей, и о нем, по моему мнению, следует рассказывать максимально сдержанно и строго, даже, быть может, с оттенком лаконичности военных донесений. Поэтому пусть мои критики отложат такие упреки до выхода повести или романа, которые я собираюсь написать в будущем.
Я допускаю, что многим покажутся спорными эти мысли. Что ж, пусть наш спор решат читатель и время.
Бессменный часовой (Пока еще легенда)
Эта давняя и полулегендарная история в отличие от других рассказов, собранных в настоящей книге, не имеет отношения к Великой Отечественной войне, — она произошла почти сорок лет назад. Но ее историческая судьба, как и судьба тех подвигов, о которых пойдет речь дальше, сложилась несправедливо. И само событие, удивительное, единственное в своем роде, и имя героя, совершившего этот подвиг, до сих пор неизвестны народу. И не столько соблазн рассказать необычный случай, сколько желание помочь исправить эту несправедливость заставляет автора познакомить читателя с историей бессменного часового.
Впервые я услыхал ее от одного человека в Бресте в те дни, когда разыскивал героев Брестской крепости. Хотя он уверял, что это не легенда, а действительное происшествие, я не поверил ему тогда — слишком уж фантастическим казался его рассказ.
Но потом несколько человек, встретившихся или писавших мне, рассказали ту же самую историю. Одни знали о ней понаслышке, а другие даже читали сообщения о таком происшествии в советских и иностранных газетах и журналах в двадцатых годах. Наконец, в Западной Белоруссии в разное время я встретил двух бывших солдат польской армии Пилсудского, которые вспоминали, что в дни их службы — тоже в середине двадцатых годов — офицеры читали им вслух варшавские газеты с описанием подвига бессменного часового.
Сейчас у меня нет никаких сомнений в истинности самого события. Оно остается легендарным, поскольку я пока еще не могу сообщить имени героя. Для этого предстоит провести нелегкие и, видимо, долгие розыски. Я до сих пор не смог заняться ими, но надеюсь сделать это в близком будущем.
Еще одна оговорка. Я не могу со всей точностью указать место, где произошел этот случай Те, кто первым мне о нем рассказывал, говорили, что это было в Бресте, но потом другие называли старые русские крепости Осовец и Ивангород, находящиеся ныне на землях народной Польши. Исходя из первоначальных свидетельств, я буду вести повествование так, как если бы все это происходило в Бресте, но должен предупредить читателя, что дальнейшие исследования могут внести поправку в место действия описанного ниже события.
Вот какова, по рассказам тех, кто о ней помнит, удивительная история бессменного часового.
Было лето 1915 года, второго года первой мировой войны. В середине июля германские войска предприняли наступление на Восточном фронте. Под сильным натиском противника русские армии начали отходить. Была оставлена Варшава, за ней Люблин. В августе немцы подошли к городу и крепости Брест-Литовск.
Удержать Брест русские армии не могли. Правда, Брестская крепость в то время уже не имела серьезного военного значения, но в ней и в окружавших ее фортах находились многочисленные армейские склады, и надо было сделать все, чтобы запасы, хранившиеся там, не попали в руки врага. Кое-что успели вывезти в тыл, а остальное перед эвакуацией города было приказано взорвать, как и часть крепостных и фортовых укреплений, которые противник мог бы использовать в своих интересах.
Среди прочих остался невывезенным и большой интендантский склад, находившийся где-то в окрестностях города. Он был расположен вблизи одного из фортов крепости в глубоких подземных казематах, и в нем хранились обильные запасы продовольствия, солдатского обмундирования и белья.
Складом этим ведал некий полковник интендантской службы. Получив приказ взорвать подземные казематы с запасами, он заявил командованию, что этого не следует делать. Полковник объяснил, что окрестное население ничего не знает о существовании склада и достаточно будет лишь взорвать вход в подземелье, чтобы скрыть от противника местонахождение этих богатых запасов. Зато потом, если русские войска снова отвоюют Брест, вход в склад легко будет раскопать и запасы удастся использовать.
Предложение полковника было принято. Саперы поспешно заложили динамит, и взрыв надежно завалил вход в подземелье, не оставив снаружи никаких следов склада. Теперь все эти подземные богатства могли спокойно дожидаться того момента, когда за ними вернутся их хозяева.
Через несколько часов в Брест вступили немцы. Сражения на Восточном фронте продолжались, но ожиданиям полковника так и не суждено было оправдаться — русские войска не успели отвоевать Брест — два года спустя произошла Октябрьская революция, и Советская Россия вышла из войны. А затем началась долгая и жестокая гражданская война.
В этой борьбе интендантский полковник, о котором шла речь, оказался по ту сторону баррикад — в рядах белогвардейских войск. И когда Красная Армия наголову разбила врагов, он вместе со многими своими соратниками очутился где-то на задворках заграницы и, видимо, влачил там незавидное существование. И вот тогда, вероятно, в поисках средств к жизни он вспомнил, что владеет тайной взорванного в Бресте склада, и подумал, что на этой тайне можно неплохо заработать.
Именно по этим причинам в 1924 году, то есть спустя девять лет, бывший полковник приехал в Варшаву — Столицу панской Польши, на территории которой в то время находился Брест.
Неизвестно, за какую цену удалось ему продать свою тайну, но для Пилсудского и его генералов богатый подземный склад был лакомым куском. В Брест, на место, точно указанное полковником, была послана воинская команда, и солдаты принялись раскапывать заваленный вход в подземелье.
Полковник оказался памятливым человеком — уже вскоре солдаты наткнулись на каменный свод подземного тоннеля. Была пробита широкая дыра, и в темноту склада спустился с факелом унтер-офицер.
И тогда произошло нечто невероятное.
Прежде чем унтер-офицер успел сделать несколько шагов, откуда-то из темной глубины тоннеля гулко прогремел твердый и грозный окрик:
— Стой! Кто идет?
В наглухо засыпанном подземном складе, куда в течение девяти долгих лет не ступала нога человека, охраняя его, стоял на посту часовой.
Унтер остолбенел. Мысль о том, что в этом заброшенном подземелье может быть живой человек, казалась совершенно невозможной, и он решил, что имеет дело с чертовщиной. Перепуганный, он поспешил выбраться наверх, к ожидавшим его товарищам, где получил должную взбучку от офицера за трусость и дурацкие выдумки Приказав унтеру следовать за ним, офицер сам спустился в подземелье.
И снова, едва лишь поляки двинулись по сырому и темному тоннелю, откуда-то спереди, из непроницаемо-черной мглы так же грозно и требовательно прозвучал окрик часового:
— Стой! Кто идет?
Вслед за тем в наступившей тишине явственно лязгнул затвор винтовки. Часовой стоял на посту и нес свою службу в строгом соответствии с воинским уставом.
Подумав и справедливо рассудив, что нечистая сила вряд ли стала бы вооружаться винтовкой, офицер, хорошо говоривший по-русски, окликнул невидимого солдата и объяснил, кто он и зачем пришел. Ответ был совершенно неожиданным: часовой заявил, что его поставили сюда охранять склад и он не может допустить никого в подземелье, пока его не сменят на посту. Тогда ошеломленный офицер спросил, знает ли часовой, сколько времени он пробыл здесь, под землей.
— Да, знаю, — последовал ответ. — Я заступил на пост девять лет назад, в августе тысяча девятьсот пятнадцатого года.
Это казалось сном, нелепой фантазией, но там, во мраке тоннеля, был живой человек, русский солдат, простоявший в карауле бессменно девять лет.
Начались долгие переговоры. Часовому объяснили, что произошло на земле за эти девять лет, рассказали, что царской армии, в которой он служил, уже не существует, и назвали фамилию его бывшего начальника — интендантского полковника, указавшего местонахождение склада. Только тогда он согласился покинуть свой пост.
Солдаты помогли ему выбраться наверх, на летнюю, залитую ярким солнцем землю. Прежде чем они успели рассмотреть этого человека, часовой громко закричал, закрывая лицо руками. Лишь тогда поляки вспомнили, что он провел девять лет в полной темноте и что надо было завязать ему глаза, перед тем как вывести наружу. Теперь было уже поздно — отвыкший от солнечного света солдат ослеп.
Его кое-как успокоили, пообещав показать хорошим врачам. Тесно обступив его, польские солдаты с почтительным удивлением разглядывали этого необычного часового.
Густые темные волосы длинными, грязными космами падали ему на плечи и на спину, спускались ниже пояса. Широкая черная борода спадала до колен, и на заросшем волосами лице лишь выделялись уже незрячие глаза. Но этот подземный Робинзон был одет в добротную шинель с погонами, и на ногах у него были почти новые сапоги. Кто-то из солдат обратил внимание на винтовку часового, и офицер взял ее из рук русского, хотя тот с явной неохотой расстался с оружием. Обмениваясь удивленными возгласами и качая головами, поляки рассматривали эту винтовку.
То была обычная русская трехлинейка образца 1891 года. Удивительным был только ее вид. Казалось, будто ее всего несколько минут, назад взяли из пирамиды в образцовой солдатской казарме: она была тщательно вычищена, а затвор и ствол заботливо смазаны маслом. В таком же порядке оказались и обоймы с патронами в подсумке на поясе часового. Патроны тоже блестели от смазки, и по числу их было ровно столько, сколько выдал их солдату караульный начальник девять лет назад, при заступлении на пост. Польский офицер полюбопытствовал, чем смазывал солдат свое оружие.
— Я ел консервы, которые хранятся на складе, — ответил тот, — а маслом смазывал винтовку и патроны.
И солдат рассказал откопавшим его полякам историю своей девятилетней жизни под землей.
В день, когда был взорван вход в склад, он стоял на посту в подземном тоннеле. Видимо, саперы очень торопились — немцы уже подходили к Бресту, и, когда все было готово к взрыву, никто не спустился вниз проверить, не осталось ли в складе людей. В спешке эвакуации, вероятно, забыл об этом подземном посту и караульный начальник. А часовой, исправно неся службу, терпеливо ожидал смены, стоя, как положено, с винтовкой к ноге в сырой полутьме каземата и поглядывая туда, где неподалеку от него, сквозь наклонную входную штольню подземелья, скупо сочился свет веселого солнечного дня. Иногда до него чуть слышно доносились голоса саперов, закладывающих у входа взрывчатку. Смена задерживалась, но часовой спокойно ждал.
И вдруг там, впереди, раздался глухой сильный удар, больно отозвавшийся в ушах, землю под ногами солдата резко встряхнуло, и сразу же все вокруг окутала непроглядная, густая тьма.
Что испытал этот человек, когда весь страшный смысл происшедшего дошел до его сознания? То ли кинулся он, спотыкаясь и ударяясь в темноте о стены, туда, где был выход, пока не наткнулся на свежий завал, только что плотно отгородивший его от света, от жизни, от людей? То ли в отчаянии и в бешенстве он кричал, зовя на помощь, посылая проклятия тем, кто забыл о нем, заживо похоронив в этой глубокой могиле? То ли уравновешенный, закаленный характер бывалого солдата заставил его более спокойно отнестись к тому, что произошло? И, быть может, убедившись в непоправимости случившегося, он привычно свернул солдатскую козью ножку и, затягиваясь едким махорочным дымком, принялся обдумывать свое положение.
Впрочем, если даже солдат на какое-то время поддался понятному в таких условиях отчаянию, он вскоре должен был понять, что сделать уже ничего нельзя, и, конечно, прежде всего стал знакомиться со своим подземным жильем.
В складе были большие запасы сухарей, консервов и других самых разнообразных продуктов. Если бы вместе с часовым тут, под землей, очутилась вся его рота, то и тогда этого хватило бы на много лет. Можно было не опасаться — смерть от голода не грозила ему. Здесь оказались даже махорка, спички и много стеариновых свечей.
Тут была и вода. Вокруг Бреста немало болотистых, сырых мест, и грунтовые воды здесь находятся недалеко от поверхности земли. Стены подземного склада всегда были влажными, и кое-где на полу под ногами хлюпали, лужи. Значит, и жажда не угрожала солдату. Сквозь какие-то невидимые поры земли в склад проникал воздух и дышать можно было без труда. А потом солдат обнаружил, что в одном месте в своде тоннеля пробита узкая и длинная вентиляционная шахта, выходящая на поверхность земли. Это отверстие, по счастью, осталось не совсем засыпанным, и сквозь него вверху брезжил мутный дневной свет.
Итак, у замурованного в подземелье солдата было все необходимое, чтобы поддерживать свою жизнь неограниченно долгое время. Оставалось только ждать и надеяться, что рано или поздно русская армия возвратится в Брест и тогда засыпанный склад раскопают, а он снова вернется к жизни, к людям. Но в мечтах об этом он, наверно, никогда не думал, что пройдет столько лет, прежде чем наступит день его освобождения.
Но, быть может, за эти годы солдат делал какие-нибудь попытки самостоятельно выбраться наружу, прокопать себе ход на поверхность земли? Говорят, будто у него были щтык и нож, и, судя по тому, что мы знаем о нем, он обладал деятельным и, упорным характером. Вряд ли он сидел сложа руки в течение девяти лет и пассивно ожидал, когда придет помощь. Были ли такие попытки и почему они потерпели неудачу — пока остается неизвестным.
Самое живое воображение было бы бессильным представить себе, что перечувствовал и передумал подземный узник за эти девять лет. В вечном мраке его темницы время должно было тянуться нестерпимо медленно. А он был наедине с собой, со своей памятью, хранившей, видимо, лишь немногочисленные события сравнительно небогатой биографии еще совсем молодого человека. Сколько бессчетных раз за эти годы должна была снова и снова пройти перед ним прожитая жизнь, во всех своих мельчайших подробностях — и тех, что помнились, и тех, что, будучи забытыми, вспоминались ему лишь теперь! С какой яркостью в этой кромешной тьме вставали в его представлении дорогие ему лица родных и близких людей, товарищей-солдат! Как, боясь забыть живую речь, часами разговаривал он вслух с этими призраками своей памяти или с самим собой! Как в глубокой могильной тишине подземелья, куда не проникал ни один отзвук великих исторических событий, свершавшихся на земле, он порой мучительно старался представить себе, что произошло за это время там, наверху. Но какие бы предположения ни приходили на ум солдату, он не мог предугадать главного, что случилось в мире, и не знал, что на третий год своей подземной жизни он стал советским человеком, гражданином нового, социалистического государства.
Однако в его подземной жизни были свои события, нарушавшие однообразное течение времени и подвергавшие его иногда нелегким испытаниям.
Как уже говорилось, на складе хранились запасы стеариновых свечей, и первое время солдат мог освещать свое подземелье. Рассказывают, что однажды ночью горящая свеча вызвала пожар, и, когда часовой проснулся, задыхаясь в густом дыму, склад был охвачен пламенем. Ему пришлось вести отчаянную борьбу с огнем. В конце концов, обожженный и полузадохшийся, он все же сумел потушить пожар, но при этом сгорели оставшиеся запасы свечей и спичек, и отныне он был обречен на вечную темноту.
А потом ему пришлось начать настоящую войну, трудную, упорную и изнурительно долгую. Он оказался не единственным обитателем подземелья — на складе водились крысы. Сначала он даже обрадовался тому, что здесь, кроме него, были другие живые существа. Но крысы плодились с такой ужасающей быстротой и вели себя так дерзко, что вскоре возникла опасность не только для складских запасов, но и для него самого. Тогда он стал истреблять крыс.
В непроницаемой темноте подземелья борьба человека с быстрыми, проворными хищниками была слишком неравной и трудной. Но человек научился различать своих невидимых врагов по шороху, по запаху, невольно развивая в себе острое чутье животного, и ловко подстерегал крыс, убивал их десятками и сотнями. Но они плодились еще быстрее, и эта война, становясь все более упорной, продолжалась в течение всех девяти лет, вплоть до того дня, когда солдат вышел наверх.
Говорит, что у подземного часового был свой необыкновенный календарь. Каждый день, когда наверху, в узком отверстии вентиляционной шахты, угасал бледный лучик света, солдат делал на стене подземного тоннеля зарубку, обозначающую прошедший день. Он вел счет даже дням недели, и в воскресенье зарубка на стене была длиннее других. А когда наступала суббота, он, как подобает истому русскому солдату, свято соблюдал армейский «банный день». Конечно, он не мог помыться — в ямах-колодцах, которые он вырыл ножом и штыком в полу подземелья, за день набиралось совсем немного воды, и ее хватало только для питья. Его еженедельная «баня» состояла в том, что он шел в отделение склада, где хранилось обмундирование, и брал из тюка чистую пару солдатского белья и новые портянки.
Он надевал свежую сорочку и кальсоны и, аккуратно сложив свое грязное белье, клал его отдельной стопой у стены каземата. Эта стопа, растущая с каждой неделей, и была его календарем, где четыре пары грязного белья обозначали месяц, а пятьдесят две пары — год подземной жизни. Когда настал день его освобождения, в этом своеобразном календаре, который уже разросся до нескольких стоп, накопилось больше четырехсот пятидесяти пар грязного белья. Вот почему часовой так уверенно ответил на вопрос польского офицера, сколько времени он провел под землей.
Обо всем этом и, конечно, о многих других подробностях своей девятилетней жизни в подземелье солдат рассказал откопавшим его полякам. Говорят, из Бреста его отвезли в Варшаву. Там осмотревшие его врачи установили, что он ослеп навсегда. А потом подземного часового атаковали журналисты, и его история появилась на страницах варшавских газет. И, по словам бывших польских солдат, офицеры, читая тогда вслух газеты своим жолнерам, говорили им:
— Учитесь, как надо нести воинскую службу, у этого храброго русского солдата.
Солдату якобы предложили остаться в Польше, но он нетерпеливо рвался на родину и вскоре уехал — то ли на Украину, то ли на Дон. На этом и оборвались его следы.
Если читатель спросит меня, как могло случиться, что подвиг этот забыт, а имя героя никому не известно, ответить будет нетрудно. Лишь за два года до того, как солдат вышел из своего подземного заточения, окончилась гражданская война, в которой старая армия была нашим злейшим, смертельным врагом. Все, что касалось этой армии — от погон до ее исторического прошлого, — было тогда глубоко чуждо и враждебно советскому народу. А бессменный часовой совершил свой подвиг, будучи в рядах этой старой армии. Вот почему его история пришлась в те годы как бы не ко времени и осталась забытой до наших дней.
Сейчас иное дело. Минули годы и десятилетия, мы спокойнее и мудрее смотрим в прошлое и справедливо считаем себя законными наследниками всего лучшего, благородного, героического в истории нашего народа и нашей, армии. И подвиг подземного часового может занять достойное его место в этой славной и богатой истории. Надо только постараться найти следы этого человека, а возможно, и его самого. Если, по счастью, он жив до сих пор, ему должно быть по крайней мере около семидесяти лет. Если же нет, то, во всяком случае, где-то на нашей советской земле живут и здравствуют его потомки, близкие или дальние родственники, которые, наверно, не раз слышали из уст старого солдата волнующую повесть о его подземной жизни.
Все, что здесь описано, было напечатано в 1960 году на страницах «Огонька». Я надеялся, что опубликование этой истории в таком распространенном журнале заставит отозваться многих читателей, которые знают что-нибудь о бессменном часовом. И мои надежды оправдались.
Читатели сразу же и горячо откликнулись на мой рассказ. Нужно признаться, тут много помогла и наша местная печать. Дело в том, что историю бессменного часового перепечатали из «Огонька» многие газеты Советского Союза — республиканские, областные, районные, и таким образом круг читателей расширился еще больше. В редакцию «Огонька» пошли письма со всех концов нашей страны. И не только нашей. Отозвались читатели из Чехословакии, Польши, Румынии, из Вьетнама, где рассказ был переведен на вьетнамский язык и напечатан в Ханое. Одно письмо пришло даже из города в далекой Австралии. Словом, писем оказалось больше тысячи.
Можно смело сказать, что будущие поиски значительно облегчаются благодаря многочисленным новым данным, которые сообщили читатели. Пока что я успел лишь изучить и систематизировать присланные мне письма да найти некоторые печатные материалы о бессменном часовом, указанные читателями. Вот об этих письмах и материалах я и хочу теперь рассказать, тем более что рассчитываю и дальше на помощь читателей в розыске следов бессменного часового.
Характерно, что сама рассказанная мной история при всей ее необычности почти ни у кого не вызвала сомнений. Лишь в трех или четырех письмах выражено недоверие моему рассказу и случай с бессменным часовым объявляется невероятным и невозможным — этакой литературной небылицей. Что ж, сейчас у меня в руках достаточно материала, чтобы доказать этим скептикам их неправоту.
Уже тогда, когда я писал свой рассказ, я верил, что бессменный часовой лицо реальное, хотя мог в то время опираться на показания всего лишь нескольких человек. Я допускал, что те или иные обстоятельства этой истории могут оказаться иными, но был убежден в реальности ее основы — в девятилетней подземной робинзонаде русского солдата. Теперь же в моем распоряжении свидетельства сотен людей, которые читали сообщения об этом случае в газетах и журналах двадцатых годов, а также и кое-какие печатные источники. Наконец, среди тех, кто мне написал, есть люди, утверждающие, что они лично видели бессменного часового или даже разговаривали с ним. И сейчас у меня нет ни малейшего сомнения, что история эта не легенда, а самое истинное происшествие.
Перейду к фактам.
Во-первых, оказалось, что в 1924 году, когда бессменный часовой вышел из своего подземного заточения, о нем широко писала польская печать. Многие из людей, которые в то время жили на территории Польши, сообщают мне, что они узнали эту историю из газет «Курьер варшавски», «Курьер поранны» и из газеты Войска Польского. К сожалению, точные даты появления статей не указаны в письмах, что, конечно, затрудняет поиски. Но я обратился к нескольким польским товарищам — писателям и журналистам — с просьбой навести справки в архивах, где хранятся эти газеты.
Выясняется, что и наша печать того времени довольно много писала о бессменном часовом. Десятки людей сообщают, что они читали заметки о нем в «Правде» и в «Известиях», в «Крестьянской газете» и в «Бедноте», в ленинградской «Красной газете» и в «Вечернем Ленинграде». Майор в отставке А. М. Луганский и его жена персональная пенсионерка Ю. П. Луганская, живущие сейчас в Орле, читали сообщение о бессменном часовом в 1926 или 1927 году в ростовской газете «Молот», когда солдат вернулся из Польши на родину. Сагит Хафизов из Уфы вспоминает, что встречал краткую заметку о подземном Робинзоне в 1925 году в уфимской татарской газете «Яна аул» («Новая деревня»). Монтер связи Александр Статыкин ссылается на газету «Советская Сибирь» за 1924–1925 годы. По его словам, читателей очень заинтересовала заметка о бессменном часовом, помещенная тогда в этой газете, и они засыпали редакцию письмами. А. Статыкин говорит, что «Советская Сибирь» потом во многих номерах печатала ответы на вопросы читателей, подробно рассказывая о солдате, который якобы тогда жил где-то на Кубани, вернувшись к своей семье.
Инвалид первой мировой войны И. М. Гуров из города Котельникова Волгоградской области читал в начале 1925 года в одной из курских газет рассказ об этом случае. По его словам, в статье указывался адрес солдата деревня Белый Колодезь (или Сигаевка) Тимского уезда Курской губернии, а также фамилия и имя бессменного часового, которые он сейчас уже забыл Москвич Александр Павлов, отдыхавший в санатории «Белоруссия» в Сочи, прочтя рассказ в «Огоньке», тотчас же сообщил, что в 1925 году, живя в Севастополе, видел в местной газете «Маяк коммуны» заметку о русском солдате, отрытом в подземном складе крепости Осовец. С. Дубовцев из Ивановского района Одесской области пишет, что в 1925 году, будучи подростком, читал пространную статью о бессменном часовом в газете «Новая деревня», издававшейся тогда в городе Гомеле в Белоруссии.
А пенсионер Андрей Евграфович Гурков, который живет в Смоленске, прочтя мой рассказ, вспомнил, что в двадцатых годах видел заметку о бессменном часовом в смоленской газете «Рабочий путь». Тов. Гурков — бывший солдат первой мировой войны, и история подземного узника так взволновала его, что он решил включиться в розыски. К счастью, оказалось, что старые комплекты «Рабочего пути» хранятся в областном архиве. А. Е. Гуркову пришлось тщательно просмотреть все газеты за 1922, 1923 и 1924 годы, и только в Номере от 13 февраля 1925 года в разделе «Смесь» он нашел заметку, которую искал. Сообщение занимает всего несколько строк:
«В крепости Осовец, в заваленном землей каземате найден живым русский солдат, пробывший под землей девять лет. В каземате были большие запасы пищи и свечей, но последних хватило только на четыре года, а остальные пять лет солдат жил в темноте. Сейчас это седой старик».
Больше никаких сведений в заметке не было. Но А. Е. Гурков не оставил дела на этом. Он написал письмо работникам варшавского радио и телевидения, прося их обратиться за помощью к своим слушателям и зрителям. Он обещал сообщить мне, как только получит какой-нибудь ответ из Варшавы.
Итак, многие газеты писали о бессменном часовом и, по словам читателей, сообщали его фамилию, имя и местожительство. Однако остается неизвестным, в каких именно номерах тех или иных газет были напечатаны эти статьи и заметки. Предстоит добывать старые комплекты газет в библиотеке и внимательно просматривать их месяц за месяцем и год за годом. Этим я и собираюсь заняться в будущем.
Но не только газетчики писали о бессменном часовом. Эта удивительная история не могла не заинтересовать и писателей. Как сейчас выясняется, она легла в основу нескольких произведений советской литературы и искусства. В свое время по экранам страны прошел с успехом фильм «Обломок империи», который мне лично, к сожалению, не пришлось посмотреть. Несколько читателей и моих друзей литераторов сообщили мне, что в основе сюжета этого фильма лежит история человека, на много лет замурованного под землей и после освобождения попавшего в новый для него мир нашей советской жизни, то есть история бессменного часового.
Тот же сюжет, оказывается, использовал в своей поэме «Товарищ Ардатов» ныне покойный поэт Николай Адуев, Полковник запаса Е. Е. Ефремов из Волгограда сообщает, что он много лет назад читал рассказы известного советского писателя Пантелеймона Романова и один из них был посвящен истории бессменного часового. А рабочий Омельченко из Чимкента пишет, что якобы создал на эту тему рассказ и Алексей Толстой. Герой этого рассказа, по словам Омельченко, был татарином по национальности, а дело происходило в крепости Перемышль.
Кстати говоря, хотя большинство читателей подтверждает, что бессменный часовой был донским казаком, в целом ряде писем указывается иная версия. Читатели из Татарии и Башкирии утверждают, будто в местных газетах того времени печатались статьи о бессменном часовом и там сообщалось, что он был татарином и вернулся в родное село где-то около Уфы, а по другим сведениям близ Казани. Т. Алюков из Уфы прислал мне письмо, в котором указывает, что в 1926 году издательство «Башкнига» выпустило на татарском языке рассказ башкирского писателя Имая Насири «Живьем в могиле», где описана та же история, что и у меня. При этом якобы на титульном листе книги писатель сделал примечание: «Сюжет взят с русского». Тем не менее герой его рассказа носит татарское имя Шарафий, и трудно сказать, взял ли автор с русского лишь историю, героем которой на деле был татарин, или он по своей воле изменил имя бессменного часового на татарское. Об этой же книге пишут мне П. Игуш из поселка Бишбуляк Башкирской АССР и корреспондент областной газеты «Кузбасс» Григорий Умнов из Анжеро-Судженска, который, в свою очередь, узнал о ней от пенсионера Хабиба Саитова. Ха-биб Сайтов хорошо помнит брошюру «Девять лет под землей», выпущенную лет тридцать назад в Башкирии. Он, по его словам, запомнил все, что там сообщалось о бессменном часовом. Солдата, как он утверждает, звали Сабир Садыков, он был родом из Башкирии, и в 1924 году, когда его извлекли из подземелья, ему исполнилось 29 лет. Возвратившись на родину, он якобы поселился на Урале, в городе Карабаше.
Вскоре после опубликования рассказа в «Огоньке» мне позвонил бывший проездом в Москве' капитан Советской Армии М. Козин, который служит в одной из воинских частей на Украине. Он сказал, что у него хранится экземпляр «Чтеца-декламатора», выпущенного Военным издательством в 1941 году, и в этой книге есть рассказ о бессменном часовом. Он обещал прислать мне этот рассказ по возвращении в часть и выполнил свое обещание.
Рассказ называется «Забытый» и снабжен небольшим примечанием:
«Летом 1925 года при восстановлении Ивангородской крепости, расположенной на территории б. Польши, в заваленном форту был найден живым солдат царской армии. Он пробыл в форту 10 лет со дня поспешного оставления крепости войсками. Рассказ „Забытый“ написан на основе этого факта».
Героем этого рассказа является солдат — татарин Мустафа Муссатдинов. Его забыли в подземных казематах его товарищи, отступившие и взорвавшие вход в форт в то время, когда он спал, вернувшись из очередной разведки. Автор описывал, что передумал и перечувствовал подземный узник в первые дни своего заточения и как все больше копилась в его душе ненависть к царской власти, к своему офицеру, который, бывало, презрительно звал Мустафу «гололобым» и который, как подозревал солдат, нарочно оставил его в этой каменной могиле. Рассказывается, как жил солдат все эти годы, упоминается его война с крысами, которые уничтожали запасы пищи. А когда через десять лет поляки, раскопав форт, вошли в каземат, Мустафа, увидя офицера в погонах, плюнул ему в лицо, думая, что это вернулся бывший командир — виновник его заточения.
Автором этого рассказа, к моей радости, оказался, ныне здравствующий писатель москвич Казимир Ковалевский. Я сразу же позвонил ему по телефону и спросил: где те материалы, на основе которых он. написал своего «Забытого». Но оказалось, что Ковалевскому в свое время лишь подробно рассказали об этой истории с солдатом-татарином, а сам он не видел никаких документов и, когда сочинял рассказ, придумал имя для своего героя, как это обычно делают писатели в художественных произведениях. Таким образом, рассказ его не мог пригодиться в моих поисках — эта «нитка» безнадежно оборвалась.
Примерно тогда же несколько читателей позвонили мне по телефону или прислали письма, советуя разыскать э 4 журнала «Всемирный следопыт» за 1925 год. Я нашел его в одной из библиотек и, открыв, тотчас же увидел большой рассказ, озаглавленный «Девять лет под землей». Рассказу было предпослано следующее примечание:
«Во время расчистки фортов Осовецкой крепости в заваленном обвалом земли каземате найден живым русский солдат из Донской области — участник русско-немецкой войны, остававшийся под землей в течение девяти лет. Взрывом большого снаряда солдат заживо был замурован в каземате большим пластом земли. В течение года он кормился хлебом, который затем от сырости испортился. Все остальное время он питался мясными и молочными консервами, которых оказалось в изобилии в каземате. Там же был большой запас свечей, которых хватило на четыре года, после чего несчастному человеку в течение пяти лет пришлось жить в темноте. Нашли его всего обросшего волосами и седым стариком. Первые лучи света ослепили его зрение, но затем оно снова вернулось. Местными властями найденный солдат отправлен в Варшаву, а оттуда, по всей вероятности, его направят на родину — в Донскую область (из газет)».
На этом газетном сообщении и был построен рассказ — история канонира Иванова, заживо погребенного в глубоком фортовом каземате. Главное место автор уделил описанию переживаний и мыслей солдата; причем сделал это с изрядной долей того, что мы сейчас называем «литературщиной». Но все же в рассказе присутствует и много бытовых подробностей. В обширных подземельях, где оказался канонир Иванов, были обильные запасы- провианта, но не было складов обмундирования. Там же находился большой подземный водоем, из которого солдат пил. Запас свечей, бочки с пушечным салом, которым он наполнял котелки, делая к ним фитили из пакли, дали ему возможность долго освещать свое подземелье. При этом свете он построил из ящиков леса и день за днем долбил проход в потолке каземата. В конце концов он попал… в подвал, находившийся этажом выше, но выход из этого подвала был завален огромными глыбами бетона, развороченного взрывом, и расчистить завал оказалось невозможным. Он попытался пробивать дыру в другом месте, но однажды леса его развалились, а сам он упал в водоем, и тяжелая болезнь, последовавшая за этим, окончательно надломила его силы и волю. К тому же в подземелье произошел пожар — сгорели все запасы пушечного сала. Солдат при этом уцелел, но с тех пор очутился в темноте. Зато пожар спас его от крыс, которые угрожали его жизни. Углекислота затопила весь низ его подвала, и крысы погибли.
Постепенно солдат одичал, превратился в странное, обросшее волосами существо и в таком виде девять лет спустя был обнаружен поляками.
Таково содержание рассказа «Всемирного следопыта», и, как вы видите, он во многом отличается от описанной мной истории бессменного часового, хотя в основе обоих лежит один и тот же случай. И пока трудно сказать, какой из этих вариантов является правильным, это покажут дальнейшие розыски. Рассказ во «Всемирном следопыте» — безыменный, он не подписан именем автора, и сейчас очень трудно установить, кто его писал. Мы не знаем, располагал ли автор каким-либо фактическим материалом, кроме короткой газетной заметки, или же все обстоятельства подземной робинзонады канонира Иванова, как и его фамилия, выдуманы писателем. И этот рассказ, судя по всему, не может служить мало-мальски достоверным документом.
Описывая историю бессменного часового, я исходил из того, что случай этот происходил в одном из фортов Брестской крепости. Но при этом, как, возможно, помнят читатели, я сделал оговорку, сказав, что не могу в точности ручаться за место действия, ибо некоторые из людей, рассказавших мне эту историю, ссылались на другие русские крепости — Осовец и Ивангород. Сейчас дело обстоит еще хуже — число крепостей, где мог произойти этот случай, сильно выросло благодаря письмам читателей.
Правда, подавляющее большинство читателей с уверенностью называют Осовец, и я сейчас думаю, что это наиболее вероятное место действия. Впрочем, есть и другие варианты.
А. Колесников из села Пудино Томской области и А. Кузьмин из города Николаева на Украине утверждают, что дело происходило в Бресте. Учитель И. Д. Буянов из села Колхозное Чечено-Ингушской АССР заявляет, что солдат найден в крепости Ивангород, пенсионер М. Т. Темник из города Сосновки Черкасской области называет крепость Дубно, тов. Якушенков из Саранска пишет, что местом действия был Ковенский форт (город Каунас в Литве). Эту версию подтверждают в своем письме Анна и Вацлав Колар, живущие в Харькове. Они сообщают, что в 1925 или 1926 году получили письмо от своих родственников из Литвы, которые писали им:
«У нас интересная новость. При раскопке Каунасской крепости в подземелье был найден живой русский'солдат родом с Дона. Он был в подземелье в течение девяти лет, весь оброс длинными волосами».
А. и В. Колар советуют мне запросить об этом случае старожилов Каунаса.
Председатель колхоза «Патанга» Укмергского района Литовской ССР Эдуард Шемета нашел в старом литовском журнале «Кривуле» в э 5 за 1925 год заметку «Девять лет под землей», сделал ее перевод и прислал мне. Вот что в ней написано:
«Недалеко от Вильнюса во время империалистической войны были большие продовольственные склады, которые были взорваны при отступлении русской армии в 1915 году. В 1925 году польские власти, обследуя эти места и производя раскопки, обнаружили в одном подвале русского солдата, который был в полной форме и у него были длинные волосы, которые доходили до пояса. Когда его вывели на свежий воздух, он сразу ослеп. Он мало разговаривал и только сказал, что был поставлен на пост и ждал, когда его сменят.
Русский воин прожил недолго — когда он попал на свежий воздух и на солнце, он сразу заболел и через несколько дней скончался. Никому больше не удастся узнать, откуда он был и как его звали, — свою тайну он унес в могилу. Это был русский воин, верный своей присяге».
Как видите, появляются все новые и самые различные версии Конечно, многие из них с неизбежностью отпадут, но сознаюсь, что при всей необычности истории бессменного часового я невольно думаю о том, что вполне мог быть не один подобный случай.
Такое же разнообразие вариантов возникает сейчас и по поводу фамилии и местожительства подземного часового. Опять-таки большинство читателей с определенностью указывают, что это был донской казак, причем некоторые сообщают его адрес более точно. Петр Целютин из города Шахты пишет, что солдат призывался в Каменской округе, а после освобождения из подземелья вернулся на родину — в станицу Ешинскую (возможно, он имеет в виду Вешенскую). К. Рожков из Харькова также помнит, что солдат был родом из одного хутора станицы Каменской (ныне город Каменск). Житель хутора Садки Зверевского района Ростовской области Яков Пахаев тоже говорит, что бессменный часовой был из станицы Каменской и даже указывает его фамилию Галушка (он читал о нем в газете в 1927 году). Михаил Челня из Тбилиси уведомляет меня, что по его сведениям солдата надо искать в селе Грушевка Ростовской области, около Новочеркасска. Председатель Ковалевского сельсовета Ростовской области Василий Медведев пишет, что солдата звали Иван Шаповалов, он был уроженцем станицы Вольно-Донской Морозовского района.
Но три письма, пришедших из трех совершенно разных районов Союза, уверенно указывают на один и тот же адрес — станица Николаевская бывшей Донской области. Этот адрес сообщают В. П. Лукьянов со станции Краснодонецкая Ростовской области, И. Д. Межинский из Махачкалы и И. Матиссен из Красноярска. Все они в свое время читали об этом в газетах и запомнили адрес, а И. Матиссен помнит даже фамилию солдата — Николаев. Это совпадение адреса в трех письмах заставляет насторожиться — быть может, прежде всего следы бессменного часового следует искать именно в станице Николаевской.
Однако есть и другие свидетельства. Г. Дворников со станции Алга Актюбинской области утверждает, что солдат был рабочим из Иваново-Вознесенска и вернулся впоследствии туда. Из редакции газеты «Колхозная правда», которая выходит в Бесединском районе Курской области и которая перепечатала мой рассказ, переслали мне письмо читателя Г. Алтухова. Он помнит, что солдат был родом из Иркутской губернии. Ф. Сергеев из Днепропетровска считает его уроженцем Тамбовской губернии Анастасия Говорунова из Пянджского района Таджикистана сообщает, что, по слухам, солдат, пробывший девять лет под землей, проживал в селе Красавке Саратовской области и фамилия его была Грушин. Редакция «Камчатской правды» переслала мне письмо своего читателя А. Румынова, указывающего, что бессменного часового надо искать по адресу — село Веригино Бугурусланского района бывшей Самарской губернии. И. Буянов из города Грозного заявляет, что солдат был жителем Пензенской губернии. Восьмидесятилетний В. П. Волков из Оренбурга адресует меня в город Сорочинск Оренбургской области. А. Ахметов из Башкирии указывает на село Слак Алышевского района Башкирской АССР. Наконец, недавно умерший украинский ученый-историк Павел Константинович Федоренко вспоминал, что лет тридцать назад ему рассказывали, будто солдат, просидевший девять лет в подземелье, был жителем города Сновска (теперь Щорс) Черниговской области. В то же время редактор районной газеты «Путь Ленина», выходящей в селе Красная Гора Брянской области, переслал в редакцию «Огонька» один из номеров этой газеты, где напечатано адресованное мне открытое письмо пенсионера О. Подвойского «Это не легенда!». О. Подвойский в свое время читал статью о бессменном часовом в клинцовской газете «Труд» и хорошо помнит — там указывалось, что солдат был уроженцем Сосницкого уезда Черниговской губернии. Редактор «Пути Ленина» А. Балалаев попытался разыскать старые комплекты газеты «Труд» через Клинцовский краеведческий музей, но оказалось, что весь архив района был уничтожен во время фашистской оккупации.
Все эти люди по большей части сообщают то, что они когда-то читали в газетах. Есть также целая группа читателей, которые, так сказать, из вторых рук передают рассказы тех, кому якобы довелось видеть бессменного часового и говорить с ним. Михаил Зорин из города Бердска Новосибирской области пишет, что его жена, уроженка поселка Александровский Коченевского района той же области, заявила ему, будто все это произошло с ее односельчанином Тимофеем Гурко. Сам Гурко, вернувшийся домой слепым, умер только в 1955 году, и М. Зорин сообщает мне адреса его родственников. И. А. Никулин из города Мелеуза в Башкирии передает мне интересный рассказ бывшего начальника Зилаирского райвоенкомата БАССР И. Ф. Тулякова, В тридцатых годах Туляков ездил на лошадях в командировку в город Белорецк и, вернувшись оттуда, с волнением рассказал своим сотрудникам, среди которых был и тов. Никулин, об удивительной встрече со слепым башкиром или татарином. По дороге в Белорецк ему пришлось заночевать в одной из деревень. Его привели спать в избу, где на нарах сидел слепой человек с совершенно седыми волосами, причем седина была какая-то необычная — с зеленоватым отливом. Узнав, что к нему пришел военный, слепой принялся рассказывать Тулякову свою историю, полностью совпадающую с историей бессменного часового. При этом старый солдат сказал, что поляки оказали ему воинские почести и что в Варшаву его доставили торжественно, в сопровождении духового оркестра. И. А. Никулин пишет, что Туляков был человеком серьезным и уважаемым и что рассказ его не вызывал сомнений. К сожалению, он впоследствии погиб на фронте, но тов. Никулин советует мне навести сейчас справки у старожилов Усменского, Абземиловского и Белорецкого районов, через которые пролегал тогда путь И. Ф. Тулякова.
Заведующий промышленным отделом Тернопольского городского Совета депутатов трудящихся Н. А. Диордиенко прислал мне письмо, где сообщает, что в 1944 году, будучи на фронте и попав в крепость Осовец, он встретился с одним польским железнодорожником, который был свидетелем освобождения бессменного часового из подземелья. По его словам, солдат за девять лет одичал, оброс волосами и почти разучился говорить. Железнодорожник даже показал тов. Диордиенко вход в эти подземные многоэтажные казематы, где находился часовой. Таиса Мелентович из Брестской области пишет, что она знает шестидесятилетнего старика Лаврентия Цамока из деревни Обры Каменецкого района, который якобы своими руками в 1924 году откапывал вход в подземный склад в Брестской крепости, видел обнаруженного там солдата и даже разговаривал с ним. И. И. Вербицкий из города Калининграда, который в 1923 году жил в Польше около крепости Модлин близ Варшавы (раньше она называлась Новогеоргиевской крепостью), вспоминает рассказ своего брата. Брат его служил тогда в польских войсках и работал в команде, расчищавшей и раскапывавшей крепостные сооружения. Самому И. Вербицкому тогда было тринадцать лет, и он ежедневно носил брату в крепость обед, который посылали ему родители. Однажды, это было в ясный сентябрьский день 1923 года, мальчик застал у ворот крепости огромную толпу народа, и жандармы никого не пускали внутрь. В толпе говорили, что в этот день под землей нашли русского солдата, прожившего там девять лет. Потом к мальчику вышел его брат с другими польскими жолнерами, и они подтвердили этот слух и рассказали, как выглядел найденный солдат. А потом, как вспоминает И. Вербицкий, в польских газетах и журналах печатались портреты этого солдата, подробные рассказы о его жизни под землей, и даже была выпущена брошюра о нем. Сейчас И. Вербицкий послал в Польшу письмо своим знакомым с запросом об этом случае и обещает сообщить мне о результатах.
А. Колесников из Томской области, о котором я уже упоминал, передает мне краткий рассказ своего сослуживца бухгалтера Пудинского совхоза Андрея Герасимчука.
«Я видел человека, о котором написано в „Огоньке“, — сказал ему Герасимчук. — Было это в 1924 или 1925 году, когда я служил в армии на станции Шепетовка, На эту станцию польские военные власти привезли русского солдата, пробывшего много лет под землей, для передачи его нашим властям. Человеку было лет под тридцать, он был белый как лунь, подстриженный и побритый. Он видел, но плохо. Он кратко рассказывал о жизни в подземелье, и мне помнится, что он был завален в Брестской крепости. Он житель Донской области. Наши принимали его с оркестром. Куда он потом уехал, я не знаю».
Особенно интересное письмо прислал мне старый железнодорожник, ныне пенсионер из города Вильнюса Д. И. Бурый. В нем он подробно излагает то, что когда-то рассказывал ему его сослуживец, ныне работник Вильнюсского отделения Литовской железной дороги Михаил Сухорукое, человек, по словам тов. Бурого, солидный и вполне заслуживающий доверия.
Это было примерно 25 сентября 1925 года, когда Михаил Сухорукое служил на пограничной с Польшей советской станции Негорелое. Стало известно, что из Варшавы прибывает поездом русский солдат, пробывший девять лет под землей, которого поляки будут передавать в Негорелом советским властям.
Курьерский поезд из Варшавы прибыл около семи часов вечера, и пассажиры прямо пересаживались с него на поезд, идущий в Москву. Но таможенная и пограничная проверка все же занимала минут сорок, и за это время М. Сухоруков и другие работники станции успели рассмотреть бессменного часового и поговорить с ним.
Оказалось, что его встречали в Негорелом родные — старушка мать, брат, жена и отец — еще бодрый и бравый донской казак с крупной золотой серьгой в ухе и в старых шароварах с лампасами. Вместе с ними приезжего ждали фотографы и рабкоры из газет.
Солдат оказался плотным здоровяком лет сорока пяти, довольно высокого роста, с двумя георгиевскими крестами на груди и тоже с серьгой в ухе. С головы его спускались ниже пояса густые седые волосы. Такими же седыми были его борода и усы. На казаке были новые казацкие шаровары с лампасами, и на боку висела сабля.
Он долго обнимался с родными, а потом газетчики хотели его сфотографировать, но он просил не делать этого, видимо стесняясь своей внешности. Ему принялись задавать вопросы, и он охотно рассказал свою историю, почти полностью совпадающую с основным вариантом этого случая, хотя некоторые детали в его рассказе были иными. Он, по его словам, действительно не сразу допустил поляков в склад и приготовился стрелять, если в подземелье войдут немцы. Только после того, как ему объяснили, что произошло, он согласился покинуть пост. При этом ему плотно завязали глаза, чтобы сохранить зрение. Хотели даже связать руки, чтобы он, забывшись, не сбросил своей повязки, но он обещал, что сумеет сдержаться. Потом его доставили в военный госпиталь, поместили в темной комнате, и в течение трех или четырех месяцев он ходил в темных очках, постепенно приучая глаза к свету. Он заявил польским властям, что хочет уехать на родину, и в госпитале его навещал советский консул, который теперь сопровождал его в Москву. Сухоруков спросил у казака, как случилось, что поляки оставили ему саблю. Тогда солдат вынул из ножен клинок и показал его собравшимся вокруг него.
«Это подарок отца», — сказал он.
На клинке была выгравирована надпись: «Смелым бог владеет».
Он объяснил, что поляки с уважением отнеслись к нему и, оценив мужество и стойкость подземного часового, разрешили ему оставить свое оружие.
Такова история, которую со слов М. Сухорукова сообщает мне тов. Бурый. Он советует обратиться к архивам Министерства иностранных дел СССР, где должны быть какие-то документы, связанные с передачей бессменного часового на родину.
Кстати, такой же совет дает мне С. Фейнберг из города Бобруйска, которому помнится, что в те годы народный комиссар иностранных дел тов. Чичерин дважды (обращался с нотами к польскому правительству, потому что поляки якобы затягивали отправку солдата на родину. А Григорий Любченко из поселка Новый Свет Донецкой области пишет, будто бы в 1927 или 1928 году читал в газетах сообщение о том, что Советское правительство наградило солдата, проведшего девять лет под землей, орденом Красного Знамени, и рекомендует мне обратиться туда, где хранятся сведения о награжденных.
Но, конечно, особенно интересным было для меня получить письма от людей, которые, по их словам, сами видели бессменного часового и разговаривали с ним. Таких писем несколько.
Александр Лебедев из Ленинграда сообщает, что много лет назад его односельчанин, вернувшийся домой с войны только в 1924 или 1925 году, подробно рассказывал ему историю своего девятилетнего пребывания под землей в крепости Осовец. А. Лебедев был тогда секретарем волостной ячейки ВЛКСМ и жил в селе Старая Ка-литва Новокалитвенского района Воронежской области. Фамилию подземного узника он помнит хорошо — Журавлев, но имя его забыл. Журавлев, по его словам, видел, но недостаточно хорошо, хотя и ходил без сопровождающего, да и слух его был расстроен. В то время Журавлев работал в качестве пастуха общественного стада, а его сын Петр батрачил у кулаков. Сам Лебедев в 1929 году уехал из родного села и с тех пор ничего не знает о семье Журавлевых.
Читательница Витковская из города Кривой Рог пишет, что в 1925 году, когда она жила на станции Гришине, там однажды появились листовки, выпущенные местной газетой, где рассказывалась история бессменного часового. В листовках сообщалось, что солдат, возвращаясь на родину, проедет через Гришино, и указывался час прихода поезда. Вместе со многими другими жителями Гришина тов. Витковская пришла на станцию посмотреть на этого удивительного человека. Она помнит, как на площадку вагона вышел человек с очень длинной белой бородой и, отвечая на вопросы людей, много рассказывал о своей жизни под землей. Он сказал, что после освобождения он долго лечился, а теперь едет на родину в Донбасс. Куда именно, тов. Витковская забыла, как забыла и фамилию этого человека. Она говорит, что старожилы станции Гришино должны помнить этот случай.
Из Волгоградской области из города Новоанненска пишет мне Алексей Балычев. Он вспоминает, что в 1924 или 1925 году встретил на станции Филонове почти совсем слепого человека, которого сопровождал санитар. Он рассказал Балычеву свою историю, и она в точности была историей бессменного часового. Человек этот ехал, как он сказал, из Минска, где лечился в госпитале, и добирался до родного хутора. Как назывался хутор, Балычев забыл, но вспоминает, что слепой сказал, что от Филонова до его родных мест остается сто тридцать километров. Он рекомендует мне искать следы этого человека в районе станиц Глазуновской и Роскопенской.
А вот что рассказывает в своем письме работник совхоза имени Тимирязева из Октябрьского района в Северном Казахстане Николай Субботенко. Работая в двадцатых годах на сахарном заводе близ Умани на Украине, он, как активный комсомолец, участвовал в волостной комсомольской конференции. Проходила эта конференция в Умани, и во время перерыва на обед было объявлено, что делегаты приглашаются в городской цирк, где будет выступать находящийся здесь проездом на родину солдат, который прожил в подземном каземате Новогеоргиевской крепости девять лет. Вместе с товарищами Н. Субботенко побывал в цирке, видел человека в форме солдата царской армии, но без погон, с темными очками на глазах и с лицом, густо заросшим длинными волосами, и слышал его волнующий рассказ. Он пишет, что родом этот солдат из Черниговской губернии. Уманские газеты, по словам Субботенко, потом печатали подробные рассказы о бессменном часовом.
А вот короткое письмо жителя Барнаула Андрея Власенко:
«Уважаемые товарищи! Я прочитал в „Огоньке“ очерк „Бессменный часовой“ и был взволнован, так как в 1943 году встречал подобного человека. Возможно, это был сам герой очерка. В августе — сентябре 1943 года, будучи в резерве 46-й армии, я со штабом армии находился в одном из донских сел в радиусе 100–150 километров от Миллерово. Возможно, это было в Чеботаревке, Митя-кино, Ср. Митякино, Волховом Яре или на хуторе Шевченко. Однажды вечером, выйдя из хаты, я увидел на завалинке старика лет 65–70. Старик плохо видел. Рядом с ним стояла жена. Я разговорился с ним и был чрезвычайно удивлен, услышав его рассказ. Находясь в армии во время германской войны в Польше, он вместе с другими солдатами охранял подземный склад с обмундированием и продовольствием. Однажды, когда он стоял в карауле, выход был завален взрывом, и дед в одиночку просидел в складе около 10 лет. Словом, это был случай, описанный Смирновым.
Посылая письмо в редакцию, я надеюсь, что оно поможет писателю в розысках неизвестного героя».
Осенью 1960 года мне позвонил инженер Ростовского опытного завода П. П. Плахтюрин, приехавший в Москву. Мы повидались с ним, и он рассказал мне, как в 1947 году ему пришлось заночевать в избе слепого старика — солдата первой мировой войны. П. П. Плахтюрин служил тогда в армии, и его часть стояла в районе города Вольска Саратовской области. Однажды зимой их подразделение перебросили на машинах куда-то к границе Саратовской и Ульяновской областей, а потом солдаты двинулись на лыжах к месту назначения, где им предстояло заготовлять лес. В пути один из лыжников вывихнул ногу, и командир поручил Плахтюрину сопровождать его до ближайшей деревни. Оба солдата, отстав от своих, к вечеру добрались в село, и им порекомендовали остановиться на ночлег в избе, где жили слепой дед и его жена-старуха, работавшая сторожем при магазине сельпо. Им сказали, что дед, как старый солдат, примет военных особенно радушно.
Так и случилось. Они разыскали в магазине сторожиху, и та повела их к себе, сказав: «Дед меня со свету сживет, если я вам откажу». По пути она рассказала солдатам, что ее дед большой герой, что он много лет охранял военные склады под землей и что за то, что он сделал, могла бы ему быть большая награда. «А ведь сейчас ему даже и не верят, когда рассказывает, пожаловалась старуха. — Думают, что выдумал все. И глаза-то он зря потерял забыли ему завязать глаза, когда наверх выводили из-под земли, — он без света много лет пробыл и, как вышел на свет, сразу ослеп. Наши бы не забыли глаза завязать», — вздохнула она.
Дед оказался еще совсем крепким. На вид ему было лет шестьдесят. Глаза у него были чистые и ясные, и не сразу можно было догадаться, что он слеп, так свободно он двигался по комнате, мгновенно и уверенно находя любой нужный ему предмет.
Принял он гостей с радостью. Были трудные и голодные послевоенные годы, но они с бабкой выставили на стол всю небогатую снедь, которая у них оказалась, и достали даже бутылку водки. И вот в разговоре за столом дед, как бы неохотно и между прочим, отвечая на вопросы гостей о себе, рассказал целый ряд подробностей своей истории, полностью совпадающих с деталями подземной жизни бессменного часового. Плахтюрину показалось, что старик рассказывал о себе с такой неохотой потому, что до этого всегда встречал недоверие со стороны слушателей, считавших его рассказ небылицей. Впрочем, тогда и он и его товарищ усомнились в истории старика и из вежливости не стали расспрашивать его подробнее. Только теперь Плахтюрин, прочтя мой рассказ, сразу же вспомнил ту встречу и поспешил сообщить мне о ней.
Он не помнил фамилии деда и не помнил даже названия деревни, хотя с уверенностью называл мне многие соседние села и даже по памяти чертил приблизительный маршрут, по которому они тогда шли вдвоем с товарищем. Не хватало только подробной карты тех мест, чтобы точно определить, в какой деревне произошла эта встреча.
Тогда я обратился в Госгеокартфонд, где хранятся самые подробные топографические карты нашей страны. Работники фонда любезно согласились помочь и, когда мы приехали, показали нам нужные карты. И тотчас же, сопоставив карту со схемой, начерченной по памяти П. П. Плахтюриным, мы уверенно нашли этот населенный пункт. То была деревня Андреевка Павловского района Ульяновской области. Теперь мне предстоит навести там справки об этом старике.
Пусть не смущает читателя разноречивость сведений, собравшихся сейчас у меня. Это довольно обычное дело, когда идешь по следам какой-нибудь удивительной, почти легендарной истории. Поразительный факт (а иногда и не один) превращается постепенно в легенду, разветвляется, обрастает новыми подробностями, деформируется и с годами видоизменяется настолько, что человек, поставивший перед собой цель доискаться до первоисточника, сначала чувствует себя подобно археологу, который обнаружил засыпанные землей развалины и еще не знает, что здесь было — дворец, храм или гробница какого-нибудь древнего владыки. И предстоит осторожно, слой за слоем, удалять слежавшуюся землю, прежде чем обнажатся стены постройки и станут ясными ее назначение и происхождение.
Так и тут. Нельзя пока по наитию отвергать ни одну из версий истории бессменного часового, и я знаю по своему собственному прошлому опыту, что иной раз тот вариант, который на первый взгляд показался самым невероятным, вдруг начинает оправдываться и неожиданно становится непреложной истиной. Каждое из этих сообщений требует тщательной проверки и изучения. Только тогда выявится, какие из свидетельств были основаны на фактах, а какие являются плодом неточности, небрежности, ошибки, путаницы, провокации памяти или даже правдоподобной мистификацией.
К сожалению, такие мистификации случаются Иногда это делают просто по неумному легкомыслию человека, желающего «подшутить», а иногда с более низменными целями — со стремлением примазаться к какому-нибудь хорошему делу, получившему широкую огласку, и использовать это в личных целях.
Вот, например, передо мной письмо некоего Николая Антонова из Баку. Он заявляет, что бессменный часовой — это его родной брат Александр, недавно умерший, и рассказывает, якобы с его слов, дикие небылицы о жизни солдата в подземелье. Весь его рассказ представляет из себя беспардонную ложь, которая, впрочем, сразу же ощущается. Но я, читая это письмо, сразу же вспомнил, что передо мною мой «старый знакомый». Этот самый Антонов (называвшийся тогда Антоновым-Бариновым из Мичуринска) уже пытался несколько лет тому назад втереть мне очки, выдавая себя за участника обороны Брестской крепости. Все «воспоминания» о Брестской обороне, которые он тогда мне присылал, были таким же хитрым, но в общем неуклюжим сочинением небылиц, и опытному глазу довольно легко можно было увидеть за этими «мемуарами» лицо афериста. Сейчас к этому «лицу» — только добавились новые красноречивые черты. Увы, есть и еще несколько писем, в которых уже с первого взгляда ясно видишь ложь. К счастью, таких писем очень немного, и эти люди являются досадным исключением среди сотен читателей, искренне и горячо старающихся помочь разыскать неизвестного героя.
Мне остается рассказать еще об одном любопытном варианте истории бессменного часового. Я слышал о нем раньше, но тогда счел его преувеличением, недостойным упоминания. Теперь же в нескольких письмах защищается именно этот вариант.
Утверждают, что в 1930 году или даже позже в Польше был отрыт в крепостном подземелье русский солдат, проживший под землей не девять, а пятнадцать лет. Об этом мне пишет генерал-лейтенант в отставке А. К. Купреев из Москвы. Он вспоминает, что в 1945 или в 1946 году в «Правде» была напечатана подвальная статья «Крепость Осовец» и там рассказывалась история бессменного часового, освобожденного поляками не в 1924, а в 1930 году. Статью в «Правде» вспоминает и житель Калуги, бывший участник гражданской войны И. В. Муханов, также утверждающий, что подземный часовой был найден в тридцатых годах. Об этом же пишут мне М. И. Чулков из Кишинева и В. Ф. Лотоцкий из города Кизела Пермской области.
Более подробно сообщает об этом М. С. Денисюк из города Кобрина Брестской области. Он, живя на территории Польши, читал в 1930 году в местных газетах статьи и заметки о солдате, обнаруженном именно в то время при раскопке крепости Осовец. Как сообщали газеты, часовой долго не пускал поляков в склад, заявляя, что его может снять с поста только разводящий, а если его нет, то «государь император». Когда ему объяснили, что уже нет и царя, а крепость принадлежит Польше, он спросил, кто в Польше главный, и, узнав, что президент, потребовал его приказа. Лишь когда ему прочитали телеграмму президента, он вышел наверх и сразу ослеп. Солдат оказался якобы рядовым 15-го Сибирского полка Иваном Ивашиным и пробыл под землей пятнадцать лет.
Кстати, этот рассказ почти полностью совпадает с другим рассказом, опубликованным в 1938 году в Риге в русском журнале «Для вас», издававшемся какими-то русскими эмигрантами. Номер этого журнала случайно где-то обнаружил мой товарищ, известный советский композитор Никита Богословский и, наткнувшись на знакомую историю, перепечатал ее для меня. Кстати, любопытно, что рассказ этот назывался так же, как и мой, — «Бессменный часовой». Он написан в несколько разухабистом тоне старых «солдатских» рассказов, но во всех деталях совпадает с тем, что сообщает в своем письме Денисюк из Кобрина. Совпал даже номер полка — 15-й Сибирский. Только зовут солдата в рижском рассказе не Иван Ивашин, а Иван Иваныша.
Словом, доводя до сведения читателей этот вариант, я пока что не могу ничего сказать ни в его защиту, ни в опровержение. Все выяснится в дальнейших розысках.
Любопытно, что похожие на историю бессменного часового случаи известны и в других странах. Так, профессор Словацкого политехнического института в Братиславе А. Георгиевский пишет мне, что в 1922–1923 годах в одной из французских крепостей был обнаружен солдат, проживший под землей около пяти лет. Другой читатель указывает, что когда-то французская печать писала о солдате, замурованном в подземных складах крепости Верден и освобожденном оттуда спустя девять лет.
Но самое интересное то, что, оказывается, подобные случаи были и во время Великой Отечественной войны. Одна читательница сообщила мне, что будто бы при восстановлении Воронежа после войны из-под развалин каких-то складов извлекли солдата, который с двумя товарищами был засыпан там в 1942 году. Товарищи его за это время умерли, а он дожил до освобождения. Другой читатель сообщает о подобном случае в городе Правдинске Калининградской области. Там уже в 1950 году, по его словам, были отрыты из глубокого подземного склада четверо советских воинов, засыпанных в подземелье в 1945 году, в дни боев за Кенигсберг при одной из сильных бомбежек.
Наконец, три письма посвящены одному и тому же случаю Тов. Голубев из Ленинграда, В. В. Перерва из города Дзержинска Донецкой области и И. Ф. Тимченко из города Богородска Горьковской области передают рассказ о том, что во время боев в Крыму двое или трое советских людей (по двум свидетельствам — матросов-севастопольцев, по одному — партизан) были засыпаны взрывом в подземном складе и пробыли там несколько лет. Их отрыли якобы уже после войны, они обросли за это время длинными волосами и бородами, но сохранили и речь и разум. По одной версии, они даже с криком «ура!» бросились в свою последнюю атаку, будучи уверенными, что их откапывают немцы.
Как бы то ни было, я, не принимая пока на веру ни одной из этих версий, обращаюсь с просьбой ко всем, кто знает что-нибудь о таких «бессменных часовых» Отечественной войны, то ли в Севастополе, то ли в других местах, сообщить мне все, что о них известно.
Я обрываю пока на этом историю бессменного часового. Но она еще не окончена. Занятый поисками неизвестных героев Великой Отечественной войны, я в последние годы, к сожалению, не сумел выбрать достаточно времени, чтобы довести до конца розыски следов подземного Робинзона. Оправданием перед читателями для меня может служить только один довод: история бессменного часового — это очень любопытный, но давний случай, а всякий поиск неизвестного героя Отечественной войны связан с судьбами живых людей — то ли отыскивается он сам, этот герой, то ли его родные и близкие. Именно это соображение и заставляет меня отдавать предпочтение более животрепещущему материалу нашей недавней борьбы против гитлеровцев.
Но вот прошло уже около четырех лет, с тех пор как я впервые рассказал на страницах «Огонька» о бессменном часовом, а до сих пор я получаю письма, в которых меня запрашивают, чем кончились поиски, и об этом же постоянно задают вопросы читатели на публичных встречах с ними. Видимо, история эта вызвала настоящий интерес у многих людей, и надо, не откладывая надолго, доводить дело до конца.
Я надеюсь, что мне удастся окончательно разрешить эту загадку в 1964–1965 годах. Вероятно, придется около месяца провести в архивах, листая старые подшивки газет, которые указаны мне читателями, чтобы из них узнать, наконец, точно фамилию и местожительство героя. А потом надо выезжать и отыскивать следы бессменного часового на месте, опрашивая старожилов, беседуя со стариками. Полагаю, что поможет мне и намечаемая в конце 1964 года поездка в Польскую Народную Республику, где в архивах могут оказаться нужные мне комплекты газет.
Будем надеяться, что в одном из последующих изданий этой книги мне удастся рассказать читателю, какой была в действительности история бессменного часового, и назвать его настоящее имя, которое, я не сомневаюсь, навсегда войдет в летопись боевой славы нашего народа.
Таран над Брестом
Это было в начале первой мировой войны, 26 августа 1914 года, когда на Юго-Западном фронте русские армии развертывали наступление против мощной австрийской крепости Перемышль. В этот день в районе местечка Жолква близ Львова в воздухе появился австрийский самолет «альбатрос», разведывавший расположение наших войск. В Жолкве тогда находился аэродром, на котором стояли самолеты типа «ньюпор» и «моран», принадлежавшие 11-му авиационному отряду под командованием прославленного русского летчика Петра Николаевича Нестерова, того самого Нестерова, который в свое время впервые выполнил в воздухе «мертвую петлю», позднее названную его именем.
Надо было во что бы то ни стало помешать противнику вернуться домой и сообщить своему командованию сведения, собранные во время разведки. И как только враг был замечен в небе, командир отряда Петр Нестеров вскочил в кабину легкого самолета «моран» и взлетел навстречу австрийцу. Собравшиеся на аэродроме боевые товарищи героя-летчика наблюдали, как разыгрывался этот воздушный бой. Самолет Нестерова быстро набрал высоту и оказался на сотню метров выше «альбатроса». Потом русский летчик резко направил свою машину вниз и устремился на врага. «Моран» с силой врезался в австрийский самолет. У «альбатроса» отвалилось крыло, и он упал на землю. Но и Нестерову, который был тяжело ранен во время столкновения самолетов, не удалось посадить машину, и он жизнью заплатил за свой подвиг.
Так была вписана в историю авиации новая страница. Впервые в мире был введен в практику воздушного боя таранный удар. Этот дерзкий, безудержно смелый прием, пожалуй, не случайно родился именно в России, так как был чем-то сродни удалому, бесстрашному характеру русского человека. Во всяком случае, до сих пор не известны случаи воздушных таранов в боевой практике авиации других стран, если не считать смертников — «камикадзе» в японской армии времен второй мировой войны. Но те заведомо шли на смерть, тогда как наши летчики, начиная с Нестерова, всегда верили, что при таране останутся живыми.
Однако трагическая судьба Петра Нестерова надолго поставила печать смерти на воздушный таран. В течение многих лет авиаторы были убеждены в том, что таран неизбежно ведет к гибели пилота и его машины. Только в годы Великой Отечественной войны это неверное убеждение было начисто опровергнуто нашими советскими летчиками. Их отвага, решительность и большое искусство дали возможность сделать таранный удар довольно распространенным приемом в практике воздушных боев на всех фронтах. И если в одних случаях при этом летчик оставался жив, спускаясь на парашюте, то в других — и это бывало нередко — прочность советских боевых машин позволяла сохранить самолет и посадить его после воздушного тарана.
Именно такой таран совершил в первые дни войны летчик комсомолец Петр Харитонов.
27 июня 1941 года Петр Харитонов, барражируя в воздухе на своем истребителе, охранял воздушные подступы к Ленинграду. В этот день к городу пытался пробраться фашистский бомбардировщик «юнкерс-88». Перехватив вражеский самолет, Харитонов вступил с ним в бой. Несколько раз атакуя противника, советский пилот вскоре израсходовал все патроны. Между тем «юнкерс», спасаясь от преследования, повернул на запад и быстро удалялся к линии фронта.
Молодой летчик решил любой ценой уничтожить врага. Фронт был уже недалеко, когда Харитонов пошел на воздушный таран. Нагнав врага, он осторожно подвел свой истребитель вплотную к хвосту немецкого бомбардировщика и ударом винта своего самолета обрубил «юнкерсу» хвостовое оперение. Вражеская машина круто пошла вниз и рухнула на землю. Сильный удар потряс и самолет Харитонова, но летчик сумел выровнять свою машину. Оказалось, что она, несмотря на таран, еще держится в воздухе. С трудом Харитонов все же довел машину до аэродрома и благополучно совершил посадку.
8 те же дни на подступах к Ленинграду совершили воздушный таран еще два летчика-комсомольца — Жуков и Здоровцев.
9 июля 1941 года центральные газеты опубликовали Указ Президиума Верховного Совета СССР Летчикам Харитонову, Жукову и Здоровцеву было присвоено звание Героя Советского Союза. Они стали первыми воинами на фронтах Великой Отечественной войны, удостоенными этого звания.
И с тех пор на протяжении многих лет считалось, что первый воздушный таран в дни Великой Отечественной войны был совершен летчиком Петром Харитоновым.
В 1954–1957 годах, занимаясь розысками защитников Брестской крепости, встречаясь с оставшимися в живых участниками этой героической обороны, я столкнулся с любопытной историей, которая дотоле оставалась неизвестной и не была внесена в хронику Великой Отечественной войны. Осенью 1954 года, когда я встретился с первым найденным мною защитником крепости, инженером Самвелом Матевосяном, живущим в столице Армении Ереване, он рассказал мне о воздушном бое, который происходил над Брестом в первый день войны, 22 июня 1941 года.
Это было около 10 часов утра, когда Брестская крепость уже вела тяжелый бой в полном окружении. Отбивая огнем атаки немецкой пехоты в крепостном дворе, Матевосян и его товарищи издали видели, что несколько наших истребителей — «чайки», как тогда их называли, ведут бой с группой «мессершмиттов» Численное превосходство было на стороне противника, но наши летчики сражались отчаянно и сбили два или три вражеских самолета. Этот короткий бой уже подходил к концу, как вдруг одна из наших машин, видимо израсходовав запас патронов в бою, устремилась навстречу атаковавшему ее «мессершмитту» и столкнулась с ним в воздухе. Охваченные пламенем, оба самолета пошли к земле и скрылись из виду.
По словам Матевосяна, подвиг неизвестного советского пилота глубоко взволновал тогда защитников Брестской крепости. Все они были уверены, что герой погиб во время своего тарана, и его отважный поступок придал им новые силы в их невероятно трудной и упорной борьбе.
Позднее, когда мне удалось разыскать многих других защитников Брестской крепости, некоторые из них тоже оказались очевидцами этого воздушного боя в первый день войны, и они полностью подтвердили мне историю, рассказанную Матевосяном
Итак, еще в первый день войны, даже в самые первые ее часы, над Брестом был совершен воздушный таран. Было бы крайне важно установить имя неизвестного летчика Но, признаюсь, тогда я думал, что сделать это окажется невозможным в тот первый день войны в районе Бреста шли очень тяжелые бои, противнику вскоре удалось продвинуться в глубь нашей территории, и казалось, что в таких условиях подвиг летчика вернее всего остался незамеченным и уж тем более вряд ли был зарегистрирован в документах.
К счастью, оказалось, что я ошибся.
Весной 1957 года, занятый теми же поисками защитников Брестской крепости, я совершил большую поездку по Советскому Союзу Мне пришлось побывать более чем в двадцати областях Российской Федерации, Украины, Белоруссии, я встречался с живущими там участниками Брестской обороны, записывал их воспоминания. И буквально в каждом городе мне приходилось выступать то в воинской части, то в школе, то на заводе с рассказами об этой героической обороне.
В марте я попал в один из крупных городов Донбасса и был приглашен выступить перед коллективом известного в нашей стране авиационного училища. Это училище имеет славную историю, и среди его бывших питомцев насчитывается несколько десятков Героев Советского Союза.
В большом клубном зале собрались курсанты, преподаватели, командиры. Я рассказал им о событиях в Брестской крепости, о ее героях-защитниках и, между прочим, так как в зале сидели летчики, упомянул о первом воздушном таране, который совершил неизвестный пилот в районе Бреста. Я выразил сожаление, что, вероятно, имени этого летчика нам никогда не удастся узнать.
Сразу же по окончании вечера в клубном фойе ко мне подошел преподаватель училища майор Захарченко.
— А ведь вы ошибаетесь, — сказал он мне, улыбаясь. — Напрасно вы думаете, что фамилия летчика, который совершил таран над Брестом, никому не известна. Я, например, знаю эту фамилию.
Думаю, вы поймете, каким нетерпением я стал тут же расспрашивать майора Захарченко.
Вот что он рассказал мне.
Накануне Великой Отечественной войны Захарченко, тогда еще в звании лейтенанта, служил в 123-м истребительном авиационном полку, который располагался на нескольких аэродромах близ Бреста и охранял воздушные границы в этом районе.
На рассвете 22 июня 1941 года летчики этого полка приняли бой против мощных воздушных сил врага.
— Около десяти часов утра, — рассказывал майор Захарченко, — на пятом или шестом вылете наших истребителей мы все стали свидетелями воздушного тарана. Один из наших летчиков — как мне помнится, это был командир эскадрильи майор Степанов — израсходовал в бою свои патроны и таранил «мессершмитт». Летчик при этом погиб, и мы похоронили его на нашем аэродроме.
Больше ничего майор Захарченко сообщить не мог. Но и этого мне было уже достаточно — свидетельство офицера давало мне надежную нить для поисков: номер полка, и когда я вернулся в Москву из этой поездки, я обратился в Генеральный Штаб к генерал-полковнику А. П. Покровскому с просьбой найти в военных архивах документы 123-го истребительного полка. Вскоре эти документы были найдены.
Выяснилось, что в архиве хранится боевая история части, составленная офицерами штаба полка. Там я нашел описание первых воздушных боев, которые вел полк в районе Бреста. И среди скупых, по-военному лаконичных фраз полковой истории я встретил сообщение о первом воздушном таране. Но при этом обнаружилось, что майор Захарченко в своем рассказе допустил две существенные ошибки — впрочем, тут нечему удивляться, если учесть, что он рассказывал мне о событиях спустя пятнадцать лет. Во-первых, воздушный таран над Брестом совершил не майор Степанов, а лейтенант Петр Рябцев. Во-вторых, сам герой при этом таранном ударе не погиб, а остался жив, выбросившись на парашюте из горящего самолета.
Вот что записано в истории 123-го истребительного авиационного полка о воздушном таране над Брестом:
«22. У1-41 г. 4 истребителя — капитан Мажаев, лейтенанты Жидов, Рябцев и Назаров — вступили в бой с 8 „Ме-109“. Самолет лейтенанта Жидова был подбит и пошел на снижение. Три фашиста, видя легкую добычу, сверху стали атаковать его, но капитан Мажаев, прикрывая выход из боя лейтенанта Жидова, меткой пулеметной очередью сразил одного „мессершмитта“, а второй фашист был подхвачен лейтенантом Жидовым и подожжен. В конце боя у лейтенанта Рябцева был израсходован весь боекомплект. Лейтенант Рябцев, не считаясь с опасностью для жизни, повел свой самолет на противника и таранным ударом заставил его обломками рухнуть на землю. В этом бою было сбито 3 фашистских истребителя при одной своей потере».
За этой первой записью в полковой истории следовали многие другие, и в них часто встречалось имя Рябцева. Как ни сухи и ни скудны были строки этой полковой хроники, все же они с уверенностью свидетельствовали, что Петр Рябцев стал одним из самых активных и отважных летчиков своей части.
В конце июня полк был отозван с фронта в Москву и получил на вооружение новые «ЯКи» (самолеты конструкции А. С. Яковлева). Затем эскадрильям этого полка поручили охранять воздушные подступы к Ленинграду, и Петр Рябцев вместе со своими товарищами оказался на аэродроме Едрово. Немецкие самолеты рвались к городу Ленина, в ленинградском небе шли непрерывные бои, и молодой летчик в эти дни принял участие в десятках жарких воздушных схваток,
Вот, например, как описывается в истории полка один из обычных боев того времени:
«В воздушных боях, проведенных при выполнении прикрытия ж.-д. узла Бологое, летчики группы уничтожили 19 немецких самолетов, свои потери при этом — 7 самолетов. Только 30 июля группа летчиков — лейтенанты Жидов, Рябцев, Сахно, Грозный, Фунтусов и др. — при отражении штурмового налета на аэродром базирования сбила 4 самолета „Ме-110“ и один самолет „Хе-111“.В момент налета 18 „Ме-110“ на аэродром Едрово в самолетах дежурило звено лейтенанта Рябцева с летчиками Калабушкиным и Фунтусовым. Получив сигнал „Воздух!“, дежурное звено моментально взлетело и с ходу в лоб врезалось в группу фашистских штурмовиков, с первой же атаки заставив их перейти в круговую оборону. Тем временем успела взлететь и подойти пятерка лейтенанта Жидова, и, соединившись со звеном Рябцева, группа завязала ожесточенный бой. Фашистским стервятникам некогда было и думать о штурмовке аэродрома. Они не успевали отражать крепкие удары наших славных истребителей и заполнять свои ряды, заметно редевшие от падавших и горевших „Ме-110“. Отважная восьмерка мастерски провела этот воздушный бой, завершив его блестящей победой: 4 „Ме-110“ и 1 „Хе-111“ нашли себе могилу в районе Едрово. Наши потери только один самолет, летчик которого спасся с парашютом».
Но это была последняя запись в истории полка, где упоминалась фамилия Петра Рябцева. На следующий день, 31 июля 1941 года, отважный летчик погиб героической смертью в бою над своим аэродромом. По этому поводу в книге учета чрезвычайных происшествий 123-го истребительного авиаполка стояла только короткая запись:
«Самолет „ЯК-1“ э 1919, пилотируемый заместителем командира эскадрильи лейтенантом Рябцевым Петром Сергеевичем, сбит в воздушном бою в районе аэродрома Едрово. Самолет разбит. Летчик погиб».
Больше никаких сведений о герое-летчике в истории полка не было. Но зато там же, в военном архиве, удалось разыскать личное дело лейтенанта Петра Рябцева. Вот что я узнал из него.
Петр Сергеевич Рябцев родился в 1915 году в большой рабочей семье, которая жила в Донбассе.
Окончив семилетку, шестнадцатилетний комсомолец Петя Рябцев поступил в школу ФЗУ, а потом работал, электромонтером. Когда комсомол призвал молодежь вступать в ряды Воздушного Флота, Петр Рябцев сразу же откликнулся на этот призыв. В 1934 году он становится курсантом авиационной школы и успешно заканчивает ее. В аттестациях и характеристиках, которые приложены к личному делу П. С. Рябцева, о нем говорится как о патриоте, хорошем товарище, инициативном, энергичном комсомольце, как о пилоте, хорошо овладевшем своей профессией. «Живой в работе, свое специальное дело любит и знает хорошо», записано в одной из таких кратких характеристик.
С 1938 года Петр Рябцев — кандидат, а с 1940 года — член ВКП(б).
Это были лишь скупые, по-анкетному казенные сведения, но уже из них передо мной вставал образ хорошего советского юноши, смелого защитника Родины в годы войны.
Летом 1957 года я коротко рассказал о лейтенанте Петре Рябцеве и о его подвиге в своей статье «Легенда, ставшая былью», которая была напечатана на страницах «Комсомольской правды». Я надеялся, что родные и друзья Петра Рябцева прочтут этот рассказ и помогут нам узнать больше о герое. Так и случилось.
В тот день, когда была опубликована моя статья, в редакцию «Комсомольской правды» позвонил главный инженер одной из крупных подмосковных строек Филипп Рябцев, родной брат Петра Рябцева. А еще через две недели в той же газете появилась его статья. Это был рассказ о замечательной рабочей семье Рябцевых, вырастившей целое поколение молодых тружеников и воинов.
Глава этой семьи Сергей Константинович Рябцев шестьдесят лет подряд проработал кузнецом в Донбассе. Он умер совсем незадолго до того, как я начал искать следы его героически погибшего сына. А мать Петра Рябцева Ирина Игнатьевна жива до сих пор. Женщина, родившая десять и вырастившая девять сыновей, она награждена орденом «Материнская слава» 1-й степени и живет сейчас в донбасском городе Красный Луч вместе со своими старшими детьми.
Сергей Рябцев начал свой трудовой путь задолго до революции. Дружба с передовыми рабочими-большевиками привела его на дорогу революционной борьбы. Несколько раз он смело выступал перед хозяевами как защитник прав рабочих и пользовался любовью и уважением своих товарищей. В 1917 году, как только в Донбасс пришла советская власть, Сергей Константинович Рябцев был избран первым председателем заводского комитета профсоюзов. А в 1924 году, когда рабочие Донбасса посылали в Москву делегацию на похороны В. И. Ленина, С. К. Рябцев стал одним из их делегатов.
Человек, прошедший суровую жизненную школу, старый кузнец воспитал своих детей в духе лучших рабочих традиций, прививая им любовь к труду, преданность Родине и партии. Дружно жила эта большая семья.
До революции Рябцевы занимали маленькую квартиру — две комнаты, причем одна была отведена сыновьям. Все девять мальчиков спали на нарах, которые сколотил им отец. В доме была заведена строгая дисциплина, и отец внимательно следил за поведением сыновей. Например, уходя из дому, каждый из братьев — в том числе и взрослые — обязан был говорить, куда и на сколько времени он идет. Дома у всех были свои обязанности по хозяйству: стирка белья, мытье полов, заготовка дров, которые мальчики неукоснительно и добросовестно выполняли, разгружая от работы мать.
После революции завод предоставил Рябцевым четырехкомнатную просторную квартиру. Жить семье стало легче. Старшие сыновья работали на том же заводе, где трудился их отец, младшие учились. И была в семье Рябцевых одна славная традиция: когда кому-нибудь из сыновей исполнялось шестнадцать лет и он заканчивал школу, отец покупал ему новый картуз и приводил к себе на завод. «Проработай три года, получи рабочую закваску, а потом самостоятельно решай свою судьбу. Ошибки не сделаешь», — говорил он.
И все девять сыновей прошли эту рабочую школу на заводе.
Трое братьев Рябцевых погибли в годы Великой Отечественной войны, защищая Родину. Федор был директором одного из ленинградских заводов и пал смертью храбрых в 1941 году под Можайском. Алексей, рядовой солдат-зенитчик, был убит под Гродно, а Петр погиб, охраняя воздушные подступы к Ленинграду.
Два старших брата Рябцевы — Иван и Владимир — проработали всю жизнь на том же заводе, где шестьдесят лет трудился их отец, и сейчас уже вышли на пенсию. Павел до сих пор работает там же токарем. Два брата — Александр и Виктор — были офицерами Советской Армии.
Филипп Сергеевич Рябцев вспоминал в своей статье, как в начале июля 1941 года он однажды вечером, вернувшись со службы домой, нашел под дверью небольшую записку от своего брата Петра. На клочке бумаги было второпях набросано:
«Дорогой братишка, был проездом. Жаль, что не застал, времени в обрез, еду получать новую машину. Я уже чокнулся в небе с одним гитлеровским молодчиком. Вогнал его, подлеца, в землю. Ну, бывай здоров. Крепко обнимаю тебя, твою жинку и сына. Петро».
«Чокнулся» — это и было беглое упоминание о воздушном таране над Брестом.
Два месяца спустя Филипп Рябцев получил сообщение о гибели брата. Эту печальную весть получили также в Донбассе в семье Рябцевых, и тогда самый младший из братьев, Виктор, подал заявление в летную школу, стремясь занять место Петра в боевом строю.
Вот что писал в те дни Виктор Рябцев своему брату Филиппу:
«Здравствуй, братан! Зубы сжимаются от злости, когда думаешь о том, что троих наших братьев уже нет в живых. Сволочь Гитлер протянул свою кровавую лапу к нашей стране. Он хочет отнять у нас свободу, хочет задушить нашу советскую власть, хочет потопить в крови то, за что боролись наши отцы, чем жили мы все эти двадцать четыре года. Не бывать этому! Всех Рябцевых не убьешь! Я подал заявление в летную школу, буду мстить фашистским стервятникам за Петра, за нашу Родину-мать!»
Желание Виктора Рябцева было удовлетворено. Он окончил летную школу и потом сражался на фронтах Великой Отечественной войны. На его личном боевом счету было больше десяти сбитых фашистских самолетов. После войны Виктор Рябцев остался служить в авиации и летал на новейших реактивных машинах. Только недавно он вышел в отставку.
После опубликования моей статьи в «Комсомольской правде» и после того, как в январе 1958 года я выступил по Всесоюзному радио с рассказом о воздушном таране над Брестом, я получил несколько десятков писем. Мне писали родные Петра Рябцева, его друзья и боевые товарищи и просто радиослушатели и читатели, которые выражали свое восхищение подвигом летчика. Взволнованное письмо, полное и материнской боли и гордости за своего сына, прислала мне семидесятичетырехлетняя мать Петра — Ирина Игнатьевна. Она приложила к своему письму сохранившуюся у нее фотографию, которую Петр прислал ей еще в 1934 году, когда он учился в школе пилотов. На фотографии изображен молоденький курсант с еще совсем мальчишеским, открытым и смелым лицом, со значком «Ворошиловского стрелка» на груди. А на обороте этого фото я прочел уже выцветшую надпись: «Родным, папе, маме и братьям, от Петра Рябцева». И внизу короткая приписка; «Мама! Крепитесь, не горюйте!»
Очень интересное письмо я получил из города Энгельса от жены Петра Рябцева Ольги Давыдовны. Только тогда я узнал, что Петр Сергеевич Рябцев, оказывается, был женат и имел сына Валерия, которому перед войной исполнилось два года и три месяца. Жена и сын жили вместе с Петром Сергеевичем в городке летчиков близ города Кобрина Брестской области и в первый день войны вместе с семьями офицеров были эвакуированы в Башкирскую АССР. Там Ольге Давыдовне вручили извещение о гибели ее мужа. Семья Петра Рябцева получала пенсию от государства, и когда в 1957 году Валерию Рябцеву исполнилось 18 лет, он поступил в авиационное техническое училище, которое закончил несколько лет тому назад и сейчас служит в армии. Он бережно хранит газетные статьи, посвященные подвигу Петра Рябцева, и образ героя-отца навсегда остается для этого молодого человека примерам ясной и героической жизни.
С удивительной теплотой и сердечностью вспоминают о Петре Рябцеве в письмах друзья его детства и юности: 3. Кошелева, Нина Григорьева из Луганской области, инженер Иван Селиверстов из города Котовска близ Тамбова. Они пишут, что это был полный энергии, необычайно жизнерадостный юноша, хороший, веселый и преданный друг, но вместе с тем простой советский паренек, видом не выделявшийся среди своих сверстников. Об этом говорит 3. Кощелева, которая училась вместе с Рябцевым в школе на протяжении семи лет:
«Это письмо я пишу Вам не потому, что я могу сообщить о Петре Рябцеве что-нибудь такое, что выделяли бы его тогда среди нас, как будущего героя. Нет! В моих воспоминаниях это обыкновенный хороший парень, который весь до конца раскрылся только в час грозных испытаний, как это случилось со многими юношами нашей страны. Но мне теперь хорошо понятно, как незаметно могут вырастать у нас настоящие герои.
Поселок наш был очень небольшим, таким, когда знаешь по имени не только взрослых, но и всех детей. Семья Рябцевых, большая и дружная, также жила у всех на виду, и это была такая семья, о которой ничего плохого никогда не скажешь. Наши юность и детство с 1925 по 1935 год проходили в то время, когда еще каждый особенно ценил то, что ему досталось после революции. Рябцевы помнили еще свою тесную квартиру с нарами. В нашей семье — нас было пятеро детей — при аварии погиб отец, и завком взял на себя заботу о нас. Мы хорошо учились, а свободное время проводили в драмкружке. В нашем поселке был только один клуб, и я помню, что вся семья Рябцевых принимала участие в драмкружке, даже сам отец Рябцев».
С таким же уважением говорят о семье Рябцевых в своем письме, присланном в редакцию «Комсомольской правды», секретарь парторганизации завода тов. Тищенко и секретарь заводского комитета комсомола тов. Дьяченко. Они пишут, что заводской коллектив с гордостью узнал о подвиге своего воспитанника — летчика Петра Рябцева, и поднимают вопрос о том, чтобы соорудить бюст героя в заводском поселке.
Много интересного сообщают о герое его боевые соратники. «Петр Рябцев это мой друг и товарищ, — пишет бывший летчик, а сейчас инженер комбината „Тулауголь“ П. Жуков. — Вместе с ним я учился в школе пилотов, и два с половиной года рядом спали, а потом служили в одной части до 22 июня 1941 года. Многие годы после войны я скорбел о его гибели и в то же время гордился его подвигом». Прежний сослуживец Рябцева подполковник запаса и пенсионер из города Сочи Герасим Давыдов пишет: «Рябцев — это человек исключительно большой энергии и силы воли, и меня не удивило, что он пошел на таран. Он и в мирной обстановке был таким же горячим, его часто приходилось сдерживать, и всегда он был честным и до конца преданным Родине». «Это было в характере Рябцева, — вторит ему другой сослуживец героя, Кирилл Кетов из города Кирова. — Он был всегда смелым, задорным и веселым летчиком, и он не мог уйти от врага, пока не расквитается с ним до конца».
Бывший командир звена 123-го истребительного авиаполка, а сейчас подполковник Зубков из города Читы пишет: «О таране лейтенанта Рябцева я узнал в тот же день, когда он совершил его, от своих летчиков. Это был смелый прием боя. Мы тогда еще обсуждали в кругу летчиков, как лучше, удобнее повторить таран Рябцева. Впоследствии летчик моего звена Силантьев выполнил таран, но погиб сам. Лейтенант Рябцев был хорошим товарищем, горячим, бесстрашным летчиком. Во время штурмовки немецкими истребителями аэродрома пдрово он, пренебрегая опасностью, произвел взлет. На высоте 30 метров он был сбит».
«Я хорошо знал Петра Рябцева, — сообщает москвич генерал-майор авиации Максим Скляров, — по совместной учебе в школе военных пилотов и по совместной службе в одном полку и в одной эскадрилье. Кроме того, мы, находясь с ним в одной дивизии, но в разных полках неподалеку от Бреста, одновременно начали отражать налеты авиации противника. По сложившимся обстоятельствам я не мог видеть момент тарана фашистского самолета Петром Рябцевым, так как я к этому времени уже получил ранение в бою. Но после тарана мы с Петей Рябцевым в тот же день встретились в городе Пружанах, поделились впечатлениями о первых боевых вылетах, и тогда он мне рассказал и о своем таране. Кстати, Петя Рябцев во время спуска на парашюте после тарана был легко ранен пулей фашистского истребителя. Он, будучи по натуре жизнерадостным и очень веселым человеком, очень долго „восхищался“ этим ранением, так как фашистская пуля, пройдя касательно, срезала ему на ноге „любимую мозоль“».
А вот что рассказывает бывший авиатехник 123-го истребительного полка В. Графский из города Воронежа:
«О своем таране в первый день войны Петр рассказал мне случайно, незадолго до своей гибели.
Однажды близ аэродрома пдрово мы с ним видели воздушный бой. Два „И-16“ („ишаки“, как их тогда называли) атаковали двух „Ме-109“. Стоящий рядом со мной Петр Сергеевич оживленно жестикулировал и кричал: „Руби гаду хвост! Хвост руби!“ Я заметил ему: „Учить со стороны легче, чем самому рубить“.
На это Петр Сергеевич, глядя мне прямо в глаза, стал весело рассказывать:
„Ты знаешь, 22 июня мне удалось таранить „Ме-109“. Больше выхода не было — боеприпасы все кончились. Конечно, опасность была велика, но это я потом осознал. А тогда некогда было думать о себе — был поглощен одним стремлением; скорее уничтожить врага.
Это желание так овладело мной, что я даже плохо рассчитал свой удар, и нос моей „чайки“ врезался с силой в „Ме-109“. Поспешил — можно было легче таранить.
Меня так тряхнуло, что я потерял горизонт, а когда очнулся, то кабину лизали языки пламени, а земля-матушка была так близко, что, опоздай я на секунду оставить кабину, парашют не спас бы меня. Но я все-таки приземлился благополучно невдалеке от догоравшего „Ме-109““».
Но, конечно, самыми интересными были для меня свидетельства участников того самого боя, во время которого Петр Сергеевич Рябцев совершил свой воздушный таран, Вот, например, что написано в письме, полученном мной из Ленинграда:
«Вам пишет офицер запаса гвардии полковник Мажаев Николай Павлович, тот капитан Мажаев, который 22.VI-41 года вместе с летчиками лейтенантами Жидовым, Рябцевым и Назаровым вел описанный Вами бой.
Динамика боя — если мне не изменяет память — описана правильно. В этом неравном бою, когда у нас на исходе были боеприпасы, встала необходимость выйти из боя. Лейтенант Петр Рябцев, уже не имея патронов, совершает таран и этим приводит в смятение группу вражеских самолетов — они выходят из боя. Сам Петр Рябцев покинул самолет и благополучно приземлился, воспользовавшись парашютом. Таран Петра Рябцева — не случайное столкновение, как это иногда имело место в дни войны, не результат безвыходности положения, а сознательный, расчетливый, смелый и связанный с определенным риском маневр бойца во имя победы.
Жаль Петра Рябцева, что рано погиб, а еще больше жаль, что забыли о нем.
Петр Рябцев погиб 31 июля 1941 года при взлете в момент штурмового налета большой группы самолетов „Ме-110“ на наш аэродром.
Упал П. Рябцев в двухстах метрах от наблюдательного пункта штаба дивизии, в кустарник. Искали его два-три дня, и когда случайно обнаружили с воздуха, то оказалось, что самолет был перевернут, шасси не убраны (он их) очевидно, не успел убрать, в районе бронеспинки и фонаря осколочные пробоины — очевидно, он был поражен осколками в голову».
А вот как описывает памятный бой 22 июня 1941 года другой его участник, бывший лейтенант, а ныне полковник, Герой Советского Союза Георгий Жидов. Он описал его в своей статье на страницах «Советской авиации» 17 июля 1957 года:
«…Стояла ясная погода. Между девятью и десятью часами утра вражеские самолеты начали бомбить штаб одного нашего соединения, расположенного недалеко от аэродрома. Фашистских бомбардировщиков прикрывала группа истребителей.
Мы вылетели звеном: капитан Мажаев, лейтенанты Рябцев, Назаров и я. На высоте примерно 500 метров нам встретилась группа самолетов противника „Ме-109“.
Завязался напряженный бой. Атака следовала за атакой.
Наши летчики старались держаться вместе, чтобы можно было прикрывать друг друга. Бой продолжался 8-10 минут. Встретив упорное сопротивление советских летчиков, гитлеровцы решили пойти на хитрость. Четыре самолета „Ме-109“ вошли в глубокий вираж, а четыре продолжали с нами бой. Кроме того, „Хе-113“ атаковали нас сверху.
Создалось очень трудное положение. Я пошел в атаку на врага, а меня, в свою очередь, преследовал „мессер“. Капитан Мажаев взял его под обстрел. Одновременно фашистские „Ме-109“, ранее вышедшие из боя и набравшие вновь высоту, стремились атаковать Мажаева. Наперерез врагу ринулся лейтенант Рябцев. В пылу боя Петр израсходовал и боекомплект, а преградить путь к самолету Мажаева надо было во что бы то ни стало.
Вот тут-то и созрело у отважного летчика решение — таранить ведущий истребитель врага. Резко развернув свою „чайку“, Рябцев пошел на сближение с противником.
Видно, фашист не хочет уступать. Но его нервы не выдерживают: гитлеровец накреняет самолет и пытается уйти вниз. Но поздно! Рябцев своим самолетом ударил по вражеской машине. И тут же истребители, немецкий и наш, пошли к земле. Вскоре в воздухе появилось белое пятнышко — парашют. Мы, занятые боем, не смогли определить, кто спускался на нем. Как потом стало известно, парашют раскрылся у Рябцева, а гитлеровец врезался в землю вместе со своим самолетом.
…Хорошо помню я и раннее утро 31 июля 1941 года. На небе ни облачка, тишина. Техники и механики осматривали самолеты. Летчики расположились неподалеку в густом кустарнике, вели разговоры о ходе военных действий.
И вдруг мы услышали шум моторов немецких самолетов: на малой высоте к аэродрому подкралась группа „Ме-110“. Наши летчики бросились к машинам. Мгновенно надел парашют и лейтенант Рябцев.
Вот летчик уже запустил мотор, взлетел. Фашисты сразу заметили его самолет и ринулись за ним. Рябцева атаковали с разных направлений сразу три самолета противника. В этой неравной схватке Петр пал смертью храбрых.
Имя его, боевого и мужественного сокола, живет в наших сердцах. В полку, где прошел свой боевой путь Петр Рябцев, выросла целая плеяда замечательных летчиков. На примерах их героических дел так же как и на примере подвига Петра Рябцева, ныне воспитываются советские летчики, готовя себя к защите нашего Отечества от посягательств империалистических разбойников».
Итак, не могло быть никаких сомнений в достоверности воздушного (тарана над Брестом, который был совершен в первый день войны между девятью и десятью часами утра. Этот подвиг был документально закреплен в истории 123-го истребительного авиационного полка и подтвержден многочисленными очевидцами и участниками воздушного боя, волнующая легенда, которую рассказали мне несколько лет тому назад защитники Брестской крепости, теперь превратилась в быль, в героический подвиг донбасского паренька Петра Рябцева.
И когда я писал об этом подвиге на страницах «Комсомольской правды», я, конечно, думал, что таран, совершенный Рябцевым над Брестом, был самым первым воздушным тараном Великой Отечественной войны. И вдруг обнаружилось, что я ошибался. Письма читателей и радиослушателей принесла мне совершение неожиданные известия. Боевая история нашей авиации, оказалась еще более удивительной и славной, чем я предполагал.
Вот что сообщил мне в своем письме слесарь из Москвы Федор Ильин:
«Это произошло между городами Белосток и Ломжа, — писал он. — Есть там польское местечко Выгода. Вот там я и видел своими глазами этот случай. Рано утром 22 июня гитлеровцы обстреливали деревни и военные объекты из орудий. Кругом поднялись пожары, люди бегали в панике, не зная, куда податься, откуда идут фашисты. И тогда в небе стали кружить два „мессера“. Они царили в воздухе. Вдруг появился советский самолет. Это был „У-2“. Завязался бой. Фашисты играли с нашим самолетом, как кошка с мышью, но игра, как оказалось, была с огнем. Первый фашист, думая позабавиться над „У-2“, подлетел к нему, но наш летчик, видимо, того и ждал. Он дал очередь, и после первых его выстрелов „мессер“ задымил и пошел к земле. Другой немецкий летчик решил отомстить советскому летчику. Завязался поединок. Несколько раз наш летчик опускался низко к земле, делал какие-то странные виражи. Он даже не стрелял. Но, улучив удобный момент, „У-2“ как-то прямо, вертикально пошел вверх, наперерез фашисту. Тот даже не ожидал этого, не успел повернуть, и произошло столкновение. „У-2“ потерял хвост и обломками рухнул наземь, а фашист сделал вираж, перевернулся, долетел до леса и упал. Долго обломки отважного „У-2“ горели около нашего дома, долго еще рвались в огне боеприпасы. Но когда все утихло, мы, мальчишки, побежали к самолету. Тело летчика лежало обугленное в груде обломков самолета. Пришли взрослые, вытащили его и тут же, недалеко от самолета, похоронили. Документы все сгорели, и так этот летчик остался неизвестным».
Значит, в это первое утро войны, видимо, где-то между пятью и шестью часами утра, то есть раньше Петра Рябцева, близ города Белостока неизвестный советский летчик на самолете «У-2» совершил воздушный таран. Приоритет оказывался за ним, и я решил, что именно этот таран был первым в Великой Отечественной войне… И вдруг я получил еще одно письмо.
Три летчика-комсомольца — А. Загоруйко, В. Кабак и Ю. Малецкий сообщили мне следующее:
«Очевидно, до сих пор нашему народу неизвестен подвиг летчика младшего лейтенанта Леонида Бутелина. Об этом подвиге мы узнали лишь тогда, когда прибыли после окончания военного училища в полк, в котором служил и сражался офицер Леонид Бутелин. Знакомя нас, молодых летчиков, с историей полка, Герой Советского Союза майор Нагорный рассказал нам, что 22 июня 1941 года в 5 час. 15 мин. утра, при отражении налета фашистской авиации, командир звена младший лейтенант Леонид Бутелин на самолете „чайка“ протаранил на малой высоте фашистский бомбардировщик „Ю-88“».
Потом я получил письмо от бывшего сержанта 12-го истребительного авиаполка Алексея Шанина, который живет сейчас в Волгоградской области. Он писал мне:
«Мне думается, можно утверждать, что первым героем, совершившим первый воздушный таран в первые часы Великой Отечественной войны, был летчик-истребитель Леонид Бутелин.
Вот как это было.
Летчик-истребитель младший лейтенант Леонид Бутелин в 1941 году служил в 12-м истребительном авиационном полку, который базировался на аэродроме Боушев, примерно в 30 км от границы, в районе города Станислав на Западной Украине.
22 июня 1941 года наш аэродром подвергся нападению со стороны фашистов буквально в первые минуты Отечественной войны.
В первый свой боевой вылет Леонид Бутелин на глазах у всего полка (воздушный бой происходил не далее чем в 500 метрах от аэродрома) на самолете „И-16“, очевидно израсходовав весь боекомплект и видя, что враг (самолет „Ю-88“) уходит, направил свою машину на противника и врезался в него на высоте примерно 200 метров. Самолет противника, объятый пламенем, вместе со всем экипажем глубоко врезался в землю. Неподалеку от него упал краснозвездный истребитель „И-16“, похоронивший под своими обломками героя первого воздушного тарана Великой Отечественной войны Леонида Бутелина».
Позднее другие советские журналисты, которые, как и я, занимаются поисками неизвестных героев Великой Отечественной войны, разыскали родных Леонида Бутелина, его бывших боевых товарищей, уточнили обстоятельства его подвига и рассказали о нем на страницах газет.
Леонид Георгиевич Бутелин родился в 1919 году в местечке Родня, неподалеку от белорусского городка Климовичи. Его отец был рабочим-металлистом. Как и все его сверстники в то время, Леонид Бутелин увлекался подвигами героев гражданской войны, взволнованно следил за ходом войны в Испании и рвался туда добровольцем, но был слишком молод для этого. Позднее он поступил в летную школу, окончил ее и, как уже говорилось, служил в 12-м истребительном авиаполку в районе города Станислава. Обстоятельства его подвига описаны совершенно точно бывшим сержантом этого полка Алексеем Шаниным.
Однако Алексей Шанин ошибается в одном, подобно тому как я ошибался в случае с Петром Рябцевым. Таран, совершенный Леонидом Бутелиным, также не был первым тараном Великой Отечественной войны.
Два бывших летчика — подполковник в отставке Андрюковский из города Ярославля и полковник запаса Молодое из Киева — сообщают мне, что в первый час войны в районе города Дубно над аэродромом Млынов на Западной Украине совершил воздушный таран летчик 46-го истребительного авиационного полка старший лейтенант Иван Иванович Иванов. Несколько позже мне написал из города Херсона комсомолец Корчевный, который приложил к этому письму номер газеты «Правда Украины» за 17 ноября 1957 года. В газете напечатаны материалы, относящиеся к подвигу летчика Ивана Ивановича Иванова. Редакция опубликовала письмо, которое прислал ей гвардии майор Нарваткин. Вот что пишет он в газету:
«Дорогие товарищи!
В газете „Правда Украины“ 29 июня текущего года был перепечатан отрывок из очерка С. Смирнова, озаглавленный „Первый воздушный таран“. В нем говорится, что 22 июня 1941 года около 10 часов утра лейтенантом П. С. Рябцевым совершен первый в Великой Отечественной войне воздушный таран. Каждый из советских патриотов преклоняется перед мужеством летчика Рябцева, как и других защитников Бреста. Слава им!
Дорогие товарищи! В тот же день 22 нюня, но на несколько часов раньше, воздушный таран был совершен в небе Украины. По-видимому, он и был первым воздушным тараном в Великой Отечественной войне. Я пишу об этом без какой-либо мысли о том, чтобы умалить заслуженную победу бессмертного сокола Рябцева. Сообщаемое мною вам показывает, как богаты героями Советская Армия, наш народ.
Вместе с письмом посылаю вам документ — один лист из истории полка, в оформлении которой я принимал участие. Из него видно, что уже через 25 минут после нападения врага летчики истребительного полка поднялись по боевой тревоге, и командир звена старший лейтенант Иван Иванович Иванов совершил воздушный таран. За этот подвиг И. И. Иванову было присвоено звание Героя Советского Союза.
Препровождаемый документ прошу сфотографировать, опубликовать в вашей газете и передать в один из музеев города Киева, так как таран был совершен на Украине».
Газета выполнила просьбу гвардии майора Нарваткина и напечатала фотографию с этого листа из истории 46-го истребительного авиационного полка. Я цитирую эту страницу дословно:
«22 июня 1941 года тысячи бомбардировщиков с черной свастикой на крыльях обрушились на мирные города нашей Родины. Вспыхнуло зарево войны.
С одного из пограничных аэродромов Западной Украины наперерез врагу вылетело звено наших истребителей под командованием старшего лейтенанта Иванова. Было 4 часа 25 минут утра. Советские летчики впервые встретились с немецкими бомбовозами. Завязался бой. У Иванова скоро кончились боеприпасы, а противник все еще продолжал идти к цели. Иванов принял твердое решение не пропустить врага.
Пристроившись в хвост одному из бомбардировщиков, „И-16“ пошел на сближение. Расстояние между советским „ястребком“ и немецким „Хе-111“ сокращалось с каждой секундой. Какое-то мгновение — и в воздухе раздался треск. Винтом своего самолета Иванов обрубил хвост фашистскому стервятнику. Потеряв управление вражеский бомбардировщик перешел в беспорядочное падение, погиб и Иванов — низкая высота, на которой он совершил таран, не позволила ему выброситься на парашюте…
Горячо любил свою Родину русский летчик Иван Иванович Иванов, и за счастье ее он не пожалел отдать свою жизнь. Указом Президиума Верховного Совета Союза ССР от 2 августа 1941 года старшему лейтенанту Иванову Ивану Ивановичу посмертно присвоено звание Героя Советского Союза».
Рядом с этими документами в газете напечатана статья о герое-летчике. Иван Иванович Иванов родился в 1909 году в деревне Чижово Щелковского района Московской области. Там он окончил школу, а потом, с 1931 года, непрерывно служил в армии. В 1934 году он кончает Одесскую военно-авиационную школу пилотов, кстати, ту самую школу, которую окончил и Леонид Бутелин.
Вот как описывает обстоятельства этого подвига бывший сослуживец Иванова, гвардии подполковник технической службы А. Г. Больнов:
«С 21 на 22 июня 1941 года звено из трех истребителей — Иван Иванов, Иван Сегедин, фамилию третьего летчика не помню — дежурило на самолетах „И-16“. Как всегда под воскресенье, часть офицеров была отпущена и уехала на зимние квартиры, в том числе и я.
На рассвете 22 июня была объявлена боевая тревога, сбор у дежурного по гарнизону. Прибежали я, инженер Макаров и майор Белич. Мы втроем сели на первую следовавшую в лагерь машину и поехали. При выезде из города мы заметили взрывы, услыхали стрельбу в воздухе и одновременно увидели идущую на малой высоте пятерку самолетов „хейнкель-111“. На нее сверху пикировало звено истребителей, ведущих огонь. „Хейнкели“ вели ответный огонь. После атаки ведомая пара истребителей отвалила и ушла на свой аэродром, а ведущий — это был Иван Иванов — продолжал преследовать противника. Перевалив через гору, мы вновь увидели фашистский бомбардировщик. В то же мгновение сзади него, чуть сверху, показался истребитель и тут же врезался в него.
Израсходовав все патроны, Иван Иванович Иванов, исполняя долг патриота, пошел на таран и погиб смертью героя. Так 22 июня 1941 года был совершен первый воздушный таран в Великой Отечественной войне недалеко от того места, где в 1914 году знаменитый русский летчик Петр Нестеров впервые в истории авиации применил в бою воздушный таран. Знаменательное совпадение!»
Итак, новое имя — Иван Иванович Иванов! Но был ли этот таран самым первым тараном в Великой Отечественной войне? Я не могу этого утверждать с определенностью — мне мешают сделать это два других письма моих читателей, хранящихся сейчас у меня. Вот первое из них:
«Накануне войны я служил в воинской части в городе Ломжа на западной границе. В памятное утро 22 июня 1941 года я стоял на посту охраны у въезда в лагерь, где располагалась наша часть. Лагерь этот находился недалеко от города в лесу. Вскоре после 4 часов утра над железнодорожным мостом, который находится в черте города, завязался жаркий воздушный бой. После бесчисленных боевых заходов один советский истребитель смело пошел, на сближение с вражеским самолетом.
Мгновение — и в воздухе произошел взрыв. Оба самолета, окутанные клубами дыма, стали падать. Над местом их падения другой советский истребитель сделал прощальный круг и исчез из виду. Таким образом, я, очевидно, являюсь одним из свидетелей первого воздушного тарана в первый час Великой Отечественной войны. Очень жаль, что имя отважного советского летчика неизвестно. Будем надеяться, что и этот вопрос будет решен.
Плешков Иван Михайлович — бывший артиллерист регулярных войск, ныне учитель сельской школы. Село Бородиновка Варнинского района Челябинской области».
А вслед за этим письмом в мой адрес пришло другое, подписанное группой офицеров: старшим лейтенантом Львовым, гвардии лейтенантом Сосновым, гвардии майором Бабецем, гвардии старшим лейтенантом Копцевым, гвардии полковником Королем. Вот что в нем написано:
«На страницах газет опубликована статья С. С. Смирнова „Таран над Брестом“. С особым вниманием прочел я ее волнующие строки о самоотверженном подвиге летчика-истребителя 123-го истребительного авиационного полка лейтенанта Рябцева, — пишет главный автор этого письма — старший лейтенант Львов — Незадолго перед выходом этой статьи я работал над историей нашего бывшего 124-го истребительного полка. Перечитывая архивы, исторические формуляры, я случайно встретил и историю 123-го истребительного полка. Таким образом, я ознакомился с историями двух полков, которые прошли почти одинаковый боевой путь, начав его на границе Западной Белоруссии, затем защищали столицу нашей Родины — Москву и сражались над осажденным Ленинградом. С душевным трепетом и благоговением перечитываешь пожелтевшие страницы боевых летописей этих славных полков. Повествуется здесь и о подвиге лейтенанта Рябцева, который 22 июня 1941 года, в 10 часов утра, таранил вражеский самолет над Брестом, как это утверждали очевидцы Самвел Матевосян и майор Захарченко. Они утверждают также, что это был первый таран в истории Великой Отечественной войны. Но, знакомясь с историческими материалами 124-го истребительного авиационного полка, можно установить, что первый таран в истории Великой Отечественной войны был произведен не лейтенантом Рябцевым под Брестом, а летчиком 124-го истребительного полка младшим лейтенантом Кокоревым в пять часов утра в районе Замбров. Вот запись из истории 124-го полка, который перед войной располагался на аэродромах Высоко-Мазовецк, Ломжа близ города Белосток: „22. VI-41 г. в 4 часа 20 мин. немецкие захватчики произвели свой первый бандитский налет на аэродром. В первом воздушном бою были сбиты вражеские самолеты: один — заместителем командира полка капитаном Кругловым, и второй „Ме-110“ таранен командиром звена младшим лейтенантом Кокоревым. Это был первый таран Великой Отечественной войны, произведенный летчиком 124-го полка младшим лейтенантом Кокоревым в пять часов утра 22.У1-41 года в районе Замбров. Героический поступок Кокорева показал, что, несмотря на попытку германских воздушных пиратов сломить боевой дух советских соколов, бандиты, воспитанные Гитлером, жестоко просчитались. Когда у Кокорева отказали пулеметы, а враг пытался уйти, Кокорев горел одним желанием — не дать удрать врагу безнаказанно. На своем самолете он врезался в хвост „Ме-110“ и вогнал его в землю“. Наши ветераны полка, — продолжает старший лейтенант Львов, — майор Бабец, прошедший весь боевой путь с момента создания полка, майор Сосновский, старший лейтенант Копцев отлично помнят этого внешне незаметного, спокойного летчика, командира звена младшего лейтенанта Кокорева. После тарана Кокорев сумел приземлиться на лесную полянку. Самолет был разбит, он поджег его и, ориентируясь по карте, пошел на ближайшую дорогу. В этот же день он вернулся на аэродром верхом на лошади, как не без улыбки вспоминают очевидцы. За этот таран он был награжден орденом Красного Знамени. Затем Кокорев сражается под Тулой, на дальних подступах к Москве. После этого полк перебазируется на Ленинградский фронт. За доблесть и самоотверженность Кокорев был принят в члены ВКП(б) с сокращенным кандидатским стажем. В боях за Ленинград младший лейтенант Кокорев погиб 12 октября 1941 года в воздушном бою над вражеским аэродромом Сиверская. Таким образом, сопоставляя воспоминания очевидцев и данные исторического материала 124-го и 123-го полков, легко установить, что первый таран был произведен военным летчиком 124-го ИАП, командиром звена младшим лейтенантом Кокоревым Дмитрием Васильевичем».Думаю, что И. М. Плешков и старший лейтенант Львов со своими товарищами сообщают мне об одном и том же случае. Судя по всему, бывший артиллерист И. М. Плешков был свидетелем тарана, совершенного младшим лейтенантом Д. В. Кокоревым.
Вот к каким неожиданным результатам привели меня поиски следов неизвестного летчика, таранившего около десяти часов утра над Брестом вражеский самолет. Словно разматывался сказочный клубок — так развертывалась передо мною героическая история нашей авиации в первые часы Великой Отечественной войны. Петр Рябцев, совершивший свой таран между девятью и десятью часами утра. Неизвестный советский летчик, в шесть часов утра таранивший «мессершмитт» в районе местечка Выгода на маленьком самолете «У-2». Младший лейтенант Леонид Бутелин, совершивший свой подвиг в пять часов пятнадцать минут утра. И, наконец, два летчика — Иван Иванов и Дмитрий Кокорев, которые совершили воздушный таран около пяти часов утра.
Но кто же все-таки совершил первый таран в Великой Отечественной войне, спросит читатель: Иванов или Кокорев? Думаю, что установить это со всей точностью будет просто невозможно. Да и важно ли это в конце концов?
Пусть все эти имена: Дмитрия Кокорева и Ивана Иванова, Леонида Бутелина и Петра Рябцева — будут отныне и навсегда вписаны в боевую историю нашей авиации, и Родина воздаст должное памяти отважных летчиков, славных продолжателей знаменитого русского сокола Петра Нестерова, которые грудью прикрыли небо Родины в грозный час войны.
Загадка далекой могилы
Эта история началась вдали от нашей Родины, в горах Лигурии, под синим небом солнечной Италии. Здесь, как и в других странах Европы, в годы второй мировой войны за освобождение Италии от фашизма бок о бок с ее гражданами сражались тысячи наших соотечественников, и свобода этой прекрасной земли омыта кровью советских героев.
Лигурия — одна из крупных провинций на севере Италии, ее столицей является Генуя. Белый город, раскинувшийся по склонам гор над синей подковой средиземноморского залива, Генуя — это важный европейский порт, и у ее молов и пристаней день и ночь швартуются суда под всеми флагами мира, а в узких крутых припортовых улочках всегда звучит речь на всех языках земли. Генуя большой промышленный центр с огромными заводами и судостроительными верфями, город многочисленного и боевого рабочего класса. Поэтому она издавна была известна в Италии своими свободолюбивыми традициями, генуэзцы не раз самоотверженно поднимались на борьбу за права трудящихся, не только принося порой в этой борьбе тяжелые жертвы, но и одерживая славные победы.
Вероятно, читатель еще помнит бурные события, которые разыгрались в этом городе в июне — июле 1960 года, когда неофашистская партия «Итальянское социальное движение» решила созвать здесь свой съезд. Гордая Генуя справедливо восприняла это как оскорбление своего достоинства и памяти своих героев. Многие тысячи демонстрантов вышли на улицы города. И хотя полиция применила против демонстрантов бомбы и слезоточивые газы, провокация не сломила боевого духа генуэзцев. Они продолжали борьбу, и эта борьба была поддержана трудящимися других городов Италии. В конце концов неофашистам пришлось отменить свой съезд, а итальянское правительство Тамброни, допустившее провокации, полностью лишилось доверия народа и должно было уйти в отставку. Смелая борьба генуэзцев увенчалась полной победой.
Одним из самых героических периодов в истории Генуи и Лигурии были годы итальянского антифашистского Сопротивления.
После нескольких лет бесславной войны на стороне гитлеровской Германии, войны, в которую ввергла народ против его воли авантюристическая клика Муссолини, после того как в России в дни битвы на Волге была разгромлена на донских полях итальянская армия, а англо-американские войска высадились на юге страны, Италия свергла власть фашизма. В ответ немецкие войска оккупировали северные и центральные итальянские провинции. И тогда народ, понявший теперь, кто является его настоящим врагом, поднялся на борьбу против оккупантов. В городах создавались подпольные антифашистские группы, в горах и лесах начали действовать партизанские отряды и соединения, и итальянский народ, вышедший из несправедливой и позорной для него войны, именно в этой освободительной борьбе с захватчиками показал во всей широте и свою любовь к родине и свой смелый, отважный характер.
Лигурия была одним из главных центров партизанского движения. В Генуе активно действовали группы подпольщиков-антифашистов. В окрестных горах сражались десятки партизанских отрядов, против которых немцы вынуждены были предпринимать многочисленные карательные экспедиции, не приносившие, впрочем, решительного успеха. А когда в 1945 году наступили дни окончательного разгрома фашизма, лигурийские партизаны, не дожидаясь подхода английских и американских войск, спустились с гор и с разных сторон подступили к Генуе. Они окружили и заставили безоговорочно капитулировать крупную группировку гитлеровских войск. Генуя была освобождена оружием партизан. За этот подвиг город награжден высшей наградой в Италии — Золотой медалью Сопротивления. И с этих пор в центре города, на главной широкой улице 20 сентября, появилась большая мраморная доска, всегда украшенная неувядающими венками и букетами цветов. На доске золотом записаны имена погибших героев генуэзского Сопротивления. Это место генуэзцы называют «святая святых». Именно сюда во время народных праздников стекаются жители города, здесь возникают митинги, сюда в дни борьбы трудящихся приходят демонстранты. Итальянский город-герой справедливо гордится своим подвигом и свято чтит память бойцов, отдавших жизнь за его свободу.
Буквально в каждом городе, едва ли не в каждой деревне Италии, на кладбищах, где похоронены погибшие партизаны, вы обязательно встретите могилы, на плитах которых высечены фамилии и имена наших советских людей русских, украинцев, белорусов, грузин, азербайджанцев, армян, казахов, татар и т. д. В годы Сопротивления почти во всех партизанских отрядах Италии сражались советские воины, бежавшие из гитлеровского плена, и многие из них навсегда остались лежать в итальянской земле. Итальянцы с трогательной заботой ухаживают за этими могилами, женщины постоянно украшают их цветами, а бывшие участники партизанского движения сохранили самую добрую память о своих советских товарищах, как погибших, так и живых.
Повсюду в Италии можно услышать удивительные истории о партизанских подвигах, истории, героями которых являются неведомые то Иван, то Тарас, то Ираклий, то Ашот. Ветераны Сопротивления с восторгом рассказывают о советских людях, боровшихся бок о бок с ними за свободу Италии, об их отваге и бесстрашии, презрении к смерти, упорстве и настойчивости в бою, о свойственном им высоком чувстве товарищества, долга и о том, как, сражаясь на чужой земле, оберегали они высокое звание гражданина первого в мире социалистического государства.
На нею жизнь запомнил я глубоко драматический эпизод тех дней, о котором однажды рассказали мне друзья в Генуе. По их словам, крестьяне в горах Лигурии до сих пор вспоминают этот случай как пример того, с какой беспощадной, непримиримой требовательностью относились к самим себе наши люди, как охраняли они в чистоте достоинство советского человека.
Это было в одной из партизанских бригад Лигурии, в составе которой сражались несколько десятков советских бойцов. Как-то один из них, будучи на отдыхе в деревне, позволил себе напиться и пьяный совершил позорный акт мародерства.
И хотя раньше поведение этого человека было безупречным и он хорошо показал себя в боях, все же преступление его нельзя было оставить безнаказанным — оно бросало тень на всех партизан. Его решили судить по законам военного времени, и был создан трибунал, в который вошли шестеро итальянцев и шестеро советских людей.
Суд происходил в присутствии всей бригады. Обвиняемый стоял перед товарищами, опустив голову, не смея взглянуть им в лицо. Сначала выступали итальянские судьи. Они с возмущением говорили о поступке партизана и требовали для него сурового наказания: один предлагал изгнать его из бригады, другой — подвергнуть длительному аресту. Наконец слово взял один из советских судей, и все партизаны думали, что он будет сейчас просить снисхождения для своего соотечественника. Но произошло неожиданное.
Он начал с того, что напомнил итальянцам, как в течение многих лет фашистская пропаганда клеветала на советских людей и на Советское государство. «Теперь, — сказал он, — мы с вами стали боевыми товарищами, вы сами могли много раз убедиться в том, как вам лгали о нас. Мы подружились с вами за это время, и вы знали нас как честных людей, верных товарищей и смелых бойцов. Но вот один из нас совершил позорный поступок, он уронил честь и достоинство советского человека, он запятнал репутацию партизана. Его преступление особенно тяжело потому, что он совершил его в чужой стране. И по жестокому, но справедливому закону войны ему не может быть пощады».
Советский судья от имени всех своих товарищей потребовал, чтобы виновный был расстрелян. Русские судьи остались непоколебимы, хотя некоторые итальянцы спорили с ними, возражая против такого строгого приговора.
Тогда последнее слово дали обвиняемому. К общему удивлению, он не стал оправдываться и заявил, что понимает всю тяжесть своей вины и примет наказание безропотно, каким бы оно ни было.
Трибунал проголосовал приговор. Один из итальянцев вотировал за помилование, другой воздержался при голосовании. Но остальные судьи, и прежде всего шестеро советских, подняли руки за смертную казнь.
На рассвете четверо итальянцев и четверо советских партизан привели приговор в исполнение Осужденный встретил смерть спокойно и с достоинством. Перед расстрелом он оставил одному из товарищей адрес своей семьи.
— Прошу, напишите, что я погиб в бою, — обратился он к своим по-русски — И последняя моя просьба к вам, не стреляйте в меня, стреляйте в воздух. Страшно погибнуть от рук своих, а ведь четыре пули убьют меня так же, как и восемь. Если можете, ребята, простите, что я опозорил вас.
Его просьба была исполнена, и ни один из итальянцев не упрекнул своих русских товарищей, что их винтовки выстрелили в воздух.
Мне кажется, семье этого человека не нужно стыдиться его могилы: он совершил тяжелый проступок, но искупил его достойной и мужественной смертью.
Конечно, это эпизод исключительный. В большинстве случаев итальянцы расскажут вам о героических подвигах советских людей в бою, об их отваге и ловкости, об их мужестве перед лицом гитлеровских палачей. Но, к сожалению, вам при этом, как правило, не смогут сообщить фамилии героя, а только назовут его имя — Иван или Петр, лейтенант Виктор или сержант Николай. Поэтому, если даже человек остался жив и вернулся на Родину, по таким скудным данным его будет необычайно трудно или просто невозможно отыскать на огромных просторах Нашей страны. И уж, конечно, тем более трудны такие розыски, если Герой погиб.
Вот о таком человеке, который долго оставался для нас неразгаданной тайной, я и хочу рассказать.
Есть в Генуе красивейшее кладбище Стальено — одна из достопримечательностей города. Раскинувшееся на большой площади по склону горы, среди зеленого массива, это кладбище — настоящий музей. Здесь издавна хоронили генуэзских богачей, и над их могилами знаменитые архитекторы и скульпторы Италии воздвигали затейливые гробницы, статуи, скульптурные группы, барельефы. Тут можно бродить часами, любуясь великолепными произведениями скульптуры, многие из которых имеют свою любопытную историю. Вам обязательно покажут здесь тончайшей работы мраморную статую, которая изображает во весь рост старуху с морщинистым лицом, в платье, отороченном кружевом, и со связкой баранок в руке. Всю жизнь эта женщина торговала на улицах Генуи орехами и баранками, а к старости ее охватило честолюбивое стремление: во что бы то ни стало оставить потомству свой образ. Много лет из своих небогатых заработков она методически откладывала деньги и в конце концов скопила большую сумму, за которую еще при жизни знаменитый скульптор создал этот мраморный портрет. И вот уже много десятков лет скромно стоит мраморная торговка баранками среди надменных статуй знатных синьоров и богачей, словно она и в самом деле купила себе бессмертие у самого всемогущего волшебника на земле — у искусства.
На кладбище Стальено меня привез мой генуэзский друг Франческо Капурро — коммунист и бывший партизан, по прозвищу «Красный», человек лет пятидесяти, массивный, грузный и заметно прихрамывающий. Биография его такова, что о ней стоит хотя бы коротко рассказать. Бывший рабочий-шофер, а теперь частный предприниматель, собственник бензозаправочной станции, «осапиталист», как мы, смеясь, его называли, Франческо был в годы Сопротивления смелым и отважным партизаном. Однажды он с группой товарищей был захвачен гитлеровцами в плен и расстрелян. Да, именно расстрелян поставлен к стенке вместе своими друзьями и прострочен из автомата. Шесть пуль попали в него, одна из них — в голову, другая — в грудь. Сознание еще теплилось в нем, и он постарался притвориться мертвым Но гитлеровский офицер, командовавший расстрелом, видимо, был опытным палачом. Он подумал, что этот человек, быть может, еще жив, и решил добить его ударом приклада по голове. А через несколько часов после казни, весь окровавленный, Капурро все же сумел доползти до своих.
Сейчас обо всем этом напоминают ему только шесть шрамов на теле, рубец на голове от удара фашистского автомата, несгибающаяся нога да часто одолевающие его болезни, Но это не мешает Франческо быть человеком поистине кипучей энергии, с каким-то особым, по-детски восторженным отношением к жизни. Пережив собственную смерть, он как бы вторично родился на свет уже в сознательном возрасте, и сердце его словно распахнулось навстречу всему светлому, хорошему, что есть на земле и что мы порой не замечаем в повседневности наших дел и забот. А самым святым и дорогим для него всегда остается память о годах партизанской борьбы, память о боевых друзьях, павших в эти тяжкие и славные годы.
Еще у входа на кладбище Франческо купил два больших красивых букета цветов. Быстрым шагом, сильно припадая на искалеченную ногу, он вел нас по длинным крытым галереям кладбища, равнодушно поглядывая на роскошные надгробные статуи, стоявшие по обе стороны этих галерей. Лишь в одном месте он мельком задержался, показав нам на мраморный барельеф над могилой какого-то своего дальнего предка — богатого генуэзского купца. Потом он вывел нас из галереи наружу, и мы оказались на большом открытом пространстве, сплошь занятом длинными и ровными рядами могил.
Это было «Кампо делла глория» — «Поле славы» — кладбище погибших партизан. Могилы были заботливо обсажены цветами, и в изголовье каждой стояла прямоугольная мраморная плита, на которой высечены имя и фамилия, а иногда рядом вделана в мрамор фотография павшего.
Уверенно пробираясь между рядов могил, Франческо остановился около одного холмика и, склонившись, положил на него цветы. С надгробной плиты на нас смотрел с портрета черноволосый молодой человек с красивым благородным лицом. Это был лучший друг Капурро — Рино Мандоли, зверски убитый гитлеровцами. Франческо сохранил самую нежную память о своем безвременно погибшем друге, и фотография Рино Мандоли всегда стоит на его столе в рабочем кабинете.
Постояв немного, Франческо снова стал пробираться между могилами и привел нас к другому холмику, на который так же торжественно положил свой второй букет.
— Вот, — сказал он нам, показывая на могилу, — это ваш советский герой.
Мы подошли поближе. На мраморной плите в овале бронзового лаврового венка была укреплена перенесенная на фарфор, видимо, старая и потертая фотография молодого человека в советской солдатской гимнастерке образца первых лет войны. Даже по фотографии чувствовалось, что это человек сильный, крепкого телосложения, а весь облик его был типично русским — с открытым прямым взглядом, широким размахом бровей, с энергичным и смелым поворотом головы. И как ни стара была фотография, сразу можно было догадаться, что перед нами наш соотечественник — русский или украинец.
Под этой фотографией на мраморе были высечены золотые буквы: «Золотая медаль. Федор Александр Поетан (Федор). Канталупо, Лигурия. 2/2 1945».
Золотая медаль — высшая и очень почетная награда итальянского Сопротивления. Достаточно сказать, что в Италии генерал обязан первым отдавать честь солдату, награжденному Золотой медалью. Эту награду имеют очень немногие, и среди них нет ни одного иностранца. Человек, лежавший в этой могиле, был национальным героем Италии.
Кто же он? этот Федор Поетан, и какой подвиг совершил он?
Вот что мы знаем об этом человеке из материалов, опубликованных в итальянской печати, и из рассказов лигурийских партизан.
Федор Поетан, советский военнопленный, в 1944 году находился в гитлеровском лагере близ города Александрии, в нескольких десятках километров от Генуи. Узнав, что неподалеку, в горах Лигурии, действуют итальянские партизаны, Федор с группой своих соотечественников ночью неожиданно напал на часовых, обезвредил их и, забрав их оружие, бежал из лагеря. 7 ноября 1944 года беглецы пришли в партизанскую дивизию Пинан Чикеро и были зачислены бойцами в бригаду «Оресте», в отряд Нино Франки.
По рассказам его итальянских товарищей, Федор Поетан был высокого, почти двухметрового роста и отличался исключительной физической силой. Эта сила сочеталась в нем с удивительной природной добротой, хотя Поетан, как говорят, был человеком несколько замкнутым, молчаливым, может быть, еще и потому, что он совсем не знал итальянского языка. Только к гитлеровцам он питал какую-то особую, бешеную ненависть, — видимо, слишком много пришлось перенести ему в немецком плену. Когда однажды два фашистских солдата, взятых партизанами в плен, выразили желание вступить в отряд, Федор горячо уговаривал командира не соглашаться на это. Он уверял, что немцы изменят при первом удобном случае, и был очень недоволен, когда его не послушали. Кстати, в этом случае он оказался прав: во время одной из карательных экспедиций фашистов, когда положение партизан стало тяжелым, оба «добровольца» снова убежали к своим.
Рассказывают, что Федор Поетан сразу же проявил себя дисциплинированным и исполнительным бойцом и что в нескольких трудных боях он выказал настоящую смелость и бесстрашие. Ему было свойственно удивлявшее его товарищей хладнокровие, которого он не терял в самые опасные моменты боя. Итальянские товарищи искренне полюбили этого русского и за могучее телосложение и высокий рост дружески прозвали его «гигантом Федором».
Зимой 1945 года, пользуясь тем, что англо-американское командование во всеуслышание заявило о приостановке наступательных действий до весны, немцы сняли с фронта несколько дивизий, перебросили их в тыл и начали широкие карательные экспедиции против партизан. Партизанские отряды с боями отходили все глубже в горы, гитлеровцы сжигали по пути деревни, зверски расправлялись с мирным населением. Положение партизан в некоторых провинциях Италии стало угрожающим.
В Лигурию гитлеровцы тоже стянули много войск, стараясь взять в кольцо и уничтожить основные силы партизан. Бой, который разыгрался 2 февраля 1945 года у маленького городка Канталупо, был очень важным и в значительной степени решил исход всей карательной экспедиции врага в этом районе.
Это было в широкой лесистой горной долине Балле Скривия, где действовала партизанская дивизия Пинан Чикеро. На рассвете 2 февраля колонна немецких грузовиков с солдатами въехала в долину и остановилась около моста, переброшенного через ущелье. Спешившись, отряд немцев — более ста человек боевым порядком двинулся по дороге к городку Канталупо. Враг был вовремя замечен, и партизаны поднялись по тревоге. В район Канталупо был послан отряд «Нино Франки». Около полудня на дороге у окраины Канталупо начался бой, долгий и ожесточенный. Под напором партизан немцы отступили и перешли к обороне, но изгиб дороги и глубокий снег дали им возможность занять прочную позицию и отстреливаться в ожидании подкрепления. Попытки партизан приблизиться к окопам оказывались тщетными — огонь противника был слишком плотным.
Все понимали: времени терять нельзя, к врагу может подойти помощь. И тогда впереди партизан на снегу поднялась во весь рост могучая фигура Федора. В несколько прыжков он оказался у поворота дороги, за которым залегли гитлеровцы, и, строча из автомата, громко и властно приказал врагу сдаваться в плен. Это дерзкое нападение смутило противника: немцам показалось, что их атакуют свежие силы партизан. Они прекратили огонь и один за другим стали вставать, поднимая руки. И вдруг раздалась автоматная очередь, и Федор упал на снег. Но партизаны, воодушевленные его смелостью, уже бросились вслед за ним, окончательно сломили сопротивление врага и обезоружили сдавшихся в плен солдат.
Только части карателей удалось уйти. Больше двадцати убитых гитлеровцев и около пятидесяти пленных — таков был итог этого боя. Партизаны потеряли лишь одного человека — Федора, который ценой своей жизни добыл эту победу, по существу означавшую провал немецкого плана окружить и уничтожить партизанские отряды в долине Балле Скривия. Федор был убит наповал — пуля попала ему в горло. Товарищи с почестями похоронили его на кладбище в маленьком местечке Роккета, неподалеку от Канталупо. Позднее, уже после войны, его прах торжественно перенесли на генуэзское кладбище Стальено. А в марте 1947 года был опубликован декрет итальянского правительства. Федор Поетан был награжден посмертно Золотой медалью Сопротивления. Так советский воин, павший в горах Лигурии, стал национальным героем Италии.
В партизанских архивах Лигурии хранятся очень скудные сведения о Федоре Поетане. В документах было записано, очевидно со слов самого героя, следующее. Федор Александр (видимо, Александрович) Поетан родился в 1909 году. Сержант артиллерии. По профессии кузнец. Житель Горлова (Москва).
Вот и все, что известно об этом человеке. И, конечно, узнав его историю, я захотел попробовать отыскать следы Федора Поетана у нас на Родине, быть может, найти каких-нибудь его родственников, друзей или знакомых.
Однако, когда я вернулся в Москву, в Советском комитете ветеранов войны мне сказали, что такие поиски уже проводились и были безрезультатными. Единственной путеводной нитью для поисков героя было упоминание о его местожительстве: «Горлов (Москва)». Но оказалось, что под Москвой или в Московской области нет городка или деревни с таким названием. Тогда сотрудники комитета подумали о крупном донбасском городе Горловке: не следует ли искать следы героя именно там? Были проведены поиски в горловских архивах, опрошены городские старожилы, но, к сожалению, никто не знал о Федоре Поетане, и такая фамилия нигде не значилась. На этом и пришлось прекратить розыски.
Неразгаданная тайна Федора Поетана так взволновала и заинтересовала меня, что я решил возобновить поиски, надеясь на читателей и радиослушателей, которые уж не раз в прошлом помогали мне разыскивать неизвестных героев войны. Я несколько раз упоминал о Федоре Поетане в своих статьях, в 1958 году познакомил с его подвигом слушателей Всесоюзного радио, а в мае 1962 года подробно рассказал об этом человеке по Московскому телевидению. И это сразу принесло некоторые результаты, о которых я расскажу ниже.
Но сначала я попробовал порассуждать над теми небогатыми анкетными данными Поетана, которые были в моем распоряжении. Судя по всему, эти данные занесены в тетрадь писарем отряда или бригады со слов самих партизан. После имени, отчества и фамилии Поетана писарь поставил две буквы: «МЫ». Как мне объяснили, в Италии этими буквами обозначают людей, которые не знали своих родителей — были подкидышами или найденышами и воспитывались государством. Вполне возможно, думал я, что Поетан был сиротой и воспитывался в одном из наших детских домов. Но носил ли он фамилию своего отца? Обычно, если ребенок попал в детский дом маленьким и ничего не знает о своих родителях, то ему придумывают какую-нибудь простую русскую фамилию, а фамилия Поетан очень странная, редко встречающаяся. Она слишком сложна, чтобы быть придуманной.
Возможно, родители Федора погибли во время первой мировой или гражданской войны, а может быть, умерли от голода или от тифа, которые в те годы унесли многие тысячи человеческих жизней. Но если это случилось так, то Федор Поетан, родившийся в 1909 году, к моменту смерти своих родителей был достаточно большим мальчиком, чтобы знать и свою фамилию и имя своего отца. Вполне вероятно, что он остался не один после смерти отца и матери, возможно, у него были сестры или братья, которые тоже воспитывались в детских домах. Наконец, нетрудно подсчитать, что к моменту начала войны Поетану исполнилось 32 года и он, вероятнее всего, имел жену, а может быть, и детей. Поэтому уместно было предположить, что в Советском Союзе живет кто-нибудь из родных Федора Поетана и, уж во всяком случае, есть люди, которые сталкивались с ним до войны, — его товарищи по работе, его соседи по месту жительства и т. д. Уже это внушало кое-какие надежды на успех поисков.
Дальше в сведениях, составленных партизанским писарем, значилось, что Федор Поетан был сержантом артиллерии. К сожалению, это свидетельство не давало нити для поисков потому, что если личные дела офицеров хранятся в Министерстве обороны, то пропавшего без вести сержанта так же трудно искать, как простого солдата, а ведь известно, что миллионы наших людей пропали без вести во время Великой Отечественной войны. Мало что давало нам и указание на его гражданскую профессию — кузнец. Оставался только злополучный адрес: «Горлов (Москва)», который предстояло найти, если только итальянский писарь записал его правильно.
Должен сказать, что вначале я взял под сомнение и фамилию Поетан. Слишком уж непривычной, странной, не похожей на русские, украинские или белорусские фамилии казалась она. А судя по фотографии, герой явно принадлежал к одному из славянских народов нашей страны. Ни разу за время моих довольно многочисленных поездок по России, Украине и Белоруссии я не встречал такой фамилии. Никогда не слышали ни об одном Поетане и мои друзья или знакомые. Но особенно настораживало меня то, что после радиопередачи о Федоре Поетане не отозвался ни один человек с такой же или похожей на нее фамилией. Обычно же после каждой передачи приходили десятки писем от однофамильцев тех, кого я называл в своих выступлениях. Это молчание как бы подтверждало мои подозрения.
Уже тогда я подумал, что, возможно, фамилия Федора была Полетаев, Пеликанов или еще как-нибудь в этом роде, а писарь-итальянец, не расслышав как следует, записал ее в тетрадь искаженно, на свой итальянский манер.
Такое предположение летом 1962 года я и высказал в своем очерке в журнале «Огонек», посвященном подвигу этого героя. Однако некоторые письма, позднее полученные мной от читателей и телезрителей, заставили меня более осторожно отнестись к такому предположению, и я вынужден был допустить, что фамилия Поетан могла быть настоящей фамилией Федора.
В июле 1961 года почтальон принес мне письмо, и, взглянув на его конверт, я сразу же насторожился. На конверте внизу стояла фамилия отправителя — Поетан Л, С нетерпением я вскрыл письмо.
«Слишком поздно попала в наши руки газета, в которой была напечатана Ваша статья „Герои рядом с нами“, — писал мне автор этого письма — В этой статье Вы после поездки в Италию пишете, что итальянцы сообщили Вам о советском партизане, действовавшем в партизанской дивизии Пинан Чикеро неподалеку от Генуи, — Федоре Поетане, удостоенном высшей правительственной награды Итальянской республики — Золотой медали — и героически погибшем в 1945 году.
Вы пишете, что фамилия его, возможно, немного искажена. Поэтому мы решили обратиться к Вам и сообщить о советском человеке, на которого пришло в семью извещение, о том, что он пропал без вести, о Федоре Поете.
Федор Андреевич Поета, рождения 1915 года, уроженец хутора Поеты Подольского сельсовета Варвинского района Черниговской области УССР. Ф. А Поета до войны работал колхозником, был призван на переподготовку в Советскую Армию в мае 1941 года и в первые дни войны в письме к жене писал, что едет на опасный участок фронта бить врага. Возможно, что Федор Андреевич Поета попал в плен на Юго-Западном фронте, где действовали итальянские войска, и был угнан в Италию, где потом и принимал участие в партизанском движении. От него не было больше никаких известий.
Жена Федора Андреевича, Елизавета Лукинична Поета, проживает и работает в колхозе имени Ленина села Гурбинцы Варвинского района Черниговской области.
Просим Вас сообщить в наш адрес, не найден ли другой человек, который партизанил в Италии, потому что нас очень интересует, не Федор ли Андреевич Поета действовал под именем Федора Поетана.
С уважением брат жены Ф. А. Поеты — Поета Николай Лукич».
Как раз осенью 1961 года мне предстояла длительная поездка в Италию в связи с работой над сценарием советско-итальянского фильма, и я надеялся во время этой поездки побывать в Генуе и попытаться собрать какие-нибудь дополнительные сведения о Федоре Поетане. Я написал сейчас же в село Гурбинцы, попросив рассказать мне подробнее о Федоре Поете и прислать его фотографию. Все это я получил накануне отъезда в Италию. Николай Лукич сообщал мне, что Федор Поета учился в Подольской семилетней школе, потом на курсах трактористов и работал в колхозе прицепщиком у тракторов Он был призван в Советскую Армию в 1936 году, служил кадровую службу в течение двух лет в городе Кременчуге, а после демобилизации работал в селе Подол бригадиром полеводческой бригады в колхозе.
В 1939 году он снова был призван в армию, принимал участие в боях в Финляндии, где служил в расчете противотанковой пушки (прочтя это, я вспомнил, что Федор Поетан был сержантом артиллерии) После второй демобилизации он опять работал в колхозе имени Кирова конюхом. Накануне Великой Отечественной войны его призвали на переподготовку, и затем он ушел на фронт.
Николай Лукич описал мне также внешность Федора Посты. По его словам, это был человек средней комплекции, ростом 171–173 сантиметра, с темно-русыми волосами и голубыми глазами. К письму были приложены две старые, потертые фотографии, на которых изображен очень молодой солдатик. Эти снимки сделаны еще в 1936–1937 годах, более поздних фотопортретов Федора Поеты в семье не было.
Итак, появились следы человека, который носит то же самое имя, что и погибший герой, а очень редкая необычная фамилия которого отличалась от фамилии Поетан отсутствием всего лишь одной последней буквы. Уже это было интересным совпадением. Различие в отчествах и в годе рождения могло объясняться ошибкой итальянского писаря. Труднее было объяснить внешнюю несхожесть: Федор Поетан, по рассказам его итальянских товарищей, был настоящим богатырем, а Федор Поета, как мне его описали, оказывался человеком среднего роста и вовсе не отличался мощным телосложением. Но я подумал о том, что человек, совершивший героический подвиг, всегда как-то вырастает в глазах своих товарищей, бывших свидетелями этого подвига. Вдобавок итальянцы — народ с очень живым воображением, и могло случиться, что богатырская внешность Федора Поетана была просто плодом их фантазии, появившимся уже после смерти героя. Как бы то ни было, в моих руках сейчас находились две фотографии Федора Поеты, которые предстояло сличить с фотографией на могиле Федора Поетана, и это сличение могло принести самые неожиданные результаты.
И вот опять я в Генуе. Снова вместе с Франческо Капурро мы с цветами в руках идем к могилам Рино Мандоли и Федора Поетана. И начинается кропотливая, долгая работа — сличение фотографий. Сначала мы оцениваем общее сходство, потом сравниваем черты лица в отдельности. Спорим, соглашаемся, вновь расходимся в мнениях.
Дело оказалось куда труднее, чем я предполагал. Во-первых, фотография на могиле Поетана была старой, недостаточно ясной, сделанной, видимо, любителем, да и снимки Федора Поеты тоже оставляли желать много лучшего. Во-вторых, если даже на этих фотографиях изображен один и тот же человек, то разница во времени между снимками составляла по крайней мере шесть-семь лет, а ведь это были тяжелые годы войны и плена, и внешность нашего героя могла сильно измениться, учитывая все, что ему пришлось пережить.
Не знаю, может быть, мы выдавали желаемое за действительность, но в конце концов всем нам начало казаться, что между фотографиями существует несомненное сходство. Конечно, сказать что-нибудь с уверенностью было невозможно, и на этом наши исследования на кладбище Стальено закончились.
На другой день нам довелось побывать в красивой лесистой долине Балле Скривия — там, где действовала партизанская дивизия Пинан Чикеро. Ярко сверкало сентябрьское солнце, вокруг царили тишина и покой, и как-то трудно было представить себе, что в этой мирной долине когда-то кипели бои. Видели мы и маленький сонный городок Канталупо, в бою за который погиб Федор Поетан. Неподалеку от этого городка, на скале, нависающей над каменистой дорогой, пробитой по склону горы, висит большая мраморная доска, украшенная цветами и венками. «Для того чтобы итальянцы помнили цену независимости и свободы», — написано золотыми буквами на этой доске. А ниже — три длинных ряда имен погибших здесь партизан. Тут значится и фамилия Федора Поетана, а вместе с ней и другие имена и фамилии советских людей: Иван Костиков, Афанасий Горшков, Онуфрий Рыбак, Саша Чириков…
Франческе Капурро привел нас к тому самому месту на дороге, где упал сраженный пулей Федор Поетан, где пролилась на итальянскую землю его кровь. А потом наш друг разыскал в одном из окраинных домов Канталупо бывшего партизана. Этот человек не знал лично Федора Поетана, но он видел его уже убитым и помогал перенести его тело в дом. Мы показали ему фотографии Федора Поеты, и он, внимательно вглядевшись в них, почти уверенно сказал, что он узнает убитого русского партизана. Но если учесть, что этот человек видел Поетана только один раз, мельком и то уже мертвым, то, естественно, его утверждение не могло быть для нас абсолютно убедительным. Предстояло еще показать фотографию Федора Поеты другим партизанам, которые воевали бок о бок с ним и помнили его живым.
К одному из таких людей Франческо привез нас на следующий день в пригород Генуи. И так же уверенно, как первый партизан узнал Федора Поетана, второй, рассмотрев фотографии Федора Поеты, заявил, что он совсем не похож на нашего героя. И хотя для нас такое заявление было жестоким разочарованием, все же пришлось знать второе свидетельство более веским: этот партизан знал Федора Поетана гораздо лучше и много раз встречался с ним при жизни. Кстати, он упорно настаивал на том, что Федор Поеган был человеком очень высокого роста и богатырского телосложения, а это, как мы знаем, не совпадало с внешним обликом Федора Поеты.
Мое пребывание в Генуе было ограничено по времени, и дальнейшими розысками заниматься я уже не мог. Мы условились с Франческо Капурро, что этим займется он сам. Я оставил ему обе фотографии Федора Поеты, он обещал снять с них копии, а оригиналы вернуть впоследствии мне. Франческо сказал, что он будет показывать эти фото всем, кто знал Федора Поетана, и в конце концов выяснит, действительно ли между обоими Федорами есть какое-то сходство.
Месяц спустя я получил от него оригиналы фотографий. А в мае 1962 года мне в связи с работой над тем же сценарием снова пришлось побывать в Италии, и мы опять встретились с Франческо, на этот раз в Риме. Он рассказал мне, что уже показывал фотографии Федора Поеты многим бывшим партизанам, и результаты были несколько обескураживающими. Половина этих людей узнавала в человеке, изображенном на фотографии, погибшего советского героя, а другая половина так же уверенно заявляла, что между ним и Федором Поетаном нет ничего общего. Но Франческо сказал, что теперь он ожидает одного очень важного свидетеля. Бывший командир отряда «Нино Франки», в котором сражался Федор Поетан, год или полтора тому назад уехал работать в Бельгию, на шахты, и в конце 1962 года должен был приехать в Геную. Этот человек якобы очень хорошо знал Поетана и может почти безошибочно сказать, похож ли на него Федор Поета. Таким образом, та ниточка, которая протянулась из маленькой деревни Гурбинцы в Черниговской области к знаменитому генуэзскому кладбищу Стальено, летом 1962 года еще не оборвалась, но и не привела нас ни к каким определенным выводам.
Раз существовал Поста, то вполне уместно предположить и существование Поетана. Значит, мои подозрения о том, что итальянский писарь исказил фамилию героя, были не очень основательными. Письмо о Федоре Поете, в фамилии которого недоставало только одной буквы, было первым опровержением этих подозрений. А после того как я выступил по Московскому телевидению, пришло еще два письма, также показавших, что мои сомнения, быть может, останутся напрасными. Вот что написал мне Г. А. Киселев, житель города Владимира:
«В октябре 1942 года я служил в 13-й механизированной бригаде в должности писаря роты технического обслуживания. Бригада находилась на отдыхе и пополнении в 20 километрах от города Тамбова. В числе прибывшего к нам пополнения был Федор Поета. Роста он был выше среднего, но не двух метров. Волосы черные, лицо похоже на ту фотографию, которая находится на могиле в Италии и которую Вы показали по телевидению. Я часто ездил с ним в кабине автомашины, часто ему помогал в уходе за машиной. Поета был малоразговорчив, о себе почти ничего не говорил. К немцам он выражал лютую злобу, но это у него вырывалось лишь иногда, негромко, как бы только для себя. Я чувствовал, что в его жизни произошло что-то тяжелое, может быть, у него на оккупированной территории осталась семья, родные. Я узнал от него, что он не грек, не цыган, как я думал, а молдаванин. Он говорил, что одинок и родных у него нет, но где родился и жил, этого он мне не говорил. Он был примерно 1915 года рождения. Как человек и товарищ был безупречен.
Последний раз мы были с ним на Сталинградском фронте. После трехдневного боя 13-я механизированная бригада вышла на пополнение в районе Сальских степей. Потом она влилась в 4-й механизированный корпус, который двинулся на освобождение городов Шахты и Ростова. С этого времени я Федора Поеты не видел».
Но еще более любопытно было письмо одной женщины из Липецка, которая подписалась инициалами Е. Л.
«Уважаемый товарищ Смирнов! Вчера слушала Ваш рассказ о герое-партизане Поетане Ф. Вы выразили сомнение, не искажена ли его фамилия итальянцами. Такая фамилия есть. Я работаю в городской поликлинике Липецка, и недели две толу назад в наш кабинет приходил молодой человек по фамилии Поетан. Поскольку фамилия редкая, у него спросили, правильно ли регистратор написал ее. Он ответил, что фамилия написана правильно и что он украинец. Через дней пять пришла на прием женщина по фамилии Поетан. Родственники они или нет, не знаю. Я пытаюсь разыскать их карточки в регистратуре, но пока безуспешно, так как карточки раскладывают не по фамилиям, а по адресам. Но все же я буду их „разыскивать“».
Словом, фамилия нашего героя дала несколько путеводных нитей для розысков. Эти розыски предстояло вести, и пока трудно было сказать, куда они нас приведут.
Но были и другие нити.
Кроме возможностей, которые давала редкая фамилия Поетан, оставался еще один путь, который мог привести к интересным результатам.
Ведь в бригаде «Оресте» и в самом отряде «Нино Франки», бойцом которого состоял Федор Поетан, воевали и другие советские люди. Конечно, они знали друг о друге гораздо больше, чем о них было известно итальянцам. Возможно, кто-нибудь из этих людей был близким другом Федора Поетана или беседовал с ним и слышал его рассказы о себе. Быть может, кто-нибудь из них уцелел и после войны вернулся на Родину, а теперь может помочь раскрыть тайну нашего героя.
Именно поэтому я еще в первый свой приезд в Геную попросил друзей из местной ассоциации бывших партизан достать мне список советских людей, сражавшихся в партизанской дивизии Пинан Чикеро и вернувшихся после войны на Родину. Список вскоре был передан мне. В нем значилось больше сорока человек, из которых двадцать три были бойцами бригады «Оресте», а из них, в свою очередь, семеро числились в отряде «Нино Франки». Но, к моему разочарованию, почти все они вступили в этот отряд уже в 1945 году, в марте или в апреле, то есть после того, как Федор Поетан совершил свой подвиг, и, следовательно, не могли знать его лично.
Итальянские партизаны, знавшие Федора Поетана, сказали мне, что все его близкие друзья погибли в боях или раньше него, или немного позже. По их словам, только один из его товарищей уцелел и впоследствии вернулся на Родину. Фамилию этого человека я нашел в переданном мне списке. Это был Григорий Васильевич Путилин, рождения 1908 года, проживающий в Ворошиловграде (ныне Луганск), как сказано было в анкетных сведениях о нем. Там же значилось, что он вступил в отряд «Нино Франки» в конце 1944 года почти одновременно с Федором Поетаном. Возможно, они бежали вместе из плена.
Кроме того, итальянские товарищи Федора Поетана указали мне еще одного человека, который будто бы дружил с Федором. Он был бойцом той же бригады «Оресте», но, другого отряда — «Кастильоне». Его звали Петром Ильичом Мокиным (партизанская кличка «Пьетро»), В списке значилось, что Петр Ильич родился в 1916 году и живет в Сибири. В скобках около слова «Сибирь» стояло пояснение: «Восточная». Как видите, адрес был довольно неопределенным.
Но я привык к тому, что мне помогают читатели, радиослушатели и телезрители. Уже не раз удавалось с их помощью разрешать загадки, которые на первый взгляд казались безнадежными. Поэтому, выступая по Московскому телевидению с рассказом о Федоре Поетане, я назвал фамилии Г. В. Путилина и П. И. Мокина. И результат не заставил себя ждать.
Вот что написано в письме, которое пришло из Ленинграда летом 1962 года в Центральную студию телевидения в Москве:
«Уважаемые товарищи! Несколько недель тому назад писатель Смирнов в своем выступлении по телевидению рассказывал о партизане Поетане Федоре Александровиче. Он упомянул о том, что об этом товарище может что-то сказать т. Путилин Григорий Васильевич, 1908 года рождения, проживающий в городе Ворошиловграде (ныне Луганске). Дело в том, что мы с женой луганчане и у нас там живут родители. По моей просьбе мой отец навел справку в Луганском областном адресном бюро, и выяснилось, что Путилин Григорий Васильевич, 1908 года рождения, прописан в Краснодонском районе Луганской области, поссовет Урало-Кузбасс, по улице Клубной, д. 14. Прошу мое письмо с этой адресной справкой передать товарищу Смирнову. Шустер Ефим Борисович».
К этому письму и в самом деле была приложена маленькая адресная справка. Я тотчас же написал по адресу, любезно добытому для меня тов. Шустером, и вскоре получил ответ от Григория Путилина. Он сообщил мне, что хорошо помнит Федора и был очевидцем его гибели, но, к сожалению, не может дать о нем никаких дополнительных сведений, — Путилин, оказывается, не был близким другом героя и никогда не расспрашивал его о себе.
А тем временем приходили новые вести и из Италии. Мой друг Франческо Капурро в одном из писем сообщал мне, что он показывал фотографию еще нескольким партизанам, знавшим Федора Поетана. Некоторые из них вспоминают, что Федор был якобы из Киева или из Киевской области. Одновременно Франческо писал, что по его инициативе в Генуе создан комитет, который занимается подготовкой к сооружению монумента в честь подвига Федора. Этот комитет занимается сбором денег, на которые и будет построен памятник Поетану, национальному герою Италии и советскому гражданину, тайну которого, к сожалению, мы столько лет не могли разгадать.
Так обстояло дело осенью 1962 года, которая неожиданно принесла новые события. Вернее, это началось еще летом, сразу же после моего выступления по телевидению с рассказом о Федоре Поетане. Важный след, который я считал уже потерянным, снова появился передо мной.
«Горлов (Москва)» — так записал партизанский писарь местожительство Федора Поетана. После того как выяснилось, что в Московской области никакого Горлова нет, а справки, наведенные Советским комитетом ветеранов войны в донбасской Горловке, ни к чему не привели, казалось, что эта ниточка безнадежно оборвалась. И вдруг вместо нее появились целых две нити.
Это произошло буквально в первые минуты, как только окончилось мое выступление по Московскому телевидению с рассказом о Федоре Поетане. Едва я вышел в вестибюль студии, как дежурный администратор подозвал меня к телефону. Звонил один из телезрителей-москвичей, даже не назвавший свою фамилию.
— Я только что слышал ваше выступление, — сказал он. — Может быть, в Московской области нет села Горлова, но зато в самой Москве есть Горлов тупик. Это в районе Новослободской улицы. Советую вам поискать там следы Федора Поетана.
Не успел я положить трубку, как раздался второй звонок, потом третий, четвертый… Это были московские телезрители. Звонили инженер и учительница, домохозяйка и пенсионер. Все они, заинтересованные и взволнованные тайной Федора Поетана, спешили сообщить мне, что в Москве есть Горлов тупик в районе Новослободской улицы.
Сначала это сообщение показалось мне весьма интересным и обнадеживающим. Но, рассудив, я подумал: зачем партизан стал бы указывать улицу, на которой он жил? В списках, переданных мне итальянцами, против фамилии русского бойца обычно значился его родной город или деревня, а рядом в скобках указывалась область. Почему же Федор, в отличие от. товарищей, решил указать какой-то московский тупик, а слово «Москва», стоящее в скобках, упомянул как бы между прочим? Нет, вариант с Горловым тупиком представлялся сомнительным, хотя, быть может, и не стоило совсем отбрасывать его.
Но вслед за этими первыми телефонными звонками тогда же раздалось и несколько других, позднее подкрепленных тремя или четырьмя письмами. Телезрители сообщили мне, что в Рязанской области, в Скопинском районе, близ станции Миллионная, есть село Горлово. Это село до войны находилось на территории Московской области и было районным центром, а впоследствии, при разукрупнении областей, вошло в состав Рязанщины.
Теперь все становилось на место. Если Федор Поетан был уроженцем или жителем Горлова, то запись в итальянской партизанской анкете оказывалась совершенно правильной. Я понял, что у меня в руках находится очень важная нить, и поспешил воспользоваться ею.
Первым делом надо было связаться со Скопином. Я позвонил туда, в райком партии, попросил секретаря ознакомиться с моим очерком «Тайна Федора Поетана», напечатанным летом в «Огоньке», и предупредил, что вскоре приеду в Скопинский район для розысков следов героя. Мне нужна была встреча с общественностью села Горлова, с его старожилами. Предстояло рассказать им о подвиге героя, а потом обратиться с вопросом: не помнит ли кто-нибудь из них кузнеца Федора с фамилией Поетан (или похожей на нее), который до войны работал в Горлове или в одном из соседних сел? Мне казалось, что такое обращение к жителям Горлова обязательно даст какой-то результат.
Однако я не смог выехать так быстро, как предполагал, и несколько раз откладывал поездку. Прошло недели две или три, и вдруг почта принесла мне письмо, содержавшее ключ к окончательной разгадке тайны нашего героя,
История этого письма такова. Осенью 1962 года в больнице шахтерского поселка Белого, близ Луганска, лежал забойщик местной шахты Николай Николаевич Петухов. Соседом его по палате оказался парторг участка с той же шахты. Болезни у обоих были нетяжелые, и они часами разговаривали, рассказывая друг другу о себе, о своей жизни.
Однажды Петухов упомянул в разговоре о том, что в годы войны он попал в гитлеровский плен и его привезли в лагерь, находившийся в Италии, близ Генуи. Оттуда с несколькими товарищами он бежал и почти год сражался в рядах итальянских партизан.
Парторг заинтересовался этим рассказом.
— Слушай, а ты не читал недавно в журнале «Огонек» очерк писателе Смирнова? — спросил он. — Там говорится о каком-то погибшем герое, который тоже бежал из плена и партизанил вместе с итальянцами. Помнится, и о Генуе там написано. Вот только фамилию партизана я забыл, редкая такая фамилия.
Петухову этот номер журнала не попадался, но он обещал парторгу обязательно достать его. Через несколько дней, выйдя из больницы, он разыскал «Огонек» с моим очерком и, едва открыв его, изумленно замер: со страницы-журнала на него смотрело знакомое и дорогое ему лицо. Это была фотография Федора Поетана, которая находится на его могиле в Генуе и которую я взял из итальянской прессы, где она много раз публиковалась. Но Николай Петухов узнал в этом портрете своего товарища по плену, по побегу и по итальянской партизанской бригаде «Оресте». Только звали его не Федором Поетаном, а Федором Полетаевым.
В 1943 году в гитлеровском лагере для военнопленных в городе Вязьме встретились и подружились трое советских солдат: Федор Полетаев, Николай Петухов и Николай Кочкин. Потом из России их увезли в Югославию, а позднее в Италию, в район Генуи. Здесь, несмотря на строгости охраны, они сумели установить связь с итальянскими патриотами-коммунистами, а через них с партизанским отрядом, который действовал неподалеку. Партизанам удалось незаметно передать пленникам девять ручных гранат и условиться с ними о встрече. На другой день Полетаев, Петухов и Кочкин с боем вырвались из неволи и присоединились к гарибальдийской партизанской бригаде «Оресте».
Сначала они воевали вместе, а потом Федор Полетаев и Николай Кочкин попали в отряд «Нино Франки», а Николай Петухов — в другой отряд той же бригады. В начале февраля 1945 года Петухов встретил Кочкина, и тот рассказал, что Федор Полетаев несколько дней назад погиб в бою.
Прошло еще месяца полтора, и Петухов узнал о трагической смерти Кочкина. Он стал жертвой несчастного случая: в руках одного из его итальянских товарищей разорвалась граната, и взрывом были убиты несколько человек.
Сейчас, читая мой очерк, где описывались подробности гибели Поетана, Петухов вспомнил рассказ Кочкина о смерти Федора — все обстоятельства совпадали. Совпадали и внешний облик Полетаева и Поетана — высокий рост и особая физическая сила, и черты характера — добродушие, немногословность, смелость и хладнокровие в минуты опасности.
Петухов не помнил точно возраста Федора, но знал, что тот был на несколько лет старше Николая Кочкина, родившегося в 1914 году. Не раз говорил Полетаев своим товарищам, что обладает большой физической силой, потому что много лет работал в колхозе кузнецом. Колхоз, как припоминал Петухов, находился где-то в средней полосе России, но в какой именно области — он забыл. Приходило на память одно: иногда он в шутку почему-то называл Федора то «курским соловьем», то «рязанским лапотником».
Обо всем этом Н. Н. Петухов написал мне, как только познакомился с очерком в «Огоньке». И, получив его письмо, я сразу понял, что Федор Поетан и Федор Полетаев — одно и то же лицо и что мое прежнее предположение подтверждается: итальянский партизанский писарь просто неверно записал русскую фамилию, переиначив ее на свой лад.
Но это еще предстояло доказать, хотя, конечно, свидетельство Петухова было уже первым важным документом. Я решил поискать и другие.
В Главном управлении кадров Министерства обороны СССР есть отдел персонального учета потерь солдат и сержантов Советской Армии. Надо было прежде всего проверить, нет ли там каких-либо сведений о судьбе Федора Полетаева, и я позвонил по телефону начальнику, отдела подполковнику С. Л. Федоренко.
Оказалось, что в прошлом и Министерство иностранных дел и Советский комитет ветеранов войны уже запрашивали отдел о Федоре Поетане. Но такой фамилии в списках погибших не значилось. Однако теперь речь шла не о Поетане а о Полетаеве, и результат был совсем иным. Выяснилось, что Федор Полетаев упоминается в списках отдела, и притом даже не в одном. Я поспешил приехать к подполковнику Федоренко и познакомился с этими документами.
Первый поставил меня в тупик. Это был «Именной список безвозвратных потерь личного состава 28-го гвардейского артиллерийского полка 9-й гвардейской Краснознаменной стрелковой дивизии за период с 10 июня по 20 августа 1942 года». И в этом списке стоял красноармеец Федор Полетаев 1909 года рождения, призванный Горловским райвоенкоматом Рязанской области. Рядом было записано: «Жена — Полетаева Мария Никаноровна, Рязанская область, Горловский район, село Петрушино». Но зато в графе «Когда и по каким причинам выбыл» значилось: «Погиб 22.6.42 в деревне Ленинка Харьковской области».
Заметив мое недоумение, С. Л. Федоренко засмеялся.
— Не тревожьтесь, — сказал он. — Приговор был явно преждевременным. Есть примечание к этому списку, где говорится, что 9-я стрелковая дивизия летом 1942 года попала в окружение под Харьковом. Она вела тяжелые бои, потеряла значительную часть солдат и офицеров, уничтожила штабные документы, а потом, когда остатки ее вырвались из вражеского кольца, штаб дивизии составлял этот список, опрашивая уцелевших в каждом полку людей. Другими словами, офицеры штаба сами оговариваются, что список весьма приблизительный и в ряде случаев в нем могут быть ошибки. Видимо, товарищи Федора Полетаева считали его погибшим, а он в этом бою попал в плен.
— Но ведь это только предположение, — возразил я. — Как это доказать?
— Очень просто, — торжествующе сказал подполковник. — Вот оно, доказательство!
И он положил передо мной другой список.
Сразу же после войны в Италии работал уполномоченный Совета Министров СССР по делам репатриации. Организуя отправку на Родину наших соотечественников, собирая сведения об участии советских людей в партизанском движении, он составил также список граждан СССР, погибших в Италии. Позднее копия списка из консульского отдела Министерства иностранных дел поступила к подполковнику Федоренко.
В списке под порядковым номером 379 значился Полетаев Федор, 1909 года рождения, а в графе «Дата смерти и место гибели» стояло: «Февраль, 1945. Канталупо. Лигурия».
Все было ясно. Единственный бой под Канталупо произошел в феврале 1945 года, и единственной жертвой этого боя со стороны партизан оказался тот, кого они называли Федором Поетаном и кто в список уполномоченного по репатриации был занесен уже под своей настоящей фамилией — Полетаев.
Теперь не оставалось никаких сомнений в том, что национальный герой Италии, прах которого покоится на генуэзском кладбище, и пропавший без вести кузнец из рязанского села — одно и то же лицо.
Снова я позвонил по телефону в Скопин и попросил срочно найти в селе Петрушино Марию Никаноровну Полетаеву. Но уже на другой день выяснилось, что она живет не там, а в одном из соседних сел того же Скопинского района — в Катине, на родине Федора Андриановича Полетаева (оказалось, что итальянский писарь допустил и другую ошибку и неправильно записал не только фамилию, но и отчество героя, переделав Андриана в более привычного для итальянцев Александра).
А еще через несколько дней я побывал в Катине, в старой небогатой избе семьи Полетаевых, построенной руками отца Федора Андриановича, в избе, где на потолке и сейчас еще ввернуто кольцо, куда, бывало, подвешивали люльку с маленьким Федором.
Вдова героя Мария Никаноровна — одна из тех русских женщин, про которых можно сказать, что они в тылу вынесли на своих плечах войну, как на фронте вынесли ее их мужья. Все пережили и вытерпели эти героические женщины: и одиночество, и нужду, и лишения, и тяжкий труд военной поры. Они заменили мужчин на тяжелых полевых работах и на заводах, они давали фронту хлеб, продовольствие, одежду, боеприпасы, вооружение; отказывая себе во всем, они стали кормильцами семьи, они берегли и растили для Родины детей. Победа над врагом была не только победой армии, но и их победой.
Когда муж ушел на фронт, Мария Никаноровна осталась с четырьмя детьми и старухой матерью Федора. Старшей дочери Александре тогда исполнилось десять лет, но она еще в раннем детстве перенесла тяжелое мозговое заболевание и навсегда осталась умственно неполноценным человеком и глухонемой. Остальные — дочь Валентина, сыновья Николай и Михаил — были мал мала меньше.
Полетаевы жили всегда скромно и не имели особых достатков, хоть Федор и считался одним из лучших кузнецов в районе. Война же принесла в их многодетный дом острую нужду, как, впрочем, и во многие другие семьи. Нелегко приходилось Марии Никаноровне в эти трудные годы, но она, не щадя себя, работала в колхозе, вела свое скудное хозяйство дома и все-таки сумела прокормить и воспитать детей без мужа. И дети выросли хорошими людьми, стали самостоятельно трудиться, обзавелись своими семьями, разъехались по стране. Валентина с мужем и двумя детьми живет в Калинине. Николай отслужил в армии, тоже женился и уехал на Алтай, а Михаила совсем недавно призвали на военную службу, и только его молодая жена осталась там, в Катине.
Когда в семью, потерявшую своего близкого, спустя много лет приходит такое известие, какое пришло в старую избу Полетаевых, родные погибшего испытывают сложные, разноречивые чувства. Снова переживают они печаль безвозвратной утраты, но время с неизбежностью притупило давнее горе, и уже сильнее в сердцах людей поднимается гордость за славный подвиг дорогого человека, радость от сознания, что он не пропал без вести, а погиб как герой, своим деянием возвеличив Родину, близких, обессмертив свое имя. И то, что в далекой стране нашлась, наконец, могила отца и мужа и что народ этой страны чтит его как своего национального героя, это, конечно, усиливало чувства гордости и радости, которые испытали жена и дети Федора Полетаева.
Эти чувства делили с ними и все жители Катина, и колхозники села Петрушина, где жил и работал перед войной Федор Андрианович, и все рязанцы, взволнованные вестью о героическом подвиге земляка. Односельчане, соседи Полетаева, его старые друзья и товарищи по работе сразу же уверенно узнали своего Федора в той фотографии, которая находится на его могиле в Генуе и которая так часто воспроизводилась на страницах итальянских газет и журналов. И так рассказывали о нем в Катине и Петрушине, что было ясно: этот человек оставил у людей по себе самую лучшую память. Не только уважение к подвигу, но прежде всего личные душевные качества Федора заставляют тех, кто его знал, вспоминать о нем с неподдельной теплотой и любовью.
Сын бедняка и сам бедняк, Федор всем был обязан советской власти. Неграмотным крестьянским парнем, человеком без профессии ушел он в 1931 году в армию и три года спустя вернулся, не только научившись читать и писать, но и получив хорошую, нужную в деревне специальность кузнеца.
Как раз тогда в Катине возник колхоз. И все были удивлены, когда известный «молчун» Федор, сроду не выступавший по застенчивости ни на каких сходках, вдруг появился на сельском собрании и вышел на трибуну, призывая людей записываться в организованную артель. Сам он стал хозяином колхозной кузницы, хозяином добросовестным, заботливым, работящим.
Все вспоминают, каким работником он был — безотказным в любом порученном ему деле, неутомимым до самозабвения в своем нелегком труде кузнеца, мастером — золотые руки, настоящим рабочим-умельцем. А о его богатырской силе рассказывают буквально легенды. Говорят, что норовистых лошадей он ковал «на весу», поднимая на своем плече. Около кузницы в Петрушине до сих пор лежит большой мельничный жернов пудов на 25–30. Как-то на праздник здесь собрались мужики, беседуя и дымя самокрутками, и один из них, слегка подвыпивший, стал хвастаться, что он, мол, самый сильный в деревне. Федор слушал по обыкновению молча, а потом, усмехнувшись, показал на жернов, глубоко вдавившийся в землю, и коротко предложил хвастуну:
— Подними!
Все засмеялись, а озадаченный силач все же решил попробовать. Но сколько он ни топтался и ни пыжился, ему не удалось приподнять жернов ни на миллиметр. Наконец, красный, сконфуженный, он сказал, что ни один человек не справится с такой тяжестью. Тогда Федор, не говоря ни слова, подошел к жернову, расправил плечи и, широко расставив ноги, склонился над камнем. Заходили, напружинились под рубахой мускулы, лицо и шея кузнеца побагровели от натуги, и вдруг рывком он приподнял жернов. Столпившиеся вокруг товарищи одобрительно зашумели. Федор выпустил камень и отошел, посмеиваясь и утирая раскрасневшееся лицо. С тех пор незадачливый силач уже не осмеливался хвастаться в его присутствии.
Федор единственный в округе мог «поцеловать кувалду» — выполнить профессиональный фокус кузнецов, доступный только самым сильным людям. Держа в вытянутой руке тяжелую кузнечную кувалду, человек медленным движением кисти наклоняет ее на себя, пока она не коснется губ. Надо было иметь поистине железные мускулы, чтобы за конец деревянной рукоятки удержать массивную кувалду, нависшую над твоим лицом и грозящую вот-вот сорваться и расквасить тебе физиономию.
Могучей силой настоящего русского богатыря обладал Федор. И это была добрая сила — он никогда не употреблял ее во зло и, как рассказывают, с детства не любил драк и ссор. Только против врага, против фашистов обратил он эту богатырскую силу и отдал ее всю без остатка вместе со своей простой, чистой и светлой жизнью.
И Родина теперь, спустя почти двадцать лет, когда имя героя стало известно, почтила его самоотверженный подвиг. 27 декабря 1962 года был опубликован Указ Президиума Верховного Совета СССР, которым «За героизм и мужество, проявленные в боях против немецко-фашистских захватчиков в составе отряда итальянских партизан в период второй мировой войны», рядовому Советской Армии Федору Андриановичу Полетаеву присвоено посмертно звание Героя Советского Союза.
А десять дней спустя, 7 января 1963 года, в Министерстве обороны состоялась торжественная церемония, на которой собрались маршалы Советского Союза, генералы и Офицеры, посол Итальянской республики в СССР господин Карло Альберто Странео, военный, военно-воздушный и военно-морской атташе Италии, советские дипломаты, журналисты, представители партийных и общественных организаций.
В центре всеобщего внимания были пятеро родных героя: его жена Мария Никаноровна, сестра Анастасия Андриановна Батова — свинарка катинского колхоза, дочь Валентина Емельянова и сын Михаил со своей женой Валентиной.
От имени Советского правительства заместитель министра обороны, прославленный полководец Великой Отечественной войны Маршал Василий Иванович Чуйков вручил Марии Никаноровне Полетаевой грамоту с Указом Президиума Верховного Совета, а потом посол Италии передал вдове Золотую медаль «За военную доблесть» и бронзовую пятиконечную звезду партизана-гарибальдийца вместе с соответствующими дипломами — награды итальянского народа, пролежавшие пятнадцать лет в ожидании того дня, когда они будут вручены семье погибшего владельца. Посол говорил о благодарности итальянцев, о том, что они свято хранят память о Федоре Полетаеве, подвиг которого останется символом боевого единства советского и итальянского народов в совместной борьбе за свободу, против фашизма. Он пригласил родных Полетаева в любое удобное для них время приехать на могилу их отца и мужа, обещая им сердечную встречу в Италии.
На другой день семья Полетаевых по единодушному решению передала награды на вечное хранение в Центральный музей Советской Армии, где они теперь выставлены для обозрения. В эти же дни музей получил и другую ценную реликвию, связанную с именем Федора Полетаева, моряки нашего танкера «Николаев» доставили из Генуи боевое знамя итальянских партизан, под которым воевал герой и которое передали в дар Советскому Союзу ветераны антифашистского Сопротивления Лигурии.
Имя Героя Советского Союза и национального героя Италии Федора Андриановича Полетаева присвоено колхозу в его родной деревне Катине. Его жене и неизлечимо больной дочери Александре установлены пожизненные государственные пенсии. Учащиеся Катинской школы решили создать у себя музей, посвященный памяти своего славного земляка. Сотни писем приходят теперь в избу рязанского кузнеца: отзываются прежние друзья героя, советские люди выражают восхищение его подвигом, пионеры сообщают о присвоении дружинам и отрядам имени Федора Полетаева.
Летом 1963 года жена и дети Полетаева совершили поездку в Италию, где их ждал душевный, дружеский прием. Они побывали на могиле своего мужа и отца, на месте его гибели в городке Канталупо, присутствовали на церемонии присвоения имени Федора Полетаева новому танкеру, который строился для Советского Союза на генуэзских верфях. Этот танкер весной 1964 года вышел в свое первое плавание и теперь под красным флагом несет имя героя по морям земного шара.
А в деревне Катине появился новый Федор Полетаев. Это внук героя, сын гвардейца-танкиста Михаила Полетаева, родившийся весной 1963 года.
Так заканчивается история Федора Поетана — Федора Андриановича Полетаева. Разгадана его тайна — одна из тех волнующих тайн, которыми так богата героическая летопись Отечественной войны.
Ее удалось разгадать только потому, что в моих розысках я имел удивительного и всемогущего помощника и союзника, у которого тысячи умов, тысячи глаз, тысячи ушей и тысячи участливых и добрых сердец, раскрытых навстречу всему героическому, славному, дорогому для истории нашего народа. Этот союзник и помощник — многотысячная армия наших советских читателей, радиослушателей, телезрителей. Именно они, все вместе, с моей помощью разгадали эту загадку, и только благодаря им пришла в рязанскую деревню Катино весть о славном подвиге сельского кузнеца и солдата Отечественной войны, простого и доброго богатыря русской земли, героически павшего на земле солнечной Италии в борьбе против фашизма, за свободу и счастье людей на всей земле.
Госпиталь в Еремеевке
Среди многих тысяч писем, полученных мною в 1957–1958 годах после серии передач по Всесоюзному радио с рассказами о поисках героев Брестской крепости, было письмо медицинской сестры Оксаны Трофимовны Романченко из села Веприк Гадячского района Полтавской области. Из него я впервые и узнал краткую историю госпиталя в Еремеевке. Позднее я рассказал об этом госпитале в одном из дальнейших радиовыступлений, и тогда пришли десятки новых писем от многочисленных участников и очевидцев событий. С некоторыми из этих людей мне потом довелось встретиться и лично, а лет пять тому назад я побывал на месте действия, в селе Еремеевке, вблизи Кременчуга, где и сейчас живут несколько действующих лиц моего рассказа.
Теперь обстоятельства этой волнующей истории вполне ясны, и я могу описать ее читателю со всеми подробностями. Пусть же с этим рассказом в историю Великой Отечественной войны войдет еще один яркий эпизод борьбы советских людей против фашистских захватчиков, и Родина почтит память славного героя, подвиг которого доныне оставался неизвестным.
В сентябре 1941 года, после упорных боев на подступах к Киеву, советские войска оставили столицу Украины и отошли на левый берег Днепра. Но противник продолжал наступление. Две мощные танковые группы немцев, прорвав нашу оборону на флангах фронта, проникали все дальше на восток. Клинья этого немецкого наступления сходились все ближе и сомкнулись в районе городов Ромны и Лохвица. Основные силы Юго-Западного фронта оказались во вражеском кольце. На левобережном Приднепровье разыгралась тяжелая трагедия.
Лишь части наших войск удалось прорваться из окружения, остальные были уничтожены в боях или пленены. Погиб командующий фронтом генерал-полковник Кирпонос, погибали или попадали в руки врага штабы частей и соединений, тыловые подразделения, медсанбаты и госпитали, полные раненых. Кольцо врага день ото дня суживалось, и, наконец, наступил финал — этой трагедии, центром которого стали село Оржица Полтавской области и прилегающий к нему район.
Оржица — большое село, раскинувшееся на берегу реки того же названия. Один берег этой реки высокий и крутой, а другой — низменный и болотистый. Болота, гиблые и непроходимые, особенно во время осенних дождей, тянутся далеко на восток, и единственная дорога здесь пролегала по гребню широкой, и длинной земляной дамбы, построенной как мост через эти топи. Вся масса войск, сдавленных в тугой петле вражеского окружения, со своим транспортом и техникой устремилась сюда, на дамбу, надеясь вырваться из кольца, но путь этот практически был уже закрыт.
Немецкие орудия и пулеметы держали дамбу под непрерывным огнем, и она на всем протяжения была усеяна сгоревшими или подбитыми машинами, опрокинутыми повозками, трупами людей, убитыми лошадьми. Но каждый день все новые отряды окруженных шли на прорыв по этой дороге смерти или пытались пробраться к своим напрямую через болота. Лишь немногим это удалось, большинство людей погибало под вражеским огнем, тонуло в глубокой трясине или попадало в плен. И наступил день, когда кольцо сжалось до предела и в Оржице уже не было наших войск: все, кто мог ходить, даже легкораненые, ушли на прорыв.
Но и после этого часть села оставалась недосягаемой для немцев. На окраине Оржицы, у высокого берега, изрытого окопами и траншеями, продолжался бой. И когда немецкие разведчики донесли своему командованию, кто ведет этот бой, генералы не сразу поверили — слишком уж невероятным казалось донесение. Там, в окопах над рекой, залегли те советские бойцы и командиры, которые физически не могли уйти вместе со своими товарищами, — люди тяжело раненные или раненные в ноги.
Одни из них уже не могли передвигаться и только стреляли, лежа на месте. Другие еще были в состоянии ползать и под прикрытием огня товарищей то и дело пробирались к окраинным улицам деревни, где стояли брошенные обозные повозки, нагруженные патронами, так же ползком возвращались обратно, волоча за собой тяжелые патронные ящики или куски мяса, отрезанные от туш убитых лошадей.
Здесь, на этой выгодной позиции, можно было продержаться долго, и раненые приняли молчаливое решение дорого продать свою жизнь и погибнуть в бою, но не сдаться в плен. Обреченные на смерть, истекающие кровью, обмотанные грязными бинтами, из последних сил сжимающие в руках приклад винтовки или рукояти пулемета, лежащие под бесконечным осенним дождем на раскисшей земле, в залитых водой окопах, эти люди уже спокойно смотрели навстречу своей неизбежной судьбе и старались не поддаваться унынию. Они даже смеялись и шутили. Они окрестили свою высокую удобную позицию «галеркой», а противоположный низкий берег — «партером», и, как только на этом «партере» или же со стороны деревни показывались зеленые цепи атакующих немцев, меткий огонь раненых вычесывал ряды гитлеровцев и заставлял их снова залечь.
Несмотря на обстрел из пушек и минометов, которые подтянул сюда противник, неравная борьба все же продолжалась несколько дней. Рассказывают, что самолеты, летая на бреющем полете над берегом, разбрасывали листовки, отпечатанные на машинке в немецком штабе.
«Безногие солдаты Оржицы! — говорилось в этих листовках. — Ваше сопротивление бессмысленно. Немецкая армия вступила в Москву и в Петербург. Красная Армия разбита. Спасайте свою жизнь и сдавайтесь в плен. Немецкое командование немедленно обеспечит вас протезами и хорошим питанием».
Но на эти призывы из окопов все так же отвечали огнем, который, впрочем, слабел с каждым часом. Сопротивление прекратилось, когда почти все защитники «галерки» были убиты. Лишь несколько «безногих солдат Оржицы», еле живых, лишившихся сознания, попало в плен.
Так закончилась трагедия на левобережном Приднепровье. Но еще долго после этого на всем обширном пространстве, где недавно кипела битва, валялись неубранные трупы, и повсюду — в полях и в болотах, на огородах и в придорожных кустарниках — под осенним дождем в грязи стонали, умоляя о помощи или о смерти, тяжелораненные люди, которых гитлеровцы безжалостно обрекли на медленную и мучительную гибель.
Начало нашего рассказа относится к последним дням этой оржицкой трагедии.
Неподалеку от Оржицы лежит другое большое село — Крестителево. Противник овладел им после упорного боя, и цепи немецкой пехоты, методически прочесывая одну улицу за другой, вышли к окраине села, где на отшибе от хат стояло несколько длинных колхозных сараев. Опасаясь засады, автоматчики приближались к ним осторожно и недоверчиво, время от времени выпуская очереди по этим постройкам.
И тогда в дверях одного из сараев появился человек. Он по-немецки закричал солдатам, чтобы они не стреляли, потому что в сараях находятся только раненые.
Человек был высокого роста, широкоплечий и сильный. Он носил гимнастерку командира Красной Армии, но без знаков различия на петлицах. На голове у него был кожаный летный шлем. Видимо раненный, он заметно прихрамывал, опираясь на палку.
Когда автоматчики прекратили огонь, этот человек, припадая на раненую ногу, пошел навстречу фельдфебелю, который командовал немецким отрядом. Выбросив вперед вытянутую руку, он по всем правилам отдал фашистское приветствие, гаркнул «Хайль Гитлер!», а потом на превосходном немецком языке объяснил, что он врач и просит отвести его для переговоров к кому-нибудь из старших офицеров. Спокойные, уверенные манеры незнакомца и отличное знание языка произвели на фельдфебеля впечатление, и он приказал одному из солдат проводить русского врача в штаб части.
Оказавшись перед старшими немецкими офицерами, человек отрекомендовался доктором Леонидом Андреевичем Силиным. Поздравив их с победой, он недвусмысленно дал понять, что радуется успехам германских войск и сам является ярым сторонником немцев. Потом он сказал, что обращается к немецкому командованию с просьбой разрешить ему организовать госпиталь для раненых советских пленных.
По его словам, он уже собрал в сараях на окраине Крестителева несколько десятков бойцов и командиров, получивших ранения, а кроме того, на полях вокруг села валяется множество тяжело раненных людей, и им по международным законам следует оказать медицинскую помощь.
Доктор Силин просил позволить ему отобрать из попавших в плен русских группу врачей, медицинских сестер и санитарок, с их помощью перенести лежащих под открытым небом тяжелораненых в те же сараи на окраине Крестителева и там создать импровизированный госпиталь. «Я могу дать подписку и готов отвечать своей головой, — добавил он, — что ни один человек из раненых или из медицинского персонала не попытается бежать».
Русский врач явно понравился немцам. Несколькими вскользь брошенными словами он сумел польстить их самолюбию, его почтительный, даже заискивающий тон был приятен им, а когда в ответ на вопрос, откуда он знает так хорошо немецкий язык, доктор Силин ответил, что его мать била чистокровной немкой, он окончательно расположил офицеров в свою пользу. Командир части позвонил по телефону генералу, и разрешение на организацию госпиталя было дано. Но при этом немцы поставили врачу несколько категорических условий.
Во-первых, Силина предупреждали, что он понесет самую строгую ответственность, если кто-нибудь из его будущих подчиненных или пациентов попытается бежать из плена. Во-вторых, ему запрещалось подбирать с поля боя и принимать в свой госпиталь тяжело раненных коммунистов, командиров Красной Армии, евреев и русских. Он имел право оказывать медицинскую помощь только беспартийным, украинцам по национальности и в звании солдата или сержанта. В-третьих, немецкое командование ставило в известность врача, что оно не намерено снабжать будущий госпиталь ни продуктами питания, ни медикаментами и все это Силину и его помощникам предстоит добывать самим.
В ответ доктор рассыпался в похвалах великодушию немцев, заявил, что все поставленные ему условия будут точнейшим образом выполнены, и просил разрешения немедленно приступить к делу. Немецкому офицеру поручили сопровождать его, и Силин отправился вместе с ним в ближайший лагерь для советских военнопленных, чтобы там подобрать медицинский персонал для своего госпиталя.
Лагерь для пленных находился неподалеку от Крестителева. Это был просто большой участок земли, огороженный колючей проволокой, и там под открытым небом, с которого день и ночь сыпался мелкий осенний дождь, в холоде, голоде и грязи томились десятки тысяч человек. Здесь оказался и медицинский персонал полевого госпиталя одной из наших армий, захваченный гитлеровцами. Разыскав группу девушек — медицинских сестер и санитарок, Силин представился им и предложил работать в будущем госпитале.
— Предупреждаю, девушки, работать придется много и тяжело, — сказал он. — Я буду строго требовать от каждой из вас добросовестного выполнения обязанностей. Но вы медики, а на полях сейчас умирают от тяжелых ран сотни наших людей. Этим, — он кивнул на сопровождавшего его немецкого офицера, на них наплевать, а мы с вами должны спасти их от смерти, сохранять для Родины.
Девушки, истомившиеся за несколько дней в лагере, с радостью приняли это предложение. Потом Силин отправился разыскивать врачей. В новом госпитале согласились работать пожилой опытный хирург из Одессы Михаил Александрович Добровольский, хирурги Михаил Салазкин из Москвы и Николай Калюжный из Киева, женщины-врачи Федорова и Молчанова и другие. Силину даже удалось уговорить немцев отдать ему из лагеря двух обреченных на смерть евреев — ростовского хирурга Портнова и днепропетровского окулиста Геккера. Ему разрешили взять их на работу в госпиталь при условии, что они тотчас же будут расстреляны, как только все раненые окажутся вылеченными.
В тот же день врачей и медицинских сестер выпустили из лагеря, и Силин собрал весь персонал своего госпиталя в одном из сараев на окраине Крестителева.
Он предупредил, что никто не должен пытаться бежать из госпиталя, иначе немцы расстреляют его самого, а с ним, может быть, и других. Потом он объявил, что назначает главным врачом госпиталя доктора Михаила Добровольского, а каждый из остальных хирургов получил в свое ведение «палату» — один из сараев, а в подчинение — группу медицинских сестер и санитарок. В заключение Силин рассказал о том, какие жесткие требования поставили немцы в отношении раненых.
— Мы должны брать всех тяжелораненых, — пояснил он. — Но в нашем госпитале не должно быть ни одного коммуниста, командира, еврея или русского. Надеюсь, вам ясно, что я имею в виду?
Он так многозначительно сказал это, что все поняли его без дальнейших объяснений. И тут же врачи и сестры, вооружившись примитивными носилками, отправились в окрестные поля искать тяжелораненых. Они подбирали подряд всех, кто нуждался в помощи, и никого ни о чем не спрашивали. Но когда раненых приносили в сарай и регистратор заносил их имена в госпитальный журнал, биографические данные каждого претерпевали существенные изменения. Иванова записывали в книгу учета как Иваненко, Семенова — как Семенюка. Если человек был командиром Красной Армии, с него тотчас же снимали офицерскую гимнастерку и взамен надевали солдатское обмундирование, а в список он заносился как солдат или сержант. И спустя два или три дня, когда в госпитале было уже несколько сот раненых и Силин представил немецкому командованию список своих пациентов, там не значилось ни одной русской фамилии, не было ни одного командира, еврея или коммуниста. Немцы остались весьма довольны тем, что врач так дотошно выполнил их требования.
Ни о койках, ни о постельных принадлежностях не приходилось и мечтать. Раненых укладывали прямо на соломе, расстеленной на земляном полу сараев, стараясь положить их так, чтобы сквозь дырявые соломенные крыши на них не лил дождь. В госпитале не было никакого оборудования, не было лекарств и перевязочных средств, и Силин с врачами отправился на поле недавнего сражения. Они осматривали брошенные обозные повозки, санитарные фургоны, госпитальные машины и искали бинты, медикаменты, медицинский инструмент. Кое-что они нашли, и, хотя медсестрам приходилось, меняя повязки, стирать бинты и снова пускать их в дело, хотя лекарств было недостаточно, а врачи при операциях порой должны были по очереди пользоваться одним и тем же инструментом, все же эти находки дали возможность оперировать и лечить людей. Госпиталь начал работать.
Надо было подумать о питании раненых, и Силин со своими помощниками пошел в Крестителево и в окрестные села. Они обходили хату за хатой беседовали с колхозниками, рассказывая им о госпитале и прося их добровольной помощи. И все отзывались на эти просьбы с величайшей охотой кто давал пару кринок молока, кто несколько караваев хлеба домашней выпечки, кто добрый кусок сала, кто ведро картошки или других овощей. Конечно, не легко было на эти пожертвования кормить несколько сот человек, но все же люди были спасены от голодной смерти, обеспечены кое-каким лечением и мало-помалу начинали поправляться. На примитивных, грубо сколоченных операционных столах врачи госпиталя при тусклом, колеблющемся свете коптилок ухитрялись делать сложнейшие операции. Особенно славился своим искусством хирург Михаил Добровольский — немецкие военные медики нередко специально приходили в сарай посмотреть на его операции и громко выражали свое восхищение.
Силин как-то сразу сумел установить самые тесные приятельские отношения и с офицерами воинской части и с чинами организованной в Крестителеве немецкой комендатуры. Он заметил, что большинство гитлеровцев падко на похвалы в свой адрес, и, пользуясь этим, расточал им самую грубую лесть, которая иногда даже коробила его товарищей-врачей. Вдобавок он был веселым собутыльником и знал массу забавных анекдотов, которые мастерски рассказывал, часами заставляя немцев надрывать животы от хохота. Офицеры удивлялись тому, как он знает их язык, и порой признавались, что Силин говорит по-немецки лучше, чем они сами. Кроме того, им нравилась суровая дисциплина, которую Силин установил в своем госпитале, и его властная, требовательная манера обращения с подчиненными.
Наши врачи и раненые с недоумением и недоверием наблюдали за этим непонятным для них человеком. С одной стороны, все понимали, чем они обязаны ему, знали, что он спасает их от смерти, избавляет от тяжких страданий в гитлеровских лагерях для военнопленных. Они поражались его изобретательности, энергии, выдающимся организаторским способностям. С другой стороны, поведение Силина, казалось, характеризовало его как верного фашистского прихвостня. Стоило ему появиться в госпитале в сопровождении немцев, как он набрасывался с ругательствами на врачей и медсестер, грубо кричал на раненых, выказывал явное презрение к советским людям и тут же всячески заискивал перед гитлеровцами, подобострастно принимал их снисходительные похвалы, сыпал в ответ комплиментами, рассказывал анекдоты и сам дружески смеялся вместе с офицерами. Зато когда он приходил один, то становился совсем другим — заботливым и ласковым с ранеными, по-товарищески дружелюбным с врачами.
Поведение начальника госпиталя было таким противоречивым и странным, что многие врачи и раненые долго относились к нему с настороженностью и подозрением и считали его предателем. Другие недоумевали: какое же лицо Силина является действительным и какое — только маской? Третьи уже начинали понимать, что этот человек ведет с врагом тонкую и опасную игру.
К этому времени кое-кто из врачей, и прежде всего Михаил Добровольский, который, как главный хирург, чаще других общался с начальником госпиталя, стали подозревать, что Силин не тот, за кого себя выдает. Добровольский обратил внимание на то, что он никогда не осматривает раненых один, а всякий раз делает это в сопровождении кого-нибудь из других докторов. Ни разу не случалось так, чтобы Силин сам поставил диагноз или оспаривал заключения других врачей, — он всегда одобрял методы лечения, предложенные ими.
Был ли этот человек настоящим медиком? Несколько раз, чтобы незаметно проверить свои подозрения, Добровольский, совершая обход раненых вдвоем с Силиным, нарочно высказывал суждения, самые нелепые с точки зрения медицины, и всегда Силин соглашался с ним. В конце концов хирург понял, что его начальник не имеет специального образования, ничего не понимает в медицине, но более или менее ловко скрывает свое незнание.
Лишь спустя некоторое время, когда Силин присмотрелся к главному хирургу и понял, что может вполне доверять этому человеку, он однажды в дружеском разговоре с Добровольским чистосердечно признался в своем обмане и рассказал ему свою настоящую биографию. Да, Леонид Андреевич Силин вовсе не был врачом. Юрист из Москвы, он пошел добровольно на фронт, стал секретарем и членом военного трибунала одной из наших стрелковых дивизий, которая попала в окружение неподалеку от Крестителева, а оказавшись в плену, решил спасать раненых и выдал себя за медика. В его жилах вовсе не было немецкой крови, как он уверил в этом немцев, а превосходное знание языка объяснялось весьма просто.
Силин родился в Риге, в семье мелкого служащего, и вырос в том районе города, где жило много немецких семей. С детства, играя вместе с немецкими мальчиками, он в совершенстве изучил их язык и владел им совершенно свободно. В юности он стал активным комсомольцем, служил на флоте в Севастополе, а потом по тяжелой болезни сердца был освобожден от военной службы, перебрался в Москву, здесь работал на заводе «Шарикоподшипник» и одновременно поступил на заочное отделение Московского юридического института. По окончании института он служил в Москве как юрист, а когда началась война, вступил добровольцем в армию, но вскоре был демобилизован скрыть от врачей болезнь сердца не удалось. С большим трудом он добился, что его вторично послали на фронт, в дивизионный трибунал, и почти сразу после этого вместе со своей дивизией попал в окружение и очутился в плену. Силин рассказывал Добровольскому, что в Москве у него остались жена Анна и двое маленьких сыновей — Леонид и Геннадий, о которых вспоминал с любовью и тоской. Он признался хирургу, что всей душой ненавидит немцев и его поведение с ними было только ловкой игрой.
С этих пор Силин и Добровольский стали настоящими близкими друзьями и уже не скрывали друг от друга ничего. По просьбе Силина хирург начал заниматься с ним по вечерам медициной, чтобы начальнику госпиталя, чего доброго, в критический момент не пришлось попасть впросак перед немцами. И Силин теперь никогда не упускал случая бросить перед немецкими врачами какой-нибудь специальный термин или собственноручно выписать рецепт, чтобы лишний раз убедить их в своей полной компетентности.
Эта дружба укрепилась еще больше благодаря одному происшествию. Случилось так, что опасно заболел кто-то из эсэсовцев, служивших в немецкой комендатуре Крестителева. У больного был гнойный аппендицит, который перешел в воспаление брюшины. Немецкий врач заявил, что он отказывается делать операцию — случай был, по его мнению, безнадежным. Тогда комендант Крестителева обратился за помощью к Силину. Тот сразу же понял, какие выгоды сулит это дело в случае успеха, и кинулся к Добровольскому.
— Ты должен во что бы то ни стало спасти этого эсэсовца. Это для нас очень важно, — убеждал он хирурга.
И хотя случай был очень тяжелый, действительно почти безнадежный, и риск слишком велик, все же Добровольский сделал операцию, и она оказалась успешной. Эсэсовец выздоровел, немцы были поражены искусством русского врача, и по просьбе Силина комендант тут же выдал Добровольскому бумагу, в которой от имени оккупационных властей хирургу объявлялась благодарность за спасение жизни немецкого солдата. Этой бумагой Силин потом ловко пользовался в интересах госпиталя, а значительно позднее, уже через год, она спасла от расстрела самого Добровольского.
И, может быть, именно благодаря этой успешной операции немцы не расправились с госпиталем Силина, когда случилось вскоре другое, уже весьма неприятное происшествие. Из госпиталя, нарушив уговор, бежал один фельдшер.
Как только это стало известно, явился немецкий комендант с солдатами. Весь медицинский персонал во главе с Силиным был выстроен около сараев, и комендант сказал, что за этот побег будет расстрелян каждый пятый. Все свое влияние и красноречие Силину пришлось употребить, чтобы отговорить немцев от такого намерения. В конце концов они все же вывели из строя другого фельдшера, привязали его к дереву и расстреляли на глазах у товарищей, А комендант заявил, что отныне в госпитале вводится круговая порука. Все врачи, медсестры и раненые были поделены на пятерки и предупреждены, что, если один из пятерки убежит, остальные четверо будут расстреляны.
Эта расправа окончательно убедила Силина в том, что госпиталю нельзя оставаться в Крестителеве. Большое село, лежащее на перекрестке дорог, всегда было полно немцев, здесь находились комендатура и жандармерия, а такое соседство не сулило ничего доброго. Силин уже давно говорил Добровольскому, что надо бы разместить госпиталь где-нибудь в стороне от больших дорог, в глубинке, подальше от немецких оккупационных властей.
Перед немецкими властями можно было выдвинуть весьма основательный предлог для такого переезда госпиталю пора было подумать о зимних квартирах. Стойла поздняя осень, холодные утренники предвещали близкую зиму, и оставаться дольше в неотапливаемых сараях с дырявыми соломенными крышами было просто невозможно. Силину, наконец, удалось доказать это коменданту, и тот разрешил ему съездить в Кременчуг к высшему немецкому начальству.
И тут связи и знание языка помогли Силину добиться успеха. Ему позволили поискать в окрестных селах подходящее помещение для госпиталя, и он после многодневной поездки нашел место, которое вполне отвечало его замыслам, — село Еремеевку.
Еремеевка лежала в стороне от больших проезжих дорог, почти на самом берегу Днепра. Так как она находилась на отшибе, то здесь не было ни комендатуры, ни жандармерии, и единственным представителем немцев являлся староста Мамлыга, осуществлявший свою власть с помощью нескольких полицаев жителей того же села. Село было богатым — до войны здесь работали двенадцать колхозов и рыболовецкая артель, и, поскольку немцы показывались тут сравнительно редко, жители Еремеевки пострадали от оккупации меньше, чем крестьяне других сел. Это было немаловажным обстоятельством — от него зависело питание раненых, и Силин мог надеяться, что ему удастся наладить бесперебойное снабжение госпиталя продуктами. И главное, здесь, в Еремеевке, было очень подходящее для госпиталя помещение — двухэтажное кирпичное здание бывшей школы, стоявшее на краю большой сельской площади, где по воскресеньям собирался базар, на который съезжались крестьяне со всей округи. Словом, это село оказалось для Силина тем идеальным местом, которое он искал.
Он заручился согласием старосты, получил в Кременчуге разрешение на переезд и, вернувшись в Крестителево, тут же начал готовить раненых в дорогу. В окрестных селах было мобилизовано несколько десятков крестьянских телег, и в последних числах ноября длинный конный обоз госпиталя двинулся в двухдневный путь из Крестителева в Еремеевку.
На новом месте раненых ждала трогательная встреча. Заранее извещенные о приезде госпиталя, колхозники толпой собрались у здания школы. Многие принесли с собой гостинцы, и специально к этому дню не одна еремеевская хозяйка напекла пирогов. И как только обоз въехал на школьный двор, женщины бросились к повозкам, и стали завязываться знакомства, начались расспросы, проливались слезы сочувствия. При этом раненым насовали столько всяческой снеди, что в дело пришлось вмешаться врачам.
Встреча взволновала всех и заставила раненых как бы на время забыть и о своем беспомощном состоянии и о том, что они находятся во власти оккупантов, словно эти люди сегодня снова попали на родную, свободную советскую землю.
И для жителей Еремеевки приезд госпиталя был лучиком света в мрачном царстве гитлеровской оккупации. Эти израненные люди в красноармейских гимнастерках были для них символом прежней, довоенной жизни, напоминанием о родных и близких, ушедших с Красной Армией на восток, и живым свидетельством того, что там, на востоке, продолжается упорная, жестокая борьба, исход которой вопреки хвастливым заявлениям гитлеровцев еще не решен. Госпиталь Силина с момента приезда стал центром внимания всего села, и люди не жалели ничего, чтобы помочь раненым.
Теперь палаты госпиталя размещались в теплых, просторных и светлых классах двухэтажной школы. Сначала, как и в Крестителеве, раненых положили просто на солому, расстеленную на полу, но Силин достал у крестьян кровати, организовал изготовление деревянных коек, а затем появились соломенные тюфяки, подушки и, наконец, даже постельное белье. При этом Силин, показывая пример подчиненным, продолжал спать в своем кабинете на соломе, накрывшись шинелью, пока каждый из раненых, а за ними и все врачи и медицинские сестры не были обеспечены кроватями и бельем. Только тогда он разрешил поставить и в своем кабинете кровать.
Что же касается питания раненых, то в Еремеевке благодаря помощи колхозников оно стало таким обильным, что это даже приходилось скрывать от немцев. Если в обеденное время в госпиталь приезжал из районного центра Градижска или из Кременчуга какой-нибудь представитель оккупационных властей, Силин тотчас же посылал незаметный сигнал в кухню, и начальство, обходя палаты, видело, что раненым разносят на обед какую-то сомнительную и мутную похлебку, напоминающую лагерную баланду, и скудную порцию жидкой каши. Но как только начальство уезжало, в палатах снова появлялись и молоко, и жирный, наваристый борщ, и густая каша с мясом. И эта хорошая, сытная пища в сочетании с заботливым уходом и лечением способствовала тому, что раненые начали быстрее поправляться.
Но здесь возникла другая опасность. Выздоровевшие подлежали отправке в лагерь для военнопленных в Кременчуге, где, как было известно, ежедневно сотни людей умирали от голода и от тифа, где за малейшую провинность виновного ждали побои, а то и пуля охранника. Спасти людей от смерти в Еремеевке, чтобы обречь их на гибель в Кременчуге, — это вовсе не входило в намерения Силина. И до поры до времени ему ловко удавалось водить за нос гитлеровцев.
Время от времени немцы присылали в госпиталь комиссию, которая должна была определить, кто из раненых выздоровел и может быть переведен в лагерь. И каждый раз повторялось одно и то же. Членов комиссии встречал сам Силин, изливался перед ними в любезностях, сыпал шутками и анекдотами и первым делом вел к себе в кабинет. Вызвав своих помощников, он вполголоса давал им какие-то распоряжения, и вскоре на столе в кабинете появлялись бутылки с самогоном, всевозможная закуска, и гости, проголодавшиеся с дороги, конечно, не могли отказать хлебосольному хозяину и усаживались закусить чем бог послал. А пока Силин усердно потчевал немцев, подливал в их стаканы самогон и заставлял их смеяться над своими анекдотами, во всех палатах госпиталя шла лихорадочная, торопливая работа. Медсестры, фельдшеры, врачи хлопотали вокруг уже выздоровевших людей, делали им перевязки, прибинтовывали шины к невредимым рукам и ногам. И когда после угощения уже изрядно захмелевшая комиссия в сопровождении Силина обходила палаты, оказывалось, что все раненые еще находятся в довольно тяжелом состоянии и отправить в лагерь никого нельзя. Немцы уезжали ни с чем, но, впрочем, весьма довольные оказанным приемом.
В Еремеевке Силин однажды посвятил Михаила Александровича Добровольского в свои дальнейшие планы. Обманывая немцев и задерживая у себя выздоравливающих, он надеялся дотянуть до того момента, когда подавляющее большинство раненых встанет на ноги. По его расчетам, это должно было произойти в конце весны или в начале лета. И тогда в один прекрасный день весь госпиталь во главе с самим Силиным — и излеченные раненые, и врачи, и медсестры — уйдет в глубину окрестных приднепровских лесов, превратится в партизанский отряд и в ожидании подхода наших войск начнет вооруженную борьбу против немцев. Тем, кто не сможет или не захочет идти в партизаны, придется тогда же бежать из Еремеевки и укрыться в других местах. И лишь несколько человек, у которых были особенно тяжкие ранения, пришлось бы при этом оставить, но Силин предполагал спрятать их у надежных людей в Еремеевке или в соседних селах.
К счастью, таких тяжелораненых было немного. Среди них особенно выделялся подполковник Константин Николаевич Богородицкий, единственный командир, содержавшийся в госпитале легально. В свое время он наотрез отказался снять гимнастерку со знаками различия подполковника и изменить фамилию. Силину с трудом удалось добиться разрешения немцев, чтобы оставить его на лечение. Они позволили только потому, что знали, как тяжело искалечен этот человек. У Богородицкого была ампутирована правая нога, выбит один глаз, поврежден позвоночник, он испытывал тяжелые физические страдания, но при этом сохранял ясность ума, бодрость духа и удивительную веру в то, что в конце концов враг будет разбит. Гимнастерка его с тремя шпалами на петлицах всегда была на нем или висела на спинке кровати у изголовья. Этот офицер пользовался большим уважением и у раненых и у врачей, сам Силин нередко приходил советоваться к нему, и они подолгу вполголоса разговаривали между собой. Видимо, советы подполковника Богородицкого, старого коммуниста, опытного командира, много повидавшего человека, не раз помогали Силину в его нелегкой работе и ловкой игре с немцами.
Здесь, в Еремеевке, госпиталь Силина окончательно превратился в маленькую советскую колонию. За это время люди — и раненые, и врачи, и сестры — сжились, лучше познакомились друг с другом, и общность сложной судьбы сделала их дружным, спаянным коллективом. Уже никто из них не сомневался в Силине, и все понимали, какую трудную и дерзкую игру с врагом вел этот человек. И он, лучше узнав своих подчиненных и пациентов, ту же не таился от них. Приходя в палаты и беседуя с ранеными, он теперь прямо говорил им, что они должны скорее поправиться, чтобы снова взять в руки оружие и бороться с фашистами, приближая момент своего освобождения. Он неустанно твердил, что Германия неминуемо будет разгромлена, внушал товарищам веру в то, что победа Красной Армии не за горами, и не терял эту веру даже тогда, когда с фронта приходили совсем неутешительные известия. Он был прирожденным агитатором, умел подобрать к своим доводам очень яркие примеры, говорил так красноречиво и убежденно, что у людей невольно рождалась надежда на близкое освобождение, пропадало отчаяние, появлялось желание жить и бороться.
31 декабря, в канун нового, 1942 года, Силин организовал для раненых праздник, который навсегда остался для них памятным днем. В этот вечер все они получили ужин, о котором даже не мечтали, — по две большие мясные котлеты и по чарке самогона. Незадолго до полуночи Силин вышел из своего кабинета, одетый в полную командирскую форму, с красной звездочкой на околыше фуражки. В сопровождении всех врачей он обходил одну палату госпиталя за другой и в каждой обращался к раненым с краткой речью. Он поздравлял их с наступающим Новым годом, желал здоровья и выражал уверенность в том, что этот год принесет им желанное освобождение от фашистской власти. Потом он велел открыть двери всех палат, ведущие в коридор, снова скрылся в кабинете и вышел оттуда опять, когда часы уже били двенадцать. В руках у него был играющий патефон. По всему госпиталю разнеслись давно не слышанные звуки «Интернационала». Силин ухитрился достать пластинку с «Интернационалом» неведомо где, и сейчас пролетарский гимн звучал в далеком украинском селе у берегов Днепра, в глубоком тылу гитлеровских войск, так же, как звучал он в эти минуты над Москвой, над всей свободной территорией Советского Союза.
Это был такой необычный и такой дорогой для всех новогодний подарок. При звуках гимна одни вскочили с постелей и стояли «смирно», как положено бойцу и командиру, в торжественном молчании слушая знакомые музыку и слова. Другие, прикованные к кровати, только вытянулись и приподняли головы с подушек. И все плакали открыто, не стесняясь этих слез, полных тоски и радости, боли и надежды. А патефон носили из палаты в палату, он снова и снова играл «Интернационал», и долго не могли заснуть люди в эту ночь, охваченные необычайным волнением, отдавшиеся дорогим для каждого воспоминаниям, полные тревожных мыслей о судьбах Родины и о своей нелегкой судьбе. И с теми же воспоминаниями и мыслями, с теми же надеждами и тревогами встречали вступающий на заметенные снегом улицы села новый, 1942 год жители Еремеевки.
В селе у Силина было уже немало друзей. Энергичный, общительный, веселый, он с первых же дней перезнакомился с доброй половиной местных жителей и был желанным гостем во многих домах. Исподволь, с пристальным вниманием приглядывался он к людям, определяя, кому из них можно верить, и с одними говорил прямо и откровенно, сразу же устанавливая дружеский контакт, а перед другими ловко разыгрывал из себя немецкого прихвостня. В короткое время он сумел стать заметной фигурой в селе, и честные, смелые люди с радостью принялись помогать Силину, а предатели и немецкие пособники завидовали ему и явно опасались его влияния, возраставшего с каждым днем.
Жители Еремеевки вскоре увидели в Силине своего покровителя и защитника. При этом он действовал так умело и тонко, что доверие немцев к нему все время росло, и Силину порой удавались весьма рискованные и дерзкие замыслы. Конечно, большую роль здесь играло отличное знание немецкого языка.
Хотя в Еремеевке не было ни комендатуры, ни жандармерии, немецкое начальство нередко наезжало сюда из соседнего большого села Жовнина или из города 30-лотоноши. Сам комендант района подполковник Тесске, штаб-квартира которого была в Золотоноше, частенько жаловал в Еремеевку собственной персоной, то произнося речи перед жителями села, то принимая в помещении сельской управы заявления и жалобы крестьян. Сначала он приезжал со своим толмачом-немцем, но у того были явные нелады с русским языком, и, познакомившись с Силиным, подполковник Тесске сделал его своим постоянным переводчиком в Еремеевке — Силину приходилось и переводить речи коменданта перед народом и вместе с ним принимать в сельской управе посетителей. Нечего и говорить, что он ловко пользовался представившимися ему возможностями.
Еремеевские колхозники вспоминают, как однажды Тесске, приехав в село, велел созвать всех жителей на площадь перед сельуправой и с крыльца дома обратился к ним с особенно длинной и торжественной речью, переводить которую должен был Силин, несмотря на то, что личный переводчик пана коменданта находился тут же. Тесске пространно и прочувствованно говорил о тех благодеяниях, что принесла с собой немецкая власть украинскому народу, и Силин добросовестно пересказывал фразу за фразой. И вдруг многие в толпе почувствовали что-то неладное — речь коменданта в переводе Силина стала звучать как-то удивительно глупо и нелепо. Силин переводил сказанное вполне точно, но при этом делал какие-то странные ударения во фразах, менял интонацию так, что самые торжественные и высокопарные тирады Тесске вдруг приобретали совсем иной, иронический и смешной смысл.
Переводчик коменданта, недостаточно хорошо знавший русский язык, не мог, разумеется, почувствовать этих тонких оттенков в речи Силина и только согласно кивал головой, вполне одобряя точность перевода своего коллеги. А те люди в толпе, которые поняли, чего добивается Силин, стали с напряженным вниманием следить за его сложной игрой, и комендант, заметив это внимание, приписал его, конечно, своим ораторским способностям и тому, что русский доктор очень хорошо перевел его речь. Все это прошло незамеченным и только укрепило доверие коменданта к Силину.
Иногда Силин решался на еще больший риск, чтобы помочь еремеевским колхозникам, спасти их от немецкой расправы или от грабежа. Так, один раз, когда он в качестве переводчика вместе с комендантом принимал в сельской управе посетителей, сюда явился приехавший в село бывший еремеевский кулак Яков Копейка. В годы коллективизации у этого кулака отобрали принадлежавший ему дом, и теперь в нем жила семья бойца Красной Армии, сражавшегося на фронте, — колхозница Анастасия Шендрия с несколькими детьми. Копейка уже давно поселился в Черкассах, но сейчас приехал в Еремеевку, надеясь с помощью немцев возвратить себе прежнюю хату, и для этого привел к коменданту плачущую Анастасию.
Через Силина Копейка стал объяснять Тесске, в чем дело: он покорнейше просил немецкое командование выселить из его бывшего дома жену красноармейца и возвратить ему все имущество. Однако в переводе на немецкий язык просьба зазвучала совсем по-другому. Силин изобразил коменданту дело так, что этот человек, имеющий в Черкассах прекрасный дом, теперь приехал требовать принадлежавшую ему когда-то старую хату и хочет выбросить на улицу бедную вдову с детьми. По его словам, Копейка заявил, будто немецкие власти обязаны немедленно вернуть ему прежний дом, а если, мол, комендант откажется удовлетворить эту претензию, он будет жаловаться на него высшему начальству. Словом, покорнейшая просьба Копейки была представлена как категорическое, наглое и непочтительное требование жадного хапуги. Взбешенный такой наглостью, Тесске вскочил из-за стола, схватил тяжелое пресс-папье и стукнул Копейку по голове. Потом он приказал Силину, чтобы этот человек в двадцать четыре часа убрался из села, иначе он прикажет расстрелять его. Нечего и говорить, что Копейка поспешил исполнить предписание коменданта, а Анастасия Шендрия, счастливая, вернулась в свой дом.
В другой раз во время очередного приема к комендант явилась одна из жительниц села, антисоветски настроенная баба, захотевшая выслужиться перед немецкими властями. Она принесла составленный ею список, где значилось десятка полтора фамилий бывших сельских активистов, которые, по ее словам, были враждебно настроены к новому немецкому порядку. Все это она объяснила Силину, а когда Тесске спросил у него, чего хочет эта женщина, то Силин ответил, что она принесла список крестьян, которые желали бы записаться в украинскую полицию. Он предупредительно добавил, что, дескать, господин подполковник может не заниматься такими пустяками, а он сам возьмет список и передаст его потом начальнику районной полиции Ющанко. С этими словами Силин спокойно взял бумагу из рук женщины и положил ее к себе в карман. В тот же день список был уничтожен. А когда в следующий приезд коменданта эта женщина опять явилась узнать, какие меры приняты по ее доносу, Силин устроил так, что Тесске выгнал ее и запретил впредь показываться в сельской управе.
Уже с первых дней пребывания госпиталя в Еремеевке Силин, присматриваясь к старосте села Мамлыге, увидел, что на помощь этого человека ему не приходится рассчитывать. Безвольный и трусоватый, Мамлыга всячески старался угодить немцам. Зато совсем другим человеком был его заместитель Иван Константинович Калашник. Он сразу же стал энергично помогать Силину, и, узнав друг друга, они вскоре подружились. Иван Калашник, один из сельских активистов, оставленных здесь для подпольной работы, принял должность заместителя старосты по совету своих товарищей только для того, чтобы помогать односельчанам и саботировать немецкие распоряжения. Калашник познакомил Силина с сельскими активистами Иваном Кузьменко и Василием Фесенко, работавшими в сельпо, с братом и сестрой Николаем и Марией Рубачевыми, с Петром Шарым и многими другими. В Еремеевке оказалась большая группа вполне надежных людей, преданных партии и советской власти и готовых действовать вместе с Силиным.
Окончательно убедившись, что Мамлыга будет только мешать его замыслам, и посоветовавшись с новыми друзьями, Силин решил добиваться смещения старосты. Ему удалось внушить немцам подозрения, будто бы Мамлыга связан с коммунистами. Позднее он подсунул коменданту заранее сфабрикованные документы, косвенно уличавшие старосту. Мамлыгу, наконец, сместили, и вместо него на эту должность был назначен Иван Константинович Калашник. Теперь действовать стало значительно легче — Силин и Калашник работали в полном контакте друг с другом,
С помощью нового старосты удалось окончательно разрешить нелегкую проблему снабжения госпиталя. Силин добился от немецкой комендатуры позволения производить сбор добровольных пожертвований в пользу раненых не только в самой Еремеевке, но и в окрестных селах — Гусином, Москаленках, Матвеевке, Галицком и других. Удалось даже добыть у немцев кое-какие продукты — госпиталю разрешено было получить горелое зерно, оставшееся после пожара на кременчугском элеваторе, и выписать со склада несколько маленьких поросят. Вместе с Калашником Силин потом обменял это жженое зерно в колхозах на хорошую муку, а маленьких поросят — на больших откормленных кабанов, обеспечив тем самым свой госпиталь на некоторое время хлебом и мясом. Он договорился с еремеевскими колхозниками, и теперь каждого из выздоровевших раненых по воскресеньям приглашала к себе в гости какая-нибудь семья. Это давало возможность человеку провести день в уже забытой семейной обстановке и, с другой стороны, облегчало проблему питания. Добился Силин и того, что врачам госпиталя разрешили оказывать медицинскую помощь крестьянам. В госпитале установили определенные дни для приема колхозников, а так как жители окрестных сел до того времени оставались без медицинского обслуживания, то в посетителях не было недостатка. Каждый из пациентов, конечно, приносил врачам что-нибудь в благодарность за лечение, а эти продукты тоже шли главным образом на питание раненых.
Наконец, Силин и Калашник нашли еще один способ добывания средств для госпиталя. Они убедили немецкого коменданта разрешить открыть в селе клуб, доход от которого должен был идти в пользу раненых. При клубе создали драмкружок, ставивший пьесы из украинского классического репертуара — «Ой, не ходи, Грыцю», «Наталка-Полтавка», «Наймичка» и другие. Артистами были и колхозники, и врачи, и медсестры. Люди, уже истосковавшиеся без всякой культуры за долгие месяцы гитлеровской оккупации, сейчас с удовольствием шли по вечерам в клуб поразвлечься. Плата была скромной, а после спектакля нередко сам Силин или кто-нибудь из «артистов» обходили с шапками присутствующих, собирая пожертвования в пользу раненых. Этот клуб давал каждую неделю две-три тысячи рублей дохода и стал важной статьей в бюджете госпиталя.
Но рядом с этой открытой, легальной деятельностью все время продолжалась и ширилась подпольная работа Силина и его друзей. После того как оборудование госпиталя было закончено, Силин перешел жить в село, в хату одного старика, который зарабатывал себе на жизнь, изготовляя иконы, кресты и другие религиозные принадлежности. Там, в этом доме, с помощью выздоровевшего раненого Алексея Аржанова, связиста по специальности, установили радиоприемник. И сам приемник и провода, идущие от него, были тщательно замаскированы в стене. По просьбе Силина его хозяин сделал ему большой нагрудный крест на длинной металлической цепочке. Теперь, как только в село приезжали немцы, Силин встречал их, надев этот крест поверх полушубка, — представляясь религиозным человеком, он внушал им еще большее доверие к себе. Но это «оборудование», как называл его шутя Силин, имело и вполне практический смысл. Когда на его квартире включали радиоприемник, то цепочка служила антенной, а сам крест — заземлением. Теперь Силин и его товарищи регулярно принимали из Москвы сводки Советского Информбюро и были вполне осведомлены о положении на фронтах. Эти сводки Силин каждый день пересказывал своим раненым и врачам, и их содержание становилось также известным и колхозникам Еремеевки.
Время от времени подпольщики затевали и прямые диверсии. То исчезнут со склада местного «Заготзерна» несколько сот мешков приготовленной для отправки в Германию пшеницы. То кто-то выроет и тщательно замаскирует на середине дороги глубокую яму, куда попадает грузовик, полный немецких солдат, и в результате несколько автоматчиков получают тяжелые увечья. То остановившиеся на ночлег в соседнем селе шоферы немецкой автоколонны утром неожиданно обнаруживают, что на колесах машин из покрышек и камер кто-то вырезал большие куски резины и надо менять все баллоны. То у напившихся полицаев пропадают винтовки или автоматы.
Это были пока лишь совсем небольшие, отдельные акты сопротивления врагу — Силин и его товарищи лишь пробовали силы, готовясь к будущей партизанской борьбе. Их подпольная деятельность только начиналась, и приходилось быть очень осторожными, осуществляя каждую из этих мелких диверсий, чтобы не привлечь внимания гестапо к Еремеевке и не возбудить подозрений своих врагов в самом селе.
Силин имел в Еремеевке очень опасного и злобного врага. Это был старший полицай Иван Атамась, по прозвищу «Дракон». Человек без чести и без совести, жестокий и жадный, он готов был на все ради своей карьеры и лез из кожи вон, стараясь выслужиться перед немцами. Самой сокровенной мечтой его была должность следователя районной полиции, и он прилагал все усилия, чтобы добиться ее. Он давно уже присматривался к Силину, завидовал его влиянию среди немцев и явно что-то подозревал. Но до поры до времени у Атамася не было никаких улик против этого человека.
Однажды Дракон подал начальнику районной полиции Ющенко список с фамилиями двадцати семи сельских активистов Еремеевки, которые, по его словам, были здесь оставлены специально для партизанской борьбы. Но Ющенко уже успел подружиться с Силиным и нередко оказывал еремеевским подпольщикам важные услуги, вовремя предупреждая их о тех или иных намерениях немцев Ющенко передал этот список Силину, а тот показал Калашнику и просил старосту предупредить всех, кто был перечислен в доносе Атамася, чтобы они соблюдали осторожность и в случае необходимости могли бы быстро скрыться. Список же в конце концов Силин уничтожил.
Но, видимо, Атамась не ограничился только этим доносом. В декабре 1941 года в село неожиданно приехала группа немецких солдат во главе с офицером, и сейчас же были схвачены шестеро сельских активистов из числа тех, что значились в списке Атамася. Остальным удалось вовремя спрятаться. Шестерых арестованных заперли в помещении сельской управы, и Силину стало известно от немцев, что на рассвете они будут расстреляны здесь, во дворе. Тут же, связавшись с Калашником, Силин вместе с ним выработал план спасения эти людей.
Прежде всего он свел дружбу с немецким офицером, возглавлявшим карателей, и за бутылкой самогона они с Калашником стали доказывать немцу, что было бы неправильно расстреливать приговоренных во дворе сельской управы, в самом центре села. Это, говорил Силин, произведет неприятное впечатление на всех крестьян и может повредить в их глазах немецким властям. Он даже указал на более удобное место для расстрела — за окраиной села, и офицер, согласившись, послал туда полицаев, чтобы заранее выкопать могилы приговоренным. Удалось убедить немцев и в том, что не стоит расстреливать на рассвете, когда многие из крестьян уже не спят, а лучше сделать это глубокой ночью, после полуночи. Так и было решено.
Силин с Калашником продолжали поспешно осуществлять свой план.
По всему селу было объявлено, что сегодня в клубе состоится большой торжественный вечер, посвященный организации украинской полиции. По поручению Силина Калашник раздобыл самогона и обильную закуску после торжества предполагалось устроить вечеринку. На вечеринку пригласили всех немцев во главе с офицером, а также полицаев, которым было поручено расстрелять приговоренных. Еще днем Силин предупредил нескольких красивых молодых девушек и женщин, что они обязательно должны быть на празднике, любезничать с немцами и задержать их как можно дольше в клубе. Среди этих женщин были учительницы Мария Рубачева и Александра Шевченко — жена одного из арестованных. Когда Шевченко стала отказываться от участия в вечеринке, говоря, что она не может веселиться в то время, как самому близкому для нее человеку грозит смерть, Силин прямо сказал ей: «Если ты хочешь спасти мужа, ты должна прийти в клуб — пить, плясать и веселиться» Ближе к вечеру Силину и Калашнику удалось также предупредить заключенных о том, как им следует вести себя по дороге на расстрел.
Вечер был не очень многолюдным, но все прошло как надо. А потом приглашенные уселись за столы, немцев и полицаев усердно стали угощать самогоном, и офицер со своими солдатами охотно танцевали с девушками. Время подходило к полуночи, и Силин все чаще поглядывал на часы. Затруднение заключалось в том, что ночь оказалась безоблачной и светила полная луна. Бежать в такую светлую ночь было бы гораздо труднее. Однако луна должна была зайти после часу ночи, и Силин всячески старался затянуть вечеринку, чтобы задержать немцев и полицаев. По его поручению Мария Рубачева то и дело приглашала танцевать немецкого офицера, а потом попросила проводить ее домой. Она нарочно выбрала самый длинный, кружной путь к своему дому и отделалась от спутника, лишь когда луна была совсем уже на заходе.
Освободившись, офицер пришел в сельуправу и приказал полицаям вести осужденных на расстрел. Конвоиры были порядком таки пьяны, и им пришлось дать в провожатые еще двух немецких солдат. Когда они подходили к окраине села, осужденные внезапно сбили на землю обоих немцев и бросились бежать в разные стороны. В то время как пьяные полицаи наугад стали палить в темноту, беглецы успели скрыться. Только один из них — бывший военнопленный Попов, который был ранен в ногу, не смог убежать и остался на месте. Остальным удалось надежно спрятаться в крестьянских хатах, в заранее подготовленных тайных убежищах.
Немцы были взбешены этим побегом. Наутро они решили расстрелять каждого пятого в селе и для устрашения жителей сжечь десятка два домов. Несколько часов потратили Силин и Калашник, убеждая офицера, что этого не следует делать. Они свалили всю вину на перепившихся полицаев, снова устроили для немцев угощение и задобрили их всевозможными подарками. В конце концов немцы удовлетворились тем, что расстреляли раненого Попова во дворе сельуправы, а Силин обещал им сказать в комендатуре, что все сельские активисты были казнены. С трудом, но все же удалось выпроводить карателей, и Еремеевка на этот раз не пострадала.
И все же игра, которую вел Силин с немцами, была слишком смелой и рискованной. Рано или поздно это должно было плохо кончиться для него и его товарищей. Атамась не спускал с Силина глаз, следил за всеми его поступками и настойчиво и прилежно собирал улики против этого человека. Видимо, нашелся и предатель в самом госпитале. Роковой час все же наступил.
Ночью 1 марта Силин разбудил нескольких врачей и выздоровевших раненых, с которыми был особенно дружен. Он сообщил им: получены тревожные сведения. Ему дали знать, что к немцам поступил донос, в котором он обвинялся в укрывательстве евреев и коммунистов в госпитале. Он посоветовал товарищам подготовиться к побегу и предупредил, что, возможно, он и сам попробует убежать. Но когда наступило утро, оказалось, что уже поздно. Госпиталь с рассветом был окружен приехавшими из районного центра немецкими солдатами и украинской полицией.
Вскоре явилась немецкая медицинская комиссия. На этот раз Силин уже ничего не мог сделать — всех раненых подвергли осмотру, отбирая выздоровевших для отправки в лагерь. Вместе с ними отобрали всех коммунистов, командиров, евреев и часть русских — судя по этому, доносчик хорошо знал коллектив раненых и предал всех, кого мог. Арестован был и Силин — ему запретили выходить из своего кабинета в госпитале.
И все же вечером следующего дня Силин вместе с врачом Михаилом Салазкиным бежал из госпиталя. Это бегство было заранее предусмотрено его друзьями. На окраине села в одной из хат для Силина была приготовлена гражданская одежда и лошадь с повозкой, на которой он мог уехать в безопасное место. Чтобы облегчить побег, его друзья организовали в селе вечеринку, на которую был приглашен и Иван Атамась. И хотя Атамася усердно потчевали самогоном, все заметили, что в этот вечер он пил мало и то и дело прислушивался, точно ожидал чего-то. Действительно, поздно ночью раздался стук в окно — Атамася вызвал его ближайший помощник полицай Сергей Паленый. Дракон ушел тотчас же с вечеринки и вернулся спустя полчаса, довольно потирая руки. «Силин хотел бежать, — сказал он присутствующим, — но я поймал его. Теперь он у меня уже не вырвется».
Увы, это было горькой правдой. Силин сумел незамеченным выйти из госпиталя, перерезать телефонные провода, ведущие в сельскую управу, и добраться до окраины Еремеевки. Но Сергей Паленый, которому Атамась приказал неусыпно наблюдать за Силиным, выследил его и донес своему начальнику. Доктору Салазкину удалось бежать, а Силина Дракон застиг в тот момент, когда тот переодевался в крестьянское платье. Угрожая пистолетом, Атамась повел беглеца назад в госпиталь. Он сам рассказывал потом, что по дороге Силин уговаривал его позволить ему бежать. «Если ты отпустишь меня, это послужит в твою пользу, когда придут наши, — говорил он. — А если ты выдашь меня немцам, люди припомнят это, и тебе не миновать виселицы». Но Дракон только смеялся в ответ и обещал застрелить Силина, как только тот попытается бежать. Он снова передал беглеца немецкой охране у школы. Силина связали и заперли до утра в его кабинете.
На другой день, 6 марта 1942 года, около сорока отобранных немцами раненых и врачей увозили из госпиталя в Кременчугский лагерь. Был базарный день, и ранним утром на площади перед школой открылся базар, на который съехались сотни крестьян из окрестных сел. Когда к школе, охраняемой немецкими солдатами и полицаями, подъехало десятка полтора саней и на крыльцо стали выводить раненых, все, кто был на базаре, толпой хлынули к госпиталю, и с разных концов Еремеевки сюда побежали люди.
Одни раненые выходили сами, других выволакивали и бросали в розвальни немцы и полицаи. Все уже понимали, что их везут на смерть, и, заметив в толпе знакомые лица, люди громко прощались с друзьями, выкрикивали свои адреса, чтобы жители Еремеевки смогли сообщить семьям об их гибели. Из толпы неслись ответные крики, слышались женские рыдания, детский плач, и вдруг все разом стихло.
Последним, вслед за врачами Геккером и Портновым, на крыльцо вышел Силин. Его сопровождал Атамась с двумя пистолетами в руках. Силин был без шинели, в своем кожаном шлеме и гимнастерке и со связанными назад руками. Кто-то сзади набросил ему на плечи рваный овчинный полушубок, но он тут же упал на крыльцо. Толпа зашумела, закричала, требуя, чтобы Силину освободили руки. Немецкий офицер молча кивнул в знак согласия. Атамась распутал узел, но тут же связал Силину руки уже впереди и накинул на него полушубок.
Силин молча оглядел собравшуюся толпу, раненых, лежащих на санях, а потом обернулся и посмотрел на окна госпиталя. Они были открыты, и оттуда выглядывали оставшиеся раненые, врачи и немецкие солдаты с фотоаппаратами, снимавшие эту сцену. Потом он обратился к офицеру и попросил разрешить ему попрощаться с товарищами. Получив разрешение, он подошел к краю крыльца и медленно начал говорить, обращаясь и к тем, кто глядел из окон, и к тем, кто лежал на санях.
— Дорогие мои друзья и товарищи! — говорил он. — Я сделал для вас все, что мог. Я старался спасти вас от смерти и организовал этот госпиталь, превратив его в советскую колонию в тылу врага. Но мне не удалось до конца уберечь ни жизней многих из вас, ни своей жизни. Я знаю, что меня расстреляют, а потому сейчас слагаю с себя дальнейшую ответственность за вас и каждому передаю в руки его собственную судьбу. Спасибо вам за все, и не поминайте меня лихом. Потом он обратился к толпе:
— И вам, дорогие наши товарищи из Еремеевки и из других сел, большое спасибо! Спасибо за помощь, за доброе, сердечное отношение к раненым солдатам и командирам. Помните, вам уже недолго осталось страдать под проклятой властью врага. Расстреляют меня, может быть, расстреляют других моих товарищей, но таких, как мы, миллионы, и всех нас не могут расстрелять. Красная Армия уже разбила врага под Москвой, она скоро погонит его на запад, освободит и вашу украинскую землю, и вы снова станете свободными советскими людьми. Когда наступит этот радостный час и сюда придут советские войска, не забудьте помянуть нас, которые погибли в борьбе. Вспомните нас так, словно все мы живыми вернулись сюда вместе с нашей родной Красной Армией. И еще одна моя просьба. У меня остаются в Москве жена и два сына. Напишите им, как я погиб, скажите моим сыновьям, что в Красном знамени нашей Родины есть и капли крови их отца.
Голос его слегка дрожал от волнения, но он говорил необычайно проникновенно, с бьющей в душу силой. И вся толпа — несколько сот мужчин и женщин, — слушая его, плакала навзрыд.
Немецкий офицер, видя, какое действие на людей оказывает эта прощальная речь, сделал знак Атамасю. Тот толкнул Силина, приказывая ему замолчать и идти к саням.
— Прощайте, дорогие товарищи! — сказал, обращаясь ко всем, Силин и низко поклонился народу. Потом он сошел с крыльца и сел на последние сани.
Рядом с ним поместились Атамась и еще два полицая. Все еще громко плачущая толпа придвинулась ближе. Немцы и полицаи угрожающе взяли на изготовку автоматы.
И вдруг все увидели, как Силин связанными впереди руками неловко полез к себе в карман и вытащил оттуда белый носовой платок. Потом быстрым движением он поднес руки ко рту и прокусил себе вену. Полилась тонкая струйка крови, и он подставил под нее платок. Когда на белом полотне расплылось большое красное пятно, он, высоко подняв обе руки, бросил платок в толпу, крича: «Передайте это на память моим сыновьям».
— И мне. — раздался чей-то возглас из плачущей толпы, и на колени Силина упал еще один белый платок. Он смочил его своей кровью и бросил обратно. И тотчас же десятки платков с разных сторон полетели к нему.
— И мне! И мне! — слышались взволнованные голоса, и он хватал эти платки, прижимал к своей окровавленной руке и бросал назад тем, кто хотел сохранить как самую дорогую память следы горячей крови этого смелого борца и мученика, бестрепетно идущего сейчас на смерть.
Немцы заторопились, чтобы скорее прервать эту сцену, конвой вскочил на сани, раздалась команда офицера, и обоз тронулся в путь. Толпа, все еще плача, закричала и побежала вслед за санями, и полицаи предупреждающе стали стрелять в воздух. Лошади пошли рысью, а люди все еще бежали следом. Силин стоял на коленях в последних санях и, подняв над головой связанные руки, прощально махал ими.
Потом обоз поравнялся с постаментом, на котором до войны стояла статуя Ленина, позднее разрушенная оккупантами. И все издали увидели, как Силин, показывая на этот постамент, начал что-то грозно кричать, обращаясь к немцам и полицаям. Атамась толкнул его в бок, заставил лечь в сани, лошади прибавили шагу, и вся колонна скрылась из виду за поворотом.
Госпиталь продолжал существовать, но ощущение большой, непоправимой беды охватило всех — и раненых и врачей. И в селе настроение было подавленным, тяжелым, словно из жизни людей исчезло что-то важное и незаменимое. Собираясь весенними вечерами у ворот, еремеевские женщины то и дело начинали вспоминать Силина, снова переживать сцену прощания с ним и с другими ранеными и вытирали платками повлажневшие глаза. Опустевший стоял вечерами клуб, помрачнел, посуровел староста Иван Калашник, и, когда теперь наезжали в Еремеевку немцы, село притихало в страхе и тревоге. Не стало у людей их ловкого, умелого заступника.
Восьмого марта Мария Рубачева и еще одна девушка из села отправились пешком в Кременчуг, собрав кое-какие продукты, — они надеялась повидать Силина и его товарищей. Они отыскали в лагере знакомого полицая, и тот за бутылку водки сообщил им, что Силин накануне был расстрелян, и показал даже место, где это произошло. Вместе с ним ту же участь разделили врачи Портнов и Геккер, подполковник Константин Богородицкий и многие другие его товарищи. С этими печальными вестями девушки вернулись назад в Еремеевку.
А на другой день поздно вечером к медицинской сестре госпиталя Оксане Романченко пришел человек, бежавший из Кременчугского лагеря. Он передал ей короткую записку, нацарапанную карандашом на клочке бумаги. Это было прощальное письмо Силина, адресованное его жене и детям. Он написал его, идя на расстрел, незаметно сунул этому пленному и наказал ему при первой возможности отдать Романченко, с тем чтобы, когда Еремеевка будет освобождена Красной Армией, она переслала его последний привет семье по адресу, заранее оставленному им.
А по селу в те дни передавали из хаты в хату другой исписанный листок стихи, посвященные Леониду Андреевичу Силину, которые написал находившийся в госпитале боец и молодой поэт Григорий Заболотный. Люди переписывали это стихотворение, как последнюю память о своем погибшем друге. Оно кончалось такими строчками:
Нет Силина, но в памяти народной, В глазах народа и в его сердцах Навеки жив твой образ благородный, Бесстрашного советского борца.Но только гораздо позднее, когда в Еремеевку вернулся один из тех раненых, что были увезены вместе с Силиным, Павел Иванов, люди узнали о том, как погиб Леонид Андреевич.
Павел Иванов был русским, из Калининской области. Когда раненым он попал в плен под Оржицей и оказался в госпитале у Силина, ему, как и другим, дали украинскую фамилию, и он стал Павлом Иваненко. Это до некоторой степени и спасло ему жизнь.
По словам Иванова, во все время пути, пока раненых везли в районный центр Градижск, а оттуда в Кременчугский лагерь, Силин уже не заботился о себе, не сомневаясь в том, какая участь ему уготована, но старался придумать что-нибудь для спасения своих товарищей. На одном из перегонов они оказались в санях вместе, и Силин шепотом давал Иванову последние инструкции.
— Имей в виду, ты можешь спастись, — сказал он — Ты записан в списках как Иваненко, и в лагере, вероятно, не будут знать, что ты бывший солдат. Поэтому говори все время, что ты житель Еремеевки, никогда не служил в армии, а только выпекал хлеб для раненых в госпитале. Если будешь твердо стоять на своем, может быть, тебе удастся спастись.
В Кременчугском лагере Силина отделили от остальных пленных и увели куда-то. Иванов увидел его уже спустя несколько дней, когда восемнадцать человек из еремеевского госпиталя были выведены на расстрел. Их поставили в ряд у кирпичной стены, около глубокой ямы, и потом откуда-то привели Силина с непокрытой головой и со следами побоев на лице. Но держался он с достоинством, гордо и независимо. Немецкий офицер, руководивший казнью, почему-то приказал каждому из приговоренных перед расстрелом назвать свою фамилию, национальность, место рождения, местожительство и военное звание. Иванов ответил все точно так, как учил его Силин. Тогда офицер, немного подумав, приказал ему выйти из строя и стать в стороне. Когда очередь дошла до Силина, Леонид Андреевич в ответ на вопрос офицера только резко дернул головой и сквозь зубы презрительно бросил: «Продолжайте дальше!» Он не пожелал разговаривать со своими палачами.
На глазах у Иванова всем приговоренным приказали раздеться, заставили их спуститься в яму и там перестреляли из автоматов. А потом его отправили в барак и, видимо, на время забыли о нем. Он вскоре заболел тифом и, когда выздоровел, был, как местный житель, отпущен назад в Еремеевку. Уже умирая, Силин своим советом все-таки спас жизнь этому человеку.
И хотя Леонида Андреевича уже не было в госпитале и в селе и даже не было в живых, но он словно и после смерти продолжал влиять на своих друзей, воспитывать их волю, подсказывать им смелые и решительные поступки. В ночь на Первое мая оставшиеся в госпитале раненые внезапно обезоружили и связали полицейских, которые охраняли их, и совершили побег. Часть из них была потом поймана и казнена, но многим удалось скрыться в Еремеевке или в соседних селах. После этого немцы окончательно расформировали госпиталь и оставшихся раненых, врачей и медсестер отправили в лагеря.
Едва не погиб в эти дни доктор Михаил Добровольский. Полицай Пилипенко, заменивший в селе Атамася, которого отправили учиться на курсы следователей, обвинил его в организации побега. Он избил врача, вымогая у него признание, а потом заставил раздеться, поставил лицом к стене и стрелял в кирпичи над его головой. Но расстрелять Добровольского без немцев он все-таки не решился. А когда на другой день в село приехал немецкий следователь, Добровольский показал ему ту бумажку, которую в свое время добыл для него Леонид Андреевич Силин, — благодарность немецкого командования за успешную операцию, спасшую жизнь эсэсовца в Крестителеве. Документ произвел впечатление, и следователь ударил Пилипенко за его самоуправство и велел немедленно освободить врача из-под стражи. Так и после смерти Силин продолжал спасать своих друзей.
Дело, начатое Леонидом Андреевичем Силиным в селе, тоже продолжалось. По-прежнему бывший раненый Алексей Аржанов, устроившийся жить в Еремеевке, слушал радио и распространял сводки Совинформбюро. Вместе с другими подпольщиками — Андреем Россиевым, Шарым и с бежавшим из плена командиром Сергеем Полищуком они в 1943 году организовали небольшой партизанский отряд, базой которого был заросший лесом остров Желтая Коса, лежавший на Днепре почти против Еремеевки. Командовать этим отрядом стал Сергей Полищук, и партизаны атаковывали обозы немцев на дорогах, выводили из строя телефонную и телеграфную связь врага, устраивали всевозможные диверсии. Напрасно старался выследить партизан Иван Атамась, сделавшийся к этому времени следователем районной полиции, напрасно охотились за ними еремеевские полицаи — отряд Полищука действовал до тех пор, пока в эти места осенью 1943 года не пришла Советская Армия.
Атамасю не удалось бежать со своими хозяевами — он был пойман и привезен в Еремеевку. Там его судил военный трибунал. Именами его многочисленных жертв, и прежде всего именем Леонида Андреевича Силина, обвиняли Дракона в его преступлениях еремеевские колхозники. И как предсказывал Силин, Атамась получил по заслугам — по приговору трибунала он был повешен.
Медицинская сестра Оксана Романченко бережно хранила у себя маленькую записку, присланную ей Силиным из лагеря. Как только Полтавщина была освобождена и в Еремеевку пришли наши войска, она отправила письмо Силина в Москву по адресу, который он ей оставил. Перед этим она сняла для себя копию с этой волнующей записки.
Четырнадцать лет спустя, в 1957 году, Романченко вместе со своим рассказом о госпитале в Еремеевке прислала мне и копию с прощальной записки Силина. К сожалению, Оксана Трофимовна уже не помнила адреса его семьи, по которому когда-то отослала оригинал, и, таким образом, я не мог сразу же отыскать родных Леонида Андреевича.
Как уже говорилось, я включил ее рассказ в одно из своих выступлений по радио и в заключение прочитал слушателям последнее письмо Силина. А на другой день в московскую радиостудию пришла взволнованная, плачущая женщина. Это была вдова Силина Анна Леоновна. Оказалось, что накануне один из ее сыновей случайно включил радиоприемник и семья вдруг услышала адресованные ей фразы из последнего письма их отца и мужа, словно спустя восемнадцать лет долетел до них живой голос Леонида Андреевича.
Так я встретился с семьей героя. Вскоре я побывал в маленькой комнатке на Хорошевском шоссе, которую занимали Анна Леоновна и ее сыновья Леонид и Геннадий. Здесь я впервые увидел фотографию Леонида Андреевича Силина и услышал рассказ о том, как все эти послевоенные годы жила его семья. Анна Леоновна заведовала буфетом в одном из московских театров, и, как ни трудно порой приходилось ей, матери-одиночке, она сумела вырастить обоих сыновей достойными, честными людьми и дать им образование — когда я встретился с ними впервые, оба мальчика уже были студентами. Они жили дружно и хорошо, но каждый раз, как наступал трудный момент в жизни этой маленькой семьи, Анна Леоновна доставала бережно хранимые два документа, написанные рукой ее мужа, и читала их вслух сыновьям. Одним из этих документов была та самая записка, набросанная второпях карандашом, которую Леонид Андреевич написал перед расстрелом и которая затем была переслана его семье Оксаной Романченко. Но хранился в семье и другой замечательный документ. О существовании его я до этого времени ничего не знал.
Оказалось, что задолго до того, как Силины получили из Еремеевки последнюю записку их отца и мужа, в адрес семьи еще в конце 1941 года пришел большой пакет, надписанный рукой Леонида Андреевича. Письмо было адресовано всем троим: «Анне Леоновне Силиной, Леониду Леонидовичу Силину и Геннадию Леонидовичу Силину». Внизу стояла приписка: «Вскрыть после получения извещения из штаба части о смерти Л. А. Силина». На обратной стороне конверта была надпись: «Военной цензуре: после проверки тщательно заклеить».
Строго выполняя наказ, семья в продолжение двух лет хранила пакет нераспечатанным, надеясь, что им не придется вскрывать его вообще и что после войны Леонид Андреевич вернется живым и здоровым. Лишь когда в конце 1943 года пришло письмо Оксаны Романченко, а за ним и свидетельства других товарищей Силина, когда уже не осталось никаких сомнений в том, что Леонид Андреевич погиб, Анна Леоновна и ее сыновья, собравшись вместе, с волнением распечатали этот пакет. В нем находилось большое письмо-завещание Силина, адресованное его семье, документ большой человеческой силы, который я привожу ниже с незначительными и несущественными сокращениями:
«Здравствуйте, мои родные!
Здравствуйте, хотя, когда вы будете читать это мое письмо, меня не будет в живых.
Но и через смерть, через небытие я обнимаю вас, мои родные, я целую вас, и не как привидение, а как живой и родной вам папка.
Мальчики и Аня! Не думайте, что я ушел на эту страшную войну из-за желания „блеснуть“ своей храбростью.
Я знал, что иду на почти верную смерть.
Больше всего я люблю жизнь, но больше жизни любил я вас, Аня и мальчики.
И, зная, какой ужас, какие издевательства ждут вас, если победит Гитлер, зная, как будут мучить вас, как будут издеваться над вашей матерью, зная, как высохнет ваша мать, а вы превратитесь в маленьких скелетиков я, любя вас, должен уйти от вас, желая быть с вами должен уйти на войну.
Я иду на войну, то есть на смерть, во имя вашей жизни.
Это совсем не прекрасные слова. Для меня сейчас это слова, облеченные в плоть и кровь, в мою кровь.
Аннушка, родная! Знаю, что тебе будет тяжелее всех. Знаю. Но за то, чтобы ты была в безопасности, я иду в огонь…
Мне нечего больше к этому прибавить. Скажу лишь, что нет в мире человека, которого бы я так любил и которого бы мне было так тяжело оставлять навсегда, оставлять одинокой, как тебя, любимая!
Леня! Мой старший сын и заместитель!
Тебя зовут Леня, как и меня. Значит, ты — это я, когда меня уже не будет.
Наша славная, добрая мамка, так много она в жизни страдала, так мечтала о хорошей спокойной жизни, но ей это было не суждено со мною. Пусть же ты дашь ей счастье.
Пусть в тебе она видит лучшего своего друга и помощника. Я знаю: тяжело детям расти без отца, особенно мальчикам. Но ведь я умер ради того, чтобы вы, мои мальчики, росли — тяжело ли, легко ли, но росли, — а не погибли под германскими бомбами.
Я умер, как подобает умирать мужчине, защищая своих детей, свою жену, свой дом, свою землю.
Живи же и ты, как жил и умер твой отец.
Помни, я никогда не брал чужого. Я уважал свой и чужой труд. Я понимал, что чужая вещь — это результат чужого тяжелого труда. Быть вором стыдно, страшно и позорно.
Нет ничего страшнее, чем заслужить название преступника.
Я бы встал из могилы, проклял бы тебя и задушил бы своими собственными руками, если бы ты оказался преступником.
Помни, ты оскорбляешь память своего отца и убиваешь свою мать, если совершишь преступление — украдешь, ограбишь.
Помни, как противно смотреть на пьяную свинью, лежащую под забором. Никогда — спроси маму, она все знает, — я никогда не был пьяным. Не пей и не хулигань. Я никогда не делал этого. Запомни!
Помни еще: мама — мой лучший друг, ближе мамы у меня никого не было. Поэтому мама знает, что хорошо и что плохо, что я делал и чего я не делал, за что я похвалил бы, а за что и поругал.
Всегда, во всем советуйся со своей мамой, не скрывай от нее ничего, делись с ней всем, всем.
Это ничего, что мама женщина, она особенная женщина, она наша мама, наша любимая, умная мамочка. Она все поймет.
Эх, Леня! Многое мне нужно тебе сказать, да всего не скажешь, да и многого ты не поймешь!
У меня есть много, много о чем рассказать тебе в жизни, но обо всем расскажет тебе мать.
Мои к тебе последние слова: помни маму, заботься о маме, всю жизнь заботься, Леня Силин. Люби и слушай всегда во всем свою маму.
Леня Силин, мой заместитель и старший сын, прощай, сынка, и не забывай!
Геня! Мой младший сын и помощник!
Я тебя оставляю совсем маленького. Ты даже не запомнишь лица и голоса твоего отца. Но твой старший брат — мой старший сын и заместитель Леня Силин тебе расскажет, как жил твой отец, как он вас любил, он расскажет тебе про твоего папку. Наша мама тебе расскажет, как жил, работал и боролся за лучшую жизнь твой отец.
Все, что я написал твоему старшему брату, относится и к тебе. Слушай Леню Силина и маму, и тогда, я верю, ты будешь хорошим, смелым и честным человеком.
Мальчики Леня и Геня!
Учитесь хорошо, изучите тщательно немецкий язык, немецкую культуру, немецкие науки. И все это вы должны употребить на гибель и уничтожение немецкого фашизма.
Старайтесь перенять у немцев их самое грозное и страшное оружие организованность и четкость.
И когда почувствуете себя сильными, пустите все это в ход против фашистов. Помните, сыновья мои, пока существует фашистская Германия как государство, пока существует хотя бы один вооруженный фашист, пока бесконтрольно работает хотя бы одна немецкая лаборатория или завод, до тех пор Европе, миру, человечеству, и вам лично, и вашей маме, вашим женам и детям грозит смертельная, страшная опасность.
Помните, фашизм вообще, а германский в особенности, — это смертельная, кошмарная проказа, коричневая чума, которая грозит всему человечеству…
Пусть же кровь вашего отца, пусть же пепел вашего отца стучит в ваши маленькие сердца, мои мальчики, и пусть последний вооруженный фашист почувствует вашу страшную месть!
Мальчики и Аня! Главное без меня — спокойная и внимательно-четкая организация жизни и поступков.
Нас, и меня в частности, погубили зазнайско-болтливая система „на авось“, скверная организация и неспособность некоторых командиров, плохо знающих технику и недооценивавших врага.
Я верю, что враг будет разбит и что победа будет за нами. Если же нет уничтожайте врага, где и как сможете.
Мальчики, слушайте нашу милую, любимую, родную мамочку, она мой самый родной, близкий и любимый друг.
Аннушка, родная, прощай!
Любимая, солнышко мое! Вырасти мне сыновей таких, чтобы я даже в небытии ими гордился и радовался на крепких, смелых и жизнерадостных моих мальчиков, мстителей с врагами и ласково-добрых к людям.
Будьте вы счастливы, здоровы и живы!
Прощайте, целую и обнимаю в последний раз. Тебя, Генечка, тебя, Леньча. Тебя, Анночка. Прощайте! Ваш отец. Всегда ваш Леня Силин-старший.
30 августа 1941 года».
И как трагическое заключение этого письма-завещания звучала последняя прощальная записка Силина, те самая записка, которую переслала семье Оксана Романченко:
«Дорогие, родные мои, жена Анна и мальчики Леня и Геннадий!
Я вас целую и обнимаю в последний раз. Сегодня я буду расстрелян немецким командованием. Мальчики! Вырастите и страшно отомстите всем фашистам за меня. Я целую вас и завещаю вам священную ненависть к проклятому и подлому врагу, бороться с ним до последнего фашиста. Я честно жил, честно боролся и честно умер. Я умираю за Родину, за нашу партию, за великий русский, украинский, белорусский и другие народы нашей Родины, за вас! Любите Родину, как я ее любил, боритесь за нее, как я, а если понадобится умрите, как я. Мальчики! Любите, уважайте и слушайте вашу мать, ей будет так тяжело вас воспитывать, но Родина и товарищи, которых я спас, вас не оставят. Помните, у каждого бойца должен быть один лозунг: погибаю, но не сдаюсь. Я не сдавался, я был контужен, не мог ходить, без оружия и не был вправе бросать своих тяжело раненных бойцов. Из плена я им создал советскую колонию и многим спас жизнь. Оставаясь с ними до последней минуты, я принес пользу Родине. Время не ждет. Родные мои, будьте честными советскими людьми, вырастите большевиками! Анна, прощай! Леня и Геннадий, прощайте! Да здравствует Родина! Целую! Ваш муж и отец».
Я думаю, оба эти документа говорят сами за себя и не нуждаются ни в каких комментариях.
Несколько раз спешные дела мешали мне совершить давно задуманную поездку в село Еремеевку, на место действия рассказанной выше истории. Однако в конце концов я получил оттуда известия, которые заставили меня ускорить выезд. Дело в том, что старой Еремеевке суждено было вскоре исчезнуть. Шло строительство мощной Кременчугской ГЭС на Днепре, и в 1960 году должно было начаться заполнение нового, Кременчугского моря. Еремеевка была одним из тех сел, которому предстояло оказаться на дне этого будущего моря.
Я приехал в село летом 1959 года. Еремеевка еще находилась на прежнем месте, но с каждым днем все больше редели ее густые сады, вырубаемые в связи с затоплением, были разобраны многие старые хаты, и подводы с домашним скарбом колхозников, переезжающих на новое место жительства, то и дело тянулись к окраине села. К счастью, оставались пока нетронутыми каменное здание школы, где помещался в 1941 и 1942 годах госпиталь Силина, дом бывшей сельской управы и еще жили на старых местах, в своих прежних хатах некоторые участники интересующих меня событий. Я встретился здесь с Марией Рубачевой, с бывшим кооператором Иваном Кузьменко, с колхозником Павлом Ивановым, тем самым, что когда-то оказался очевидцем расстрела Силина в Кременчугском лагере, и, наконец, с бывшим сельским старостой, другом и помощником Силина Иваном Константиновичем Калашником. Судьба этого человека сложилась драматически — он испытал на себе ту политику, которую после войны проводили враг народа Берия и его приспешники. И. К. Калашник был несправедливо обвинен в пособничестве врагу и несколько лет отбывал незаслуженное наказание. Он вернулся в село лишь незадолго до моего приезда туда.
Но, пожалуй, самой интересной для меня была неожиданная встреча с бывшим главным врачом госпиталя Михаилом Александровичем Добровольским, который тоже оказался в Еремеевке. Старому врачу, столько испытавшему в годы оккупации, довелось пережить еще одну большую личную трагедию — он узнал, что вся его семья, остававшаяся в Одессе, была расстреляна гитлеровцами. После войны он уехал в Одесскую область и несколько лет работал там в медицинских учреждениях. Но его все время тянуло сюда, в Еремеевку, на место памятных ему событий, и в конце концов он вернулся в это ставшее ему родным село и поступил работать в местную больницу. Я записал подробно его воспоминания, записал рассказы других участников событий, мы вместе с ними ходили по селу, и они показывали мне все, что было связано с историей госпиталя Силина.
А потом я побывал и там, где рождалась будущая Еремеевка. К западу от села местность резко поднимается, словно крутым уступом, и вот на гребне этих высот, куда не достигнут волны Кременчугского моря, возникал новый поселок. Вдоль дороги ровным рядом стояли удобные, добротные дома с широкими окнами, дома, в которые с удовольствием переезжали из своих старых и подслеповатых хатенок еремеевские колхозники. Уже стояла водонапорная башня, строилось здание больницы, поднимались стены будущего сельского клуба. Только в отличие от старого села новая Еремеевка еще не была укутана в зелень садов и стояла на открытом, голом месте. Впрочем, это не омрачало радости новоселов — они уверенно говорили, что за пять-шесть лет разведут здесь такие же сады и Еремеевка снова станет зеленой и тенистой.
И я, бродя по этому новому селу и представляя, каким оно станет через несколько лет, думал о том, что в его жизнь должен обязательно войти подвиг, совершенный здесь советскими людьми в 1941–1942 годах. Лишь теперь, спустя много лет, этот подвиг становится широко известным нашему народу, и нет сомнения, что он будет достойно отмечен. И, вероятно, еремеевским колхозникам, областным организациям Полтавщины и правительству Украины стоит подумать над тем, как увековечить его. Почему бы, скажем, Еремеевке не переменить свое имя и не называться отныне село Силино? Почему бы не поставить в центре этого нового села на постаменте бронзовую фигуру Леонида Андреевича Силина со связанными впереди руками, каким он стоял на школьном крыльце, обращаясь в последний раз к народу со своей памятной речью? Почему бы, наконец, пионерам и комсомольцам новой Еремеевской школы не создать у себя небольшой музей, посвященный этой славной странице в биографии их села? Пусть будущие поколения жителей села всегда гордятся подвигом Силина и его товарищей и на примере их воспитывают свою молодежь такими же верными сынами и дочерьми Родины, какими были эти люди.
Весной 1962 года я подробно рассказал о госпитале в Еремеевке и подвиге Леонида Андреевича Силина в нескольких выступлениях по Московскому телевидению. В последней передаче, посвященной этой истории, со мной вместе выступили перед телезрителями жена Силина Анна Леоновна и его сыновья Леонид и Геннадий. Эта передача вызвала многочисленные отклики — сотни людей прислали свои письма в адрес телестудии, выражая восхищение подвигом героя, посылая слова сочувствия и привета его семье. Московский Совет депутатов трудящихся и Краснопресненский райсовет, узнав, что семья Силина нуждается в жилплощади, предоставили новую квартиру его жене Анне Леоновне и младшему сыну Геннадию, в то время еще студенту одного из московских технических вузов. Новую квартиру получил и старший сын, который к этому времени обзавелся своей собственной семьей.
Двадцать лет тому назад московский юрист Леонид Силин назвался доктором Леонидом Силиным и организовал госпиталь в тылу врага. Это была благородная ложь — она помогла спасти сотни жизней раненых советских воинов, попавших в гитлеровский плен.
Но теперь на земле есть настоящий доктор Леонид Силин. Это старший сын героя — Леонид Леонидович, окончивший Московский медицинский институт и сейчас работающий над своей будущей кандидатской диссертацией. История госпиталя в Еремеевке подсказала ему выбор своей профессии. Его младший брат недавно стал инженером, и оба молодых Силина, только вступающие на самостоятельный жизненный путь, всегда имеют перед собою великолепный пример в жизни и труде — светлый образ своего героически погибшего отца.
Подземная крепость
Шел декабрь 1943 года. Впервые после того, как полтора года тому назад пал геройски сражавшийся Севастополь, советские войска вступили снова на крымскую землю. Части нашей Приморской армии форсировали Керченский пролив из района Тамани на Кавказе и высадились на крымском берегу. Расширяя отвоеванный плацдарм, они освободили Керчь и в нескольких километрах к западу от города вступили в небольшой разрушенный поселок Аджимушкай. Там, на окраине селения, бойцы обнаружили полузаваленные входы в подземелья, которые на штабных картах назывались Аджимушкайскими каменоломнями.
Здесь, под землею, в толще мощного каменного массива, на котором стоял поселок Аджимушкай, тянулась разветвленная и многоярусная сеть широких тоннелей и узких боковых коридоров, раскинувшаяся в разные стороны на многие километры вокруг. И как только наши солдаты с фонарями и с факелами в руках осторожно спустились туда, их глазам открылась страшная картина. Эти подземелья хранили в своем мраке следы жестокой и долгой борьбы, происходившей когда-то здесь. По всем тоннелям и коридорам было разбросано всевозможное военное имущество: поржавевшие красноармейские каски, позеленевшие патроны и гильзы, покрытые слоем ржавчины винтовки с разбитыми и сгнившими ложами, фляги, котелки, куски телефонного кабеля, саперный инструмент. Здесь и там на стенах можно было различить выцарапанные или выкопченные надписи, адресованные Родине, родным и близким, и, судя по датам, которые иногда встречались, все они были сделаны летом и осенью 1942 года.
Но самое страшное заключалось в том, что весь этот подземный лабиринт был полон останками погибших здесь людей.
Иногда это была просто груда человеческих костей, иногда — целые скелеты, еще одетые в полусгнившие лохмотья красноармейских гимнастерок. Порой эти скелеты, странно скорченные, свидетельствовали о том, что человек умер мучительной смертью, вероятно — задохнувшись. На других еще сохранились остатки бинтов, и можно было предположить, что эти люди погибли от ран. Рассказывают, что в одном месте наши бойцы увидели прислоненное, к стене древко с уже истлевшим знаменем и около него на полу — скелеты двух часовых. Но самое необыкновенное и трагическое зрелище ожидало их в дальнем отсеке большого тоннеля.
Здесь, судя по всему, находился госпиталь подземного гарнизона. Этот отсек, как и все остальные помещения в подземельях, был вырублен в толще камня-известняка, но, видимо, потому, что воздух здесь был более влажным, на всех оказавшихся тут предметах с течением времени образовался твердый белый осадок извести. В госпитале стояли десятки коек, а на койках и прямо на полу лежало множество странных белых мумий. То были трупы людей, погибших от ран и от голода. Сама природа заключила каждого из мертвецов в своеобразный известковый гроб, подобный саркофагам фараонов древнего Египта.
Твердый белый панцирь, облегавший покойников, еще смутно сохранял форму человеческого тела. В его уже размытом рельефе все же можно было угадать очертания лица — выемки глазных впадин, выступы носа и подбородка, положение рук и ног покойного. И люди, пришедшие сюда, долго стояли молча, ошеломленные и подавленные этим удивительным зрелищем, и невольно старались своим воображением проникнуть в тайну, которую хранили эти подземелья.
Легкий ток воздуха в подземных коридорах иногда шелестел какими-то пожелтевшими бумагами, валявшимися на полу. Когда их поднимали и рассматривали, они оказывались штабными распоряжениями, списками подразделений, приказами по гарнизону. Позже в этих подземельях нашли две убористо исписанные общие тетради. Это были дневники двух участников обороны — политрука морской пехоты Александра Сарикова и пехотинца старшего лейтенанта Андрея Клабукова. И когда наши офицеры в штабе прочли эти документы, впервые стало ясно, какой удивительный подвиг мужества, стойкости, самоотверженности совершили в Аджимушкайских подземельях полтора года тому назад советские люди.
Обе тетради позднее были отправлены в Москву и сейчас, видимо, находятся где-то в архивах, а выдержки из дневника политрука Александра Сарикова печатались в свое время в одном из наших журналов. Тогда же, в 1944 году, кое-что рассказал о героях Аджимушкая в своих статьях писатель Марк Колосов, а наш известный поэт Илья Сельвинский, которому довелось побывать в каменоломнях сразу после их освобождения, посвятил участникам этой подземной обороны большое взволнованное стихотворение.
Но война продолжалась. Советская Армия теснила врага все дальше на запад, развертывались новые сражения, появлялись новые герои, и в кипучей гуще всех этих событий постепенно была забыта оборона Аджимушкайских каменоломен, и забыта на много лет.
В 1958 году после моих выступлений по радио с рассказами о поисках героев Брестской крепости я получил большое письмо из Ташкента от тамошнего жителя Николая Арсеньевича Ефремова. Николай — Ефремов, будучи в 1942 году молодым лейтенантом, попал в Аджимушкайские каменоломни и был участником событий, развернувшихся там. Он провел в подземельях почти пять месяцев, только в октябре 1942 года попал в плен и, таким образом, участвовал в обороне почти до самого конца существования этой подземной крепости. Его интересное письмо я позднее пересказал в одном из своих дальнейших выступлений по Всесоюзному радио. И сразу же начали приходить десятки писем от многих бывших участников Аджимушкайской обороны, которые дополняли Ефремова, присылали свои подробные воспоминания, рассказывая о многих памятных эпизодах этой эпопеи. Сейчас этих писем уже несколько сотен. В моем распоряжении также оказалась копия дневника политрука Александра Сарикова, переданная мне бывшим работником Главного политического управления Советской Армии Н. Д. Кузьминым. Словом, теперь у меня уже собрался довольно обширный материал, который дает возможность более или менее широко воспроизвести картину трагической и славной обороны подземной крепости Аджимушкая. Я попытаюсь нарисовать эту картину, пока хотя бы кратким очерком.
По огромным пространствам нашей страны прокатилась война, неся с собой смерть и разрушения. Но на этих пространствах были такие куски земли, такие города и села, которые с полным правом можно назвать многострадальными, ибо борьба здесь оказалась особенно долгой и жестокой и война принесла сюда особенно сокрушительные бедствия.
Еще ждет своих историков и писателей мученическая эпопея осажденного Ленинграда. А великий город на Волге, где столько времени бушевала самая яростная битва в истории человечества! Спросите воинов Ленинградского фронта, чем был для них «пятачок» у Невской Дубровки! Спросите у тех, кто сражался на Волховском фронте, что такое «Долина смерти» около села Мясной Бор! А разрушенный Севастополь, а разделенный надвое линией фронта Воронеж, а знаменитая «Малая земля» под Новороссийском!
Таким многострадальным стал и примыкающий к Керченскому проливу восточный берег Крыма вместе с городом Керчью. Четыре раза переходили эти места из рук в руки, четырежды эта земля была перепахана снарядами и танковыми гусеницами, засеяна пулями и осколками, и четырежды война собирала здесь свою обильную и страшную жатву.
Осенью 1941 года, развивая наступление на восток, немецкая армия вошла в Крым. Вскоре весь Крымский полуостров, за исключением отчаянно сражавшегося Севастополя, был захвачен врагом. Занята была и Керчь.
Но уже зимой того же года Красная Армия, собравшись с силами, остановила врага и на некоторых участках фронта перешла в контрнаступление. Немцы были разгромлены под Москвой, получили сильные удары под Ростовом и Тихвином, В декабре наши армия и флот, действуя с таманского побережья Кавказа, высадили в Крыму десанты в районе Феодосии и Керчи и, оттеснив врага, создали устойчивый плацдарм на восточном побережье полуострова. Фронт остановился к западу от Керчи, на так называемых Акманайских позициях.
Когда, освободив полуразрушенную Керчь, наши войска вступили в селение Аджимушкай, к ним навстречу из глубины каменоломен вышли вооруженные люди. Это были керченские партизаны. Несколько недель тому назад, лишь только враг пришел сюда, они спустились под землю и все это время жили там, в тоннелях каменоломен, ведя борьбу, устраивая ночные вылазки и диверсии, поддерживая связь с местным населением. Теперь их подземная жизнь кончилась — они дождались прихода своих.
Те, кто бывал в Крыму, вероятно, помнят, что многие постройки там возводятся из особого, пористого известкового камня, который называют ракушечником. Этот ракушечник добывается здесь, на Керченском полуострове. В районе Керчи есть несколько каменоломен — Багеровские, Вергопольские, Булганак и другие. Но самыми большими из всех каменоломен были Аджимушкайские.
Огромный, мощный пласт ракушечника выходит на поверхность земли в окрестностях села Аджимушкай. С незапамятных времен люди брали здесь камень для строительства, выпиливали его прямо из породы большими ровными плитами, проникая при этом все дальше под землю. Так, за долгие-долгие годы образовался здесь многокилометровый и многоэтажный подземный лабиринт, целый город, лежащий на глубине от пяти до двадцати метров от поверхности земли, город с широкими улицами, узкими переулками, тесными коридорами и множеством выходов наружу в разных местах. По одним из этих тоннелей свободно мог проехать грузовик, по другим — лошадь с подводой, а были и такие, где человеку приходилось двигаться согнувшись или даже на четвереньках. Прочность каменного массива давала возможность не ставить искусственных опор, и только в самых широких выработках оставляли столбы того же ракушечника, как бы подпирающие потолок. Грунтовые воды здесь почти повсюду протекают значительно глубже, и опасности обвала практически не было.
Понятно, что Аджимушкайские каменоломни издавна служили для окрестных жителей естественным и надежным укрытием, как только наступали тяжелые, опасные времена. В годы гражданской войны здесь укрывались красные партизаны, ведя борьбу с белогвардейцами, под властью которых был Крым, и, как мы уже говорили, в 1941 году, с началом немецкой оккупации, сюда спустились партизаны Отечественной войны, сделавшие эти подземелья своей главной базой в районе Керчи.
С приходом советских войск Аджимушкайские каменоломни приобрели еще более важное значение. Фронт остановился сравнительно недалеко, и немцы то обстреливали район Керчи из орудий, то подвергали его воздушным бомбежкам. Подземные лабиринты Аджимушкая были превосходным укрытием, и здесь разместили несколько складов продовольствия и военного снаряжения, штабы некоторых соединений, а одно время тут даже находился штаб фронта.
С того момента, как образовался Керченский плацдарм, армия и местное население были полны самых радужных надежд и считали, что эта декабрьская победа была первым шагом к полному изгнанию немцев из Крыма. Все были уверены, что пройдет несколько месяцев, наши войска начнут новое мощное наступление и враг окончательно покатится на запад. Эти надежды, казалось, становились еще более прочными благодаря известиям, которые приходили из Севастополя, — город-герой упорно держался и отбивал один штурм врага за другим.
До конца зимы и весной 1942 года на Керченский плацдарм с таманского берега Кавказа перебрасывались все новые войска, и наше командование разрабатывало планы наступления в Крыму, готовясь нанести противнику следующий удар. Но враг опередил нас.
В конце апреля немцы стянули с других участков фронта в Крым большое количество танков и авиации. В первых числах мая на фронте против наших Акманайских позиций заревели немецкие орудия. Враг нанес внезапный и мощный удар, и, застигнутые врасплох, наши части не устояли.
После нескольких дней упорных боев 8 мая 1942 года фронт оказался прорванным. Безуспешно стараясь остановить врага и закрепиться на промежуточных рубежах, советские войска с боями отходили в сторону Керчи и пролива. Стало ясно, что плацдарм удержать не удастся.
Корабли Черноморского флота и Азовской военной флотилии начали эвакуацию войск с Керченского плацдарма. Были мобилизованы все плавучие средства, и через Керченский пролив день и ночь сновали катера, буксиры с баржами, сейнеры и просто рыбачьи лодки, перевозя защитников Керчи на Большую землю — таманский берег Кавказа. Но условия эвакуации были необычайно тяжелыми — авиация врага непрерывно висела над проливом, штурмуя и засыпая бомбами суда, и немало наших кораблей в эти дни нашли свою гибель на дне моря. А когда немцы подошли ближе к Керчи, под огнем их орудий оказалось все побережье и сам пролив. Как ни героически действовали моряки, перебросившие через пролив уже свыше ста тысяч человек, их усилия оказывались все более бесплодными. Теперь лишь немногим кораблям удавалось подойти к берегу, прорвавшись сквозь огненный заслон врага, под непрерывными бомбежками. А на побережье скапливались все большие массы людей, отступавших сюда из района Керчи в надежде переправиться на кавказский берег.
В майские солнечные дни на берегах Керченского пролива разыгралась одна из самых жестоких трагедий Великой Отечественной войны. Многие тысячи людей — доставленные сюда раненые, бойцы и командиры, отходящие от передовой, местные жители со своими семьями — оказались скученными на узкой прибрежной полосе, гибли под вражескими снарядами и бомбами. Перед ними лежала широкая полоса моря, и лишь вдали, в нескольких километрах к востоку, темнел кавказский берег. Там было желанное спасение, там были свои. Но преодолеть такое расстояние мог только тренированный и сильный пловец.
На берегу кипела лихорадочная работа. Шло в ход все, что могло держаться на воде. Из досок, из бочек сколачивали плоты, надували автомобильные камеры, плыли, держась за какое-нибудь бревно, мастерили себе немудреные поплавки, набивая плащ-палатки соломой. Люди пускались вплавь, идя почти на верную смерть, на любой риск, лишь бы покинуть этот страшный берег смерти и попытаться добраться до своих. Но в Керченском проливе довольно сильное течение — плоты порой прибивало друг к другу, образовывались как бы маленькие островки, которые переставали двигаться и только покачивались на волнах, представляя удобную мишень для немецких орудий. Отдельных пловцов сносило течением в сторону так, что они уже не могли переплыть пролив в его самом узком месте. Многих просто уносило в открытое море.
Люди тонули, гибли в воде под огнем, а с берега пускались вплавь новые сотни и тысячи пловцов. Это были толпы плывущих, а над их головами низко, на бреющем полете, все время носились самолеты с черными крестами на крыльях и расстреливали людей из пулеметов. Вопли и стоны день и ночь стояли над проливом и над берегом, и, как рассказывают очевидцы, синие волны Керченского пролива в эти дни стали красными от людской крови. Лишь немногим удавалось переплыть на кавказский берег, кое-кого успевали подобрать корабли, но большинство погибало в воде или, оставаясь на берегу, попадало в гитлеровский плен.
А пока на побережье происходила эта трагедия, в окрестностях охваченной пламенем, разрушенной Керчи еще сражались наши войска. Самая большая группа, беспрерывно пополняемая отступающими с фронта подразделениями, укрепилась у входа в Аджимушкайские каменоломни, и, когда немцы обошли ее с флангов, она заняла там круговую оборону и продолжала вести бой. Другая группа дралась около Багеровских каменоломен, но ее сопротивление врагу удалось вскоре подавить. Более упорная борьба разыгралась в развалинах металлургического завода имени Войкова, где были окружены разрозненные остатки нескольких наших частей. Они продержались дней пять, а когда сопротивляться дольше стало невмочь, отчаянным ударом прорвали вражеское кольцо и пробились на соединение с гарнизоном Аджимушкайских каменоломен.
На окраине Аджимушкая, у главного входа в каменоломни, шел многодневный и тяжелый бой. Тут была создана довольно прочная оборона. Командовать ею поручили старшему лейтенанту Николаю Белову, опытному боевому офицеру, который, впрочем, до войны был человеком весьма мирной профессии директором одного из птицеводческих совхозов Крыма и теперь на своей гимнастерке постоянно носил как боевую награду Золотую медаль Всесоюзной сельскохозяйственной выставки 1937 года. Местность вокруг входа в каменоломни была выгодной для обороняющихся, и роты старшего лейтенанта Белова в течение нескольких дней уверенно отбивали пулеметным, ружейным огнем и гранатами беспрерывно повторяющиеся атаки врага. Однако долго так продолжаться не могло.
Трагедия, разыгравшаяся на керченском берегу, закончилась уже во второй декаде мая, когда последние группы наших бойцов и командиров, прижатые к берегу моря, были уничтожены или взяты в плен. Противник разгромил группу, сражавшуюся в районе Багеровских каменоломен, прекратилось сопротивление на заводе имени Войкова, и теперь единственным очагом борьбы советских войск остались Аджимушкайские каменоломни.
Сюда, в район Аджимушкая, немцы перебросили освободившиеся после боев части. Засыпаемые минами и снарядами, теснимые танками врага, пехотинцы Белова уже не могли дольше удержаться на поверхности земли. Ряды обороняющихся таяли с каждым часом, и вскоре им пришлось оставить свои позиции и отойти в глубину каменоломен. Так началась оборона подземной крепости Аджимушкай.
В эти дни Аджимушкайские каменоломни превратились в большой и густонаселенный подземный город. Весь этот лабиринт темных тоннелей и коридоров буквально кишел людьми. Сколько было здесь народу — пятнадцать, двадцать, тридцать тысяч? Этого никто не знает, и показания очевидцев расходятся здесь в очень широких пределах. Кого тут только не было — остатки разбитых частей со своими штабами, группы солдат, отбившиеся от подразделений и потерявшие командиров, пехотинцы и моряки, саперы и артиллеристы, медики и интенданты. Но, конечно, главную массу людей составляло гражданское население.
Как только началось наступление немецких войск против Акманайских позиций и противник стал бомбить и обстреливать Керченский плацдарм, тысячи жителей Керчи и окрестных сел бросились искать убежища от немецких бомб и снарядов в спасительные каменоломни. Они приходили туда семьями — женщины, дети, старики, неся с собой чемоданы и узлы со скарбом и со скудным запасом продовольствия. Они пришли сюда на несколько дней, отсидеться до тех пор, пока наши войска отобьют вражеское наступление и они снова смогут вернуться в свои дома. Но эти надежды были обмануты — Керченского плацдарма больше не существовало, враг опять овладел всем побережьем, и над их головами уже ходили немецкие солдаты. Мирные жители оказались запертыми здесь, в темных подземных норах, и судьба их была полна мрачной и трагической неизвестности.
Толпы этих людей, неорганизованные, жадно ловившие отзвуки событий, происходивших наверху, легко подверженные панике, находились в постоянном движении внутри подземного лабиринта. Они все время переходили с места на место, отыскивая родных и знакомых, снова теряя их в темноте, стараясь быть поближе к командирам, ища более безопасного убежища. Время от времени среди них с быстротой молнии, передаваемые из уст в уста, разносились какие-нибудь тревожные слухи, и тогда в подземельях поднималась паника. Матери подхватывали своих детей и узлы со скарбом и бросались бежать куда-то в темноту, сталкиваясь друг с другом, повсюду слышался детский плач, женские крики, и военным с большим трудом удавалось наводить порядок и успокаивать эту мечущуюся толпу. И можно себе представить, с какими невероятными трудностями встретились командиры, взявшие в эти дни на свои плечи нелегкое бремя организации жизни и обороны подземного города. У них не было даже плана расположения каменоломен, они не могли учесть всех людей и наладить снабжение необходимым питанием и водой этой текучей, подвижной толпы, непрерывно перемещавшейся по темным лабиринтам.
И все-таки они сделали все, что можно. Уже в начале боев старшие командиры, оказавшиеся в подземельях, создали штаб обороны каменоломен. Командование гарнизоном Аджимушкая принял на себя полковник Павел Максимович Ягунов. Это был участник гражданской войны, кадровый офицер Красной Армии, который в 1941 году занимал должность начальника Бакинского пехотного училища, а позднее сражался на фронте и командовал одной из стрелковых дивизий, находившейся на Керченском плацдарме. Сорокалетний батальонный комиссар Иван Павлович Парахин, опытный политработник, стал его заместителем по политической части, капитан Левицкий — начальником штаба, интендант Желтовский — начальником снабжения. Боевые батальоны этого «полка обороны Аджимушкайских каменоломен», как впоследствии стал называться гарнизон, возглавили танкист полковник Григорий Бурмин, пехотинец полковник Федор Верушкин и бывший командир подразделения морской пехоты капитан Аркадий Панов. Каждому из батальонов было поручено оборонять определенный участок каменоломен, у всех выходов наружу и у специально пробитых амбразур постоянно дежурили наблюдатели, пулеметчики и меткие стрелки, зорко подстерегавшие каждое движение врага и своим огнем заставлявшие его держаться на почтительном расстоянии. Время от времени гарнизон делал ночные вылазки и в рукопашных боях наносил противнику немалый урон.
В первые дни удавалось более или менее удовлетворительно решать и проблемы снабжения подземного гарнизона. В каменоломнях находились продуктовые склады с достаточным запасом продовольствия. Здесь, под землей, оказалось также несколько десятков лошадей. Их пришлось забить, и мясо поступило на кухни, организованные интендантом Желтовским, так что на некоторое время защитники каменоломен были обеспечены горячей пищей — супом из конины.
Однако беда была в том, что снабжать предстояло не только бойцов и командиров. Остались без пищи тысячи женщин, детей и стариков, у которых кончились их небогатые запасы. Надо было организовать питание и для них. И, конечно, на такую массу людей не могло хватить надолго никаких запасов. Содержимое продовольственных складов быстро таяло, и командиры обеспокоенно думали о том, что произойдет в близком будущем.
Тяжелой проблемой стало и добывание воды. Дело в том, что в этих подземельях не оказалось колодца и единственным источником водоснабжения был большой резиновый резервуар, врытый в землю в одном из тоннелей. Для многотысячного населения этого подземного города такого резервуара, даже при самом скудном водяном пайке, могло хватить очень ненадолго, и запас воды приходилось непрерывно пополнять. А колодец был только один, и он находился снаружи, в нескольких десятках метров от главного входа в каменоломни. С тех пор как гарнизон был оттеснен под землю, колодец остался как бы на ничейной земле. Он обстреливался с той и с другой сторон, и днем к нему не могли подойти ни немцы, ни наши. Зато ночью удавалось набирать вдоволь воды. В первые дни за водой ходили все, кто хотел, поэтому у колодца нередко возникала давка, поднимался шум, и тогда противник освещал окрестности ракетами и открывал пулеметный огонь. Чтобы избежать ненужных потерь, штаб обороны запретил ходить за водой и были созданы специальные команды водоносов. Ночью они пробирались к колодцу и, соблюдая тишину, организованно и быстро добывали воду, вновь наполняя резиновый резервуар и всевозможные сосуды, мобилизованные для этой цели отовсюду, И все же воды не хватало, и на нее был введен самый строгий рацион.
Между тем немцы, загнав гарнизон Аджимушкая под землю, отнюдь не собирались пассивно ждать, пока он прекратит сопротивление. Они стремились скорее покончить с ним и освободить свои войска для операций на других участках фронта. Поэтому противник вскоре перешел к активным действиям.
В начале двадцатых чисел мая в район Аджимушкая были переброшены команды немецких саперов, и сюда же пригнали под конвоем сотни советских военнопленных, захваченных под Керчью. На поверхности земли началась работа, смысл которой сначала был непонятен. Методично, один за другим, немцы стали заваливать камнями или взрывать входы в каменоломни. Возникало предположение, что противник решил преградить доступ воздуха в подземелья, но такая затея казалась слишком наивной. Защитники каменоломен имели возможность пробивать новые и новые отверстия наружу в самых неожиданных для врага местах. Как бы плотно ни завалили немцы входы в каменоломни, все равно подземному гарнизону не грозила опасность задохнуться от недостатка воздуха.
Однако замыслы врага были куда более зловещими. Страшное преступление готовили здесь гитлеровцы, и оно застигло подземный гарнизон врасплох.
В ночь на 25 мая у нескольких оставшихся незасыпанными входов в каменоломни немцы установили какие-то странные машины. С рассветом эти машины были пущены в ход, и тогда по подземным тоннелям и коридорам медленно стал распространяться едкий, пахнущий хлором дым, оставляющий на всем странный желтый осадок. Сначала он растекался легкими струйками по земле, проникая все дальше в глубь подземелий, потом уже клубился плотными желтыми облаками, поднимался выше и выше и заполнял все эти подземелья. И тогда люди, с замиранием сердца наблюдавшие, как прибывает зловещий дым, начали задыхаться. Дым был ядовитым.
То, что произошло в этот день, 25 мая 1942 года, в подземельях Аджимушкая, является одним из самых чудовищных и бесчеловечных злодеяний гитлеровского фашизма. Вооруженные бойцы и командиры, активно сражавшиеся с врагом, составляли едва ли десятую часть всего населения этого подземного города, и жертвой преступления немцев должны были в первую очередь стать тысячи беззащитных женщин, детей и стариков.
Жуткие, душераздирающие сцены разыгрывались в этот день во мраке Аджимушкайских подземелий. Отовсюду неслись вопли ужаса, истерические крики женщин, жалобный плач детей, стоны и хрипенье умирающих от удушья. Тысячные толпы людей, видящих перед собой неизбежную смерть, охваченные безумной паникой, бросив свое имущество, кинулись бежать к выходам из каменоломен. Они метались вслепую во мраке подземелий, наполненных клубами ядовитого дыма, натыкались на стены, сбивали с ног и топтали друг друга. Плотной, сдавленной массой люди скапливались у закупоренных выходов из каменоломен и, задыхаясь, неистово, лихорадочно работали, разбирая завалы, сделанные немцами. А снаружи немецкие солдаты, хохоча и забавляясь, бросали через отверстия в эти толпы новые дымовые шашки и гранаты, которые, разрываясь, убивали и калечили сотни людей. Одни падали здесь, у входа, убитые, задавленные или задушенные, другим удавалось расчистить выход, и они, уже ничего не понимая, в полубезумии выбегали наверх, чтобы только глотнуть немного свежего воздуха, а их тут же хватали немецкие солдаты и уводили в плен.
У военных положение было не лучше. Только немногие из них имели противогазы, и они бросились спасать умирающих раненых, детей, женщин, подтаскивая их к амбразурам или пробивая новые вентиляционные отверстия наружу. Другие старались спастись, дыша через мокрую тряпку, или, найдя на полу тоннеля сырое место, ложились ничком, уткнувшись лицом в грязь и пытаясь дышать сквозь слой влажной земли. Некоторым удалось таким образом спастись. Третьи, не видя выхода, предпочитали покончить с собой, но не сдаваться в плен врагу, и десятки бойцов и командиров приняли смерть от собственной руки.
Вот как описывает тот страшный день очевидец этих событий политрук Александр Сариков в своем дневнике:
«Ночь прошла очень беспокойно… Враг остервенел совершенно. Рвет катакомбы, засыпает проходы, стреляет куда попало из минометов и артиллерии, но нам хоть бы что. Только вот с водой дело ухудшилось совершенно… Хотя бы по сто граммов — жить бы можно, но дети, бедные, плачут, не дают покоя. Да и сами тоже не можем, во рту пересохло, еду без воды не приготовить. Кто чем может, тем и делится. Детей поили из фляг по глотку, давали свои пайки сухарей. В эту ночь мне не пришлось спать. Вместе с комиссаром Верхутиным, комбатом Пановым, начштаба Фоминых дежурили у проходов. Сменившись, несмотря на суету, взрывы, я решил отправиться поспать. Прежде чем заснуть, я всегда вспоминал свою родную станицу…
Вдруг грудь мою что-то так сжало, что дышать совсем нечем. Слышу крики, шум, быстро схватился, но было уже поздно.
Человечество всего земного шара, люди всяких национальностей! Видели ли вы такую зверскую расправу, какую применяют германские фашисты? Нет! Я заявляю ответственно — история нигде не рассказывает нам о подобных извергах. Они дошли до крайности. Они начали давить людей газами! Полны катакомбы отравляющим дымом. Бедные детишки кричали, звали на помощь своих матерей. Но, увы, они лежали мертвыми на земле с разорванными на грудях рубахами, кровь лилась изо рта. Вокруг крики: „Помогите! Спасите!.. Умираем!“
Но за дымом ничего нельзя было разобрать. Я и Коля тоже были без противогазов. Мы вытащили четырех ребят к выходу, но напрасно: они умерли на наших руках. Чувствую, что я уже задыхаюсь, теряю сознание, падаю на землю. Кто-то поднял и потащил к выходу. Пришел в себя. Мне дали противогаз. Теперь быстро к делу — спасать раненых, что были в госпитале.
Ох, нет, не в силах описать эту картину! Пусть вам расскажут толстые каменные стены катакомб, они были свидетелями этой ужасной сцены. Вопли, раздирающие стоны, кто может — идет, кто не может — ползет, кто упал с кровати и только стонет: „Помогите, милые друзья! Умираю, спасите.“
Белокурая женщина лет двадцати четырех лежала вверх лицом на полу, я приподнял ее, но безуспешно. Через пять минут она скончалась. Это врач госпиталя. До последнего своего дыхания она спасала больных, и теперь она, этот дорогой нам человек, удушена. Мир земной, Родина! Мы не забудем зверств людоедов. Живы будем — отомстим за жизнь удушенных газами.
Требуется вода, чтобы смочить марлю и через волглую дышать. Но воды нет ни одной капли. Таскать к отверстию нет смысла, потому что везде бросают шашки и гранаты…
Гады! Душители! За нас отомстят другие!..
Пробираюсь на центральный выход, думаю, что там меньше газов, но это только предположение… утопающий хватается за соломинку. Наоборот, здесь больше отверстий, а поэтому здесь больше пущено газов. Почти у каждого отверстия десять-двадцать человек, которые беспрерывно пускают ядовитые газы — дым. Прошло восемь часов, а он все душит и душит…
Чу! Слышится пение „Интернационала“. Я поспешил туда. Перед моими глазами стояли четыре молодых лейтенанта. Обнявшись, они в последний раз пропели пролетарский гимн. „За Родину! За нашу любимую партию! За нашу победу!“ Прозвучало четыре выстрела. Четыре трупа лежали неподвижно…
Изверг, гитлеровская мразь, посмотри на умирающих детишек, матерей, бойцов, командиров! Они не просят от вас пощады, не становятся на колени перед бандитами, издевающимися над мирными людьми! Гордо умирают они за свою любимую, священную Родину…»
Только к вечеру перестали работать немецкие машины, нагнетавшие дым в каменоломни. Мало-помалу воздух в подземельях очистился, и можно было зажечь факелы. При их свете оставшиеся в живых увидели страшную картину.
Все тоннели и коридоры оказались усеяны трупами задохнувшихся, задавленных, покончивших с собой людей. Этих трупов были тысячи. А другие тысячи людей во время газо-дымовой атаки вырвались наружу и попали в плен. Каменоломни сразу обезлюдели. Здесь осталось теперь около полутора тысяч человек, почти исключительно военных, но зато это были самые крепкие, самые мужественные люди, готовые ко всем испытаниям дальнейшей борьбы, какой бы трудной она ни была.
Как только закончилась газовая атака врага, командиры подземного гарнизона собрались на совещание. Обстановка резко изменилась, и нужно было обсудить и решить множество важных вопросов. И прежде всего предстояло решить главный вопрос — что делать гарнизону дальше.
У защитников каменоломен было два выхода: оставаться на месте и продолжать свою оборону или попытаться ночью внезапным ударом прорвать кольцо врага и затем идти на соединение с партизанами, которые, по имевшимся сведениям, действовали в районе поселка Старый Крым в густых крымских лесах. Эта проблема вызвала самые горячие споры.
Конечно, дальнейшая оборона представляла огромные трудности, и никто не сомневался, что трудности эти будут с каждым днем возрастать. Но и прорыв был делом не менее сложным и казался даже более бесперспективным по своим возможным результатам. В эти дни немцы стянули в район каменоломен много войск. Вероятно, они учитывали, что после газовой атаки гарнизон может предпринять какие-нибудь отчаянные действия, и, должно быть, уже подготовились к ним. Даже при успехе операции бой на прорыв слишком дорого обойдется подземному гарнизону. А затем положение тех, кто прорвется, станет еще более трудным. До лесов Старого Крыма, где действуют партизаны, надо было пройти несколько десятков километров. А местность между Аджимушкаем и Старым Крымом была совершенно открытой, безлесной. Майские ночи коротки, и темнота лишь ненадолго укроет прорвавшихся от глаз противника. С рассветом их неизбежно обнаружат и атакуют немецкие самолеты, наперерез им враг пошлет колонны моторизованной пехоты, танки, и вся оставшаяся группа защитников Аджимушкая будет, без сомнения, уничтожена прежде, чем она достигнет спасительных лесов.
Обороняясь, они могли продержаться в этих подземельях еще более или менее значительное время. Своим огнем из амбразур, ночными вылазками они каждый день наносят урон врагу. Продолжая оборону, они отвлекают на себя войска противника, мешают ему перебросить их на другие участки фронта и, значит, помогают борьбе, которую ведет Красная Армия, выполняют свою боевую задачу. Наконец большинство командиров было уверено в том, что наши части, отброшенные за Керченский пролив на Кавказ, вскоре оправятся, восстановят свои силы и снова высадит десант на крымское побережье. И тогда подземный гарнизон Аджимушкая может сыграть очень важную роль — защитники каменоломен вырвутся наружу и ударят в спину немцам, взаимодействуя с десантниками и обеспечивая успех этой операции.
Словом, обсудив все возможные варианты действий, командиры решили, что гарнизон должен остаться на месте и продолжать борьбу.
Теперь нужно было подумать об организации дальнейшей обороны. Первым делом следовало подготовиться к новым газо-дымовым атакам — с утра немцы могли повторить их. Решили тотчас же начать строить импровизированные газоубежища.
Надо было за ночь сделать множество других неотложных дел. Убрать тысячи трупов, валявшихся в подземельях, — похоронить их или отнести в дальние отсеки тоннелей. Учесть всех людей, оставшихся в живых после первой газовой атаки, и заново распределить их по подразделениям. Взять на строгий учет все запасы продовольствия и подумать о снабжении водой. Выработать строгий порядок жизни и боевых действий этого подземного гарнизона, потому что только такой порядок и железная дисциплина могли помочь защитникам каменоломен преодолеть все невероятные трудности, возникшие перед ними. Все это было подробно обсуждено в ту ночь командирами.
Всю ночь в самых дальних подземельях шло строительство убежищ. Выбранные для них помещения отгораживались стенами, сложенными из камня. Со складов взяли брезенты, в коридорах подбирали брошенные плащ-палатки, одеяла, шинели и из этого сшивали большие, широкие занавесы — их вешали перед входом в убежище, чтобы преградить доступ дыму. Первое самое просторное и самое надежное газоубежище построили для госпиталя, в котором находились десятки раненых и больных. К утру были готовы и несколько других помещений. Теперь с началом газовой атаки весь гарнизон мог укрыться в этих убежищах. Противогазы роздали только командирам и бойцам дежурных подразделений, которые во время газовых атак должны были находиться у входов в подземелье и своим огнем отражать попытки врага проникнуть внутрь.
А пока шло строительство убежищ, другие команды занимались уборкой трупов. На складах под руководством интенданта Желтовского происходил учет всего оставшегося продовольствия. Отправились на вылазку команды водоносов. Несколько командиров инженерных войск бродили по подземельям, составляя их план. Их уверенно водили по этому лабиринту двое — мужчина в штатской одежде и мальчик-подросток.
Это были житель Керчи Николай Семенович Данченко и его четырнадцатилетний сын Коля. Местный уроженец, Николай Семенович к тому же одно время работал в каменоломнях и превосходно знал расположение подземелий. А когда в 1941 году в Керчь пришли немцы, он и Коля вместе с партизанами ушли в каменоломни и провели там несколько недель, до тех пор, пока в декабре сюда не вернулись наши войска. Когда же пришлось уходить во второй раз, Данченко не колебался. На этот раз он привел туда, в каменоломни, не только Колю, но и свою жену с маленькой дочкой. Но накануне, во время газовой атаки, жена Данченко и его дочка вместе с другими женщинами и детьми вышли наверх и были захвачены в плен, а Николай Семенович и Коля решили до конца остаться с защитниками каменоломен. Они оказались очень полезными — первое время служили проводниками по этим подземельям, потом помогли составить план каменоломен и, зная хорошо окрестности, были неоценимыми советчиками, когда планировались ночные вылазки гарнизона. Так и погибли они впоследствии без следа в подземельях, вместе с большинством их защитников.
Наступило утро, и снова заработали нагнетательные машины немцев. Снова заклубился в подземельях удушливый едкий дым, и гарнизон по команде укрылся в своих новых газоубежищах. Люди с волнением ожидали этого испытания — будут ли убежища достаточно надежными, не проникнет ли туда ядовитый дым?
Дым, правда, находил щели и просачивался внутрь, но все же его было немного. Люди кашляли, но кое-как могли дышать. Погибали только те, у кого были слабые легкие. И вскоре гарнизон приспособился к этим ежедневным газо-дымовым атакам противника.
А противник повторял эти газовые атаки с немецкой методичностью изо дня в день на протяжении полутора месяцев. И каждый день немцы действовали строго по расписанию. В один и тот же утренний час запускались в ход нагнетательные машины, и каменоломни заполнялись дымом, концентрация которого все росла. В полдень наступал перерыв на несколько часов — немцы обедали и отдыхали. За эти часы дым улетучивался и снова можно было ходить по подземельям. А потом начинался «вечерний сеанс», продолжавшийся почти до захода солнца. И только ночью гарнизон получал длительную передышку.
Первое время было немало случаев, когда во время этих газовых атак погибали люди, неожиданно застигнутые вдали от убежищ и не имевшие с собой противогазов.
Блуждая в клубах густого дыма, они теряли верное направление и погибали, не успевая добраться до ближайшего газоубежища. Тогда на помощь пришли связисты.
В каменоломнях находились большие склады имущества связи и инженерного оборудования. Здесь хранилось огромное количество телефонного кабеля — может быть, десятки или даже сотни километров. Этот кабель протянули по всем тоннелям и коридорам, и теперь, если человек был внезапно застигнут газовой атакой, он мог, держась за нитку провода, быстро добраться до ближайшего газоубежища.
Этот телефонный кабель сослужил и другую важную службу защитникам каменоломен: он помог решить проблему освещения подземелий.
Вначале в каменоломнях был кое-какой запас бензина, работал движок, и часть тоннелей освещалась даже электрическим светом. Потом запас кончился, движок остановился, и электричество погасло. Было еще небольшое количество керосина и солярки, и это горючее стали использовать для освещения, изготовляя самодельные коптилки и плошки. Потом кончилось и это. Оставался только один древний способ освещения — лучина. На лучины расходовали теперь доски и ящики, хранившиеся на складах.
И вдруг кто-то обнаружил, что если изоляцию телефонного кабеля зажечь, то она горит неярким, дымным пламенем, которого, впрочем, было вполне достаточно для того, чтобы осветить себе путь по подземным коридорам. Связисты тотчас же нарезали табель кусками, и с этих пор каждый из защитников ходил по подземельям, держа в руках такой тусклый факел. Экономить тут не приходилось — кабеля на складах хватило бы даже на целый год подземной обороны. Единственным неудобством оказалось то, что эти факелы слишком сильно коптили, и лица людей теперь всегда были покрыты слоем сажи. Но с этим уж приходилось мириться.
Если проблему освещения удалось решить довольно просто, то хуже обстояло дело с питанием и с водой. Уже давно кончилась конина. Каждый защитник подземелья получал еще ежедневно в своем пайке немного сухарей или муки, но их запасы на складе вскоре должны были иссякнуть. Немногим больше сохранилось комбижира и разных круп. Зато оставалось много сахару и чаю, и этими продуктами гарнизон был обеспечен надолго. Как бы то ни было, и без того скудный паек приходилось все время уменьшать, и командиры с тревогой следили, как тают запасы продуктов на складах.
Но еще хуже обстояло дело с водой. Теперь путь к колодцу, который находился у главного входа в каменоломни, был начисто отрезан. Немцы взяли все подходы к колодцу под круглосуточный пулеметный обстрел и зорко стерегли каждое движение осажденных. Даже ночью пробраться за водой стало невозможно — немцы непрерывно бросали над колодцем осветительные ракеты, здесь было светло как днем, и каждые пять-десять минут заранее наведенные пулеметы простреливали это место длинными очередями. Редкому смельчаку теперь удавалось вернуться оттуда невредимым, и десятки людей заплатили жизнью за попытку достать из колодца воду. В конце концов командование, желая избежать лишних потерь, запретило эти походы за водой.
Тогда саперы предложили другой выход. Надо было рассчитать и пробить наклонною подземную галерею, которая вывела бы из каменоломен прямо в ствол колодца на несколько метров ниже поверхности земли. В этом случае можно было бы набирать воду, не выходя наверх. Предложение было принято, и его тотчас же начали осуществлять. Как ни трудно было прокладывать подземную галерею в сплошной толще камня, саперы работали днем и ночью и постепенно продвигались все дальше и дальше, приближаясь к стволу колодца. Но, видимо, по стуку немцы догадались об этой работе. И тогда они приняли свои контрмеры. Как раз над тем местом, где шли работы, саперы противника выдолбили колодец, заложили туда взрывчатку и произвели взрыв. Почти готовый подземный ход оказался заваленным, и при этом погибла часть работавших здесь бойцов. Работу пришлось прекратить.
А жажда становилась невыносимой. И вскоре был найден другой способ добывания воды.
К сожалению, грунтовые воды в районе Аджимушкая проходят в большинстве случаев глубоко под землей, значительно ниже того уровня, на котором находились каменоломни. Лишь кое-где подземная вода подходит ближе к поверхности земли, и в этих местах на потолке и на стенах тоннелей порой появлялись сырые пятна — сквозь поры известняка вода слегка просачивалась сюда. Было даже одно место, где с потолка медленно, но непрерывно падали капли, и, подставив посуду, удавалось за день набрать два-три полных котелка. В других тоннелях были только влажные пятна, и люди, изнемогающие от жажды, порой прикладывали губы к стене и начинали сосать эту влагу.
Обнаружилось, что таким способом можно не только утолить жажду, но и запасти какое-то количество воды. Была создана специальная команда «сосунов», задачей которых было высасывать грунтовую воду из потолка и стен тоннелей. Способ этот был вскоре усовершенствован. Во влажном потолке или стене проделывалось небольшое отверстие, и туда вмазывалась резиновая трубочка — изоляция от электрического провода. С силой втягивая в себя воздух через эту трубочку, человек всасывал маленький глоток воды, и, как бы ни томила его жажда, он не глотал эти драгоценные капли, а сливал их изо рта во флягу или котелок.
Это была мучительная работа — часами приходилось стоять, запрокинув голову, и все время бороться с искушением проглотить воду. Кроме того, это очень вредно сказывалось на здоровье — вместе с воздухом человек втягивал в себя мельчайшие крошки рассыпчатого камня, они проникали к нему в легкие и вызывали потом долгий и мучительный кашель, а иногда даже тяжелую легочную болезнь.
Конечно, таким образом удавалось добыть сравнительно немного воды, которой, естественно, не могло хватить на весь полуторатысячный гарнизон. По нескольку дней люди не имели во рту ни глотка влаги или получали совсем крошечный водяной паек, которого хватало только на то, чтобы слегка смочить пересохший рот. Но никто не роптал — все знали: вода добывается с неимоверным трудом и главную долю этой высосанной из стен воды отдают в госпиталь, поддерживая жизнь раненых.
Этот подземный госпиталь был предметом главной заботы и гордостью всего гарнизона каменоломен. В необычайно тяжких условиях, почти без медикаментов и бинтов, изнемогая от голода и жажды, в темных, сырых помещениях врачи и медицинские сестры буквально совершали чудеса, самоотверженно ухаживая за ранеными. При тусклом, коптящем свете лучин, на грубо сколоченных столах хирурги ухитрялись делать сложнейшие операции. Здесь не только спасали жизнь людям — десятки раненых бойцов и командиров после пребывания в госпитале снова возвращались в строй и брали в руки оружие, продолжая бороться с врагом.
Одной надеждой жили защитники каменоломен — ожиданием того дня, когда на востоке снова загремят пушки, в Керченском проливе появятся стаи десантных судов и наши войска опять начнут высаживаться на крымском побережье в районе Керчи. Именно этой самой главной задаче будущего была подчинена вся жизнь и борьба подземного гарнизона. В штабе обороны разработали подробнейший план действий, приуроченных к этому желанному моменту. Каждый батальон, каждая рота знали хорошо, что им предстоит делать, когда этот момент наступит. И все ждали его с нетерпением и с замиранием сердца.
И вот, наконец, однажды ночью на востоке действительно раздался гул артиллерии и на керченском побережье стали рваться тяжелые снаряды. Наши крупнокалиберные орудия с таманского берега Кавказа открыли огонь по району Керчи. Мгновенно все каменоломни пришли в движение. В несколько минут подземный полк занял исходные позиции для атаки по составленному заранее расписанию, роты и батальоны сосредоточились у выходов из каменоломен. Люди стояли, сжимая оружие, дрожа от волнения, готовые по первому сигналу ринуться наружу, опрокинуть и смять врага. Но сигнала не последовало; когда наступил рассвет, в проливе не появилось десантных судов, а пушки вскоре прекратили огонь. Это не было десантной операцией — это был обычный обстрел.
Но люди продолжали надеяться терпеливо и упорно. Они были уверены, что десант не заставит себя долго ждать. Эту уверенность еще больше укрепляла в них мужественная борьба севастопольского гарнизона — они знали, что город-герой держится, отражает штурмы врага, и напряженно следили за его сопротивлением.
Они знали это потому, что, будучи почти наглухо отрезанными от внешнего мира, все же оказались связанными с ним одной тоненькой ниточкой — радио. В каменоломнях была своя радиостанция. В первые дни она питалась от движка, а потом, когда кончилось горючее, в ход пошли сухие батареи, небольшой запас которых хранился на складе у связистов. Но этого питания хватило ненадолго батареи вскоре разрядились. И тогда бывшие в составе подземного гарнизона бойцы и командиры войск связи соорудили из того же телефонного кабеля и из других материалов самодельную динамо-машину, точно рассчитав ее на необходимое напряжение. Эту динамо-машину крутили вручную, сменяясь по очереди, в то время как радист принимал сводки Советского Информбюро или передавал радиограммы.
Увы, он только передавал их! С первых же дней обороны командование гарнизона посылало в эфир адресованные на Большую землю зашифрованные радиодонесения или сообщения открытым текстом. Но на все эти призывы никогда не приходило ответа. То ли радиус действия радиостанции был слишком мал, то ли ее волны терялись и ослабевали в многометровой толще камня над головами людей, но Большая земля молчала.
И все-таки радиограммы продолжали передавать каждый день, надеясь, что, быть может, однажды случайно кто-нибудь из радистов на кавказском берегу примет сообщение из Аджимушкая и наше командование узнает о борьбе подземного гарнизона. Рассказывают, что в тот трагический день 25 мая 1942 года, когда немцы предприняли газовую атаку и в подземельях царили ужас и смерть, радист штаба, надев противогаз, непрерывно передавал в эфир одно и то же обращение подземного гарнизона, в котором рассказывалось о страшном преступлении гитлеровцев. Это обращение начиналось словами: «Ко всем народам Советского Союза! Ко всем народам земли!» Но и на это обращение — крик гнева и боли — не последовало никакого ответа. Героический голос аджимушкайцев, раздававшийся там, под крымской землей, не достигал Родины.
Но зато голос Родины, мощный радиоголос Москвы, проникал сюда через все каменные преграды. Радиостанция каменоломен ежедневно принимала из Москвы сводки Советского Информбюро, защитники каменоломен знали о событиях на фронтах и, конечно, с особым волнением ловили все то, что относилось к боям за Севастополь. Подземный гарнизон Аджимушкая чувствовал себя как бы родным боевым братом города-героя и черпал новые силы в его стойкости.
Там, наверху, стояло жаркое, благодатное крымское лето. Сверкало под солнцем, тихо плескалось в берега ласковое Черное море. Кое-где из пробитых наверх амбразур наблюдателям был виден морской берег и бронзовые голые тела немецких солдат, загорающих на солнце. Уже по-летнему темными, густо-зелеными становились окрестные сады, ветер приносил с собой запахи каких-то цветов и свежее соленое дыхание моря.
А тут, под землей, царили вечный мрак, сырость и холод камня. Страшные, похожие на жителей пещерного века, люди бродили по этим подземельям. Они шатались от усталости, голода и жажды, но руки их крепко держали оружие. Они тщательно заботились, чтобы их оружие всегда было в чистоте, хотя сами не мылись и не умывались уже в течение многих недель и ходили грязные, завшивевшие, в рваной, висящей лохмотьями одежде. Исхудавшие, с бледными, землистыми лицами, с пересохшими ртами, с красными, воспаленными от бессонницы и ядовитого дыма глазами, обросшие бородами, закопченные от дымного огня своих факелов, эти люди изменились настолько, что даже близкие друзья теперь могли узнавать друг друга только по голосу. И если бы кто-нибудь мог взглянуть на них со стороны, он, вероятно, подумал бы, что люди, дошедшие до такого состояния, неизбежно должны потерять и свой внутренний человеческий облик.
Но это было совсем не так. Защитники каменоломен все время оставались полноценными советскими людьми, живущими по законам и моральному кодексу нашего общества. И сейчас, когда смотришь на их подземную эпопею через призму двух прошедших десятилетий, невольно кажется, что чем более тяжкими были условия жизни гарнизона, чем более грязными и измученными становились тела и лица людей, тем выше, чище и благороднее выглядело все, что они делали, хотя сами защитники каменоломен вовсе не догадывались об этом.
Они были не только полноценным коллективом советских людей. Они были, как это ни удивительно, вполне организованной и боеспособной советской воинской частью, которая жила почти такой же насыщенной, упорядоченной жизнью, как и любая другая воинская часть на фронте или в тылу нашей страны.
Умные, опытные командиры аджимушкайцев понимали, что в этих тяжких условиях самыми страшными врагами подземного гарнизона будут моральная неустойчивость, недостаток дисциплины и организованности, отсутствие содержательной, целеустремленной жизни. И они сделали все, чтобы их бойцы как можно меньше чувствовали свою оторванность от Родины и от армии. Вся жизнь защитников каменоломен была строго организована и регламентирована.
С утра часть подразделений, снабженных противогазами, уходила нести службу. Бойцы занимали свои места у выходов из каменоломен, в амбразурах и на наблюдательных пунктах. Другие шли выполнять необходимые хозяйственные работы. Остальные роты собирались в газоубежищах на военные занятия.
Прежде всего бойцам читали сводку Советского Информбюро — принятая радистом, она за ночь перепечатывалась в штабе на машинке в достаточном количестве экземпляров и к утру поступала во все подразделения. Затем начиналась военная учеба — командиры изучали с бойцами оружие, тактику, военную технику. Политработники проводили политинформации или читали лекции о международном положении. День проходил в этих занятиях.
А когда наступал вечер, в подземельях начинали работать «клубы». В одном месте звучал баян и люди хором пели любимые песни. В другом — играл патефон и даже шли танцы. В третьем — организовывали вечер самодеятельности, декламировали стихи или, собравшись тесным кружком, при свете лучины читали вслух какую-нибудь книгу. В подразделениях регулярно проходили партсобрания; любой вопрос жизни и быта гарнизона, любое происшествие становились предметом обсуждения коммунистов; и партийная организация защитников каменоломен все время росла — новые и новые командиры и бойцы подавали заявления в партию.
Все это помогало поддерживать в людях бодрость духа, уверенность в победе, и даже в самой страшной обстановке защитники каменоломен не поддавались отчаянию. Вот несколько записей из дневника Александра Сарикова хорошо передающих думы и чувства, которыми были полны бойцы подземной крепости:
«Все то, что в возможностях человеческого ума и физически выполнимо, применяется, — пишет он в одном месте. — Как ни страшно, а порой жутко, борьба за жизнь идет своим чередом. И чувствуются дух борьбы и уверенность в своих силах, надежда, что все будет пережито; каждый из нас живет тем, что настанет час и мы выйдем на поверхность для расплаты с врагом».
«Все было очень трудно, и были люди, которые отчаивались совсем, приходилось уговаривать их: раньше смерти не кладите себя в гроб. Я не забуду знаменитых слов знаменитого русского писателя Николая Островского. Он тоже хотел покончить с собой, но после писал: „Покончить с собой сможет каждый и любой, а вот в таких условиях сохранить свою жизнь и дать пользу государству — это, пожалуй, будет целесообразней…“ И такой задачей в таких трудных условиях должен заниматься каждый из нас».
«…Делать нечего, ведь большевики не хнычут и жизнь свою так просто не отдадут… Мы здесь тоже должны хранить свою жизнь и готовиться в любую минуту по приказу выйти на поверхность… Безусловно, стало трудно, но что сделаешь, кому скажешь? Люди изолированы от мира, зарыты на несколько метров в землю и живут, как хорьки, но дух большевизма не дает им унывать».
Но главным, что помогало людям жить и переносить все испытания, была их повседневная, планомерная борьба с врагом. Подземный гарнизон Аджимушкая выполнял свою боевую задачу так же, как выполняли ее в это время тысячи других частей и подразделений Красной Армии на всем тысячекилометровом протяжении фронта. Он выполнял эту задачу, хотя и не получал приказов свыше и был лишен связи со своим командованием.
Штаб гарнизона по-прежнему прилагал все усилия к тому, чтобы установить связь с Большой землей. Кроме тех призывов, которые ежедневно и безрезультатно передавались по радио, время от времени снаряжались на связь группы разведчиков. Им ставили задачу — пробиться сквозь кольцо осаждавших каменоломни немцев, дойти до партизан, а оттуда перейти через фронт и доложить командованию о борьбе подземного гарнизона. Но разведчики уходили и никогда не возвращались обратно. Видимо, если даже им удавалось добраться до своих, то вернуться назад они уже не могли.
А оборона продолжалась своим чередом. Все так же непрерывно дежурили у амбразур меткие стрелки, и стоило врагу появиться в поле их зрения, он падал, настигнутый пулей. Немецкие солдаты, а потом сменившие их румынские фашисты Антонеску днем всячески избегали показываться в районе каменоломен. Днем и ночью велось неусыпное и зоркое наблюдение за противником. Наблюдательные пункты были хитро замаскированы и устраивались в самых неожиданных для врага местах.
Один из таких наблюдательных пунктов находился долгое время в сарае на окраине деревни Аджимушкай, почти в самом расположении немцев и румын. Как раз под этим сараем, недалеко от поверхности земли, проходил один из подземных тоннелей. По совету своих постоянных «консультантов» Николая Семеновича Данченко и его сына Коли — защитники каменоломен пробили потолок тоннеля именно в этом месте. Отверстие, как и рассчитывал Данченко, вышло прямо в сарай. Дыра в полу была тщательно замаскирована, и с тех пор на чердаке сарая всегда дежурили наблюдатели подземного гарнизона, приносившие очень ценные сведения обо всем, что делается в расположении противника. Но как-то в сарай случайно вошли несколько румынских солдат, и один из них неожиданно провалился в замаскированное отверстие. Так чистая случайность заставила ликвидировать этот наблюдательный пункт.
Постоянное наблюдение за противником давало возможность иногда предугадывать его намерения и, главное, позволяло гарнизону вести активные боевые действия. По данным, которые доставляли наблюдатели, в штабе разрабатывались планы ночных вылазок. Эти вылазки устраивались регулярно и обходились дорого врагу. Глубокой ночью, когда немцы спали, подземный гарнизон неожиданно вырывался наружу и атаковывал врага в его расположении, навязывая ему рукопашный бой. Из этих ночных вылазок защитники каменоломен обычно возвращались в свои подземелья с богатыми трофеями, оружием и продовольствием, захваченным на складах противника, небольшим запасом воды, которую во время боя успевали набрать специальные команды. А случалось, сюда приводили и пленных фашистов. Немцы закладывали минные поля у выходов из подземелий, опутывали весь район каменоломен проволочными заграждениями, но, несмотря на все это, вылазки гарнизона продолжались.
После одной из таких вылазок, особенно удачной, в каменоломнях случилось трагическое происшествие, оборвавшее жизнь командира подземного гарнизона полковника Павла Ягунова. Во время этой вылазки аджимушкайцы взяли много военных трофеев, и все оружие, добытое у гитлеровцев, как обычно, было принесено в штаб. Утром, когда командиры собрались в штабе на совещание, полковник Ягунов, осматривая захваченное оружие, взял в руки одну из немецких гранат с длинной деревянной ручкой. Видимо, граната оказалась неисправной — внезапно произошел взрыв, и полковник Ягунов упал, убитый на месте, а несколько других командиров получили ранения. Это была тяжкая, невосполнимая потеря — полковник Ягунов с первых дней стал душой всей обороны, ее главным организатором и руководителем. С воинскими почестями защитники каменоломен похоронили своего командира в одном из тоннелей, и с этих пор командование обороной принял на себя другой испытанный боевой офицер — полковник танковых войск Григорий Бурмин.
Между тем недобрые вести приходили по радио с Большой земли. Обстановка на фронтах ухудшалась с каждым днем. Немцы, оправившись после зимних поражений и подтянув на советско-германский фронт новые силы, перешли в наступление.
5 июля 1942 года защитники каменоломен узнали о том, что наши войска оставили Севастополь. Это было для них необычайно тяжким ударом. Теперь вся крымская земля находилась в руках врага, и только здесь, в ее темных недрах, горсточка изголодавшихся, измученных, но крепких духом людей продолжала свою отчаянную борьбу.
А потом вести стали еще более тревожными. Немцы развернули мощное наступление в сторону Сталинграда и на Кавказе. Снова был захвачен врагом Ростов-на-Дону, и вскоре гитлеровские войска вышли к кавказскому побережью Керченского пролива и захватили Таманский полуостров. Оба берега оказались в руках противника, и теперь со своих наблюдательных пунктов защитники каменоломен с тоской видели, как в ту и другую стороны через пролив беспрепятственно идут немецкие суда и баржи.
С каждым днем делались все более тяжелыми и условия жизни в каменоломнях. Одно время критическим стало положение с продовольствием. Запасы на складах были исчерпаны. К счастью, защитники каменоломен смогли откопать сохранившийся продуктовый склад, который в первые дни обороны был завален взрывом. Это на время спасло их.
Мучительнее всего была жажда, и положение с водой не облегчалось. В одном из самых глубоких тоннелей уже давно начали рыть подземный колодец, и работа эта велась ежедневно, но все понимали, что она займет слишком много времени. Грунтовые воды здесь залегли глубоко, и к ним надо было пробиваться через многометровую толщу камня. Как ни самоотверженно работали саперы, никто не надеялся, что до воды удастся добраться скоро.
«..Сколько нужно здесь долбить камни, чтобы достать воду из глубины? записывает в своем дневнике Александр Сариков. — Это очень страшно в наших условиях. Правда, в других условиях это не составило бы для наших людей особого труда, но здесь, когда люди… не видят света, не пьют воды, не дышат свежим воздухом, живут во мраке, сейчас сказать им, что до воды нужно рыть двадцать семь метров вглубь, очень даже страшно».
И вдруг выход был найден. Вспомнили о подземной галерее, которую в свое время пробивали к стволу колодца и которую немцам удалось завалить взрывом. Теперь эту работу можно было довести до конца — немцы уже не охраняли колодца, а забросали его камнями, досками, колесами от повозок и решили, что он будет недосягаем для гарнизона. Вот что записывает в своем дневнике политрук Александр Сариков:
«..Ходил как тень, порой хотелось умереть, прекратить такую муку. Но подумал о доме, захотелось еще раз увидеть свою любимую жену, обнять и поцеловать своих любимых крошек деток, жить с ними вместе. Болезнь усиливается. Силы падают. Температура до сорока шадусов. Зато следующий день принес нам большую радость — вечером в штаб пришел воентехник первого ранга тов. Трубилин Он долго говорил с капитаном, после чего я слышал, как он сказал: „Та, ей-богу же, будет вода!“, но смысла я не понял, что за вода, откуда. Оказывается, этот Трубилин или Трубин взялся за день дорыть подземный ход к наружному колодцу и достать воду, хотя это и требовало большой напряженности в работе. Молодой, энергичный товарищ взялся по-большевистски. Вновь застучали кирки, заработали лопаты. Но никто не верил, что будет вода. Что же получилось с колодцем? Фрицы его сначала забросали досками, колесами с повозок, а сверху большими камнями и песком. В глубине он был свободен, и можно было брать воду. Трубилин уверенно дошел до колодца подземным ходом, в результате упорной работы в течение тридцати шести часов пробил дырку в колодце и обнаружил, что воду брать можно. Тихонько набрал ведро воды и первый выпил со своими рабочими. А потом незаметно принес в штаб нашего батальона. Вода, вода! Стучат кружками, пьют. Я тоже — туда. Капитан подал мне полную кружку холодной чистой воды, шепотом сказал: „Пей, это уже наша вода“. Не знаю, как я ее пил, но мне кажется, что ее каак будто и не было. К утру вода была и в госпитале, где давали уже по двести граммов. Сколько радости! Вода, вода!.. Застучали, зазвенели котлы, каша, каша! Суп! О, сегодня каша, значит будем жить. Сегодня уже имеем в запасе сто тридцать ведер воды… Она, вода, решила вопрос жизни или смерти. Фрицы думали, что колодец забит, и свои посты оттуда сняли, так что с большим шумом брали воду. Но нужно оговориться, что воду брать было очень трудно — по подземному ходу можно идти только на четвереньках…»
Это была последняя запись в дневнике Александра Сарикова. Несколько дней спустя политрук скончался от тяжелой болезни. А еще через несколько дней немцы узнали, что гарнизон пользуется колодцем, и снова забросали его на этот раз тушами убитых лошадей, и пить эту воду уже стало невозможно. Оставалось по-прежнему высасывать влагу из стен в ожидании того момента, пока саперы, работавшие на постройке подземного колодца, дойдут до воды.
Все больше людей умирало от голода и жажды, от ран и болезней. Но и умирая, бойцы подземного гарнизона сохраняли в себе ту же решимость, волю к борьбе и веру в неминуемую победу над врагом. Многие из них оставляли перед смертью прощальные надписи на стенах каменоломен или письма, обращенные к Родине, друзьям и близким, полные веры в торжество своего дела и спокойного, гордого достоинства перед лицом гибели.
Уже в 1944 году, после освобождения Аджимушкая нашими войсками, в одном из подземных коридоров был найден скелет, на котором сохранились остатки командирской гимнастерки. В кармане этой гимнастерки обнаружили партийный билет на имя младшего политрука Степана Титовича Чабаненко. А в партбилете оказалось сложенное вчетверо маленькое, но полное высокого человеческого смысла письмо. Вот что писал накануне своей смерти политрук Степан Чабаненко:
«К большевикам и ко всем народам СССР. Я не большой важности человек. Я только коммунист-большевик и гражданин СССР. И если я умер, так пусть помнят и никогда не забывают наши дети, братья, сестры и родные, что эта смерть была борьбой за коммунизм, за дело рабочих и крестьян. Война жестока и еще не кончилась. А все-таки мы победим!»
Немцы тем временем прилагали все усилия, чтобы скорее покончить с подземным гарнизоном и освободить свои войска. Полтора месяца изо дня в день работали нагнетательные машины, закачивая в каменоломни ядовитый дым, и лишь после того, как враг окончательно убедился, что гарнизон применился к этому и уже не несет потерь, немцы прекратили газо-дымовые атаки. Противник пытался засылать в подземелья своих агентов то под видом бежавшего от них военнопленного, то под маской местного жителя. Эти люди старались посеять неверие и панику среди защитников каменоломен, а иногда и предательски убивали их. Но гарнизон вскоре научился распознавать вражеских лазутчиков, и их быстро вылавливали и уничтожали.
Осаждающие начали применять новые средства борьбы. Однажды защитники каменоломен услышали над своими головами стук ломов и кирок. Немцы явно долбили сверху какой-то колодец, может быть надеясь проникнуть отсюда в подземелья. Но стук этот вскоре затих, и вдруг в этом месте раздался сильный взрыв, который обрушил потолок и стены тоннелей в радиусе нескольких десятков метров. Под обвалом погибла группа бойцов.
Эти взрывы стали повторяться все чаще и чаше. Гитлеровцы выдалбливали в камне глубокие колодцы, закладывали туда десять-пятнадцать тяжелых авиабомб и производили взрыв. Взрывы были такой силы, что даже на окраине Керчи, в нескольких километрах от Аджимушкая, в домах вылетали из окон стекла. А внизу на значительном пространстве обрушивались потолок и стены тоннелей.
Сначала гарнизон нес во время таких обвалов тяжелые потери. Потом был найден способ избегать потерь. Была создана особая команда «слухачей» во главе со старшим лейтенантом Николаем Беловым, тем самым, который когда-то командовал обороной на поверхности у входа в каменоломни. Группы этих «слухачей» непрерывно ходили по тоннелям и коридорам, чутко прислушиваясь к каждому звуку, доносившемуся до них. Как только сверху слышался стук ломов и кирок и становилось ясным, что немцы роют здесь очередной колодец, из ближайших подземелий людей переводили в другие места, и, когда раздавался взрыв, жертв уже не было. Но взрывы продолжались, немцы закладывали все новые и новые колодцы, располагая их в шахматном порядке, и как бы теснили под землей защитников каменоломен.
Борьба не прекращалась. В конце июля или в начале августа саперы, строившие подземный колодец, наконец, добрались до воды. Эта работа, продолжавшаяся много недель, стоила не только сил, но и человеческих жизней. Каждый метр пути сквозь камень приходилось отвоевывать с боем, и в ход пустили взрывчатку, чтобы скорее проникнуть вглубь. Меры безопасности при этом соблюсти было невозможно, и сплошь и рядом саперы производили взрывы, рискуя или даже жертвуя своей жизнью во имя того, чтобы продвинуться еще на один-два метра в глубины неподатливого камня. Зато теперь в каменоломне оказался свой колодец, и смерть от жажды уже не угрожала людям. Это была вода, которую враг уже не мог отнять у подземного гарнизона.
Но другая смерть, смерть от голода, неумолимо надвигалась все ближе. Наступил момент, когда запасы продовольствия оказались исчерпанными. Теперь у защитников каменоломен оставались для питания только чай и сахар, которые, как я говорил, в большом количестве хранились на складах. Люди проявляли чудеса изобретательности, чтобы как-то разнообразить эту пищу. Из чая варили что-то вроде супа, сахар перетапливали на огне. Но все это помогало мало. Начались тяжелые желудочные болезни, и смертность все возрастала.
Иногда группе разведчиков ночью удавалось пробраться сквозь минные поля, сквозь проволочные заграждения немцев, и тогда они возвращались с охапками лебеды и другой травы, которая росла в окрестностях каменоломен. Эту траву ели с жадностью, как какое-то невиданное заморское лакомство. Кто-то вспомнил, что в дальних отсеках тоннелей зарыты ноги лошадей. В первые дни обороны, когда гарнизон еще питался кониной, ноги убитых лошадей с копытами зарывали в землю. И вот сейчас вспомнили об этом. Копыта, конечно, были вырыты, и из них варили некое подобие супа, раздавая это варево бойцам. Потом и копыта кончились. Тогда в пищу пошли крысы. Но крыс в каменоломнях было мало — они не могли жить в этом каменном мешке.
Прошли август, сентябрь. Осень была в разгаре, по ночам становилось холоднее, и вдали глухо гудело штормовое море. Но днем солнце еще грело, и, когда его лучи попадали в пробитую наружу амбразуру, защитники каменоломен, отвыкшие от тепла и света, с наслаждением грелись в этом солнечном лучике, по очереди уступая друг другу место. Днем все так же гремели взрывы, и новые участки подземелий оказывались разрушенными.
Таяли силы подземного гарнизона. Погиб отважный командир «слухачей» старший лейтенант Николай Белов, гибли другие командиры и бойцы. Все чаще люди умирали от голода и от ран, а оставшиеся едва держались на ногах, и уже нельзя было устраивать ночные вылазки, и даже не хватало сил подбирать и хоронить умерших.
То и дело группы защитников каменоломен, отрезанные от своих взрывами, попадали в немецкий плен. Так оказался в плену и лейтенант Николай Ефремов, который много лет спустя первым рассказал мне о борьбе подземного гарнизона. 5 октября 1942 года, после пятимесячного пребывания в каменоломнях, он с несколькими товарищами был оглушен и полузасыпан взрывом, и немцы вытащили его потом из-под обломков.
По свидетельствам жителей Керчи и окрестных сел, борьба аджимушкайского гарнизона продолжалась до конца октября или до первых чисел ноября, то есть в течение шести месяцев. Говорят, что, когда уже стало невмочь оставаться дольше под землей, полковник Бурмин, батальонный комиссар Иван Парахин и другие командиры повели гарнизон в последний бой. Ночью оставшиеся в живых защитники каменоломен вырвались наружу и атаковали врага. Произошел тяжелый бой, в котором большая часть людей пала, а остальные были захвачены в плен. Были пленены и полковник Бурмин и батальонный комиссар Парахин. Позднее Николай Ефремов встречал своих командира и комиссара в немецком лагере для военнопленных в Новоград-Волынском. По другим сведениям, их содержали в Симферопольской тюрьме. На этом их следы теряются. Видимо, полковник Бурмин и батальонный комиссар Парахин погибли там, во вражеском плену.
Так закончила свою удивительную борьбу подземная крепость. Красноречивые следы этой борьбы видели своими глазами наши бойцы и командиры, которые в 1944 году освободили Аджимушкай и первыми спустились в подземелье.
Но, к сожалению, эти следы потом мало-помалу исчезали. Забытыми и заброшенными стояли каменоломни, туда беспрепятственно проникали местные жители, имущество, сохранившееся после обороны, постепенно исчезало, и сейчас немногое осталось там от этого героического времени. Где-то в архивах хранятся найденные в 1944 году документы времен обороны, и мы даже не знаем нынешнего местонахождения интереснейших дневников политрука Александра Сарикова и старшего лейтенанта Андрея Клабукова.
Только в последние годы снова возродился интерес к этой удивительной эпопее. Года три назад Аджимушкайские каменоломни были взяты под охрану государства как исторический памятник. В городе Керчи создан музей, посвященный борьбе подземного гарнизона. Писатели и журналисты заинтересовались этим эпизодом Великой Отечественной войны, и в печати все чаще появляются статьи и заметки об аджимущкайской обороне.
Но героическая борьба подземной крепости еще ждет своих историков и летописцев. И, признаюсь, мне хочется стать одним из них. Я уже в течение нескольких лет собираю материал об этой подземной крепости, переписываюсь с участниками и очевидцами событий и в ближайшее время целиком отдамся изучению ее истории, с тем чтобы написать книжку, которая, как я мечтаю, была бы достойна славных дел, совершенных в дни войны гарнизоном Аджимушкайских каменоломен.
Последний бой смертников
Много веков тому назад человечество создало библейскую легенду о рае и аде. С тех пор люди всегда мечтали о том, чтобы создать рай на земле — о жизни счастливой и беззаботной, без горестей и бед. Но, как известно, эта мечта о земном рае оставалась неосуществимой.
Зато уже в наше время, в XX веке, в годы второй мировой войны, оказалось, что люди способны создать земной ад, причем такой, перед которым бледнеют все ужасы легендарного библейского ада. Этим земным адом в годы второй мировой войны стали гитлеровские лагеря уничтожения, созданные руководителями СС и гестапо и в самой Германии и в других европейских странах, — подлинные фабрики смерти, организованные с немецкой хозяйственной дотошностью, с использованием всех достижений науки и техники и предназначенные для невиданного еще в истории массового убийства людей.
Не только для нас, людей непосредственно переживших войну, у которых еще свежи в памяти все ее события, но и для всех последующих поколений всегда будут звучать как страшные проклятия человеконенавистническому фашизму такие слова, как Освенцим, Майданек, Треблинка, Бухенвальд, Заксенхаузен, Равенсбрюк, многие другие названия гитлеровских лагерей смерти: И среди этих слов, как одно из самых зловещих, звучит слово Маутхаузен.
Километрах в двадцати пяти от австрийского города Линца, там, где широкое шоссе вьется через живописные предгорья Австрийских Альп, в стороне от дороги, стоит на вершине горы большое строение. Издали видно высокую каменную стену, массивные сводчатые ворота и над ними красивые зубчатые башни. И неискушенный путешественник, заметив это строение, подумает, что, вероятно, там находится одна из тех туристских достопримечательностей, которыми так богата Австрия, — какой-нибудь средневековый замок или дворец.
Но если бы в годы войны в 1944 или в начале 1945 — такой неосведомленный путешественник заинтересовался бы этой постройкой и решил познакомиться с ней, свернув на дорогу, ответвляющуюся в сторону горы от основного шоссе, он километра через полтора, подъехав поближе, обнаружил бы тут же свою ошибку и тотчас повернул бы обратно. Он увидел бы, что по гребню стены протянута в несколько рядов колючая проволока, что на площадках красивых зубчатых башен над воротами стоят пулеметы и около них дежурят солдаты в касках и эсэсовских мундирах с черепом и скрещенными костями на рукавах. Он заметил бы над стеной такие же флаги с черепом и костями, и в темном своде над запертыми тяжелыми железными ворогами почудилось бы ему нечто мрачное и зловещее, напоминающее вход в преисподнюю.
Нет, эта постройка не была туристской достопримечательностью, замком древних времен. Это было поистине дьявольское создание архитектуры XX века, одно из самых страшных мест на земле — гитлеровский лагерь уничтожения Маутхаузен.
По показаниям свидетелей на Нюрнбергском процессе, по воспоминаниям бывших узников, по книгам, вышедшим после войны, мы сейчас хорошо знаем историю этого жуткого лагеря, где людей уничтожали с промышленной организованностью, с инженерной изобретательностью, с бесстрастием палачей и с утонченностью садистов. Здесь узников убивали наповал ударом тяжелой дубинки и медленно сводили в могилу ежедневными побоями; здесь их живыми сжигали в крематории и подвергали мучительной смерти в газовых душегубках; здесь над живыми людьми производили бесчеловечные медицинские эксперименты и из татуированной человеческой кожи делали абажуры.
Но мы знаем также, что люди, собранные здесь, в Маутхаузене, со всех стран Европы, вели борьбу против фашизма и в лагере был создан Интернациональный подпольный комитет. Этот комитет вел большую работу среди узников, спасал нередко людей от смерти и медленно, но упорно готовил будущее освобождение. По сигналу Интернационального комитета 5 мая 1945 года, когда американские войска подходили к лагерю, узники Маутхаузена подняли восстание и сами освободили себя из неволи. Они не только овладели лагерем, но и заняли несколько ближайших к Маутхаузену поселков, организовали круговую оборону и отбили все атаки эсэсовцев, стремившихся снова захватить лагерь, чтобы уничтожить находившихся там пленных. И нам известно, что и в составе Интернационального подпольного комитета и в числе главных руководителей этого восстания было немало наших соотечественников, советских людей, томившихся в Маутхаузене и сумевших даже в адовой обстановке этого лагеря уничтожения продолжать борьбу.
Но до последнего времени мало кто знал, что в истории Маутхаузена было одно событие, особенно мрачное и трагическое и вместе с тем полное небывалого человеческого героизма, событие, которое, казалось, навсегда останется легендарным, таинственным, как смутное и стершееся предание, доходящее до людей из глубины древних времен. Это событие, случившееся в первых числах февраля 1945 года, — восстание и массовый побег узников так называемого «блока смерти».
Блок смерти в лагере смерти! Разве не звучит это как нелепый парадокс, как неуместная и кощунственная игра словами? Разве бывает на свете что-нибудь полнее и окончательнее смерти?
Но ведь смерть может быть быстрой и медленной, легкой и мучительной, неизбежной или только возможной, внезапной или изнуряющей человека нестерпимо долгим ожиданием ее. Если для всех узников лагеря Маутхаузена смерть была всегда возможной и в той или иной степени вероятной, то те, кто попадал в блок смерти, знали, что их гибель неизбежна, что она будет особенно долгой, полной страданий и придет к ним, сопровождаемая бесконечным изнурением и изощренным унижением тела и человеческой души. Недаром эсэсовцы издевательски говорили смертникам, что из этого блока можно выйти только через трубу крематория.
Блок смерти был создан уже в последний год существования Маутхаузена. В первой половине 1944 года сотни узников несколько месяцев работали, возводя гранитную стену, отгородившую дальний угол лагерной территории. Эта стена была высотой в три с половиной метра и толщиною в метр. На гребне ее укрепили железные кронштейны, круто загнутые внутрь, и на них с помощью изоляторов была в несколько рядов подвешена колючая проволока, которая всегда находилась под электрическим током высокого напряжения. По углам над стеной поднялись три деревянные вышки, где стояли спаренные пулеметы на турелях, наведенные в центр двора, и сильные прожекторы, с наступлением темноты заливавшие двор ярким светом.
В тесном прямоугольнике, отгороженном этой стеной, оказался всего один барак лагеря, которому был присвоен порядковый номер 20. Поэтому блок смерти иначе еще назывался блоком э 20, или изолирблоком. И в самом деле, он был надежно изолирован от всего окружающего мира и даже от лагеря. С того самого момента, как блок смерти «вступил в эксплуатацию» — с лета 1944 года, люди, исчезавшие за его двойными железными дверьми, уже не появлялись оттуда живыми. Узники общего лагеря иногда видели издали, как в эти двери эсэсовцы загоняют палками то большие партии пленных в несколько сот человек, то совсем маленькие группы, а то и одиночных смертников, но они никогда не видели, чтобы кого-нибудь выводили из этих дверей. Только каждый день выезжала из ворот блока смерти машина или тележка, нагруженная трупами, и сваливала их у крематория. Случалось порой, что за день оттуда вывозили до трехсот мертвых тел. И вид этих мертвецов был таким, что он пугал даже ко всему привыкших узников из команды, которая обслуживала печи крематория. Скелеты, туго обтянутые тонкой пленкой кожи, покрытой страшными язвами, болячками, синяками от побоев и даже огнестрельными ранами, они казались давно высохшими мумиями, но можно было предполагать, что те, кто еще остался там, в блоке, почти ничем не отличаются от этих страшных мертвецов и они еще двигаются, живут, страдают и, как выяснилось позднее, даже борются.
Кто содержался в блоке смерти и что происходило там — все это оставалось неизвестным, никто из остальных узников Маутхаузена не имел доступа туда. Даже бачки с лагерным супом — баландой — пленные из команды, работавшей при кухне, оставляли у дверей блока смерти, а туда, внутрь, их вносили сами эсэсовцы. Как можно было судить по количеству этой баланды, в первый период существования блока смерти, летом 1944 года, там содержалось несколько тысяч узников, но число их уменьшалось с каждым месяцем, и после нового, 1945 года супа туда доставляли меньше чем на тысячу человек. Среди узников лагеря ходили слухи, что в блоке смерти содержатся главным образом советские офицеры и политработники и что для них там создан такой режим, перед которым бледнеют все обычные ужасы Маутхаузена.
Впрочем, и без этого было ясно, что в изолирблоке творятся дела, которые превосходят все, что можно себе вообразить. Пленные, содержавшиеся в соседних с блоком смерти бараках, каждый день слышали, как из-за этой 3,5-метровой стены доносились дикие, нечеловеческие крики истязуемых людей, крики, заставлявшие содрогаться даже их, многострадальных узников Маутхаузена.
А иногда сюда, в Маутхаузен, приезжали на инструктаж группы эсэсовцев из других лагерей уничтожения. Местные «фюреры» водили их по блокам, любезно показывали крематорий, камеры пыток, все сатанинское оборудование Маутхаузена. В заключение их вели на одну из вышек блока смерти, и они подолгу стояли там, наблюдая за чем-то происходившим внутри, а из-за стены в это время неслись особенно жуткие, душераздирающие вопли. Это были еще невиданные курсы «повышения квалификации» убийц и садистов: приезжие палачи учились у палачей блока смерти.
Сами же узники общего лагеря старались даже не смотреть в сторону блока смерти и не прислушиваться к воплям, которые слышались оттуда. Они знали, что любопытство может дорого обойтись им; все помнили историю, случившуюся с Лисичкой.
Был в лагере семнадцатилетний парнишка, почти мальчик, Ваня Сердюк, вывезенный гитлеровцами с Украины и потом за какие-то провинности попавший в Маутхаузен. Необычайно подвижной, юркий, вертлявый, с худеньким острым лицом, похожим на мордочку лисенка, он был всеобщим любимцем в лагере. Но, на свою беду, он отличался излишней любознательностью. Ненасытное мальчишеское любопытство, которого не смог истребить в нем даже режим Маутхаузена, так и влекло его к стене блока смерти. Ваня слышал, что там, за этой стеной, содержатся его соотечественники, и он решил установить с ними связь. Раздобыв где-то клочки бумаги, он написал несколько записок и привязал их к камешкам. Улучая удобные моменты, когда поблизости не было никого из охранников, а пулеметчик на вышке отворачивался, Лисичка ловко перебрасывал камешки с записками через стену. Раза два это прошло незамеченным, но однажды за этим занятием Ваню Сердюка застал сам комендант лагеря. Лисичку задержали, а переброшенная им через стену записка была разыскана и доставлена коменданту. На вопрос коменданта, зачем он бросал записки, Лисичка ответил, что ему хотелось узнать, что там делается. Тогда эсэсовец усмехнулся.
— Ах, ты хотел узнать, что там делается? — спросил он. — Хорошо, я тебе доставлю эту возможность. Ты пойдешь в блок смерти.
И Лисичка исчез за дверьми изолирблока
Наступил 1945 год. Советская Армия закрепилась на рубеже Вислы в Польше, а в Венгрии, на берегах Дуная, вела большое сражение за Будапешт. На западе англо-американские войска стояли у дверей Германии. Было ясно, что узникам блока смерти вряд ли придется дожить до освобождения: за шесть месяцев 1944 года там было уничтожено несколько тысяч человек, и оставшихся, конечно, истребили бы в ближайшие два-три месяца.
И вдруг произошло неожиданное.
В ночь со 2 на 3 февраля 1945 года весь лагерь был разбужен внезапно вспыхнувшей пулеметной стрельбой. Стрельба доносилась из того угла территории Маутхаузена где находился блок смерти. Пулеметы на вышках этого блока наперебой били длинными, захлебывающимися очередями. Сквозь трескотню выстрелов оттуда доносились какой-то шум и выкрики, и русские в ближних бараках ясно слышали, как там гремит их родное «Ура!» и раздаются возгласы «Вперед, за Родину».
Весь Маутхаузен всполошился. Лагерные сирены проревели тревогу, с соседних вышек пулеметы тоже начали бить в сторону блока смерти. Забегала охрана, узников в бараках заставили лечь на пол и им объявили, что каждого, кто подойдет к окну, застрелят без предупреждения.
Бараки снаружи заперли на тяжелые железные засовы. Потом внезапно во всем лагере погас свет.
Но стрельба продолжалась всего каких-нибудь десять-пятнадцать минут. Потом выстрелы и крики переместились куда-то за пределы лагеря, и мало-помалу все стихло. Большинство узников не спало всю ночь, теряясь в догадках о том, что произошло.
Утром пленных долго не выпускали из бараков и позже, чем обычно, погнали на работу. От охраны стало известно, что в эту ночь узники блока смерти подняли восстание и совершили массовый побег. Но эсэсовцы самонадеянно говорили, что ни один из бежавших не уйдет. Все будут пойманы и казнены: по их словам, в район Маутхаузена стянуто большое количество войск и частей СС и идет самая тщательная проческа местности.
Весь этот день пленные, остававшиеся на лагерной территории, наблюдали, как к крематорию свозили казненных беглецов. Приходили грузовики, доверху нагруженные трупами, пригоняли небольшие группы пойманных и тут же расстреливали около печей. В исступленной злобе эсэсовцы привязывали захваченных смертников за ноги к машинам или к лошадям и волочили головой по булыжной дороге, свозя туда же, к печам крематория. Трупы укладывались ровными штабелями, и несколько дней спустя эсэсовцы объявили по всему лагерю, что «счет сошелся»: по их словам, все бежавшие из блока смерти были пойманы и казнены.
Это объявление, эти груды обезображенных, страшных мертвецов около крематория, по замыслу коменданта, должны были внушить ужас всем пленным лагеря и навсегда отучить их помышлять о восстании или побеге. Но расчет коменданта был ошибочным: большинство узников восприняло побег смертников как пример истинной доблести, как призыв к ним подниматься против своих палачей. Они жалели только об одном — что не знали заранее о готовящемся восстании в двадцатом блоке и не смогли поддержать его всем лагерем. Подвиг смертников прозвучал, как набатный удар колокола, и Интернациональный подпольный комитет еще энергичнее принялся разрабатывать планы будущего восстания и готовить людей к вооруженной борьбе в ожидании подходящего момента. Победное восстание, которое произошло 5 мая 1945 года, было прямым продолжением и завершением героической борьбы узников блока смерти.
Страшный Маутхаузен перестал тогда существовать, и бывшие узники вернулись в свои страны, освобожденные из-под власти фашизма. Но, казалось, навсегда останется легендарным, лишенным всяких реальных подробностей подвиг советских людей в смертном блоке. Некому было рассказать об этих подробностях — «счет сошелся», как говорили эсэсовцы, и предполагалось, что никого из участников трагического побега не осталось в живых. Но те, кто был в Маутхаузене, на всю жизнь сохранили память об этом событии.
В 1958 году несколько бывших узников Маутхаузена прислали мне письма с рассказом о восстании в блоке смерти как по своим личным впечатлениям, так и по слухам, которые потом ходили в лагере. Кстати, по их словам, в лагере после освобождения прошел слух о том, что будто бы несколько человек из участников побега остались в живых. Я тогда же включил рассказ о блоке смерти в одно из своих радиовыступлений и просил откликнуться всех, кому что-нибудь известно об этом подвиге.
Уже вскоре я получил письмо из города Новочеркасска, от мастера тамошнего станкостроительного завода Виктора Николаевича Украинцева. Он оказался одним из бывших узников блока смерти, непосредственным участником восстания, и ему посчастливилось уцелеть во время побега и впоследствии вернуться на Родину. Бывший лейтенант-бронебойщик, он испытал в годы войны немало тяжелого. Попав в плен во время окружения наших войск под Харьковом, он прошел через несколько лагерей, неоднократно делал попытки бежать из плена, был уличен в актах саботажа на немецких предприятиях, где его заставили работать, и в конце концов как «неисправимый» приговорен к смерти и отправлен в двадцатый блок Маутхаузена. Во время побега он спасся не один, а вдвоем товарищем, который, кстати, тоже почти сразу откликнулся на мое радиовыступление. Это был инженер-конструктор вагоноремонтного завода на станции Попасная Иван Васильевич Битюков. Капитан нашей авиации, летчик-штурмовик Иван Битюков в 1943 году, во время боев на Кубани, совершил воздушный таран и вынужден был приземлиться на территории, занятой врагом. Несколько он вместе со своим стрелком-радистом скрывался кубанских плавнях, пытаясь пробраться на восток, к линии-фронта, но потом был ранен и захвачен в плен. Он уже прошел через целую цепь лагерей, совершил удачный побег, сражался в рядах партизанского отряда в Чехословакии и там снова попал в руки гитлеровцев. На этот раз его со смертным приговором отправили в маутхаузеновский изолирблок.
Итак, эсэсовцы врали: счет не сошелся. Двое участников побега оказались в живых. Но их могло быть больше — предстояло вести поиски других уцелевших героев блока смерти.
История восстания смертников в Маутхаузене заинтересовала многих. Ею некоторое время занимался наш известный писатель Юрий Корольков, появилась статья об этом сотрудника Советского комитета ветеранов войны Бориса Сахарова, занималась также поисками героев и выяснением обстоятельств восстания в блоке смерти новочеркасская журналистка Ариадна Юркова. К 1963 году нам были известны уже семеро уцелевших участников побега, а с их помощью удалось установить имена нескольких руководителей и организаторов этого необычайного восстания.
Шесть месяцев провел в блоке смерти капитан, летчик Владимир Шепетя, переживший там гибель многих своих друзей. Теперь он — служащий строительного треста в городе Полтаве. Немного меньше стаж пребывания в блоке э 20 лейтенанта Александра Михеенкова, ныне колхозника из Рославльского района Смоленской области. Вместе спаслись после побега лейтенанты Иван Бакланов, сейчас житель города Шумихи Курганской области, и Владимир Соседко, колхозник из Калининского района Краснодарского края. Посчастливилось уцелеть и юному Ивану Сердюку, тому самому Лисичке, который попал в блок смерти за свое любопытство. Сейчас он работает электрослесарем на одной из шахт в Луганской области в Донбассе.
С помощью этих людей постепенно все шире и полнее раскрывается картина событий, происходивших в таинственном блоке смерти Маутхаузена. И картина эта настолько трагична и вместе с тем проникнута таким высоким героизмом, что восстание смертников Маутхаузена предстает сейчас перед нами как один из самых великих подвигов советских людей в годы их борьбы против фашизма.
В блок э 20 гитлеровцы посылали тех, кого они считали «неисправимыми» и особенно опасными для себя людьми. Туда попадали пленные, совершавшие неоднократные побеги из лагерей, уличенные в антигитлеровской агитации, в актах саботажа на немецких заводах и фабриках. Почти исключительно это были советские люди, главным образом офицеры, политработники, партизанские командиры и комиссары. Значительную часть узников составляли наши летчики, и среди них выделялось несколько старших офицеров, которые в дальнейшем стали главными организаторами и вдохновителями восстания и побега. Сейчас мы можем назвать лишь некоторых, остальные пока остаются неизвестными.
Герой Советского Союза подполковник Николай Иванович Власов занимал в нашей истребительной авиации должность инспектора по полетам. Это был великолепный, бесстрашный и лихой летчик, молодой человек, полный энергии и жизненных сил, с внешностью настоящего русского богатыря — высокий, широкоплечий, русоволосый и голубоглазый. Когда он попал в плен, гитлеровцы поместили его в крепости Вюрцбург вместе с нашими генералами и, к его удивлению, обращались с летчиком крайне предупредительно. Власову даже разрешили оставить свои ордена, и он ходил в лагере с Золотой Звездой на груди. Эта предупредительность, впрочем, объяснялась весьма просто: немцы надеялись «обработать» этого офицера и привлечь его на службу в так называемую «русскую освободительную армию» предателя генерала Власова. Но уже вскоре они убедились, что из этого ничего не выйдет. Николай Власов с возмущением отвергал все предложения перейти на сторону врагов своей Родины и не оставлял настойчивых попыток бежать из плена. В конце концов, видя, что ни уговоры, ни посулы, ни угрозы не помогают, гитлеровцы решили уничтожить этого человека. Ему объявили смертный приговор и направили в двадцатый блок Маутхаузена. Но еще до этого Власов успел передать свою Золотую Звезду одному из товарищей по плену, и тот после освобождения сумел доставить ее на Родину.
Уже немолодой полковник Александр Филиппович Исупов командовал на фронте штурмовой авиационной дивизией и был сбит под Одессой. Гитлеровцы пытались «Обрабатывать» его, как и Николая Власова, но встретили ту же благородную непреклонность коммуниста и советского гражданина. Однажды в лагере в Лицманштадте (Додзь), где содержался Исупов, пленных советских офицеров согнали на так называемый митинг. Перед ними выступил изменник, агитатор из власовской армии, долго и настойчиво доказывавший неизбежность победы Германии в этой войне. Затем немцы предложили выступить нашим офицерам и первым попросили высказаться Александра Исупова. К общему удивлению, полковник не отказался.
— Я не могу согласиться с выступившим сейчас господином, — сказал он, и в голосе его звучали гадливость и презрение к предателю Родины.
И он с неумолимой логикой, яркими примерами один за другим разбил доводы власовца, доказывая, что победа уже близка и что гитлеровская Германия неминуемо потерпит поражение.
— Гитлеровцы обещают нам «свободу», — язвительно говорил он. Посмотрите, какая это свобода. Разве мы не являемся свидетелями того, что сделали фашисты с Польшей, как расправились они с населением наших оккупированных областей, как вывезли богатства из окрестностей Ленинграда, из других городов? Грабеж и рабство — вот та свобода, которую несет нам Гитлер.
С необычайным волнением слушали его товарищи, а он открыто, прямо в лицо гитлеровцам и власовцу говорил о своей ненависти к фашизму и призывал товарищей не оставлять борьбу и здесь, в условиях плена. Митинг был непоправимо испорчен, власовцу пришлось ретироваться, а немцы, хоть и сделали вид, что им, мол, безразлично выступление советского полковника, не простили ему этой речи. Судьба Александра Исупова была решена. Через несколько дней его заковали в наручники и увезли куда-то в закрытой машине. Его товарищи были уверены, что он расстрелян, и только теперь, в последние годы, выясняется, что Исупов был обречен гитлеровцами на медленную и мучительную гибель в блоке смерти Маутхаузена.
Иными путями привела судьба в двадцатый блок бывшего командира авиационной дивизии полковника Кирилла Чубченкова, командира эскадрильи капитана Геннадия Мордовцева и других, но с той поры, как за ними закрывались двери блока смерти, они вступали на общую дорогу, дорогу, ведущую прямо к смерти, близкой и неизбежной.
Как известно, в гитлеровских лагерях организация учета была поставлена со всей немецкой педантичностью. Каждого пленного из лагеря в лагерь сопровождала специальная карточка со всеми данными о нем, с отпечатками пальцев, с фотографией, сделанной анфас и в профиль, со всеми пометками о побегах и штрафах. Но на карточке каждого, кто предназначался для блока смерти, делались особые пометки. То она была прочеркнута по диагонали красной полосой, то аккуратным писарским почерком на ней было написано «фернихтен» — «уничтожить», то стояли два слова: «мрак и туман» или «возвращение нежелательно», а то просто ставилась одна буква «К» — от немецкого слова «кугель» — пуля. Все эти пометки и слова обозначали одно и то же — смерть, которая должна быть возможно более страшной и мучительной.
Эти мучения начинались, как только смертник попадал в ворота общего лагеря Маутхаузен. Его тотчас же изолировали от остальных узников и помещали в одну из камер так называемого «политабтайлунга» — тюрьмы для политических заключенных. Там, в комнатах пыток, он проходил первоначальную «обработку» эсэсовцы избивали его до полусмерти, кололи иглами, пытали электрическим током и т. д. и т. п. Потом его загоняли в «баню», которая тоже была утонченной и нестерпимой пыткой. В небольшом бетонированном помещении отовсюду хлестали тугие, как плети, струи ледяной воды. Захлебывающийся, задыхающийся узник нигде не мог укрыться от этих водяных бичей, и издевательское «купание» продолжалось порой по нескольку часов. После этого лагерный парикмахер простригал смертнику машинкой широкую дорожку от лба до затылка, и голого человека выбрасывали прямо на снег. Швыряя ему вслед старые полосатые штаны и куртку из какой-то дерюги. Одежда эта заранее подвергалась обработке, чтобы заразить узника чесоткой, экземой или другими накожными болезнями. Ударами дубинок эсэсовцы гнали бегом смертника к железным дверям блока, заставляя его одеваться на ходу. Двери открывались, человека вталкивали туда, а там, внутри, его хватали два эсэсовца, поджидавшие свою жертву, и начиналось очередное, еще более жестокое избиение.
Так, пройдя через это «чистилище», человек попадал в самый ад — в длинный барак, стоявший в центре двора. Этот барак был разделен на три части — комнаты (по-немецки «штубе»), где ночевали узники, одно отделение посередине, где находились служебные помещения.
Одна из штубе предназначалась для больных: здесь помещались те, кто был уже доведен до предела своих сил, кому оставалось жить считанные дни, люди, которые уже не могли ходить, а только ползали. Но и они были обязаны дневное время покидать барак и выползать во двор при любой погоде. Второе, большее по размерам помещение, примерно 10х12 метров, служило жильем всей остальной массе узников Тут содержалось пятьсот-шестьсот человек. Помещение было пусто, как сарай, — никакой обстановки не полагалось. Не было ни кроватей, ни нар, ни даже соломы на цементном полу. Никаких постельных принадлежностей, даже одеял, узникам не давали, хотя помещение зимой не отапливалось. Люди спали прямо на полу; вернее будет сказать, что они спали друг на друге, потому что лишь небольшая часть узников могла разместиться на этой площади пола, а остальные должны были ложиться на товарищей, в два-три слоя или же спать стоя. В душные летние ночи эсэсовцы плотно запирали окна барака, и в сравнительно небольшом помещении, где была скучена такая масса народу, воздух постепенно становился невыносимо тяжелым и спертым, людям не хватало кислорода для дыхания, и многие, не выдержав, к утру задыхались. Зимой же по вечерам, перед тем как загнать узников в барак, помещение поливали из шлангов так, что на полу к ночи всегда стояла на несколько сантиметров вода. Людям приходилось ложиться спать прямо в воду, а среди ночи являлись эсэсовские охранники и распахивали все окна настежь до утра, устраивая «проветривание». И каждое утро на обледеневшем полу оставались лежать трупы окоченевших людей.
В среднем, служебном помещении барака находилась так называемая умывальня. Здесь были бетонные умывальники и души с холодной водой и ванна с крышкой. В стены умывальни наверху были вбиты массивные железные крючья. Фактически эта комната тоже была местом пыток. Здесь узников на невыносимо долгие часы ставили под ледяной душ или заставляли человека садиться в ванну, доверху наполненную ледяной водой, и топили его там, закрывая сверху крышкой. Людей вешали на железных крючьях или просто забавлялись, надевая смертнику на горло петлю и подтягивая его кверху, пока он не потеряет сознания. Эти крючья как бы приглашали узников повеситься. Специально для этого им оставляли поясные ремни, и многие из пленных, не в силах выдержать ежедневных издевательств и мучений, предпочитали ускорить свой конец и вешались там, в умывальне.
Через коридор наискосок от умывальни находилась небольшая комната, где жил старший по блоку — блоковой. Это был здоровенный немец с могучими руками и тупым лицом животного, уголовник, которого за неоднократные убийства осудили на смерть, но обещали помилование, если он заслужит его жестоким обращением с пленными. И он выслуживался со всем рвением, этот палач, буквально купаясь в крови: многие сотни людей погибли от его резиновой, залитой свинцом дубинки, были задушены его руками или сброшены им в канализационный колодец, находившийся перед бараком.
В комнате блокового стояли печка и ящик с углем — это было единственное отапливаемое помещение в бараке. Здесь же хранился и большой ящик с эрзац-мылом — твердыми как камень плитками какого-то неизвестного вещества. Впрочем, как оно мылится, никто из пленных не знал: эрзац-мыло только числилось выданным для узников, но никогда не попадало к ним в руки. Также формально считалось, что для больных, находящихся в блоке, выданы одеяла: большая кипа этих одеял лежала в комнате блокового. Но они никогда не выдавались даже умирающим — на стопе одеял спал блоковой.
У блокового была своя охрана — два сильных и молчаливых голландца, которые следовали всюду за ним по пятам. Было неизвестно, за что эти люди попали сюда, в блок смерти, — они никого не понимали, а их родного языка не знал ни один из пленных. Сами они не убивали узников и не издевались над ними и только молчаливо и безропотно исполняли все приказания блокового.
Кроме того, из самих узников была создана так называемая команда «штубендинст» — служба помещений. Этих людей на русский лад называли «штубендистами». Они выполняли разные работы внутри блока: убирали помещения, мыли полы, вытаскивали во двор и складывали трупы, резали эрзац-хлеб и т. д. и за все это получали порой лишнюю ложку лагерного супа баланды — или маленькую добавку того же эрзац-хлеба. Разные люди были среди этих штубендистов: одни только делали порученную им работу, а другие старались всячески выслужиться перед эсэсовцами и блоковым. Среди этих последних особенно выделялись трое, ставшие непосредственными помощниками блокового, такими же убийцами, как и он сам. Двое — Адам и Володька — были поляками, а третий — Мишка-татарин — жителем Крыма. Настоящие имя и фамилия его — Михаил Иханов. Рассказывают, что он был лейтенантом, служил в кавалерийской части Красной Армии, а потом попал в плен или перешел на сторону гитлеровцев и стал служить в немецких войсках. Конвоируя однажды какой-то железнодорожный эшелон, он был уличен в краже и отправлен в один из блоков общего лагеря Маутхаузен. Здесь он принялся ревностно помогать эсэсовцам и отличался такой жестокостью, что комендант лагеря перевел его в блок смерти, где Мишка-татарин сделался правой рукой блокового, с наслаждением мучая и убивая своих бывших сограждан.
Среди всех фабрик смерти и их филиалов, в таком изобилии созданных гитлеровцами в разных странах Европы, блок смерти лагеря Маутхаузен представлял особое явление. Он был самым ярким и полным воплощением бессмысленной, нечеловеческой жестокости, лежавшей в основе философии немецкого фашизма. Люди, которых посылали сюда, должны были умереть, но их умерщвляли далеко не сразу, а с изощренной садистской постепенностью. Вместе с тем их не посылали ни на какие работы, они никогда не покидали двора двадцатого блока и, следовательно, ничем не приносили пользы гитлеровскому рейху. Больше того, как ни скудна, как ни похожа на корм скоту была пища, которую давали узникам, веерке гитлеровцы вынуждены были тратить на них какое-то количество продуктов: брюквы для баланды, эрзац-хлеба и т. п. А ведь известно, что немецкие фашисты отличались виртуозной экономностью и использовали для хозяйства даже убитых ими людей, вываривая из мертвецов мыло и набивая волосами своих жертв матрацы. Чем же объяснить, что они были такими «расточительными» в блоке смерти и тратили продукты на людей, предназначенных к уничтожению?
Этому есть только одно объяснение: блок смерти был тем «полигоном», где тренировали эсэсовских палачей, где в них возбуждали желание убивать, испытывать жажду крови и наслаждение человеческими страданиями. Узники двадцатого блока стали тем сырьем, материалом, на котором Гиммлер, Кальтенбруннер и другие руководители СС воспитывали тех, кто был опорой гитлеровского режима — «юберменшей» — «сверхчеловеков», утверждавших господство на земле по единственному праву — праву силы, убивавших людей направо и налево то с равнодушием, то с садистским наслаждением и получавших особое, «высшее удовлетворение» от людских мучений. Другого смысла существования у блока смерти не было, весь режим, установленный здесь, служил этой цели.
С первыми проблесками рассвета в бараке раздавалась команда «подъем!», и плотная масса людских тел, лежащих в несколько слоев друг на друге, разом приходила в движение. Узники вскакивали на ноги и стремглав бежали в умывальную, а на полу оставались те, кто умер за ночь.
Утренний «туалет» был первым издевательством. Каждый из узников успевал только подбежать к умывальнику, плеснуть себе в лицо горсть воды и потом вытереться рукавом или полой своей куртки. Пленного, который не сделал бы этого, ожидали жестокие побои. Но тех, кто хоть на секунду задерживался в умывальной, избивали еще более жестоко блоковой и три его помощника.
«Умывшись», пленные стремглав бежали во двор и выстраивались по сотням в тесном шестиметровом промежутке между стеной и домом около правого угла барака. Перед ними, закрывая небо, высилась гранитная стена, и на загнутых кронштейнах тянулись ряды колючей проволоки под током. С двух деревянных вышек по углам, наведенные прямо на этот строй, чернели дула спаренных пулеметов и настороженно смотрели из-под железных касок глаза эсэсовцев. Продрогшие на морозном ветру, в худой одежонке, босые, с почерневшими от холода ногами, узники, стоя в строю, приплясывали на снегу или на обледенелых булыжниках. Живые скелеты, с острыми, до предела исхудавшими лицами, с телами, покрытыми струпьями, язвами, синяками, незаживающими ранами, эти люди знали, что для них начинается новый день мучений, который приблизит их еще на шаг к смерти, а для многих станет последним днем их жизни. Притопывая и припрыгивая, все время шевелясь уже привычными движениями, чтобы сохранять в себе последние калории жизненного тепла, они в то же я зорко поглядывали по сторонам, стараясь не прозевать появления эсэсовцев. А в это время штубендисты выволакивали во двор трупы и складывали их у противоположного угла барака под вышкой, складывали аккуратным штабелем, «для удобства подсчета». И сами узники напряженно считали эти трупы. Они знали: если мертвецов будет меньше десяти, то это означает, что «норма» не выполнена эсэсовцы сегодня будут свирепствовать больше, чем обычно. Но, как правило, «норма» эта перевыполнялась, каждый день из ворот блока смерти к крематорию выезжала либо ручная тележка, заваленная доверху трупами, либо наполненный мертвецами грузовик.
Около часа проходило в ожидании. Потом из дверей, ведущих в общий лагерь, появлялся блок-фюрер — двадцатипятилетний садист-эсэсовец в сопровождении целой свиты подручных палачей. Узники застывали в строю неподвижно, с низко опущенными головами: им не разрешалось поднимать взгляда на фашистское начальство. Иногда вместо этого раздавалась команда «ложись!», и одновременно с одной из пулеметных вышек на строй пленных обрушивалась тугая струя ледяной воды из брандспойта, которая сбивала на землю тех, кто не успел упасть. Люди валились ничком друг на друга, и мимо этого лежащего строя проходили эсэсовцы, сыпля удары дубинок, а иногда на выбор пристреливая людей. Затем раздавалась команда «встать!». И люди вскакивали на ноги, а тех, кто уже не мог подняться, оттаскивали к штабелю трупов.
После этого начиналась издевательская «зарядка», как называли ее эсэсовцы. Узников заставляли ползать по грязи или по снегу, бегать, ходить на корточках «гусиным шагом», порой по три-четыре километра вокруг барака. Того, кто не мог выдержать этого и сваливался, избивали до полусмерти или пристреливали. Штабель трупов непрерывно пополнялся, пока эсэсовцы не уставали и не уходили отдыхать. И тогда заключенные начинали свое излюбленное занятие — «игру в печку».
Кто-нибудь из узников отбегал в сторону и командовал: «Ко мне!» И тотчас же отовсюду к нему бросались люди, сбиваясь в плотную толпу, тесно прижимаясь друг к другу, чтобы согреть товарища жалким теплом своего истощенного тела, припрыгивая и похлопывая соседа. Так продолжалось несколько минут, а потом кто-то из тех, кто оказался снаружи, отбегал, в свою очередь, в сторону и также кричал: «Ко мне!» Прежняя «печка» рассыпалась, и возникала новая. Таким образом, люди, остававшиеся в прошлый раз снаружи и не успевшие получить свою порцию тепла, теперь оказывались в центре толпы и могли согреться телами товарищей. Эта «игра» была борьбой за остывающую в теле жизнь, за каждую калорию тепла. А потом появлялись те же эсэсовцы, и опять начиналась «зарядка».
В этом чередовании мучительных «упражнений», сопровождаемых избиениями и убийствами, и «игрой в печку», и проходил весь день. Только поздно вечером пленным разрешали войти в барак.
Кормили смертников не каждый день. Лишь раз в два-три дня в блок доставляли баланду. Как правило, ее варили из гнилой нечищеной брюквы, чтобы вызвать желудочные заболевания у пленных. Летом, в жаркие июльские и августовские дни 1944 года, эсэсовцы придумали другое мучение. Баланду, которую доставляли в блок смерти, солили до тех пор, пока соль уже не могла больше растворяться в этом жидком супе. А когда узники съедали свою порцию, в блоке перекрывали водопровод. Находясь целый день на палящем солнце, смертники испытывали невыносимые муки, у них пересыхали рты, распухали языки, и многие сходили с ума, не выдержав этой пытки жаждой. Сама раздача баланды обычно тоже сопровождалась побоями и издевательствами. После того как блоковой наливал каждому из узников понемногу этого мутного супа в консервную банку и люди, стоя в строю, с жадностью съедали свою порцию, все с нетерпением ждали возможной добавки. Блоковой нарочно неопределенно указывал на какую-то часть строя, и оттуда десятка два узников тотчас же бросались к нему, протягивая свои консервные банки, толкаясь и оттесняя один другого. Это и нужно было блоковому. Одного он с силой ударял черпаком по голове, другому доставалось несколько ударов тяжелой дубинкой, третьего он бил ногой в живот, а четвертому и в самом деле плескал немного супа. А за «представлением» с одной из пулеметных вышек обычно наблюдали блок-фюрер и его свита.
Каждый день не меньше десяти трупов вывозили из блока смерти в лагерный крематорий. Но эсэсовцам было мало тех, кто умирал за ночь, или тех, кого они убивали во время ежедневных «зарядок». Время от времени они уничтожали узников этого блока целыми партиями. Нередко из строя вызывали специалистов каких-нибудь профессий — портных, штукатуров, слесарей — под предлогом отправления их на работу, и, как только доверчивые выходили, их в окружении конвоя вели прямо к крематорию и там расстреливали и сжигали. Именно так погиб товарищ Виктора Украинцева, одновременно с ним попав в лагерь, москвич, лейтенант Константин Румянцев, которого старожилы блока не успели предупредить об этой уловке эсэсовцев: он вышел вместе с несколькими другими, когда из строя вызывали сапожников, и в этот же день был, уничтожен около крематория. А иногда эсэсовцы врывались в барак среди ночи, вызывали по номерам десятка два или три пленных и уводили на казнь По нескольку человек убивал каждый день и блоковой. Он отмечал узников, чем-нибудь не угодивших ему, записывал их номера, и это означало, что в ближайшие два-три дня он подстережет человека и либо убьет его наповал ударом своей дубинки, либо сбросит в канализационный колодец, откуда на следующее утро штубендисты извлекут труп баграми. К этим жертвам добавлялись еще люди, которых убивали ежедневно помощники блокового — Адам, Володька и Мишка-татарин.
Блок смерти, эта человеческая бойня, был самым «высокопродуктивным» цехом фабрики смерти Маутхаузен. За вторую половину 1944 года здесь было убито больше 6 тысяч человек. К новому, 1945 году в двадцатом блоке оставалось всего около 800 узников. За исключением 5–6 югославов и нескольких поляков, участников Варшавского восстания, недавно доставленных в блок, все узники были советскими людьми, преимущественно офицерами. Хотя каждый из них внешне лишь отдаленно походил на человека, все они оставались русскими, советскими людьми по своему характеру и не только жили, не только героически переносили все страдания, которые выпали на их долю, но и мечтали о борьбе, о том, что наступит день, когда они сведут счеты со своими палачами. Некоторые из них, наиболее сильные, провели здесь, в блоке смерти, уже по нескольку месяцев, и мысль о том, чтобы дать бой врагам, никогда не оставляла их.
У кого и когда впервые возникла идея массового побега, мы не знаем. Известно, что главными организаторами и руководителями подготовки к восстанию стали Николай Власов, Александр Исупов, Кирилл Чубченков и какие-то другие командиры, чьи имена, к сожалению, не сохранились в памяти тех, кто остался в живых. Говорят, что все детали будущего восстания этот подпольный штаб обсуждал во время «печек», когда удавалось незаметно от блокового и его помощников, зорко следивших за узниками, обменяться несколькими фразами, если заранее устроить так, что вокруг тебя будут самые надежные люди, которым стоит доверять, — ведь не исключена была возможность провокации со стороны кого-нибудь из узников.
Неизвестно, каким образом, но этому штабу удалось установить связь с Интернациональным подпольным комитетом общего лагеря. Видимо, удавалось иногда перебросить через стену записку или отослать ее каким-нибудь другим способом. Бывший узник Маутхаузена венгерский писатель Иожеф Надаш, содержавшийся в соседнем, девятнадцатом блоке, говорит, что смертники пересылали порой записки, спрятав их под трупами на тележке, которую вывозили к крематорию. Возможно, в команде, которая обслуживала печи, были люди, связанные с Интернациональным подпольным комитетом и передававшие эти записки по назначению.
Первая трудность в подготовке восстания заключалась в том, что узники блока смерти, никогда не покидавшие своего двора, не знали, какие из четырех стен ограды им надо штурмовать и что ждет их за этими стенами, — окрестности лагеря были им неизвестны. Зато узники общего лагеря хорошо знали окрестности: их каждый день водили на работы. Судя по всему, смертникам удалось послать в общий лагерь просьбу о присылке плана местности вокруг Маухтхаузена. И Интернациональный комитет сумел выполнить эту просьбу.
Летчика Ивана Битюкова доставили в Маутхаузен в первых числах января. Он прошел через обычные избиения и пытки в «политабтайлунге» и через ледяной душ. Но когда лагерный парикмахер, чех по национальности, простригал ему на голове дорожку, два эсэсовца, сопровождавших смертника, на минуту отлучились из комнаты. И тогда парикмахер, нагнувшись к уху Битюкова, проговорил:
— Передай там, в двадцатом… Надо скорее бежать. Вас всех собираются скоро уничтожить… Они просили план лагеря… Мы пошлем его… Ищите на днищах бачков, когда вам приносят баланду.
В это время эсэсовцы вернулись, и больше ничего парикмахер не успел сказать.
В самом деле, узникам блока смерти надо было торопиться. Фронт постепенно приближался к Австрии и с востока и с запада, и было ясно, что как только возникнет непосредственная опасность освобождения Маутхаузена, эсэсовцы, может быть, постараются уничтожить всех пленных, содержащихся в лагере, но уж, конечно, в первую очередь смертников двадцатого блока. Вероятно, Власов, Исупов и их товарищи по подпольному штабу понимали, восстание следует осуществить как можно скорее.
Когда Иван Битюков попал в блок смерти, он увидел немало летчиков, с которыми его сводила судьба других гитлеровских лагерях, где ему довелось побывать о этого, и даже встретил одного своего друга и прежнего сослуживца, капитана Геннадия Мордовцева. Он передал Мордовцеву все сказанное чехом-парикмахером, а тот сообщил эту новость руководителям подпольного штаба и взялся сам добыть план. С тех пор каждый раз, как только во время раздачи баланды блоковой предлагал добавку, Мордовцев в числе первых бросался к нему, нарочно устраивая свалку, стараясь получить удар, от которого он падал на землю и, лежа, быстро и незаметно обшаривал днища бачков. Дважды он проделывал это, но безуспешно, и только на третий раз ему удалось нащупать какой-то шарик, прилепленный к дну бачка. Он отколупнул его и быстро сунул в рот. Но хотя блоковой не видел этого, он все же взял на заметку пленного, который так настойчиво лез за добавкой. Товарищи видели, как он записал номер Геннадия Мордовцева, когда тот побежал к строю. Это означало, что летчик будет в ближайшие дни уничтожен.
Когда вечером узников загнали в барак, Геннадий Мордовцев передал Власову и Исупову этот шарик, внутри которого находился маленький листок папиросной бумаги с планом окрестностей лагеря. Но в тот же вечер, когда Мордовцев был вблизи канализационного колодца, блоковой, незаметно подкравшись к нему, одним ударом сбросил его туда, вниз. Так погиб этот смелый летчик, ценой своей жизни добывший своим товарищам возможность осуществить их дерзкое предприятие.
Казалось, как могли помышлять о восстании эти люди, истощенные, обессиленные, полуживые, безоружные и беззащитные перед властью своих палачей? Как могли они мечтать о штурме этой трехметровой гранитной стены, гребень которой был защищен колючей проволокой под током высокого напряжения? Что могли они противопоставить спаренным пулеметам, всегда наведенным на них с вышек? Чем они станут сражаться с вооруженной до зубов эсэсовской охраной лагеря, которая будет поднята на ноги при первых выстрелах? Поистине всякому здравомыслящему человеку должно было показаться, что эта затея обречена на провал.
Три важных человеческих качества могли обеспечить успех отчаянно дерзкому замыслу узников блока смерти: изобретательность, организованность и смелость. И мы можем сказать, что эти люди проявили чудеса изобретательности, показали железную организованность и беспредельную смелость.
Как это ни удивительно, они нашли оружие, вернее — то, что могло заменить его. Узникам предстояло вооружиться булыжниками, вывороченными из мостовой двора, кусками угля, которые лежали в комнате блокового, кусками хранившегося там же эрзац-мыла, деревянными колодками со своих ног и обломками цементных умывальников — их предполагалось разбить перед побегом. Дождь этих камней и обломков должен был обрушиться на пулеметные вышки. Но самым важным оружием, которое оказалось в распоряжении смертников, были два огнетушителя, висевшие в жилых помещениях барака. К каждому из огнетушителей прикрепили по три человека, самых сильных, вернее — наименее истощенных. Они должны были подбежать к основанию вышки, привести огнетушитель в действие и направить струю пены в лицо эсэсовским пулеметчикам, чтобы помещать им вести огонь и дать возможность штурмовой группе забраться на вышку и овладеть пулеметом. А для того чтобы подойти незаметно к пулеметчикам, решено было перед восстанием начать рыть подкоп из барака к основанию вышки.
Колючую проволоку под током надеялись преодолеть с помощью одеял, находившихся в комнате блокового. Эти одеяла должны были набросить на проволоку и потом замкнуть ее хотя бы тяжестью собственных тел.
Самого блокового необходимо было уничтожить. Его телохранителей голландцев решили не убивать, а только связать их и заткнуть им рты. Узники югославы и поляки, когда им сказали о готовящемся восстании, в один голос ответили: «Мы с вами, русские браты!» Сложнее обстояло дело со щтубендистам. В их числе были всякие люди. И они могли оказаться серьезным препятствием, тем более что подготовка к восстанию в последний вечер должна была проводиться открыто, на их глазах. Но ведь штубендисты были такими же смертниками, как и остальные, и понимали, что гитлеровцы уничтожат вместе со всеми или, в лучшем случае, в последнюю очередь. Восстание давало им единственную возможность спасти свою жизнь. Подпольный штаб решил в открытую поговорить с ними и предложить им участвовать в побеге.
Этот щекотливый разговор поручили провести летчику майору Леонову. Он был назначен старшим той сотни, в которой на поверках строились штубендисты, и формально считался как бы их начальником, хотя и был таким же узником, как и прочие, и никогда не позволил себе никаких действий, направленных против товарищей по несчастью. Улучив момент он провел этот разговор, и Мишка-татарин, Адам, Володька и другие штубендисты не только дали согласие участвовать в побеге, но и взяли на себя уничтожение блокового. У них не было другого выхода.
Восстание назначили на ночь с 28 на 29 января. Для того чтобы определить самый удобный час, было установлено ночное наблюдение за вышками сквозь щели в стенах барака. Выяснилось, что часовые у пулеметов сменяются ровно в полночь. Решено было начать восстание в час ночи — к этому времени сменившиеся эсэсовцы уже заснут; те, что останутся на вышках, успеют немного устать и промерзнуть, и бдительность их притупится, а следующая смена, которая должна заступить в два часа ночи, еще будет спать в казарме.
Восстание готовилось не только в организационном и материальном смысле. В эти дни проходила и его моральная подготовка, весьма своеобразная и необычная; велась своего рода политическая работа, внутренняя мобилизация людей перед их последним смертным боем.
Был среди узников блока смерти какой-то советский журналист. Никто из оставшихся в живых смертников не помнит его фамилии, все товарищи называли его по имени — Володей. Невысокий, черноволосый, в черных роговых очках, он был, пожалуй, самым образованным человеком здесь, в блоке. Говорят, до войны жил он в Ленинграде вместе со своей женой, учительницей, и там окончил исторический факультет университета. Но работал Володя в какой-то из газет, выходивших в торговом флоте. Перед войной он ушел в плавание на одном из наших судов и 22 июня оказался в немецком порту. Вместе со всем экипажем он был интернирован, заключен в крепость, откуда бежал, и в конце концов был приговорен к смерти и послан сюда, в двадцатый блок. Он-то и стал своеобразным комиссаром восстания.
Перед Новым годом, выбрав момент, когда блоковой находился в благодушном настроении, Володя уговорил его разрешить по вечерам рассказывать своим товарищам содержание когда-то прочитанных им книг. С тех пор каждый вечер в переполненном бараке часами раздавался его спокойный негромкий голос. Володя помнил чуть ли не наизусть множество книг и был великолепным рассказчиком. Видимо, не без умысла он всегда выбирал книги героического содержания, которые рассказывали о подвигах, о том, как люди побеждали, казалось бы, неодолимые трудности. Он пересказывал Дюма и Джека Лондона, «Овода» и «Как закалялась сталь». Оставшимся в живых участникам восстания особенно запомнилась одна история, которую Володя рассказывал несколько вечеров подряд. Это был рассказ о группе русских моряков, попавших в немецкий плен, заключенных в какую-то крепость и совершивших успешный побег оттуда. И хотя Володя из осторожности делал вид, что он читал об этом, все, кто слушал его, понимали, что речь идет о событиях Великой Отечественной войны и что либо журналист сам пережил эти события, либо узнал о них от кого-то. Историю эту слушали с захватывающим вниманием — она была прямой параллелью к событиям, готовившимся в блоке смерти, и ее удачный исход внушал узникам надежду на успех их отчаянного замысла. В последние же вечера перед побегом, тоже умело притворяясь, что речь идет о прочитанной книге, Володя по поручению штаба подробно рассказал узникам, как будет проходить их восстание и что должен делать каждый из них. Это был инструктаж, ловко облеченный в форму литературного произведения.
Все было готово, как вдруг произошло поистине роковое событие. До сих пор неизвестно, было ли оно результатом предательства или просто трагическим совпадением. В ночь на 25 или 26 января, за два или три дня до восстания, в барак неожиданно нагрянули эсэсовцы. Старший из них громко выкрикнул 25 номеров, и 25 узников один за другим покидали барак, выходя во двор. Среди вызванных оказались главные руководители восстания Николай Власов, Александр Исупов, Кирилл Чубченков и другие. Их увели, и на другой день стало известно, что они уничтожены в крематории.
Это было тяжелым ударом для всех. Казалось, что теперь восстание парализовано. Но этого не случилось. Другие люди, имен которых мы не знаем, встали на место погибших и стали руководителями готовившегося побега. Рассказывают, что одним, из них был майор Леонов. Подготовку продолжалась своим чередом, но восстание пришлось отложить на несколько дней. Оно было назначено теперь на ночь со 2 на 3 февраля.
И вот она, наконец, настала, эта долгожданная ночь. Вечером, как только узников загнали в барак и эсэсовская охрана ушла, был уничтожен блоковой. Штубендисты вызвали его под каким-то предлогом в коридор, один из узников накинул ему на голову одеяло, заранее выкраденное из его комнаты, и Мишка-татарин заколол своего шефа ножом. Связали обоих голландцев, и они в ожидании решения своей участи лежали на полу с кляпами во рту. Командиры сформировали четыре штурмовые группы: три — для захвата пулеметных вышек и одну — чтобы отразить атаку эсэсовцев со стороны общего лагеря. Люди вооружались камнями, кусками угля, колодками, расхватывали эрзац-мыло, разбивали цементные умывальники. Специальная команда начала рыть в углу барака подкоп в сторону пулеметной вышки. Впрочем, эту работу пришлось вскоре прекратить, грунт оказался очень твердым, каменистым, и стало ясно, что без инструментов выкопать подземный ход до часа ночи будет просто невозможно. Решено было штурмовать пулеметные вышки в открытую, выпрыгивая из окон барака.
Около сотни узников не могли принять участия в побеге: они уже были не в состоянии ходить, большинству из них оставалось жить два-три дня. Со слезами на глазах эти люди провожали своих товарищей в последний бой, просили рассказать на Родине об их гибели, передать родной земле их прощальный привет. Они знали, что их сразу же уничтожат после побега, но хотели хоть чем-нибудь быть полезными друзьям в этот решительный час и отдали им последнее имущество, которое было у них, — свои колодки и свою одежду, оставшись совершенно голыми. Половину этой одежды, как и половину одеял, хранившихся в комнате блокового, оставили, чтобы набросить на колючую проволоку под током. Другую половину пустили на тряпки — ими участники восстания обматывали свои босые ноги: ведь им предстояло бежать по снегу.
Наступила полночь, на вышках сменились пулеметчики. Все было готово, и в ожидании назначенного часа нервы людей были напряжены до крайности. Каждый со страхом думал об одном: не придут ли сейчас в блок эсэсовцы за очередной партией жертв? Это было бы катастрофой — гитлеровцы успели бы поднять тревогу до начала восстания. К счастью, этого не случилось.
Без десяти час штурмовые группы заняли свои места у окон барака, готовые рвануться вперед по первому сигналу. Из комнаты блокового принесли стол, и на него поднялся один из руководителей восстания, уже пожилой полковник или генерал интендантской службы с белым пятном седины на коротко остриженных волосах. Медленно обвел он взглядом напряженные, сурово нахмуренные лица узников, умирающих, которые голыми лежали на полу, подняв к нему внимательные лица.
— Дорогие товарищи и братья! — взволнованно сказал он. — Я не имею никаких полномочий от нашего командования и Советского правительства, но я беру на себя смелость от их имени поблагодарить всех вас за то, что вы вынесли здесь, в этом аду, оставаясь настоящими советскими людьми Вы не уронили чести и достоинства гражданина Советского Союза и солдата нашей великой армии. Теперь нам с вами остается выполнить до конца долг солдата и сразиться с врагом в последнем смертном бою Многие из нас погибнут в этом бою, может быть, почти все, но будем надеяться, что некоторым удастся уцелеть и вернуться на Родину. Давайте же торжественно поклянемся сейчас друг перед другом своей судьбой, жизнями замученных здесь друзей, поклянемся, что тот, кому выпадет счастливая судьба вернуться домой, расскажет людям, что творилось здесь, в блоке смерти, о гибели наших братьев, о наших страданиях и борьбе. Пусть они сделают это во имя полной гибели фашизма, для того чтобы ни когда больше на земле не повторялось таких ужасов. И пусть будет проклят тот, кто не сделает этого! Клянемся, товарищи!
И в бараке торжественно, глухо и грозно прозвучало это слово, повторенное всеми:
— Клянемся!
— А теперь попрощайтесь друг с другом и обменяйтесь адресами, — сказал полковник и спустился со стола.
Несколько минут в помещении слышались только приглушенные рыдания обнимающихся в последний раз людей и торопливо повторяемые вполголоса адреса и фамилии. Потом раздалась команда: «Приготовиться!» Все снова на минуту пришло в движение, и опять наступила тишина. Люди стояли на местах, напрягшись, затаив дыхание, готовые к броску.
— Вперед! За Родину! — громко грянул приказ.
Мгновенно распахнулись настежь все окна барака, и толпа узников хлынула во двор, прямо под слепящий свет Прожекторов. С одной из вышек торопливо стрекотнул пулемет — эсэсовцы заметили штурмующих, И тотчас же над блоком смерти загремело многоголосое яростное русское «ура!» — узникам уже не к чему было скрываться, начинался их последний, решительный бой.
Теперь по толпе атакующих били все три пулемета. Но уже обрушился на вышки дождь камней, кусков угля, колодок, погасли разбитые прожекторы, и пенные струи из огнетушителей ударили в лица пулеметчикам, мешая им вести огонь.
Видимо, один из камней попал в цель: пулемет на средней вышке захлебнулся и смолк. И сразу уже, подсаживая друг друга, на площадку вышки вскарабкались узники из штурмовой группы. Минуту спустя этот пулемет начал бить по другим вышкам, заставляя эсэсовцев прекратить огонь.
А пока шел бой около вышек, длинная шеренга узников, пригнувшись, выстроилась у основания наружной стены. На плечи к ним карабкались другие и, набросив на проволоку под током одеяла и куртки, повисали на ней.
Кое-где люди, охваченные горячим порывом, замыкали эту проволоку своим телом, а по ним дальше, вперед лезли их товарищи. Наконец кронштейны не выдержали тяжести и согнулись. Проволока замкнулась, блеснул яркий электрический разряд, и свет во всем лагере погас. В темноте тревожно выли лагерные сирены, из-за стены доносились крики эсэсовцев и автоматные очереди, и пулеметы всех вышек Маутхаузена наугад били в сторону блока смерти.
Двор блока был усеян трупами, мертвые тела висели на проволоке, лежали на гребне стены, но уже сотни узников, подсаживая один другого, втягивая товарищей наверх, взбирались на эту стену и спрыгивали по ту сторону ее.
Там оказались новые препятствия — ров с ледяной водой, а за ним высокий забор из колючей проволоки. Но уже ничто не могло остановить смертников, вырвавшихся из самого ада, увидевших перед собой свободу. Снова в ход пошли одеяла и куртки, и через несколько минут в проволочном заборе зияла широкая брешь. Выливаясь через эту брешь, сотни узников уже оказывались вне пределов лагеря, на широком заснеженном поле и, разбиваясь тут же на группы, как было заранее условлено, уходили в разных направлениях, чтобы затруднить преследование эсэсовцам. А из ворот лагеря уже выбегали охранники с собаками, выезжали мотоциклы, освещая фарами поле, по которому, местами увязая по колено в снегу, выбиваясь из сил, бежали узники.
Самая большая группа направлялась к видневшемуся вдали лесу. Но при свете луны погоня стала настигать ее, и очереди автоматов слышались все ближе. Тогда несколько десятков человек отделились от этой группы и повернули назад. Они запели «Интернационал» и пошли прямо навстречу эсэсовцам, чтобы вступить с ними в последний бой, погибнуть и ценой своей жизни дать возможность товарищам выиграть несколько минут и достигнуть спасительного леса.
Другая группа, под командованием полковника Григория Заболотняка, бежала в сторону Дуная. В нескольких километрах от лагеря узники наткнулись на зенитную батарею немцев. Им удалось бесшумно снять часового. Потом они ворвались в землянки, где спала орудийная прислуга, голыми руками передушили артиллеристов, захватили их оружие, пушки и даже грузовик, стоявший тут же. По приказу Заболотняка на машину погрузили раненых и тех, кто выбился из сил, и группа продолжала двигаться дальше вдоль берега реки. Но уже подходили вызванные по тревоге из Линца колонны моторизованной пехоты, и эта группа погибла в неравном бою. Из всей группы остался в живых только один человек — молодой Иван Сердюк, тот самый Лисичка, который попал в блок смерти из-за своего любопытства. На его руках скончался тяжело раненный командир группы полковник Григорий Заболотняк, который успел перед смертью сказать Сердюку, что его семья живет в сибирском городе Канске.
За ночь вырвавшиеся из лагеря узники разбежались по окрестностям Маутхаузена. Но, к сожалению, в этом районе мало лесов и довольно густо повсюду разбросаны дома и хутора. Беглецы прятались в сараях и на чердаках домов, в скотных дворах и в скирдах соломы, стоявших во дворах или на поле. Однако почти все эти убежища оказались ненадежными. Гитлеровцы приняли энергичные меры для того, чтобы выловить бежавших.
На поиски были брошены эсэсовцы с собаками. Из Линца и других ближайших городов были вызваны войска, густые цепи солдат с утра прочесывали местность, осматривая каждую яму или куст, обыскивая каждый дом и сарай, протыкая острыми железными прутьями каждую у соломы. Была поднята на ноги местная полиция, прекратились занятия в школах, и радио Вены и Линца все время передавало обращения к населению, в которых говорилось; что из концлагеря Маутхаузен бежала большая группа опасных бандитов и что за каждого пойманного будет выдана награда, а всякая попытка укрыть бежавшего и оказать ему помощь карается смертной казнью.
Смертников вылавливали одного за другим. Одних убивали на месте или привязывали ногами к машине и волокли к лагерному крематорию, других собирали группами и вели в лагерь, расстреливая около крематория. Третьи — и таких, говорят, было большинство — не давались живыми своим палачам и в последнем отчаянном порыве кидались на них с голыми руками.
Уже значительно позднее, 5 мая 1945 года, когда восставшие узники Маутхаузена овладели лагерем, среди захваченных ими в плен охранников оказался один эсэсовец, участвовавший в февральских облавах на бежавших смертников. Он рассказал, что когда беглецов обнаруживали, они обычно не сдавались живыми, а бросались душить эсэсовцев, впивались им в горло зубами и нередко успевали перед смертью убить одного из палачей. По его словам, во время этих облав эсэсовская охрана лагеря потеряла больше двадцати человек. Это не считая потерь местной полиции и войск, которые участвовали в облавах. А кроме того, сюда следует прибавить и другое потери. Говорят, что по приказу Гиммлера некоторые эсэсовцы из охраны блока смерти были расстреляны за то, что они допустили восстание и побег.
Больше недели продолжались эти облавы, с каждым днем росли штабеля трупов около крематория, и в конце концов эсэсовцы объявили о том, что «счет сошелся». Теперь мы знаем, что они лгали: часть узников так и не удалось найти.
Как же это случилось?
Виктор Украинцев, который во время штурма был в составе тройки, действовавшей огнетушителями, вырвавшись за стену и за проволоку, оказался вместе с одним из своих товарищей, Иваном Битюковым. Несколько часов они пробирались в темноте, уходя все дальше от лагеря, и, наконец, оказались на окраине небольшого австрийского местечка Гольшшйтен, около усадьбы бургомистра, ярого гитлеровца. Они пробрались в сарай этой усадьбы и там наткнулись на спящих людей, которые, проснувшись, не подняли тревоги, видя перед собой страшных, оборванных, измученных беглецов. Эти люди, спавшие в сарае, были батраки господина бургомистра, увезенные из своих родных мест на гитлеровскую каторгу: советские граждане Василий Логоватовский и Леонид Щашеро и с ними поляк Метык. Они сразу поняли, что пришли узники, бежавшие из Маутхаузена. Первым делом они накормили их вареной картошкой, приготовленной для скота, а потом, посоветовавшись, решили спрятать смертников на чердаке дома бургомистра — было мало шансов, чтобы эсэсовцы стали искать там. Батраки знали, что их беспощадно убьют, если узники будут обнаружены. Но они смело пошли на этот риск. И господин бургомистр Гольцляйтена, принявший самое активное участие в поимке бежавших и ежедневно выезжавший на облавы, вовсе не подозревал, что, когда он поздно ночью возвращался домой и ложился спать, над самой его кроватью, на чердаке, под кучей заготовленного на зиму клевера, скрываются двое из тех, кого он искал с таким рвением.
Две недели трое батраков прятали Украинцева и Битюкова, кормили их, воруя продукты у бургомистра, урезая для них свою скудную порцию еды, получаемой от хозяев. Потом, когда в округе все успокоилось, они достали беглецам гражданскую одежду, и однажды ночью, распростившись со своими спасителями, Украинцев и Биткжов двинулись дальше, на восток.
Вскоре судьба разлучила их — однажды они попали в немецкую засаду. Украинцева поймали, но он, зная язык, назвался поляком Яном Грушницким, стойко вынес все избиения и пытки на допросах и в конце концов снова попал в Маутхаузен, но уже в общий лагерь, в польский блок. Здесь он дожил до освобождения 5 мая 1945 года
И только после этого признался товарищам, что он один из спасшихся беглецов блока смерти. А Иван Битюков в одиночку еще долго шел на восток и уже на земле Чехословакии встретил наступающие советские войска.
Также вдвоем спаслись лейтенанты Иван Бакланов Владимир Соседко. Им посчастливилось уйти далеко от лагеря и они скрывались в лесах на протяжении нескольких месяцев, добывая себе пищу ночными рейдами в ближайшие деревни. Они боялись выходить из своего надежного лесного убежища и только 10 мая узнали, что фашисткая Германия разгромлена.
Владимиру Шепете удалось тоже несколько дней скрываться в окрестностях лагеря, достать гражданскую одежду, но в дальнейшем он все же был пойман гитлеровцами и, назвавшись вымышленным именем, попал в другой лагерь для советских военнопленных. Александр Михеенков был единственным уцелевшим из группы полковника Макарова. Остальных узников из этой группы переловили, а Михеенкову удалось скрыться в сарае для скота во дворе одного из австрийских крестьян. Он залез под стог старой соломы и выкопал себе под ним глубокую нору. Это спасло его: и хозяин и приходившие несколько раз эсэсовцы протыкали этот стог со всех сторон железными прутьями, но не могли нащупать беглеца. Дней десять он отсиживался в этом убежище, а потом двинулся на восток, перешел чехословацкую границу и до конца войны скрывался в доме приютившего его чешского патриота Вацлава Швеца.
Все они, возвратившись на Родину, никогда не забывали о клятве, которую вместе с товарищами дали, отправляясь в свой последний бой, — рассказать людям о том, что творилось в блоке смерти, о страданиях, борьбе и гибели своих товарищей. Но еще долго рассказы и воспоминания бывших узников оставались лишь достоянием их близких и друзей, — как известно, в то время у нас бытовало несправедливое, предвзятое отношение к людям, вернувшимся из гитлеровского плена. Только в последние годы, услышав мое выступление по радио, прочитав в газетах статьи Б. Сахарова, Ю. Королькова, А. Юрковой, уцелевшие герои восстания в блоке смерти отозвались один за другим.
Впервые бывшие товарищи по блоку смерти встретились в 1960 году в Новочеркасске. Туда повидаться с Виктором Украинцевым приехали Иван Битюков и Владимир Шепетя, Иван Бакланов и Владимир Соседко. Здесь произошла не только встреча героев блока смерти, но и первое послевоенное свидание Украинцева и Битюкова со своими спасителями — бывшими батраками бургомистра местечка Гольцляйтен шофером из города Клинцы Брянской области Василием Логоватовским и мастером Брянского машиностроительного завода Леонидом Шащеро. А два года спустя, осенью 1962 года, бывшие узники блока смерти съехались в Москву. Теперь им представилась возможность выполнить клятву, данную своим товарищам: они выступили перед миллионами людей в передаче московского телевидения. Тогда же их принял заместитель министра обороны Союза ССР Маршал Советского Союза Василий Иванович Чуйков. А в Советском комитете ветеранов войны состоялась волнующая встреча героев легендарного восстания с бывшими узниками общего лагеря Маутхаузен. Люди, прошедшие через ад страшного лагеря смерти, смотрели сейчас с удивлением и восхищением на тех, кто сумел вырваться из самых глубин этого ада. Они слушали рассказы бывших смертников и сами вспоминали о том, какое огромное впечатление произвели тогда восстание и побег из двадцатого блока и как этот подвиг стал примером борьбы для всех узников Маутхаузена.
Мы знаем сейчас семерых уцелевших после восстания узников блока смерти. Но можно с уверенностью сказать, что должны отыскаться и некоторые другие. Говорят, что тот самый эсэсовец, который был захвачен во время майского восстания и рассказал о своем участии в облавах на бежавших смертников, сообщил, будто в штабелях трупов около крематория тогда недосчитались около двадцати человек. Нет, счет далеко не «сошелся»: эсэсовцы объявили об этом только для устрашения остальных узников. По слухам, остался в живых один из руководителей восстания, майор Леонов. Совершенно точно известно, что уцелел после побега бывший лейтенант Михаил Иханов, тот самый Мишка-татарин, который был подручным палача блокового и уничтожил сам многие десятки смертников. Может быть, до сих пор ходит он по советской земле или скрывается где-нибудь за границей.
О каких-то двух тогда еще неизвестных нам узниках блока смерти, спасшихся после восстания рассказала в своем письме Лидия Мосолова из города Гомеля в Белоруссии. Угнанная из родных мест гитлеровцами, она батрачила у австрийца в селе Швертберг, в 7 километрах от Маутхаузена, Около четырех часов утра 3 февраля жители Швертберга были разбужены шумом мотоциклов и выкриками, раздававшимися на улицах села. Прибыла целая колонна эсэсовских мотоциклистов, которые начали обыскивать все дома и сараи. Уже после обыска хозяйка сказала своим батрачкам, что из лагеря Маутхаузен сбежали 500 большевистских комиссаров, приговоренных к смерти, и теперь их повсюду разыскивают. Все утро 9 окрестностях села слышались выстрелы и лай собак. Часов в 10 или 11 по улице провели большую группу пойманых беглецов человек 60–70, - окруженную плотным кольцом эсэсовцев. «Это было страшное зрелище, — писала Лидия Мосолова. — Одни скелеты, покрытые кожей, одетые в полосатые куртки и брюки, а на ноги их нельзя было смотреть. И они не шли, а брели еле-еле».
Как рассказывала Лидия Мосолова, и она и ее хозяйка не могли удержаться от слез при виде этих людей. А стоявший рядом с ними хозяин вдруг со страхом в голосе сказал:
— Мы пропали!
Его жена испуганно спросила:
— Почему? И он ответил:
— Ведь сюда придут русские. Разве можно простить такое злодейство?
Всю эту группу вывели на площадь и там расстреляли. А потом пришли машины из Маутхаузена, и трупы расстрелянных увезли в лагерь.
Долго еще в округе говорили об этом побеге, но постепенно все толки улеглись, и лишь в мае 1945 года, когда в эти места пришли американские войска, стало известно, что на хуторе Винден, в двух километрах от Швертберга, все это время скрывались двое беглецов из блока смерти. Как сообщила Л. Мосолова, их спрятал в своем доме старик крестьянин, у которого три сына были в гитлеровской армии. Когда двое беглецов появились в его дворе, он и его жена повели их на чердак своего дома и там спрятали. Как раз в это время в доме, говорят, гостил сын, служивший в армии и приехавший к отцу в отпуск. Быть может, поэтому эсэсовцы, охотившиеся за беглецами, не осмотрели достаточно внимательно этого дома. И до самого освобождения, в течение нескольких месяцев, эти старики скрывали и кормили своих тайных постояльцев. Лидия Мосолова писала, что 10 мая 1945 года она сама беседовала с одним из этих беглецов как раз накануне его отъезда на Родину. И она помнила, что его звали Николаем, а его товарища — Михаилом. Она указывала, что, может быть, более подробные сведения об этих двух участниках восстания и побега могут дать некоторые жители села Широкое Днепропетровской области, которые работали батраками на этом хуторе Винден.
Я надеялся когда-нибудь побывать в Австрии и съездить тогда на этот хутор. Но случилось так, что меня опередили. В 1963 году один из сотрудников нашего посольства в Австрии приехал по делам в район Маутхаузена и там встретился с местным жителем — предпринимателем Алоизом Лангталером. В разговоре тот упомянул случай на хуторе Винден и сказал, что спасителями двух смертников были его отец и мать. Сотрудник посольства, заинтересовавшись этим, поехал в Винден и побывал в семье крестьянина Лангталера, по-прежнему живущей сейчас в своем старом доме. Иоганн Лангталер и его жена Мария рассказали ему все подробности этой истории и назвали записанные у них фамилии двух спасенных ими героев блока смерти. Их звали Михаилом Рыбчинским и Николаем Цемкало. Позднее удалось найти обоих: Рыбчинский живет и работает в Киеве, Цемкало — в Луганске. Сейчас оба товарища по побегу установили связь и между собой и со своими спасителями семьей Лангталер.
А в 1964 году Рыбчинский и Цемкало побывали в Австрии и гостили несколько дней у своих вторых родителей — Иоганна и Марии Лангталер.
Словом, сейчас мы уже знаем девятерых из тех двадцати, которых, как говорят, не хватило эсэсовцам, пересчитывавшим казненных смертников у лагерного крематория. Будем надеяться, что найдутся и другие.
Поиски продолжаются. Уже найдены семьи некоторых погибших организаторов и руководителей восстания в блоке смерти. Под Москвой, в Люберцах, живет мать погибшего Героя Советского Союза подполковника Николая Власова. В Казани находится жена полковника Александра Исупова. В Москве и в Ростове живут братья Кирилла Чубченкова, тоже полковники, как и погибший герой. Нашлись семьи Геннадия Мордовцева, бывшего сержанта милиции из Красноярского края Александра Татарникова, который вел огонь из захваченного пулемета на вышке; отыскались родные других участников восстания.
Подвиг героев блока смерти, с такой силой и полнотой выразивший высокие душевные качества нашего человека, овеянный таким возвышающим душу трагическим героизмом, входит сейчас в историю Великой Отечественной войны как одна из тех ее страниц, что навсегда останутся особенно святыми и дорогими для сердца народа.
Катюша
Первое известие о ней пришло ко мне еще несколько лет назад, когда я рассказывал по радио о подвигах женщин на фронтах Великой Отечественной войны, Бывший морской врач-хирург, а теперь инвалид войны А, Н. Тищин из города Майкопа в коротком письме сообщал, что в Дунайской военной флотилии в разведке батальона морской пехоты служила героическая девушка — главный старшина Катя Михайлова. По его словам, эта девушка с оружием в руках участвовала во многих боях, ходила в боевые и диверсионные десанты, порой водила матросов в атаки, была не раз ранена, награждена несколькими орденами и медалями и стала любимицей и гордостью дунайцев, восхищенных ее мужеством и бесстрашием. А. Н. Тишин просил рассказать об этой героине и узнать где она сейчас живет и чем занимается. К письму была приложена вырезка из флотской газеты — портрет девушки с миловидным, типично русским лицом и со взглядом открытым, прямым, полным какой-то особой отчаянной смелости.
Девушка — боевой моряк, десантник, герой флотилии, любимица матросов! Случай весьма редкий, тем более что на флоте всегда существовало традиционное предубеждение против женщин. Видимо, Катя Михайлова в самом деле была незаурядным человеком.
В 1963 году я упомянул о ней в одной из телевизионных передач, просил откликнуться ее или тех, кто знает нынешнее местопребывание этой героини войны. И тотчас же на студию телевидения пришло несколько писем. Писали бывшие моряки-дунайцы, с восторгом вспоминавшие о подвигах отважной девушки и дополнявшие рассказ А. Н. Тишина новыми подробностями. Трое или четверо врачей из разных городов Союза сообщали, что после войны они учились вместе с демобилизованной морячкой Екатериной Михайловой в Ленинградском медицинском институте. Но никто из них не знал, где она находится сейчас.
Только месяц спустя почта принесла на телевидение необычайно лаконичную, деловую записку: «Мои товарищи по работе слушали Ваше выступление по телевизору. Вы просили помочь разыскать Катю Михайлову. Теперь у меня другая фамилия. Сообщаю Вам свой адрес. Демина Екатерина Илларионовна».
Адрес оказался совсем близким. Е. И. Демина жила в нескольких десятках километров от Москвы, в городе Электросталь, и работала врачом в заводской поликлинике. Вскоре мы встретились с ней.
Сейчас, глядя на эту моложавую маленькую женщину, очень трудно представить ее боевым моряком, прошедшим — не в переносном, а в самом буквальном смысле — сквозь огонь и воду бешеных сражений на Азовском и Черноморском побережьях, на отмелях Днестровского лимана, на берегах Дуная. И только особое, спокойное и скромное достоинство, с которым она держится, да тот же, что и на фотографии, прямой, уверенный и смелый взгляд серых глаз как бы говорит вам, что за плечами этой женщины большой и нелегкий жизненный путь и что за свой не столь уж долгий век она пережила и повидала такое, чего иным хватило бы на добрый десяток биографий. А между тем при всей своей необычности ее биография довольно типична для поколения девушек той жестокой и славной военной поры.
Вы помните почти символическую историю русской девушки Катюши из песни Михаила Исаковского и Матвея Блантера, которую мы так любили петь в предвоенные годы? Это история нежной, любящей певуньи, выходившей на берег весенней, повитой туманом реки.
Началась война, и вдруг по всем фронтам прокатилось ее имя, радостно-легендарное для нас, страшное для врагов. Катюша пришла в боевой строй народа, она стала нашим новым и грозным оружием — гвардейскими минометами.
История Катюши Михайловой очень похожа на историю ее тезки из знаменитой песни. Ей было шестнадцать, когда началась война. Дочь командира Красной Армии, оставшаяся в раннем детстве круглой сиротой, она воспитывалась в ленинградском детдоме, а потом жила в семье своей старшей сестры, врача. Девять классов да пришкольные курсы медсестер составляли все ее образование к лету 1941 года.
Брат, служивший в то время летчиком на границе, в Бресте, пригласил ее на каникулы приехать к нему. По дороге она несколько дней провела в Москве, обошла музеи столицы, побродила по улицам, а вечером 21 июня села в поезд, идущий на Брест. Утром, уже за Смоленском, ее разбудили взрывы: немецкие самолеты бомбили поезд, и она впервые увидела панику, кровь и смерть.
В одном легком платьице, с ручным чемоданчиком, где лежали только полбатона хлеба и кусок колбасы, она вместе с уцелевшими пассажирами пешком вернулась в Смоленск. На другое утро она пришла в городской военкомат и попросила послать ее на фронт медсестрой.
Осаждаемый толпой добровольцев, злой и бессонный военком с раздражением смотрел на маленькую девушку, стоявшую у его стола.
— Тебе в детский сад надо, а не на фронт, — жестко отрезал он и выставил ее из кабинета.
Катя вышла на улицу с тем же, но уже пустым чемоданчиком. В Смоленске она никого не знала. У нее не было никаких документов, — даже комсомольский билет она оставила дома, в Ленинграде. Но она не привыкла унывать. На окраине города оказался военный госпиталь, и она начала работать там добровольцем — помогать медсестрам и санитаркам. Потом фронт пододвинулся ближе. Однажды госпиталь разбомбили, а оставшихся раненых вывезли на восток. Тогда Катя пришла в стрелковую часть, занявшую оборону под Смоленском.
Так Катюша Михайлова вышла на берег войны, стала боевым солдатом переднего края. Она ходила в разведку, вместе с пехотинцами огнем отбивала атаки врага, перевязывала раны товарищей. Поздней осенью на дальних подступах к Москве под Гжатском ее тяжело ранило в ногу, и она попала в госпиталь, сначала на Урал, потом в Баку.
Катя с детства мечтала о море, о службе на кораблях. И как только ее нога немного зажила, она попросила бакинского военкома направить ее на флот. Теперь у нее были новые документы — комсомольский билет и справка о ранении, и в них, чтобы к возрасту ее не придрались, она прибавила себе два года.
Ее послали медсестрой на санитарный корабль. Шли бои под Сталинградом, санитарные суда поднимались вверх по Волге, забирали раненых и везли их через море в Красноводск. И тут оказалось, что Катя обладала качествами настоящего моряка — осенний штормовой Каспий не мог укачать ее, в самые сильные бури она оставалась на ногах.
Здесь ей вскоре присвоили звание главного старшины и наградили знаком «Отличник Военно-Морского Флота». Но служба на санитарном транспорте тяготила девушку, ей хотелось перейти на боевой корабль или во фронтовую морскую часть.
Летом 1942 года она узнала, что в Баку из добровольцев формируется батальон морской пехоты для Азовской военной флотилии, и явилась к комбату. Тот, истовый и суровый моряк, отказал наотрез: «Женщин не берем». Она пришла во второй, в третий раз, но никакие уговоры не помогали. Тогда Катя написала письмо в Москву, в правительство, и оттуда было получено предписание зачислить ее в батальон.
Комбату оставалось только подчиниться. Но моряки встретили ее недружелюбно. Им казался чуть ли не оскорблением приход в батальон девушки, да еще маленькой, хрупкой на вид. Кто-то из остряков-одесситов тут же наградил ее насмешливым прозвищем «шмакодявка». Но Катя стойко сносила все насмешки и не позволяла себе никаких поблажек ни в службе, ни в учебе. С самого начала она стала полноправным товарищем морских пехотинцев.
А потом, перед отправкой батальона на фронт, был 50-километровый марш-бросок по палящей кавказской жаре, с полной выкладкой, причем часть пути предстояло пройти в противогазах. И тут Катя удивила моряков. Не все здоровяки-матросы выдержали этот трудный переход: одних свалил солнечный удар, другие натерли ноги, и кое-кто из бойцов оказался в шедшей следом санитарной машине. Но Катя шагала, ни разу не отстав, не выбившись из сил, и даже подбадривала товарищей и помогала им. «Гляди ты, на вид шмакодявка, а какая выносливая!» — озадаченно говорили морские пехотинцы. И она почувствовала, что отношение к ней сразу изменилось.
Никто из матросов не знал, что на обратном пути Катя то и дело незаметно ощупывала раненую ногу. Она распухла и сильно болела — девушке стоило больших усилий не захромать. Когда в десяти километрах от Баку сделали привал и Катя присела на траву, она с ужасом почувствовала, что уже не сможет встать.
В это время духовой оркестр, высланный навстречу морякам, заиграл вальс, и молодой лейтенант остановился около Кати.
— Ты у нас одна девушка. Пойдем потанцуем, — пригласил он ее.
И хотя от боли у нее темнело в глазах, она встала и пошла кружиться по траве, потому что больше всего на свете боялась, как бы командиры не узнали про больную ногу и не отчислили ее из батальона. А когда вернулись в расположение части, она несколько дней потом пролежала в отведенной ей комнате, сказавшись больной гриппом. Мало-помалу раненая нога снова пришла в норму.
Летом 1943 года морских пехотинцев перебросили на Азовское побережье. Там начался боевой путь батальона, который пролег потом на многие сотни километров и закончился в столице Австрии Вене.
Три боевых ордена, пять боевых медалей бережно хранит дома Е. И. Михайлова-Демина. И за каждой из этих наград — важный, незабываемый этап ее фронтового пути. Каждая из них олицетворяет собой берег, на который Катюша Михайлова выходила с боем вместе с товарищами, берег, занятый фашистами, изрыгающий огонь и смерть.
Медаль «За отвагу». Это взятие Темрюка, боевое крещение, нового батальона. Это десант в плавнях, когда вода в тихих заводях вставала столбами под взрывами мин, кипятком кипела под пулями и камышовые стебли, срезанные как невидимой косой, падали на головы десантникам. Она была там, в самой каше, ходила по грудь в соленой воде, стреляла, втаскивала в лодки раненых. Темрюк — маленький городок, но он стоил дорого: больше половины батальона осталось там, в плавнях и на берегу.
Орден Отечественной войны. Керчь. Ночной десант в шторм на пустынном берегу и потом на много дней маленький «пятачок» отвоеванного врукопашную плацдарма у деревень Жуковка и Глейка. По ночам с таманского берега прилетали девушки-летчицы на трескучих «У-2» и сбрасывали морякам сухари и консервы. А колодец с пресной водой был на ничейной земле — между немецкими и нашими окопами. Ночью удавалось набирать воду, днем людей мучила жажда. И только Катя иногда выручала моряков.
Немцы уже успели узнать, что среди матросов, обороняющих маленький плацдарм, есть одна девушка. Они даже знали ее имя. Бывало, в часы затишья из немецких окопов кричали:
— Рус матрос! Рус Иван! Покажи Катюша! Стрелять — нет.
Тогда она, оставив на бруствере свой автомат, брала ведро и во весь рост шла к колодцу. «Катя, вернись! Катюша, убьют!» — кричали вслед матросы. Но она шла, и немцы не стреляли, они, смеясь, высовывались из окопов, махали ей руками и играли на губной гармошке: «Выходила на берег Катюша». Девушка возвращалась с полным ведром и поила моряков.
Наступил день, когда они атаковали врага, отбросили его и соединились с войсками, занявшими окраины Керчи. Там, у завода Войкова, они однажды были окружены гитлеровцами — несколько десятков моряков, группа раненых и она, Катя.
Немцы потребовали, чтобы они сдались, угрожая взорвать заводское здание, где засели моряки. В ответ они дали клятву умереть в бою. Раненые кровью писали на стенах: «Здесь стояли насмерть моряки!», «Будут помнить, гады, моряков на берегу!» Им удалось продержаться до ночи, а потом с боем проявиться сквозь кольцо врага. При этом они вынесли с собой всех раненых.
Крым был освобожден. Наступала очередь Дуная. Батальон перебросили под Одессу, и он вошел в состав Дунайской военной флотилии. — Первой боевой операцией дунайцев стал штурм Белгорода-Днестровского.
Его брали ночью, высаживаясь с резиновых шлюпок у обрывистого берега днестровского лимана. Высаживались под пулеметным огнем врага, при ярком сиянии осветительных ракет. В воде у берега было семь рядов колючей проволоки, а за ними поднимался пятиметровый обрыв, с гребня которого строчили пулеметы и летели в атакующих десантников немецкие гранаты.
Первый штормтрап, сброшенный с катера, где находилась Катя, подорвался на мине. По второму впереди других спрыгнула в воду девушка. Крича «ура!» и свое неизменное «полундра!», моряки забросали проволоку шинелями и плащ-палатками. Катя одной из первых оказалась под обрывом. Маленькая, ловкая, она, цепляясь за корни и ветки кустов, быстро забралась наверх и, спустив вниз обмотки, втаскивала к себе товарищей, поднимала пулемет. Потом они кинулись в атаку и очистили гребень от фашистских пулеметчиков. Утром Белгород-Днестровский был взят. Катя получила здесь легкую рану, а позднее командующий вручил ей за этот бой первый орден Красного Знамени.
Начался памятный освободительный поход по Дунаю — дорога с боями через Румынию, Болгарию, Югославию, Венгрию, Чехословакию и Австрию. Вот они, медали «За освобождение Белграда», «За влитие Будапешта», «За взятие Вены». Но из всех боев самый памятный для нее — штурм крепости Илок в декабре 1944 года.
Илок стоит на высокой горе над Дунаем в районе югославского города Вуковар. Брать его надо было со стороны суши, но, чтобы отвлечь силы врага, на маленький дунайский островок около крепости высадился десант — полусотня морских пехотинцев, среди которых находилась и Катя Михайлова.
Дунай разлился, затопил низменные берега, и, когда ночью катера привезли десантников на островок, он оказался под водой. Тогда моряки устроились на ветвях полузатопленных деревьев и открыли огонь, привлекая на себя внимание противника.
Гитлеровцы всполошились: островок был совсем рядом с крепостью. На десантников посыпались мины, и пехота врага на шлюпках с пулеметами окружила их.
Появились раненые, убитые. Вражеская пуля пробила Кате руку. Она наскоро перетянула рану и продолжала стрелять. Но ей приходилось и перевязывать раненых товарищей. Порой по горло в холодной декабрьской воде она ходила от дерева к дереву, взбиралась на ветки к раненым и привязывала их к стволу бинтами и поясными ремнями, чтобы не свалились вниз. Когда перевязывать было некого, она снова из автомата отбивалась от наседавших гитлеровцев.
Через два часа из пятидесяти десантников осталось лишь тринадцать боеспособных, но и они все были ранены. Подходили к концу боеприпасы. Положение было критическим, когда они услышали вдали «ура!» и вспыхнувшую в районе крепости перестройку. Воспользовавшись тем, что противник оттянул силы на подавление десанта, наша и югославская пехота кинулась вперед и взяла Илок с суши. Десантники выполнили свою задачу.
Катю, уже ослабевшую от потери крови, окоченевшую в ледяной воде, оставшиеся в живых десантники перенесли на руках в подошедший катер. Рана была серьезной, хотя пуля и не задела кости. Вдобавок сказалось двухчасовое пребывание в ледяной воде, и Катя тяжело заболела. В конце концов ее отправили в тыловой госпиталь моряков в Измаил.
Оправившись после болезни, она нетерпеливо ловила доходившие с фронта известия о родном батальоне. Шла будапештская битва, и десантники вели бои в венгерской столице. Катя рвалась туда, но врачи не отпускали — рана на руке еще не зажила.
И вдруг раненая исчезла. Она попросту сбежала из госпиталя на фронт, к своим. Врачи подняли тревогу, и по всем дунайским городам, где стояли гарнизоны флотилии, были разосланы распоряжения задержать и вернуть обратно беглянку. А Катя тем временем со своей забинтованной рукой «голосовала» на дорогах и мало-помалу продвигалась на попутных машинах к фронту. У моряков она находила приют и пищу — друзья были повсюду.
В Галаце ее чуть не поймали. Она заночевала у дружков-матросов в порту, как вдруг появился офицер — старший морской начальник порта. Мгновенно девушку спрятали в шкаф. На вопрос, не была ли здесь сбежавшая из госпиталя главстаршина Михайлова, матросы с невинным видом отвечали; «Никак нет. Не видели». А когда строгий старморнач ушел, девушку поспешно устроили на шедшую мимо машину и отправили дальше. Она догнала свой батальон за Будапештом, около Комарно, и снова участвовала во всех боях и десантах, в том числе и в знаменитом штурме имперского моста в Вене, когда моряки среди бела дня высадились в глубине расположения противника и в яростной атаке захватили и удержали до подхода своих единственный сохранившийся мост австрийской столицы.
Катя Михайлова за бой под Илоком была представлена к званию Героя Советского Союза. Бывший в командующий Дунайской флотилией вице-адмирал Г. Н. Холостяков вспоминает, что вышло с этим представлением. В наградном листе написали примерно так: «Главстаршина Екатерина Михайлова, будучи сама ранена, стоя по горло в воде, участвовала в бою и оказывала помощь другим раненым». В наградном отделе, прочитав это описание подвига, сочли его явным вымыслом и вернули представление в штаб флотилии.
— Что мне оставалось делать? — говорит вице-адмирал Холостяков. — Как командующий, я мог своей властью наградить ее только вторым орденом Красного Знамени. Это я и сделал перед строем моряков.
Пришла победа. Распрощавшись с боевыми товарищами, демобилизованный главстаршина в черной, видавшей виды морской шинели и с тощим вещевым мешком за плечами вернулась в родной Ленинград. Уже не было у нее дома, не было родных — сестра и ее муж погибли на фронте, брат-летчик пал смертью героя в последие дни войны, она почувствовала себя одиноко и трудно.
Сколько молодых людей, выдержав испытание войной, не выдержали потом испытаний мирной трудовой жизни! Для многих из них, пришедших на фронт со школьной скамьи, слишком труден оказался переход к нормальной человеческой обстановке с необходимостью учиться, работать, с будничными хлопотами и заботами о пище, о жилье, об одежде.
Катя Михайлова принесла с войны не только мужество перед лицом опасности, уменье смотреть смерти в глаза. Служба на флоте еще больше закалила ее упорный характер, приучила идти к цели через все препятствия, не бояться никаких трудностей, никакой тяжелой работы.
Она уже давно решила что станет врачом, и сразу же после приезда в родной город подала заявление в Ленинградский медицинский институт. Ее приняли на льготных условиях, как фронтовика. Но каким тяжким и долгим сражением оказалась для нее на первых порах эта учеба!
Ей только недавно исполнилось двадцать лет, и она была почти однолеткой других первокурсников, пришедших сюда после школы-десятилетки. Но они казались детьми по сравнению с ней, человеком такой насыщенной биографии, боевым моряком, фронтовым коммунистом, воином, прошедшим сквозь пекло сражений и не раз пролившим кровь. Зато в другом сверстники оставили ее далеко позади: они пришли в институт хорошо подготовленными, а у нее за четыре года войны школьные знания изрядно выветрились. Надо было догонять товарищей, и как можно скорее.
Но надо было есть и одеваться — Катя не привезла с фронта никаких трофеев. Маленькая студенческая стипендия и те скудные послевоенные годы не могла прокормить даже привычного ко всему фронтовика. Приходилось работать то ночным сторожем, то резчицей овощей на базе, то санитаркой в больнице. И каждую свободную минуту учиться, учиться с тем же каменным морским упорством, не отдыхая, урывая часы от сна, пользуясь дружеской помощью товарищей.
Катюша вышла на этот крутой гранитный берег науки. Она прошла через это, как сквозь бои на фронте, и оказалась победительницей, как и там. Диплом врача она праздновала, словно День Победы. И молодой подмосковный город Электросталь радушно принял молодого медика. Здесь она встретила своего будущего мужа — конструктора В. П. Демина, такого же фронтовика, только не моряка, а связиста. Здесь у нее родился сын. Здесь она впервые вошла в свою квартиру, предоставленную ее семье заводом.
Мирная, простая женщина-врач, оберегающий здоровье людей, жена, мать, хозяйка дома. И только фронтовые фотографии в альбоме, ордена и медали в коробочке да шрамы, оставленные немецким железом, напоминают о том, что было двадцать лет назад. Да еще до конца жизни останется особое, благодарное, теплое чувство к флоту, к морякам, которые в те суровые военные годы любили и берегли ее, как сестру, и гордились ею, как героиней.
Почетная биография! Достойный путь замечательной советской женщины, славной русской Катюши!
Этот очерк был напечатан в «Правде» в Международный женский день 8 марта 1964 года. И как только читатели познакомились с боевой биографией Кати Михайловой, поток писем хлынул и в редакцию «Правды» и в город Электросталь на имя самой героини. Порой, не зная точного адреса Е. И. Деминой, на конвертах писали: «Электросталь Катюше». И письма эти всегда безошибочно находили адресата — почтальоны уже знали, о ком идет речь. Люди самых разных возрастов, профессий, живущие в различных уголках Советского Союза, спешили поздравить героическую женщину-моряка с праздником 8 марта, выражали свое восхищение ее подвигами, посылали ей свои лучшие пожелания. И со всех концов страны тотчас же отозвались прежние фронтовые товарищи Катюши Михайловой — моряки Дунайской флотилии.
Не впервые приходилось мне разбирать такую почту — отклики на статью или телевизионный рассказ о герое войны. Редко случается, чтобы среди потока писем, подтверждающих и дополняющих то, что ты написал об этом человеке, не попалось два-три кислых, а то и сердитых отзыва. Человеческие отношения сложны — к ним всегда примешиваются личные симпатии и антипатии, давние счеты и обиды или просто даже обычная зависть. Да и сам герой никогда не бывает «сверхчеловеком»; он способен не только совершать подвиги, но и допускать иногда какие-то ошибки, проявлять какие-нибудь человеческие слабости. Глядишь, кто-то не забыл об этом и решил подбавить ложку дегтя к твоему рассказу о герое.
Должен сказать, что меня просто поразило редкое единодушие бывших моряков-дунайцев в их отношении к Катюше Михайловой. Среди большого потока писем не было ни одного «кислого» или даже сдержанного отклика. А моряки, как известно, народ не сентиментальный и даже непримиримый, не прощающий малейшего малодушия, слабости воли в боевой обстановке. Они не так просто дарят человеку свое доверие, дружбу и уважение, их симпатию очень нелегко заслужить. Но, судя по их письмам, Катюша и в самом деле была их любимицей, их гордостью. Посмотрите сами, что пишут эти матросы и офицеры, столько сделавшие и повидавшие за годы войны, прошедшие через сто смертей и не привыкшие зря выражать свое восхищение.
Из далекой Якутии, из города Мирного, бывший моряк-десантник Петр Мануйлов так пишет о ней:
«Сильная духом, скромная, веселая. Помню, в уличных боях в городе Керчи немецкий танк бил прямой наводкой в дом, откуда мы отстреливались, и в это время Катя нас рассмешила. Она отважная была. Мы, моряки-десантники, про нее песенку пели. Песня была, правда, всем известная „Катюша“, но наши ребята выбросили из нее несколько слов и вставили фамилию Михайловой. Пели в блиндаже „под гитару“».
«При всех операциях и десантах Катя находилась с нами, разведчиками, — пишет радиомеханик из Краснодара, ударник коммунистического труда и депутат райисполкома В. С. Петренко. Больше всего ее влекли к нам постоянный риск, желание быть всегда впереди, первым наносить удары по врагу. Весь боевой путь, начиная с Темрюка и кончая Веной, прошла Катя вместе с нами».
«Мы, твои бывшие товарищи, не удивляемся, что о тебе написана в газете статья, — обращается к Е. И. Деминой В. Каялов из Омска. — Ведь мы хорошо знаем, что ты это заслужила. Мы, Катя, всегда тобой гордились, оберегали тебя. У меня лично (это, видимо, многие тебе будут говорить в письмах) сохранились о тебе самые теплые, душевные воспоминания, как о хорошем товарище, друге, милой и чистой девушке. Это я сохраню на всю жизнь, поверь!»
«Все, от командира до матроса, называли ее Катюшей, — пишет бывший пропагандист батальона, а теперь капитан второго ранга в запасе Анатолий Ежиков из Рязани — Почет, уважение, всеобщее признание, которым она была окружена, в то время мог завоевать только храбрый человек, хороший друг, товарищ, брат по оружию. Человек большой смелости, храбрости и в то же время исключительно скромная — такой мне запомнилась Катюша. У нее никогда не проскальзывало свое „я“, и она не любила, когда распространялись о ее геройских делах. Помню, когда после илокского боя я встретился с Катей в городе Рени (где располагался штаб батальона) и просил рассказать об этой операции и о ее подвиге, Катюша, как обычно, ответила: „Операция как операция, особенного ничего не было“. А ведь сложность этой операции заключалась не только в том, что небольшая группа моряков выдержала долгий и неравный бой в окружении, но и в том, что это происходило в зимнее время и в ледяной воде. Когда наши катера пришли, чтобы снять оставшихся в живых десантников, то некоторых было трудно оторвать от деревьев — так они закоченели».
«Для нас, рядовых матросов-десантников, Катюша была святым человеком, пишет другой ее товарищ, капитан-лейтенант запаса Николай Николаев из Куйбышева. — Не было ни одного человека в батальоне, кто мог бы сказать о ней плохо. Если можно так выразиться, ее мужество было „правофланговым“ в батальоне. Она была для нас верной боевой подругой, и ее имя должно занять достойное место в боевой истории нашей Родины. Велика слава Даши-севастопольской, но не менее велика и прекрасна слава нашей родной Катюши — черноморской и дунайской».
Из писем однополчан стали известны новые эпизоды боевой биографии Кати Михайловой, о которых сама она то ли забыла, то ли умолчала по скромности. Бывший десантник, а теперь железнодорожный проводник Павел Жаров из Ростова-на-Дону так описывает бой за Белгород-Днестровский:
«При форсировании Днестровского лимана немцы обнаружили нас недалеко от берега, когда мы еще находились в воде. Начальником штаба нашего отряда был старший лейтенант Богородский. Его тяжело ранило разрывной пулей, он начал падать в воду. Я заметил это и бросился на помощь, поддержал его руками и потащил по воде к берегу. Но впереди оказалась колючая проволока в несколько рядов, а немцы бьют из пулеметов, автоматов, бросают гранаты. И вдруг под пулями и осколками гранат подбегает Катюша. Мы взяли старшего лейтенанта на руки и понесли через проволоку, забросав ее плащ-палатками и чем попало. Вынесли его на берег под обрыв. Катюша перебинтовала командиру рану и быстро исчезла с автоматом в руках. Старший лейтенант Богородский благодаря ей остался жив».
Как известно, Катюша «исчезла», взобравшись первой наверх, на обрыв. А теперь из письма одного из товарищей стало известно, что после того, как девушка помогла влезть на кручу другим морякам, она кинулась в сторону, откуда бил гитлеровский пулемет, и забросала его гранатами, уничтожив весь расчет.
Командир одного из дунайских бронекатеров, а теперь старший лаборант кафедры физики в Саратовском пединституте Леонид Честнов познакомился с Катюшей в госпитале, где она лежала после ранения под Илоком. Он вспоминает, с какой теплотой она говорила о своих ребятах-разведчиках, и все беспокоилась: «Как они там без меня воюют?»
Мы уже знаем, что в конце концов она не выдержала госпитального безделья и сбежала на фронт, догнав свой батальон за Будапештом. Бывший разведчик Алексей Чхеидзе из Тбилиси рассказывает в письме о бое за один дунайский мост, в котором Катя участвовала с еще не зажившей раной на руке.
Этот мост соединял венгерский городок Комаром и чехословацкий город Комарно. Он был заминирован, и немецкие саперы уже подожгли бикфордовы шнуры, когда группа разведчиков, среди которых находилась и Катя, под обстрелом врага подбежала к мосту. Они были авангардом десанта. Все решали секунды, и моряки кинулись вперед. Разведчик Георгий Веретенников добежал до горящих шнуров и оборвал их. Катя оказалась рядом с ним, и, пока он затаптывал тлеющие шнуры, она, увлекая за собой весь десант, бросилась с автоматом через мост и первая ворвалась на улицы Комарно. «После этого, пишет Чхеидзе, — Георгий Веретенников от имени всего отряда флагманских разведчиков в знак глубокого уважения к ее мужеству подарил ей свои золотые часы в форме сердца».
Бывший член Военного Совета Азовской и Дунайской военных флотилий контр-адмирал А. А. Матушкин сейчас находится в запасе и живет в Москве. В свое время он подписал представление Кати Михайловой к званию Героя Советского Союза за бой у югославской крепости Илок, которое, как известно, было возвращено назад из-за того, что в наградном отделе не поверили в описанный там подвиг девушки. А. А. Матушкин прислал в редакцию «Правды» письмо, в котором подтверждает все факты, изложенные в очерке «Катюша», и дополняет их новыми подробностями.
«В бою за Керчь, — пишет он, — пробив плотную завесу огня, корабли на больших скоростях подходили к уцелевшим, но разбитым причалам. Несмотря на плотный губительный огонь, военные моряки выскочили на стенку и метр за метром очищали от врагов берег. Среди первых выскочила на берег Катюша. Немцы, оправившись от первых ударов, многократно атаковали позиции батальона, но каждый раз откатывались назад. Е. И. Михайлова на своих плечах вынесла из боя не один десяток раненых бойцов, а часто ей приходилось вместе со своими товарищами отбивать атаки наседающего врага. Тем более что она автоматом, пулеметом и всем стрелковым оружием владела мастерски.
Во время штурма Белгород-Днестровского в пылу боя около взвода морских пехотиндев во главе с капитаном Ивановым оторвались от основных сил батальона и были отсечены противником Разгорелась жаркая схватка (вплоть до рукопашной), в которой капитан Иванов был убит. Среди окруженных противником десантников произошло короткое замешательство. Катюша, которая находилась в этой группе, со словами: „Вперед, братва! Наши близко!“ — поднялась во весь рост, а за нею и все остальные ударили по цепи окружения противника и соединились с основными силами батальона. Катюша в этом бою была легко ранена».
Рассказывая о памятном бое десантников на полузатопленном дунайском островке у крепости Илок, контрадмирал Матушкин высоко оценивает мужественное поведение серьезно раненной тогда Кати Михайловой. «Когда бой кончился, — говорит он, — боевые друзья Катюши бережно, на руках вынесли ее из воды, и вскоре она была эвакуирована на плавучий госпиталь флотилии. В тот день я обходил раненых в этом бою и прибывших на плавгоспиталь. Зашел и к Катюше. Она была в полузабытьи, так как, кроме тяжелого ранения, она серьезно простудилась, находясь по горло в холодной декабрьской воде, и заболела двухсторонним воспалением легких. На флотилии Катюшу любили все, а тем более ее коллеги — медики. Они очень много сделали, чтобы спасти жизнь Катюши (а она длительное время была между жизнью и смертью), поднять ее на ноги и вернуть в отряд. И им это удалось».
«За совокупность боевых подвигов Катюши, — заключает А. А. Матушкин, ив особенности за ее последний подвиг Военный Совет флотилии представил Катюшу к званию Героя Советского Союза. Но, вероятно, мы не сумели должным образом обосновать это. Поэтому убедительно прошу ходатайствовать перед правительством, чтобы восстановить справедливость и присвоить Е. И. Деминой звание Героя Советского Союза, к которому она представлялась ранее. Она это воистину заслужила».
Обратились с письмом в редакцию «Правды» также бывший командующий Дунайской военной флотилией вице-адмирал Г. Н. Холостяков и бывший начальник штаба флотилии капитан первого ранга А. В. Свердлов. «Героические действия главного старшины Михайловой Е. И., неоднократно отмечавшиеся в морских десантах под Темрюком, Керчью и Белгород-Днестровским, достигли своей вершины в бою за Илок, — пишут они. — Командование флотилии представляло Е. И. Михайлову к званию Героя Советского Союза, но подлинному героизму, осуществленному в крайне сложных условиях, не поверили органы, ведавшие оформлением, и представление возвратили. Пришлось властью командующего флотилией ограничиться награждением Е. И. Михайловой орденом Красного Знамени. Героизм главного старшины Е. И. Михайловой является исключительным примером беззаветного служения своей социалистической Родине и заслуживает быть достойно отмеченным».
Рабочий таганрогского завода «Красный котельщик», бывший старшина Дунайской флотилии Иван Дроздов пишет, каким замечательным, отзывчивым товарищем была для него Катя Михайлова. Под Илоком, в том самом памятном десанте, он получил тяжелое ранение в живот, и девушка сделала ему первую перевязку. Уже после войны, в 1947 году, из-за этой раны Дроздову пришлось перенести операцию. Его направили в военно-морской госпиталь, в Ленинград. Катя вскоре узнала о приезде своего сослуживца и тотчас же пришла к нему.
Это было трудное время для девушки — она и работала и училась, напряженно догоняя однокурсников, но навещать боевого друга она считала своим важным долгом. Три месяца, пока Дроздов лежал в госпитале, она бывала у него, уговаривала его согласиться на сложную операцию, поддерживала больного, внушала ему уверенность в успехе врачей. С глубокой благодарностью вспоминает сейчас об этом бывший моряк. «У нее хорошая, простая русская человеческая душа», — заключает он.
Герой всегда герой — и в бою, и в мирной работе, и в учебе. Те, кто учился с Катей Михайловой в Ленинградском медицинском институте, не забыли, как много трудилась эта девушка, наверстывая упущенное в годы войны, как, бывало, поздно вернувшись с работы в общежитие, она, до предела усталая, и в постели не расставалась с учебником. Потом сон окончательно одолевал ее, она с книгой в руке засыпала на два-три часа, но, едва проснувшись, снова принималась читать. «Она была великой труженицей», — пишет о Кате одна из ее бывших сокурсниц.
А вот какова нынешняя Катя Михайлова, врач из города Электросталь Е. И. Демина. Я беру эти строки из письма в редакцию «Правды», подписанного секретарем Электростальского городского комитета партии М. Василенко и председателем исполкома горсовета Н. Малинкиным.
«Боевой путь Екатерины Илларионовны теперь хорошо известен, — пишут они. — Электростальцы имеют все основания сказать, что в дни мира она осталась образцом гражданина и коммуниста, скромного труженика, рядового великой армии строителей коммунизма.
Екатерина Илларионовна с 1950 года, сразу же после окончания института, начала работать врачом заводской поликлиники. Уже в 1953 году ее назначили заведующей лабораторией. Лаборатория только создавалась, дело для всех было новое, не было лаборантов. Екатерина Илларионовна, как и в грозные дни боев, забыв об усталости, с огромной энергией взялась за выполнение этой сложной задачи. В самые короткие сроки были подготовлены необходимые кадры, которые под ее руководством успешно освоили сложное оборудование и методику исследований.
Коммунист Е. И. Демина — человек удивительной скромности. Партийная организация поликлиники не раз поручала ей, как агитатору, проводить беседы — и в коллективе поликлиники, и в агитпункте среди населения, и в школе. Она много рассказывала своим слушателям о подвигах советских людей в дни Отечественной войны, но никогда ни одним словом не обмолвилась о том огромном ратном труде, который выпал на ее долю.
…За свой добросовестный труд, за чуткое, отзывчивое сердце, за принципиальность Екатерина Илларионовна пользуется настоящим, большим авторитетом среди электростальцев, которые знают и любят ее.
В 1963 году коммунисты города избрали ее членом Электростальского ГК КПСС. Она активно выполняет все партийные поручения, принимает самое деятельное участие в работе городского комитета партии».
Так за строчками всех этих писем раскрывается все шире и полнее большой, цельный, поистине героический характер маленькой скромной женщины ветерана великой войны. И, конечно, такая биография, такой характер не могли оставить равнодушными читателей. Их письма были полны самых горячих, сердечных чувств.
«Дорогая, дорогая Катюша — Екатерина Илларионовна! — говорится в одном из писем. — Сегодня многие прочитавшие о Вас, вероятно, пошлют Вам, как и я, приветственные письма, но не всем исполнится скоро 90 лет и 70 лет беспрерывного стажа на фронте искусства. Примите мои объятия, сердечный материнский поцелуй, пожелания большого, крепкого здоровья и очень долгой жизни. Вам, дорогой героине, я благодарна за все доброе, что Вы сделали. Елена Фабиановна Гнесина».
Это письмо прославленного ветерана нашей музыки, основательницы известного музыкально-педагогического института и училища имени Гнесиных.
«Сегодня прочитал рассказ о Вашей замечательной жизни, — пишет читатель Н. Шумский из Саратова. — Преклоняюсь перед такими людьми, как Вы. У Вас мужественное и доброе сердце, несгибаемая воля… Жизнь не испытывала меня так сурово, как Вас. Думаю, что я слабее Вас духом, хоть я и мужчина. Ваш сын должен гордиться своей матерью, а муж — женой. Адрес свой не указываю ни к чему. Хочу просто выразить Вам свое восхищение за то, что Вы такой замечательный человек».
«Прошу через газету передать нашей Кате Михайловой — именно нашей большое, большое спасибо от темрючан. Ведь она одна из тех, кто боролся за освобождение нашего родного города Темрюка. Идешь сейчас по улицам Темрюка и думаешь: сколько трудностей перенесла наша славная морячка Катя Михайлова, чтобы нам радостно жилось! Мы никогда не забудем Вас, Екатерина Илларионовна, наша славная героиня, чьи подвиги будут бессмертным примером для нас, комсомольцев. От всей души приглашаем Вас в наш город Темрюк. Посмотрите, каким он сейчас стал. Вы будете у нас настоящим почетным гостем. С комсомольским приветом Галина Серебрянская, оператор Темрюкского узла связи».
«Ваша фотография с наградами за героизм, которую нам с трудом удалось достать в 1954 году в штабе Дунайской флотилии, восхищает наших посетителей — они подолгу задерживаются у этого портрета, — пишет Е. И. Деминой научный сотрудник Белгород-Днестровского краеведческого музея В. Яковлев. Учащиеся, студенты, туристы, все посетители задают вопросы: а где сейчас тов. Михайлова? Какова ее судьба? Но фото Ваше молчало 10 лет. Кроме Вашей девичьей фамилии, инициалов и того, что Вы участвовали в боях за город Белгород-Днестровский, никто о Вас ничего не знал. Ваш боевой путь в годы Великой Отечественной войны, прошедший через наш город, является ярким примером советского патриотизма, мужества и стойкости в борьбе за наши идеалы. На примере Вашей жизни должна воспитываться наша молодежь».
«Вы служите блистательным примером для всех. Я плакала над Вашей биографией, полной высокого мужества и любви к Отечеству, — вторит В. Яковлеву учительница Ф. Фурманова из Москвы. — Скоро я уезжаю в ряд городов Урала и Казахстана, чтобы читать лекции по воспитанию. Как маяк, Вы передо мной. Готовлюсь начать свои лекции рассказом о Вас. Вы и Ваши глубокие чувства преданности Родине словно войдут в залы и откроют сердца людей для больших дел в труде и быту. Я так заряжена Вашим обликом, что расскажу хорошо о Вас».
«В день 8 марта наш третий класс „Б“ приняли в пионеры. Мы заслужили право учиться в ленинской комнате, — пишут героине школьники из поселка Афинского Краснодарского края. — Выбирая имя отряду, мы решили в память Вашей юности назвать наш отряд именем Катюши Михайловой. Просим у Вас на это согласия». А юные туристы из Керченского дома пионеров, приглашая в гости Е. И. Демину, рассказывают ей, как растет и хорошеет их город, за который она воевала. «Нам дорого Ваше имя, мы очень хотим быть похожими на Вас и так же любить свою Родину, как Вы», — пишут они.
Приглашений было много. Из Минска писал бывший командир Могилевского партизанского соединения С. Г. Сидоренко-Солдатенко: «Позвольте мне от имени всех моих боевых друзей горячо и сердечно приветствовать Вас, героя борьбы и труда. Мы дружески обнимаем Вас и приглашаем к себе в гости в Минск столицу белорусского народа, проявившего героизм в борьбе и труде во славу Родины». Звали посетить их супруги Ребровы из Москвы, семья Плеклер из города Николаева, приглашал приехать вместе с семьей в гости бывший сослуживец Кати Михайловой, комсорг батальона морской пехоты, а теперь капитан первого ранга Д. А. Дюков. «Горжусь тобой, Катюша, и с благодарностью вспоминаю тебя и нашу совместную службу в годы войны», писал он.
В эти дни отыскались многие прежние друзья и знакомые дунайской героини. Из Баку приехал в Москву фотокорреспондент Азербайджанского телеграфного агентства С. Кулишев. Прочтя очерк в «Правде», он вспомнил, что в годы войны снимал Катю Михайлову и когда батальон морских пехотинцев проходил в Баку боевую подготовку и позднее, в дни боев под Керчью. Он отыскал в своем архиве старые негативы и привез в подарок Е. И. Деминой памятные фронтовые фотографии. А в архиве фотокорреспондента «Правды», известного нашего мастера Евгения Халдея нашлась еще более интересная фотография девушки-моряка. Он снял ее в 1943 году, в разгар боев за Керчь, в окопе, на плацдарме, только что занятом моряками, когда Катя в боевой обстановке перевязывала раненого. Обнаружены даже куски кинохроники военных лет, где запечатлены эпизоды фронтовой жизни батальона десантников и где в некоторых кадрах появляется и Катя Михайлова. Эта хроника включена в документальный фильм «Катюша», посвященный славной героине Дунайской флотилии.
Екатерина Илларионовна Демина не любит, когда ее называют героиней, и всегда протестует против этого. Но как бы то ни было, она истинная героиня своего народа, хотя пока и не носит на груди Золотой Звезды. Недаром в сотнях писем, коллективных и индивидуальных, которые пришли в редакцию «Правды» вслед за опубликованием очерка «Катюша», советские люди, рабочие, колхозники, интеллигенты, военнослужащие, студенты и школьники, как и однополчане Кати Михайловой, в один голос заявляли, что весь боевой жизненный путь этой женщины, ее подвиги в годы войны делают ее достойной самой высокой награды Родины.
Путь на Родину
Невероятно далекой, почти недостижимой казалась Родина тем, кто очутился во вражеском плену. Ряды колючей проволоки, пулеметы и автоматы лагерной охраны, дальний, немыслимо трудный путь через чужие иноязычные земли, сквозь неожиданные и вездесущие кордоны гестапо, жандармов и местной полиции, в ежеминутном ожидании предательства от тех, кто пустил тебя в дом, обогрел, накормил, и, наконец, последние километры через прифронтовую полосу, набитую вражескими войсками, а потом через огненную линию фронта, стеной разгородившую два мира, — как преодолеть, как пройти все это истощенному, обессиленному, затравленному узнику? Какими неисчерпаемыми запасами воли и упорства, ловкости и хитрости должен обладать человек, чтобы победить все препятствия на этом пути страха и смерти!
Но, как ни далека была Родина, ее настойчивый зов звучал в сердцах пленных. Куда бы ни увозил их враг — на шахты Эльзаса или на подземные заводы Рура, в ущелья Австрийских Альп или в фиорды оккупированной Норвегии, — везде слышали они призывный голос Родины. И пленные бежали отовсюду, куда забрасывала их злая судьба, попадались, снова бежали, даже зная, что примут от палачей мученическую смерть, ибо зов Отчизны был сильнее самого желания жить. Для большинства эти побеги заканчивались неудачно, нередко трагически. Но были и такие, которым посчастливилось пройти сотни километров, одолеть сотни преград и добраться до своих. Человеческая предприимчивость и изобретательность порой находили самые удивительные, причудливые пути на Родину, и неугасимый дух борьбы вел изможденного пленного через непостижимые испытания этого пути.
Сержант Алексей Романов, в прошлом школьный учитель истории из Сталинграда, был курсантом и секретарем комсомольской организации в школе младших командиров 455-го полка. Война застала его в казармах центрального острова Брестской крепости, и он сражался там под командованием лейтенанта Аркадия Нагая. В первых числах июля нескольким бойцам во главе с парторгом школы Тимофеем Гребенюком удалось ночью с боем вырваться из крепости. Тимофей Гребенюк вскоре погиб, а вся его группа была рассеяна противником. Схваченный гитлеровцами, коммунист Алексей Романов все же сумел бежать от расстрела и, примкнув к маленькому отряду наших бойцов и командиров, пробиравшихся по тылам врага в сторону фронта, через неделю оказался неподалеку от города Барановичи. Под станцией Лесная немцы загнали отряд в болото и окружили его. Начался тяжелый бой. Потом в небе появились немецкие самолеты, и последней, что видел Романов, была черная капелька бомбы, стремительно падавшая туда, где он лежал.
Он очнулся через несколько дней в одном из проволочных загонов лагеря Бяла Подляска. Гимнастерка на его груди обгорела, тело было обожжено, и острая боль разламывала голову — он получил сильную контузию. Поправлялся Романов медленно, и прошло немало времени, прежде чем он начал ходить.
Осенью 1941 года с партией пленных Романова увезли в Германию, а весной 1942 года он попал в большой интернациональный лагерь «Веддель» на окраине крупнейшего немецкого порта Гамбурга. Здесь вместе с бывшим политработником Иваном Мельником, поляком Яном Хомкой и другими он организовал подпольную антифашистскую группу. Они подбирали листовки, сброшенные с самолетов, выпускали обращения к пленным, уничтожали предателей и готовили диверсии. Но лагерное гестапо не дремало, и несколько товарищей Романова было схвачено и казнено. И он — пленный номер 29563 — тоже попал под подозрение. Его допрашивали в гестапо, сажали в карцер, но прямых улик против Романова не было.
Все это время мысль о побеге не оставляла его. Но лагерь, находившийся у такого важного порта, охранялся особенно зорко, и казалось, любой план бегства отсюда заранее обречен на провал. И все-таки он родился, этот план, невероятно дерзкий и необычайно трудно осуществимый.
Шел декабрь 1943 года. Почти каждую ночь Гамбург подвергался налетам его бомбила англо-американская авиация с аэродромов Англии. Город и порт, уже сильно разрушенные, испуганно затихали с наступлением сумерек, погружаясь в непроницаемую темноту и настороженно ожидая тревожного сигнала сирен. Днем пленных из лагеря «Веддель» стали гонять на работу в порт разгружать пароходы. Портовых грузчиков не хватало, ненасытный Восточный фронт перемалывал гитлеровские войска, и немцы проводили все более и более «тотальные» мобилизации в стране. Волей-неволей им приходилось теперь использовать пленных на тех работах, которые раньше избегали им поручать.
Романов и его товарищи уже хорошо знали расположение порта, все его причалы и пристани, знали даже многие грузовые суда, на которых довелось работать. Среди этих судов, часто разгружавшихся у причалов Гамбурга, были пароходы Швеции — нейтральной страны, которая торговала и с государствами антигитлеровского блока и снабжала фашистскую Германию столь необходимой ей железной рудой.
План, родившийся у Романова и Мельника, на первый взгляд был прост: бежать из лагеря, проникнуть ночью в порт, спрятаться на шведском пароходе и добраться на нем до одного из портов Швеции. Оттуда можно с британским судном добраться до Англии, а потом с каким-нибудь караваном союзных судов прийти в Мурманск или Архангельск. А затем опять взять в руки оружие и уже на фронте расплатиться с гитлеровцами за все, что пришлось пережить в плену. Столько ненависти скопилось за это время в душах пленных, что они готовы были даже проплыть вокруг света, лишь бы потом сойтись со своим врагом грудь с грудью, держа оружие в руках.
Но между замыслом и его осуществлением лежала целая пропасть. Как ускользнуть от многочисленной и бдительной лагерной охраны? А если это удастся — как спрятаться от погони: ведь по крайней мере два-три дня эсэсовцы с собаками будут искать их следы. Как потом переплыть Эльбу, очень широкую здесь, у своего устья, и проникнуть на огороженную и строго охраняемую территорию порта? Охраняется не только сам порт — эсэсовские часовые круглые сутки дежурят у каждого иностранного судна. Как попасть на пароход? И, наконец, как спрятаться там, чтобы не нашла команда, не обнаружили эсэсовцы? Пленным было известно, что эсэсовские наряды с собаками дважды тщательно обыскивают сверху донизу каждый пароход, уходящий из Германии: здесь, в Гамбурге, перед его отправлением, и в Киле, откуда он уже идет прямо в Швецию.
Все, что можно было заранее предвидеть, они обдумали и обсудили. Остальное решал случай. Они знали, чем рискуют: лишь за месяц до того в лагере были повешены двое пойманных после неудачного побега.
Бежать решили вдвоем — так было легче скрыться. Приготовили даже оружие, два самодельных ножа, тайно выточенных из кусков железа во время работы в порту. Они поклялись друг другу: если один из них в побеге струсит, смалодушничает, второй должен заколоть его этим ножом. Мрачная клятва была дана отнюдь не из любви к романтике; друзья шли почти на верную смерть и связались нерасторжимыми узами — трусость одного означала гибель другого, и суровый закон военной справедливости оправдывал такую кару.
25 декабря 1943 года стояла ненастная дождливая погода. Смеркалось рано, и пленных гнали с работы из порта уже в темноте. Путь в лагерь проходил через неширокий и темный тоннель.
Едва люди втянулись во мрак тоннеля, Романов и Мельник выскочили из строя и замерли, притаившись за каменным выступом стены. Конвоиры прошли мимо, не заметив этого мгновенного броска двух пленных. Гулкий стук деревянных колодок стих вдали, и друзья остались одни.
Стремглав они бросились назад, к берегу Эльбы. Там, у самой воды, стояли разбомбленные во время авиационных налетов кирпичные коробки бывших складов. В залитом водой подвале одного из них им предстояло просидеть двое суток, чтобы эсэсовцы отказались от их поисков.
Двое суток в ледяной декабрьской воде были нестерпимой мукой для обессиленных людей. Мучительнее всего было в часы, когда на море начинался прилив. Вода в устье Эльбы при этом тоже прибывала, и уровень ее в подвале поднимался. Более слабый Мельник иногда терял сознание, и Романов поддерживал его, а когда вода убывала, принимался растирать товарища.
Они выждали свой срок. На вторую ночь, надеясь, что их уже перестали искать, беглецы выползли из убежища в складское помещение, кое-как обсушились и вышли на берег.
Порт был на той стороне Эльбы. Противоположный берег терялся в темноте; они помнили, как широка в этом месте река. И оба поняли, что им не переплыть ее — слишком много сил стоило им двухсуточное пребывание в ледяной воде без крошки пищи. Недалеко был длинный мост, ведущий прямо к воротам порта. Но мост охраняется часовыми — по нему не пройти незаметно. Только какой-нибудь случай мог помочь, и они, в глубине души вовсе не рассчитывая на чудо, все-таки поплелись в сторону моста.
Друзья залегли у дороги в нескольких сотнях метров от будки часового, охранявшего вход на мост. Где-то на дальней окраине города шарили в небе прожекторы и слышалась пальба зениток: в воздухе были англо-американские самолеты.
И вдруг вдали послышался стрекот моторов и лязг гусениц на камнях дороги, и беглецы увидели узкие синие полоски света. Это шла на погрузку в порт колонна танкеток с притушенными маскировочными фарами.
Романову уже приходилось видеть эти танкетки, и он помнил, что позади у них приварены крюки, видимо для буксировки. План действий родился мгновенно, и Романов в двух словах изложил его Мельнику. Это был счастливый случай, может быть единственный шанс попасть в порт.
Надо было догнать танкетку и повиснуть на крюке. Машины шли с интервалом в 50-100 метров. Синий свет позволял водителям видеть только на 2–3 метра вперед. Опасность заключалась только в том, что часовой на мосту мог освещать фонариком каждую машину и увидеть беглецов. Впрочем, об этом не приходилось долго раздумывать: разве весь их побег не был сплошным риском и цепью случайностей?
Первым метнулся на дорогу Романов. На бегу нащупав крюк, он повис на нем и даже нашел какую-то опору ногам — неширокий выступ металла. Мельник сумел также подцепиться к следующей танкетке.
К счастью, фонарик часового мигнул только один раз — когда прошла головная машина. В воздухе гудели самолеты, и охранник явно боялся лишний раз включить свет. Еще не веря своему счастью, Романов и Мельник буквально считали каждый метр мостового настила, уходящего назад под гусеницами. Наконец они въехали в ворота порта. Романов, высмотрев темный закоулок между пакгаузами, кинулся туда. Минуту спустя к нему присоединился Мельник.
Да, счастье пока что сопутствовало им. Они перебрались через мост и даже оказались внутри порта, благополучно миновав охрану. Теперь оставалось последнее и самое трудное.
Они хорошо знали причал, где должен стоять шведский пароход «Ариель»: на нем работали пленные из «Ведделя», и они говорили, что судно простоит под погрузкой еще три-четыре дня. «Ариель» грузился коксом, и Романов с Мельником намеревались, пробравшись в трюм парохода, зарыться в кокс и пролежать там до тех пор, пока судно не минует Кильский канал.
Легко сказать: пробраться на пароход. Когда беглецы, прокрадываясь вдоль стен пакгаузов и перебегая открытые места, вышли, наконец, к месту стоянки «Ариеля», они поняли, как им нелегко будет сделать это.
С парохода на пристань вели единственные сходни, и на середине их маячил часовой-эсэсовец с автоматом. Втянув голову в плечи, он поднял воротник шинели, опустил наушники шерстяного шлема и стоял, повернувшись спиной к холодному ветру, который резкими и шумными порывами налетал с моря, швыряя на пристань густой мокрый снег. Подойти к часовому скрытно было невозможно — он заметил бы опасность, как только беглецы приблизились бы к сходням. Да они и не хотели убивать его, исчезновение часового навело бы эсэсовцев на их след.
Романов и Мельник подошли к самому краю пристани около кормы «Ариеля» и принялись всматриваться в темноту, стараясь определить расстояние до палубы.
Палуба была на метр-полтора ниже уровня пирса. Но пароход стоял поодаль от стенки пристани, и между нею и бортом судна оставалось пространство около четырех метров. Для изголодавшихся, измученных «доходяг» из лагеря такой прыжок казался недосягаемым рекордом. Того, кто не допрыгнет, ожидала десяти-пятнадцатиметровая пропасть и темная глубь ледяной воды у основания пристани.
В ночной тьме они внимательно поглядели друг на друга.
— Надо прыгать! — шепнул Романов.
— Надо! — согласился Мельник. — Давай первый, ты посильнее.
Присмотревшись и выбрав на палубе место, которое показалось ему самым удобным, Романов отошел назад, чтобы разбежаться, и стал пристально вглядываться в едва различимую фигуру часового на сходнях. Солдат ничего не слышал — он по-прежнему, ссутулившись, стоял спиной к ветру, может быть, даже задремал.
Романов дождался, пока вдоль пристани помчался новый порыв ветра со снегом, заглушающий все звуки, и стремительно кинулся вперед. В этом последнем неистовом толчке о край пристани была сейчас вся его жизнь.
Он не допрыгнул до палубы, упал грудью на край металлического борта, но успел ухватиться за него руками. Удар был таким сильным, что на миг Романов потерял сознание. Однако руки, управляемые, видимо, уже одним инстинктом, продолжали цепко держаться за борт. В следующий момент Романов пришел в себя, с судорожным усилием подтянулся, перекинул ногу через борт и встал на палубе.
Первым делом он опять поглядел на часового — не слышал ли тот звука удара. Часовой стоял неподвижно, как чучело. С пристани, пригнувшись, смотрел на палубу Мельник. Романов ободряюще замахал рукой, и тот исчез из виду — отошел, чтобы разбежаться.
Он прыгнул даже лучше, чем Романов; тот, подхватив на лету товарища, втащил его на палубу. Вокруг не было ни души — команда спала, а вахтенный, верно, ничего не заметил.
Осторожно они прокрались к люку, ведущему вниз, и спустились в трюм. По рассказам товарищей они знали, что у «Ариеля» три трюма. Нижний, видимо, был уже загружен и задраен, они попали во второй, средний, в один из его отсеков, уже наполовину заполненный коксом. Теперь надо было зарыться в эту кучу угля.
Они проснулись от шума. Сверху в отсек с грохотом сыпался кокс. Это продолжалось около часа, а потом неподалеку послышались голоса, лай собаки, кто-то ходил по грудам кокса, металлически звякнула крышка люка, и все стихло. Отсек задраили.
Романов и Мельник не знали, сколько еще простоял «Ариель» в Гамбурге день, два или три, — и выползли из своего убежища, лишь когда почувствовали покачивание парохода. Они плыли!
Романов первым выбрался из-под кокса и помог вылезти своему спутнику. Мельник совсем обессилел и уже с трудом двигался. А у них в этом металлическом гробу не было ни капли воды, ни крошки пищи, и впереди лежал путь, который продлится неизвестно сколько дней. Но это был путь к свободе, путь на Родину, и ради этого они были готовы на все лишения…
Когда пароход остановился в Киле, они снова зарылись в кокс и переждали обыск. Но потом Мельник уже не отозвался на зов товарища. Он был без сознания, и Романову так и не удалось привести его в чувство.
Неизвестно сколько времени продержался после этого Романов. Муки жажды и голода становились все нестерпимее, потом наступила странная слабость, появилось тупое безразличие ко всему, и он уже ничего больше не помнил.
В крупном шведском порту Гетеборге рабочие, разгружая кокс, обнаружили в одном из трюмов «Ариеля» два трупа в одежде военнопленных с буквами «SU» на спине.
Вызвали врача. Один из найденных и в самом деле был уже мертв, в другом еще теплилась слабая искорка жизни. Его увезли в больницу, а гетеборгские грузчики с волнением обсуждали происшествие. Побег этих двух русских был первым и единственным побегом пленных из Гамбурга в Швецию на торговом судне.
Романов очнулся лишь через несколько дней в тюремной больнице шведской политической полиции. Нейтральная страна встретила его не очень-то любезно. Он поправлялся медленно, с трудом. Когда ему стало лучше, к нему начали приходить какие-то люди, говорившие по-русски и убеждавшие его не возвращаться на Родину, а просить политического убежища в Швеции. Он отвечал одно и то же: требовал, чтобы к нему вызвали сотрудника советского посольства.
Он добился своего и в конце концов попал в Стокгольм, к тогдашнему посланнику Советского Союза в Швеции — известной соратнице В. И. Ленина Александре Михайловне Коллонтай. К его огорчению, она отвергла проекты возвращения на Родину через союзную страну. «Вы свое отвоевали», — сказала она и оставила его жить в советской колонии в Швеции.
В 1944 году, когда Финляндия сложила оружие, Романов вернулся на Родину. Но все пережитое в крепости и в плену тяжело сказалось на его здоровье, он приехал домой больным человеком и немало времени провел в госпиталях. Туберкулез, то и дело одолевающий его, увился следствием не только испытаний, перенесенных в Брестской крепости, и лагерных лишений, но и того удара грудью о борт «Ариеля», которым завершился его прыжок с гамбургской пристани.
Но он не сдался болезням, как не сдавался фашистам. Несмотря на недуги, сумел после войны окончить второй институт и сейчас работает инженером-строителем в одной из проектных организаций Москвы.
В 1957 году, когда Алексея Романова восстанавливали в рядах партии, в партийной комиссии ему показали его лагерную карточку, в свое время случайно оказавшуюся в какой-то гитлеровской картотеке. Там была приклеена фотография Романова в одежде пленного с памятным ему номером 29563 и в графах педантично записаны все штрафы и аресты, которым он подвергался.
Внизу стояла последняя запись, заверенная печатью со свастикой:
«э 29563 бежал из лагеря 25 декабря 1943 года и пойман не был».
Романов долго и задумчиво разглядывал свою фотографию и вдруг, широко улыбнувшись, сказал:
— А ведь счастливый номер оказался. В этой лагерной лотерее мало кто выигрывал. Мне вот повезло.
Но члены партийной комиссии понимали, что дело не в счастливом номере, и единогласно проголосовали за восстановление коммуниста Алексея Даниловича Романова в рядах КПСС. А вскоре в числе других защитников Брестской крепости А. Д. Романов за мужество и доблесть, проявленные в борьбе с гитлеровцами, был удостоен высокой правительственной награды — ордена Красного Знамени.
Брестский вокзал
С фактами этой необычайной истории я столкнулся совсем случайно в те годы, когда собирал материал о героической обороне Брестской крепости. Роясь в наших архивах, разыскивая оставшихся в живых защитников цитадели над Бугом, я обратился также и к иностранным источникам, ища в книгах, вышедших за рубежом, какие-то упоминания о Брестской обороне. Многие немецкие офицеры и генералы в своих послевоенных мемуарах вспоминали о стойкости и упорстве наших войск в Бресте, и их высказывания при всей тенденциозности бывшего противника в освещении событий, конечно, представляли немалый интерес.
Несколько лет тому назад за границей вышла книга воспоминаний известного гитлеровского диверсанта подполковника Отто Скорцени, военного преступника, который после разгрома фашистской Германии нашел себе безопасное убежище во франкистской Испании. Это тот самый Скорцени, что в годы войны со своей шайкой отборных головорезов выполнял самые ответственные поручения Гитлера и его генералов похитил у союзников арестованного Муссолини в 1943 году, а зимой 1945 года, переодевшись в американскую военную форму, во главе своих диверсантов сеял панику в тылах войск Эйзенхауэра в дни их поражения в Арденнах. Книга его, весьма саморекламная, так и называется «Легион Скорцени». На одной из ее страниц есть любопытное упоминание о Брестской крепости.
Оказывается, Скорцени побывал в Бресте в первые дни войны и, видимо, имел самое прямое отношение к действиям гитлеровских диверсантов в нашей пограничной полосе. Впрочем, об этом он не обмолвился ни одним словом. Зато не лишена для нас интереса та оценка упорства защитников крепости, которая дана здесь.
«Русский гарнизон цитадели, — пишет автор, — в буквальном смысле слова вел борьбу до последнего патрона, до последнего человека». Скорцени рассказывает, как он однажды под огнем выполз на гребень крепостного вала и увидел усеянный трупами гитлеровских солдат двор цитадели.
И вдруг, несколько ниже этого рассказа о крепости, я наткнулся на строки, где описывалось события, тогда еще неизвестное мне.
«То же самое было в районе Брестского вокзала, — писал Скорцени. — Там войска противника сосредоточились в глубоких вокзальных подвалах и отказывались сдаваться. Как я узнал позже, пришлось затопить подвалы, так как оказались неудачными все другие попытки взять вокзал».
Так из этих строк, написанных врагом, я узнал о том, что не только в крепости, но и на Брестском вокзале происходила упорная и, видимо, долгая борьба.
В 1955 году, приехав в Брест, я пришел в управление железнодорожного узла и просил свести меня со старыми служащими, работавшими на станции еще до войны. Побеседовав с некоторыми из них, я, наконец, нашел человека, принимавшего участие в событиях, о которых пишет Отто Скорцени. Это был старший диспетчер железнодорожного узла А. П. Шихов. Он провел восемь дней в подвалах вокзала и оказался свидетелем этой упорной обороны. По его словам, вокзал защищали несколько десятков наших военных, во главе которых стояли какой-то лейтенант, политрук и старшина с голубыми — авиационными петлицами на гимнастерке. Никаких фамилий А. П. Шихов не помнил и утверждал, что все, кто был в подвалах, погибли в боях. Я узнал от него некоторые подробности этих боев, но все же и после нашей беседы с ним оборона вокзала по-прежнему оставалась «белым пятном»
Но вот год спустя, когда по Всесоюзному радио передавались мои рассказы о героях Брестской крепости, почта принесла мне большое письмо от электромонтера Ивана Игнатьева из города Ростова-на-Дону. Бывший сержант одной из авиационных частей, стоявших в 1941 году в районе Бреста, Иван Игнатьев случайно оказался в день начала войны на Брестском вокзале и стал участником его обороны. Он сражался там с группой товарищей по службе под командованием старшины — того самого, о котором вспоминал диспетчер Шихов. Игнатьев называл старшину Басовым и сообщал о нем немало интересного, а также подробно писал мне о многодневных боях за вокзал.
Позднее по воспоминаниям Игнатьева я рассказал об этой обороне по радио, и тогда откликнулись и другие ее участники: капитан буксирного теплохода Днепро-Бугской флотилии Николай Ломакин, живущий сейчас в городе Пинске, инвалид войны Фома Зазирный из города Канева Черкасской области, бывший зенитчик, а сейчас слесарь паровозного депо в Новгороде Анатолий Пинчук, бывший сержант авиационной части, ныне учитель из поселка Новая Ляда Тамбовской области Алексей Русанов, житель Запорожья Владимир Дубинский, инженер Игорь Кислов из города Воронежа и т. д. Они дополняли картину, нарисованную Игнатьевым, новыми важными подробностями и помогли исправить одну допущенную им существенную ошибку — фамилию старшины, руководившего обороной, Игнатьев помнил неточно. На самом деле старшину звали не Басовым, а Павлом Петровичем Басневым, и он был родом из Ивановской области, где позднее мне удалось разыскать его родных.
Вот как складывалась история героической и трагической обороны Брестского вокзала по воспоминаниям ее участников, обороны, которую с полным правом можно назвать родной сестрой славной защиты Брестской крепости.
В субботу, 21 июня на вокзал Бреста прибыла группа сержантов одной из наших авиационных частей. Часть эта находилась в летних лагерях около границы, но команда была послана к месту постоянного расположения полка в районный городок Пружаны Брестской области, чтобы там принять бойцов нового пополнения и начать с ними занятия. Командовал группой старшина-сверхсрочник Павел Баснев.
В Пружаны надо было ехать поездом, который отходил только в 6 часов утра на следующий день. Военный комендант станции приказал старшине и его товарищам переночевать на вокзале. Они погуляли по городу, посмотрели в вокзальном агитпункте кинофильм и остались на ночлег в этом же зале. Здесь же вместе с ними расположилась небольшая группа бойцов-зенитчиков, которые везли в свою часть партию сапог, полученных на складе в Бресте, и несколько других военных пассажиров, тоже ожидавших утренних поездов.
В полусумраке наступающего рассвета все были разбужены близкими взрывами. Выбежав на привокзальную площадь, Баснев и его спутники увидели широкое зарево в стороне границы и столбы снарядных разрывов, то и дело вскидывавшиеся на железнодорожных путях у вокзала. Сомнений не оставалось началась война.
Прежде всего надо было позаботиться о боеприпасах: сержанты ехали со своими винтовками, но патронов у них было мало. Баснев кинулся назад в вокзал разыскивать военного коменданта. К счастью, на вокзале оказался небольшой склад оружия и боеприпасов железнодорожной охраны, и через полчаса, выполняя приказ коменданта, маленький отряд старшины и еще несколько групп наших бойцов в полной боевой готовности заняли оборону на западных подступах к станции, чтобы прикрывать отправку поездов на восток.
Между тем вокзал заполнялся людьми. Из города сюда сбежались местные жители, семьи военных в надежде уехать на поезде в сторону Минска. Но немецкие снаряды то и дело рвались на путях, и удалось отправить лишь два-три коротких состава, погрузив только малую часть пассажиров, которые все прибывали.
Звуки перестрелки постепенно приближались. Потом на привокзальной площади показалась группа пограничников, отступавших от железнодорожного моста на границе. Они присоединились к Басневу и его товарищам.
Вслед за тем на дороге, ведущей к вокзалу, раздался треск моторов, послышались пулеметные очереди, и наши бойцы впервые увидели своих врагов. Десятка два немецких мотоциклистов с пулеметами на колясках мчались к станции, иногда постреливая по сторонам, видимо, больше для острастки.
Их подпустили почти вплотную и встретили дружным залпом. Колонна резко затормозила, словно наткнувшись на невидимую преграду. Машины опрокидывались, съезжали в кювет, старались развернуться назад. В несколько минут все было кончено, и едва ли половина мотоциклистов успела на полной скорости умчаться обратно.
Победа воодушевила людей, но радоваться было рано. Не прошло и часа, как издали снова послышался шум моторов. На этот раз противник оказался посерьезнее: к вокзалу подходили немецкие бронетранспортеры с автоматчиками. Силы были неравными: с одними винтовками бойцы не могли долго держаться против бронированных машин. Пришлось отойти внутрь здания вокзала и отстреливаться из окон.
Вокзальные помещения уже были забиты людьми, главным образом женщинами и детьми. Между тем снаряды все чаще падали у вокзала и раза два пробивали стеклянный потолок зала ожидания. Появились убитые и раненые среди пассажиров. Надо было искать для них более надежное убежище.
Под всем зданием Брестского вокзала раскинулась обширная сеть подвалов, разделенных как бы на отсеки бетонными перегородками. Сюда, в эти помещения, темные или полутемные, там, где они освещались небольшими окнами, выходящими наружу на уровне земли, хлынула толпа людей, скопившихся на вокзале. И сюда же вскоре, теснимые врагом, вынуждены были отойти и военные. Теперь сам вокзал был в руках гитлеровцев, а в его подвалах около сотни советских бойцов держали оборону, поражая противника меткими выстрелами из подвальных окон.
Немцы сделали попытку ворваться в подвал через дверь, ведущую туда со стороны вокзального ресторана. Но как только офицер и группа солдат открыли дверь и спустились на несколько ступенек по лестнице, из темной глубины подвального коридора грянули выстрелы. Офицер и один из солдат упали убитыми, а остальные опрометью кинулись бежать назад. В этот день враги уже не пытались войти в подвалы и лишь два или три раза через рупоры обращались к осажденным с призывом сдаться в плен и выжидали, надеясь, что обстановка заставит их сложить оружие.
А обстановка и в самом деле становилась критической. Многие сотни мирных людей — детей, женщин, стариков — тесно набились в отсеки подвалов. Говорят, что здесь собралось до двух тысяч человек. Дети плакали, женщины порой бились в истерике, мужчины, растерянные и подавленные, не знали, что предпринять. И только горсточка военных с винтовками и гранатами, то и дело стрелявших из окон, без колебаний выполняла свой долг, свою боевую задачу. Этот подвал стал их боевым рубежом, и они были готовы стоять тут насмерть.
Но чтобы оборона была крепкой, ей необходим крепкий тыл. А тыл подвального гарнизона, хотя его трудно назвать так — ведь он был здесь же, где и фронт, — этот «тыл» отнюдь не способствовал укреплению обороны подвала. Все эти растерянные, охваченные тревогой люди, подверженные панике женщины, голодные плачущие ребятишки создавали обстановку крайней нервозности, невольно угнетавшую бойцов. Как ни зорко наши стрелки сторожили окна, все же гитлеровским солдатам удавалось иногда незаметно подобраться сбоку и забросить гранату то в одно, то в другое помещение. Гранаты рвались в толпе пассажиров, убивали, ранили детей, женщин, и каждый раз при этом возникала такая паника, что военные лишь с большим трудом наводили порядок. Да и кормить эти сотни людей было нечем: маленький склад вокзального буфета, находившийся здесь, наполовину растащили, прежде чем его успели взять под охрану. Впрочем, все равно для такой массы народа продуктов не хватило бы даже на день.
Выход оставался один — отправить всех штатских наверх, в немецкий плен. Тут, в подвалах, их все равно ожидала смерть от пуль, от гранат врага и от голода. В плену они могли уцелеть и сохранить своих детей. И штатским было приказано выходить. Исключения допускали только для коммунистов — по предъявлении партийного билета им разрешали остаться и вручали оружие.
К утру 23 июня подвал опустел. Теперь здесь были только те, кто защищал его с оружием в руках, всего около сотни человек. Военный комендант станции то ли был убит, то ли уехал с одним из поездов, и командование принял на себя какой-то молодой лейтенант-артиллерист, который тоже совсем случайно оказался в это утро на станции Брест. К сожалению, никто из уцелевших защитников вокзала не помнил его фамилии, все звали лейтенанта просто по имени — Николай. Неизвестна была им и фамилия политрука Кости, ставшего комиссаром этого подвального гарнизона. Третьим организатором и руководителем обороны был старшина Павел Баснев. Потом, уже в последние дни боев, он болел, порой не мог даже ходить, и его заменяли тогда сержанты Федор Гарбуз и Алексей Русанов.
Рассказывают, что вместе с военными в подвалах осталась одна женщина, по имени Надя. Кое-кто вспоминает, что якобы до войны она работала следователем брестской прокуратуры. Надя взяла на себя уход за ранеными, как ни трудна была такая задача в этих тяжких условиях.
Не было ни медикаментов, ни бинтов. Но многие пассажиры, отправленные наверх, оставили в подвалах свои чемоданы. Там нашлось белье, которое и пустили на бинты.
В первые дни не было и воды. Лишь кое-где на полу зеленели затхлые вонючие лужи. Эту воду цедили через ткань и пытались пить, хотя каждый глоток вызывал тошноту. Потом бойцы обнаружили под потолком подвала колено водопроводной трубы и с трудом сломали его. Теперь у осажденных появилась питьевая вода.
Немногим лучше обстояло дело с едой. В складе буфета еще оставались ящики с печеньем, конфетами и мешки с кусковым сахаром. При строгой экономии этих запасов могло хватить более или менее надолго. Но уже вскоре положение изменилось к худшему.
Весь первый и второй день гитлеровские агитаторы через рупоры пытались уговорить подвальный гарнизон прекратить сопротивление, обещая ему «почетную капитуляцию». Чтобы смутить осажденных, передавались ложные известия о падении Москвы и Ленинграда, о том, что Красная Армия повсюду прекратила сопротивление. Впрочем, последнее доказать было трудно: совсем близко от вокзала, километрах в двух-трех к юго-западу, не умолкая, гремело сражение слышались орудийные выстрелы, взрывы снарядов и бомб, взахлеб строчили пулеметы. Это дралась окруженная Брестская крепость, и сознание того, что рядом ведут борьбу товарищи, помогало защитникам вокзала стойко сносить все обрушившиеся на них испытания.
На третий день противник перешел от уговоров к угрозам. Осажденным предъявили ультиматум — в течение получаса сложить оружие, иначе будут применены «крайние меры». Убедившись, что этот ультиматум не принят, враг начал действовать.
Сверху, из вокзального зала, саперы пробили отверстие в один из отсеков подвала. Через дыру туда вылили несколько ведер бензина и следом бросили гранаты. Отсек был охвачен огнем.
К несчастью, это оказалось помещение продуктового склада: защитникам подвалов грозила опасность остаться без пищи. И они бросились спасать продукты. Но вынести успели только несколько ящиков с печеньем и карамелью, все остальное сгорело. С трудом удалось и остановить распространение пожара в сторону отсеков, занятых гарнизоном. Огонь пошел в другую сторону — к вокзальному ресторану.
Немцы спохватились — пламя грозило всему зданию вокзала, которое они собирались использовать. К перрону срочно пригнали паровозы и принялись шлангами заливать огонь. А гарнизон подвала продолжал держаться.
Новые попытки проникнуть вниз не дали результатов. Теперь против входной двери осажденные устроили баррикаду из мешков с сахаром. Укрываясь за ней, бойцы встречали залпом каждого, кто открывал дверь. А у всех окон по-прежнему день и ночь дежурили стрелки, подстерегая зазевавшихся гитлеровцев, и на платформах и на путях станции то и дело падал то немецкий солдат, то офицер, настигнутый меткой пулей.
Огонь из подвалов мешал немцам: они торопились наладить движение поездов через Брест. Саперы получили приказ закрыть эти окна снаружи. Им приходилось подкрадываться к каждому окну сбоку или сзади и стараться неожиданно прикрыть чем-нибудь оконную амбразуру. Иногда это не удавалось сделать сразу и бесшумно. Тогда из одна вылетала граната, саперы врага все время несли потери. Но в конце концов им удалось заложить все окна толстыми листами железа, шпалами и рельсами. Однако стрелки, засевшие в подвалах, ухитрялись отыскивать какие-то щели или пробивали рядом маленькие амбразуры и продолжали стрелять, хотя, конечно, уже с меньшим успехом: немцы теперь могли вести восстановительные работы.
На пятый или шестой день последовал новый ультиматум врага. Теперь гитлеровцы угрожали защитникам подвалов газами. И хотя противогазов было всего несколько штук, эта угроза также не возымела действия.
Приоткрывая заложенные окна, гитлеровские солдаты начали бросать в подвал бомбы со слезоточивым газом и химические гранаты. Едкий газовый туман заволок подвальные отсеки. Люди кашляли, задыхались, нестерпимо резало глаза, и те, у кого не было противогазов, могли спасаться от удушья лишь одним способом — какой-нибудь кусок ткани мочили в воде и, закрывая лицо, дышали сквозь него.
Газовая атака продолжалась несколько часов. К счастью, погибли при этом немногие. Газ же, видимо, находил какие-то выходы наружу, и концентрация его постепенно уменьшалась. Мало-помалу воздух очистился. Гарнизон подвалов продолжал борьбу.
Но положение осажденных становилось все более тяжелым. В перестрелках с противником, от взрывов гранат, которые то и дело неожиданно кидали в окна гитлеровские солдаты, от болезней погибали люди. Стонали раненые — их нечем было лечить. Трупы убитых и умерших оставались тут же и смрадом разложения отравляли и без того спертый и душный воздух. Мертвых негде было хоронить в этих бетонных коробках с такими же бетонными полами. Таяли запасы печенья и конфет — единственной пищи осажденных. Их приходилось экономить, и голод становился все более нестерпимым.
Но сдаваться никто не собирался. И так же, как защитники Брестской крепости, этот подвальный гарнизон жил одной надеждой — на то, что вот-вот с востока подойдут наши войска и снова отбросят врага за Буг, за линию границы. Они и не представляли себе, как далеко за эти дни ушел фронт, как несбыточны все их надежды. А голос сражающейся Брестской крепости как бы звал их к борьбе, укреплял их волю и упорство.
Между тем враг торопился покончить с этой горсточкой упрямцев, засевших в подвалах вокзала. Они заставляли немецкое командование держать на станции отряд солдат, и им время от времени удавалось сквозь щели в забитых окнах подстрелить какого-нибудь офицера. Не помогали ни уговоры, ни ультиматумы, ни огонь, ни газы. И гитлеровцы решили затопить подвалы водой. Было открыто одно из окон, и в подвал просунули брезентовый шланг.
Вода шла весь день, всю ночь, весь следующий день. Защитники подвала попробовали отгородить этот отсек от остальных, устроить своеобразную плотину. В двери поставили большой лист железа и обложили его мешками с мелом, которые хранились здесь, в подвалах. Но вскоре вода размыла мел, и плотина была прорвана. Вода медленно распространялась по всем отсекам, и уровень ее неуклонно поднимался. Тогда стали отдирать доски деревянного пола, кое-где настеленного на бетоне, и строить из них подмостки вдоль наружной стены, чтобы с этого настила по-прежнему охранять окна.
А вода поднималась.
Подвалы Брестского вокзала устроены так, что пол находится на разном уровне: есть более глубокие и более мелкие отсеки. В одних вода стояла по колено, в других уже доходила людям до пояса, а были и такие помещения, где человек погружался по горло или даже не доставал до дна и мог передвигаться только вплавь.
По неосторожности от воды не уберегли остатки продуктов. Погибло все печенье, а карамель превратилась в сплошной мокрый и липкий ком, от которого отщипывали по кусочку ежедневный «паек».
Наконец вода перестала прибывать. Говорят, что в районе вокзала вышел из строя водопровод, и поэтому затопить подвалы доверху немцам не удалось. И из этих залитых подвалов по-прежнему раздавались выстрелы.
Тогда озлобленные этим упорством враги прибегли к последнему, уже издевательскому средству. К вокзалу одна за другой стали подъезжать машины, нагруженные нечистотами, которые сливали в окно подвала.
Трудно представить себе страшную картину этих последних дней обороны вокзала. В темноте, с трудом дыша воздухом, пропитанным запахом нечистот и смрадам гниющих трупов, увязая по пояс или по грудь в отвратительной зловонной жиже, в которой плавали раздувшиеся мертвецы, молчаливо бродили люди, исхудавшие, шатающиеся от голода и болезней, но продолжающие сжимать в руках винтовки. У них уже не было никаких надежд на то, что их выручат из осады, и только бешеная ненависть к врагу да гордое, упорное желание не подчиниться его злой воле даже ценою своей жизни, только эти чувства еще заставляли их жить и бороться, как заставляли они драться и героев Брестской крепости.
Их теперь было всего два-три десятка человек, самых выносливых и стойких. И они уже понимали, что долго не продержатся. Мысль о плене была им ненавистна. Выход оставался один — попробовать с оружием в руках пробиться из осады, постараться подороже продать свою жизнь в этом бою.
Но дверь, выходившую в ресторан, немцы плотно забили снаружи, а все окна были заложены листами железа и шпалами. Казалось, осажденные наглухо заперты в этом бетонном ящике.
К счастью, с бойцами почти до конца обороны оставался какой-то железнодорожник, хорошо знавший и вокзал и станцию. Он вспомнил, что в другом конце здания находится такое же подвальное помещение котельной и там есть дверь, ведущая наружу, на станционные пути.
Под потолком подвалов тянулись, уходя во все стороны, узкие и извилистые обогревательные ходы. Циркулируя по этому лабиринту, теплый воздух зимой обогревал полы в вокзальных помещениях. Ходы эти были достаточно широки, чтобы по ним мог проползти человек. Несколько бойцов отправились в разведку и сумели отыскать путь в котельную. Там действительно оказалась дверь. Снаружи она тоже была забита шпалами, но ночью ее все же удалось открыть. Дверь выходила в сторону, противоположную перрону, на запасные пути, и к тому же сверху была прикрыта бетонным козырьком, тянувшимся вдоль всего здания вокзала. Отсюда и решено было прорываться на следующую ночь, на исходе второй недели обороны.
Весь следующий день с помощью железнодорожника, на память знавшего окрестности станции, обсуждали подробный маршрут прорыва. Надо было от двери пробраться под бетонным козырьком к дальнему углу здания, оттуда перебежать запасные пути, перелезть через станционную ограду и северо-восточной окраиной выходить из города.
Около двадцати человек под командованием лейтенанта Николая и старшины Баснева шли на прорыв. Троих — сержанта Игнатьева с двумя бойцами оставляли на месте. Они должны были залечь на трубах под потолком подвала, ничем не выдавая себя, и осторожно выбраться, когда немцы снимут охрану.
Глубокой ночью, распрощавшись с оставшимися, защитники подвалов один за другим вышли наружу через дверь котельной. Несколько минут спустя Игнатьев и его товарищи услышали выстрелы, разрывы гранат, крики «ура!». Потом все смолкло. И трудно было решить, прорвались ли защитники вокзала сквозь кольцо врага или все пали в неравном бою.
На следующее утро немцы открыли заложенные окна подвалов. Внутрь помещений с перрона бросили гранаты, чтобы убедиться, что никого не осталось внизу. Потом охрана была снята.
На вторую ночь Игнатьев с бойцами выбрались наружу, переползли станционные пути и нашли приют в домике одного из местных жителей на окраине Бреста. Отдохнув и подкормившись, они через несколько дней двинулись на восток, в сторону фронта.
Позднее из писем участников этих событий стало известно, что основная группа защитников вокзала тоже сумела выйти из кольца осады, хотя половина людей погибла в ночном бою. Неизвестный лейтенант Николай, политрук Костя и старшина Павел Баснев оказались в числе уцелевших. Им удалось под огнем перелезть через забор, отделявший станцию от северных окраин Бреста, выбраться за город и укрыться в каком-то болоте, где они просидели всю первую ночь, пережидая погоню. Потом они двинулись на росток, добыли в деревнях гражданскую одежду и два дня спустя пришли в район местечка Жабинки, в 25 километрах от Бреста. Там им пришлось разделиться: в деревнях повсюду стояли немецкие войска, уже действовали гитлеровские комендатуры, и большая группа мужчин была бы сразу взята под подозрение. Лейтенант и политрук Костя пошли в одном направлении, Павел Баснев с сержантом Федором Гарбузом — в другом. С тех пор судьба этих людей осталась невыясненной.
После того как несколько лет тому назад я рассказал по радио о защитниках Брестского вокзала, отозвалась жена Павла Баснева — Александра Алексеевна, которая вот уже 32 года работает прядильщицей на текстильном комбинате в городе Родниках Ивановской области. Связанная с Павлом давней дружбой, она стала его женой совсем незадолго до войны — в мае 1941 года, когда старшина приезжал на родину в отпуск. Потом он писал ей почти каждый день и обещал вскоре взять ее к себе в Пружаны. Последнее письмо было датировано 18 июня, и с тех пор Александра Алексеевна уже ничего не знала о своем муже, считая его пропавшим без вести. Из моей радиопередачи она впервые услышала о том, где ему пришлось воевать в начале войны. От нее я получил и фотографию героя.
Так и остается неизвестной его участь. Но года три назад я получил письмо от одного бывшего узника гитлеровского лагеря для пленных в городе Барановичи. Он писал мне, что осенью 1941 года в этом лагере произошло восстание узников, закончившееся массовым побегом. По его словам, одним из главных организаторов этого восстания был военнопленный по фамилии Басов или Баснев. Уцелел ли он при этом побеге или погиб под пулями гитлеровских охранников, неизвестно.
Что ж, хотя утверждать что-нибудь с определенностью нельзя, вполне могло быть, что организатор побега в лагере Барановичи и герой обороны Брестского вокзала — одно и то же лицо. Баснев с товарищем шел на восток от Бреста, приближаясь к Барановичам и мог попасть в плен где-нибудь в районе этого города, а потом оказаться в ближайшем лагере.
Совсем недавно, уже в 1964 году, пришло другое важное письмо. Его прислал каменщик из зонально-опытной станции Бахчисарайского района Крымской области Константин Миронович Борисенко. Оказывается, он и был тем политруком Костей, которого вспоминают защитники вокзала как одного из руководителей обороны. Только звание его было другим — заместитель политрука.
Константин Борисенко, наконец, назвал нам фамилию лейтенанта, командовавшего обороной вокзала. Его звали Николаем Царевым, и был он командиром огневого взвода в артиллерийской батарее одной нашей стрелковой части, стоявшей перед войной в Туле. Борисенко служил в этом же взводе.
Незадолго до войны лейтенанта Царева, Борисенко и еще двух бойцов отправили в командировку в город Пинск, где они должны были получить для своей части обозных лошадей и артиллерийские орудия. Из Пинска их направили в Брест, куда они попали 21 июня. Оказалось, что лошадей и пушки им придется принимать в летних лагерях под Брестом, и, дожидаясь поезда, идущего туда, они и заночевали на вокзале. А дальше происходило все то, о чем рассказано выше.
К. М. Борисенко вспоминает, что Николаю Цареву было всего 20 лет и незадолго до прибытия в часть он окончил Ульяновское артиллерийское училище. После того как главная группа защитников вокзала вырвалась из вражеского кольца и, придя в район Жабинки, разделилась, Борисенко и Царев вместе направились на восток. Им удалось пройти мимо Минска и около Борисова перейти Березину. Но когда уже близ Шклова они попытались под видом крестьян перейти по мосту через Днепр, немецкая охрана задержала их. Оба они были отправлены в лагерь для военнопленных в Могилеве. А потом однажды Борисенко попал в партию пленных, которых увезли на дорожные работы, а оттуда отправили в Германию. Так он потерял из виду своего лейтенанта, не записав даже его довоенного адреса.
Вот что мы знаем сейчас об обороне Брестского вокзала. Будем надеяться, что со временем выяснятся окончательно и судьбы Павла Баснева и Николая Царева и участь других героев этого необычного эпизода первых дней войны.
А в Бресте, в центре разросшейся и оживленной станции, стоит теперь новый красавец вокзал, построенный несколько лет назад. Но в земле под этим высоким красивым зданием по-прежнему тянутся те же бетонные отсеки подвалов, где почти двадцать пять лет назад шла эта удивительная трагическая борьба, не менее упорная и стойкая, чем борьба героического гарнизона Брестской крепости.
Рассказ о настоящем человекпе
Сначала эту историю, удивительную, как легенда, принесло мне письмо телезрителя и ветерана войны из далекого уральского городка. То был рассказ о девушке-танкисте Марусе Лагуновой, потерявшей в бою обе ноги, но сумевшей снова встать в строй Советской Армии, о девушке, которая по своей судьбе была как бы родной сестрой «настоящего человека» Алексея Маресьева. Потом начались многомесячные поиски через телевидение, пока следы не привели сперва в столицу Урала Свердловск, а потом на Украину, в город Хмельницкий, где находится сейчас живая героиня этой истории Мария Ивановна Лагунова. И когда в моих руках собрались и свидетельства друзей и очевидцев и воспоминания самой М. И. Лагуновой, выяснилось, как это нередко случается, что быль оказалась еще более необыкновенной, чем возникшая из нее легенда. Впрочем, есть биографии, которые не нуждаются в комментариях, — они говорят сами за себя. Именно такова биография Марии Лагуновой.
Жизнь почти сразу обошлась неласково с девочкой, родившейся в 1921 году в далеком степном селе Окольничково Курганской области. Ей было четыре года, когда умерла мать и в большую крестьянскую семью из 12 человек пришла мачеха, злая, как в народных сказках, и особенно невзлюбившая младшую падчерицу — Марусю. Дети, едва став подростками, разъезжались из дому, рано начинали самостоятельную жизнь. В 10 лет Марусю, к счастью, взяла к себе старшая сестра, работавшая на железной дороге в Свердловске.
В школу девочка ходила всего пять лет. Потом пришлось бросить учебу и идти в няньки, в домработницы, — заработка сестры не хватало. Шестнадцати лет Маруся пришла на свердловскую фабрику «Уралобувь». Сначала была чернорабочей, а в 1941 году, когда началась война, она уже работала дежурным электриком цеха.
Ушел на фронт старший и любимый ее брат Николай. Через несколько дней Маруся тоже явилась в военкомат и просили послать ее в армию. Ей ответили, что на фабрике тоже нужны люди. Но она была настойчива и пришла во второй, в третий раз… В конце концов военком сдался и послал ее учиться в школу военных трактористов в Челябинскую область. Зимой 1942 года она уже служила в батальоне аэродромного обслуживания на Волховском фронте, в нескольких километрах от передовых позиций.
Служба была тяжелой: порой она круглые сутки сидела за рычагами трактора, очищая аэродром от снега или доставляя бомбардировщикам горючее, боеприпасы. В батальоне были и другие девушки-трактористки, но Маруся Лагунова показала себя самой крепкой, выносливой, и ей приходилось выполнять наиболее трудные и ответственные задания. Перегрузка и постоянное недосыпание сказались на ее здоровье, и осенью 1942 года сильнейшее воспаление легких на два месяца уложило ее в госпиталь. Оттуда она попала в запасной полк, где ее сделали киномехаником, не обращая внимания на настойчивые просьбы отправить на фронт.
В феврале 1943 года в полк приехал военный представитель с Урала отбирать несколько сот человек на курсы танкистов — механиков-водителей, башнеров, радистов. Когда Маруся Лагунова пришла к нему, прося взять и ее, военпред только усмехнулся такой наивности.
— Что вы, девушка! — укоризненно сказал он. — Танкист — это чисто мужская профессия. Женщин в танки не берут, как и на военные корабли. Это уж закон.
Она ушла удрученная, но не примирившаяся с отказом. А на другой день почта принесла письмо от сестры с тяжкой вестью: смертью храбрых погиб на войне брат Николай. На это горе Маруся реагировала не только слезами — она села и написала письмо в Москву Михаилу Ивановичу Калинину. Через несколько дней военпред получил приказ принять Марию Лагунову в число курсантов. Ему оставалось только подчиниться.
Так среди 700 мужчин, будущих танкистов, приехавших в марте в город Нижний Тагил, оказалась одна девушка. Командование учебной танковой части сначала приняло это как чью-то неуместную шутку. Но когда выяснилось, что есть распоряжение из Москвы, а сама девушка всерьез желает стать механиком-водителем танка, командиры решили прибегнуть к уговорам.
— Поймите, это не девичья служба, — убеждали Лагунову в штабе части. Займитесь лучше женским делом — идите работать в столовую или писарем в штаб. Хотите, устроим вас швеей в армейскую мастерскую? Будете жить среди девушек. А ведь тут вы одна, трудно станет.
Но она по-прежнему твердила, что хочет быть танкистом и идти на фронт, мстить врагу за смерть любимого брата. Тогда ей предложили поехать в другой город: там, мол, сейчас формируется добровольческий танковый корпус из уральцев. Маруся поняла, что это подвох — от нее просто хотят отделаться, и отказалась наотрез. Она знала — за ней стоит приказ из Москвы и, как ни крутят командиры, они должны будут его выполнить.
Так и вышло. Два дня спустя Лагунову вызвал командир батальона майор Хонин.
— Я с тобой, Маруся, буду говорить откровенно, — сказал он. — Ты у нас первая из женского пола, и мы просто в затруднении, как к тебе подходить, служба трудная, требования к курсантам большие. Смотри уж, не подводи в учебе. А окончишь курсы, там будет видно, что с тобой делать. Пока что разрешаю тебе не ходить в наряды.
Девушка даже покраснела от досады. Она ответила, что и в наряды будет ходить и всю службу нести наравне с мужчинами.
— Никаких исключений я не принимаю, — решительно заявила она. — А окончу курсы — отправляйте на фронт, в тылу я не останусь.
Единственным исключением для нее стала маленькая каморка, которую ей отвели в расположении части. Во всем остальном, она была таким же курсантом, как и мужчины, и зорко следила, чтобы ей не делали ни малейших поблажек.
Программа курсов была рассчитана на четыре месяца, но танкистов требовал фронт: надвигались события на Курской дуге. Уже в июне лучшим курсантам предложили сдавать экзамены досрочно. Лагунова настояла, чтобы ее включили в число выпускников.
Технику она сдала на «хорошо», вождение танка — на «отлично». Как ни уговаривали ее остаться в полку инструктором, она не согласилась.
Танкисты приняли на заводе машины и погрузили их на платформы. Перед отправкой на фронт в заводском дворе состоялся совместный митинг рабочих и танкистов. И Маруся Лагунова, стоя в толпе, то и дело краснела: с трибуны говорили о ее настойчивости, упорстве, требовательности к себе и называли ее под аплодисменты собравшихся гордостью полка.
Но впереди еще было немало испытаний. Когда танкисты прибыли на фронт и вошли в состав 56-й гвардейской танковой бригады, командование, узнав, что на одной из машин механик-водитель девушка, отнеслось к этому как к досадной нелепости.
Впрочем, об этом хорошо рассказывает в своем письме сам бывший командир бригады гвардии полковник в отставке Т. Ф. Мельник, живущий сейчас в Киеве:
«…Шел 1943 год. Бригада готовилась к боям на Курской дуге. Для пополнения к нам прибыли с Урала маршевые роты. Я, как комбриг, делал смотр вновь прибывшим экипажам боевых машин.
Подхожу к одному из экипажей. Докладывают: — Командир танка лейтенант Чумаков, механик-водитель сержант Лагунова.
Я поправил:
— Не Лагунова, а Лагунов. Командир танка говорит:
— Товарищ комбриг, это девушка, Лагунова Мария Ивановна.
— Как_ девушка? Механик-водитель и девушка?!
Передо мной стоит по стойке „смирно“ танкист среднего роста, хорошей выправки, с серьезным волевым и загорелым лицом. Я был крайне удивлен, что механиком-водителем боевого танка оказалась девушка. Мне приходилось видеть на фронте женщин, которые хорошо справлялись с тяжелой фронтовой службой медсестер, врачей, связистов, снайперов, летчиков и с другими военными профессиями. Но механика-водителя, да еще прославленной „тридцатьчетверки“, никогда не видел. История еще не знала примера, чтобы девушка вела танк в бой. В первый момент я был сильно озадачен и не знал, как поступить с Лагуновой.
В то время я был глубоко убежден, что быть танкистом — не женское дело. Механик-водитель должен обладать большой физической силой — ведь для того, чтобы управлять рычагами танка, требуется большое мускульное напряжение. Надо уметь в любых условиях и при любой погоде на марше и в бою вести танк. Летом в жаркую погоду температура в танке достигает 40–50 градусов, а в бою при интенсивном ведении огня скапливаются пороховые газы — все это затрудняет действия экипажа. Кроме того, экипаж танка, особенно механик-водитель, испытывает в бою большое психическое напряжение, когда противник ведет по танку артиллерийский огонь. Требуется железная воля, выдержка, хладнокровие.
Все это и заставило меня подумать о том, чтобы перевести Лагунову в менее опасное место. Насколько возможно ласково я предложил ей побыть в резерве, посмотреть, обвыкнуть в боевых условиях, а потом, мол, получите танк и поведете его в бой с врагом. Лагунова наотрез отказалась. Она говорит:
— Я приехала на фронт не для того, чтобы отсиживаться в тылу.
Ее поддержали экипаж и офицеры подразделения».
Как вспоминает М. И. Лагунова, за нее горой встал лейтенант Чумаков, командир ее машины, который впоследствии пал в бою и посмертно был удостоен звания Героя Советского Союза.
— Мария Лагунова отличный механик, — твердо заявил он комбригу. — Я ручаюсь, что она будет управлять машиной в любых условиях.
Ее оставили в покое, но ненадолго. Когда танкистов нового пополнения стали распределять по батальонам и ротам, возник тот же вопрос — командиры не могли себе подставить, как это женщина поведет в бой танк. Снова начались уговоры, предложения перейти в штаб, подальше от переднего края.
И опять нашелся хороший и смелый человек, выручивший девушку. Это был заместитель командира батальона по политической части капитан Петр Митяйкин.
— Видимо, ее трудно переубедить, — сказал он другим командирам. — Не будем настаивать, товарищи. Повоюем, сержант Лагунова. Только, чур, воевать хорошо! Буду за тобой следить в бою.
Она узнала, что замполит всегда идет в бой на одной из головных машин и от его зоркого взгляда не укроется никакой промах танкиста. Но она была уверена в себе.
Наконец пришел боевой приказ. Машины вышли на исходные позиции и стояли замаскированные в укрытиях: поблизости уже рвались снаряды. Сражение на Курской дуге было в разгаре.
Перед боем снова появился капитан Митяйкин, побеседовал с танкистами и напомнил Марии Лагуновой, что будет наблюдать за ней. А потом машины подвели к переднему краю, загремела артиллерийская подготовка, на броню танка вскочили человек десять автоматчиков, и лейтенант Чумаков подал команду: «Вперед!»
Она запомнила этот первый бой во всех его мельчайших подробностях. Сквозь смотровую щель она видела условленные ориентиры и вела танк по ним. До предела напрягай слух, она ловила в шлемофоне команды лейтенанта Чумакова. Слышать что-нибудь становилось все труднее: к реву мотора прибавились гулкие выстрелы их танковой пушки и беспрерывная трескотня башенного пулемета. Потом немецкие пули забарабанили по броне, и она перестала различать в наушниках голос командира. Но Чумаков уже оказался около нее и стал командовать знаками.
В щель было видно, как наши танки, вертясь, утюжат траншеи противника. Маруся впервые увидела бегущие фигуры гитлеровцев в серо-зеленых френчах. В это время пули застучали о броню особенно часто и звонко, и лейтенант хлопнул ее по правому плечу. Она резко развернула танк вправо и совсем близко увидела блиндаж, из которого в упор бил пулемет. Тотчас же последовал толчок в спину, и она нажала на акселератор. Бревна блиндажа затрещали под гусеницами — она не слышала, а как бы почувствовала это.
Стрельба постепенно стала стихать. Лейтенант приказал остановиться. Прежде чем Маруся успела открыть люк, кто-то откинул его снаружи и за руку вытянул ее из машины. Это был капитан Митяйкин. Она еще плохо слышала, и он закричал, нагнувшись к ее уху:
— На первый раз хорошо получилось. Молодец, Лагунова!
Она огляделась. Пыль и дым, заволокшие все вокруг, постепенно оседали. Повсюду валялись трупы гитлеровцев, окровавленные, раздавленные, в самых причудливых позах. Перевернутые пушки, повозки, лошади с распоротыми животами… Маруся не испытывала страха во время боя, поглощенная своей работой, но сейчас, при виде этой страшной картины войны, ей стало жутко, она почувствовала, как к горлу подступает тошнота, и поспешно влезла в танк, чтобы никто не заметил ее слабости.
А после этого были многие другие бои, и тяжелые и легкие. Она уверенно вела свой танк, утюжила гитлеровские окопы, давила пулеметы, пушки врага, видела, как горят машины товарищей, плакала над могилами боевых друзей. Бригада шла все дальше на запад, через Сумскую, Черниговскую и, наконец, Киевскую область. И никто уже не сомневался в девушке-танкисте: Маруся показала себя опытным и смелым водителем.
«…Я спрашивал командира батальона, как ведет себя в бою Лагунова, вспоминает бывший комбриг Т. Ф. Мельник. — Мне докладывали: „Лагунова воюет хорошо. Смелая, умело применяется к местности“.
Мы достигли реки Днепр в районе города Переяслав-Хмельницкогр. Мария Лагунова все больше накапливала боевой опыт. В бригаде о ней уже говорили: „Это наш танковый ас“. Она пользовалась настоящим боевым авторитетом у танкистов. На ее счету было много раздавленных гусеницами огневых точек, пушек и фашистов. Вскоре бригада получила приказ занять Дарницу, район города Киева на левом берегу Днепра. Выполняя приказ, бригада завязала тяжелый бой у населенного пункта Бровары».
В это время за плечами Маруси Лагуновой было двенадцать атак. Бой за Бровары стал тринадцатой.
Танкисты, как и летчики, немного суеверны. Как-то на привале еще перед Броварами они завели веселый разговор, и кто-то полушутя сказал Марусе:
— Смотри! Тринадцать — число несчастливое.
В ответ она, смеясь, возразила, что на броне ее машины стоит номер 13, но это не мешало ей до сих пор воевать. А оказавшийся тут же капитан Митяйкин сердито возразил суеверному:
— Глупости! Я уже побывал в двадцати атаках, и ничего со мной не случилось в тринадцатой. Давай, Лагунова, поедем вместе в эту атаку.
Он никогда не забывал своих обещаний и 28 сентября 1943 года, в день этого боя, оказался в машине лейтенанта Чумакова. Его веселый, спокойный голос раздался в шлемофоне Маруси:
— Маруся, мы должны быть первыми! Давай вперед!
Сначала все шло хорошо. Командовал танком капитан Митяйкин, а лейтенант Чумаков встал к пулемету. Они первыми ворвались на позиции фашистов, и Маруся видела, как разбегаются и падают под пулеметным огнем гитлеровцы.
— Дай-ка чуть правей, — скомандовал Митяйкин. — Там немецкая пушечка нашим мешает, прихлопнем ее.
Она развернула машину и понеслась вперед. Немецкие пушкари кинулись врассыпную, и танк, корпусом откинув орудие, промчался через артиллерийский окоп. Но, видимо, где-то рядом притаилась вторая пушка. Танк вдруг дернуло, мотор захлебнулся, и в нос ударила едкая гарь. Больше ничего Маруся не помнила.
Она очнулась в полевом госпитале. У нее были ампутированы обе ноги, перебита ключица и левая рука казалась омертвевшей. Все внутри словно было сжато в тисках, и голова раскалывалась на части. Боль отнимала все силы души и тела, и она даже не могла задуматься над тем, что с ней произошло.
На самолете ее доставили в Сумы, оттуда в Ульяновск, а затем в Омск. Здесь молодой смелый хирург Валентина Борисова делала ей одну операцию за другой, стремясь спасти ее ноги, насколько это было возможно, чтобы потом она смогла ходить на протезах. Именно смелости и настойчивости Борисовой, шедшей иногда на риск вопреки советам старших и более осторожных хирургов, Лагунова обязана тем, что наступил день, когда она пошла по земле без костылей.
Но до этого дня еще надо было дожить, пройдя через множество физических мучений, через нескончаемые месяцы нравственных страданий. Сознание безнадежности и безысходности будущего все чаще и сильнее охватывало девушку. Она плакала, мрачнела, и никакие утешения врачей не помогали. И вдруг снова хорошие, отзывчивые люди, ее старые друзья, пришли к ней на выручку в самый тяжкий момент ее жизни.
Из танкового полка, где получила она специальность механика-водителя, в Омск приехала целая делегация — навестить героиню. Танкисты привезли Марии 60 писем. Ей писали старые друзья, писали незнакомые курсанты из нового пополнения. Прислали полные горячего участия письма командир бригады полковник Максим Скуба и ее прежний комбат майор Хонин. Она узнала, что в комнате славы полка висит ее портрет, что ее военная биография известна всем курсантам и помогает командирам воспитывать для фронта новых стойких бойцов. Ей писали, что она не имеет права унывать, что ее ждут в родной части, что танкисты новых выпусков, отправляясь на фронт, клянутся мстить врагам за раны Марии Лагуновой. И она воспрянула духом от этих писем и от рассказов приехавших товарищей. Она почувствовала себя не только нужной людям, но и как бы находящейся по-прежнему в боевом строю.
Весной 1944 года ее привезли в Москву, в Институт протезирования. И здесь друзья из части навещали ее, слали ей письма. Она встретилась тут с Зиной Туснолобовой-Марченко, которая потеряла в бою и ноги и руки, и вскоре обеим героиням вручили ордена Красной Звезды.
— Когда я в первый раз надела протезы и перетянулась ремнями, вспоминает Мария Ивановна Лагунова, — я вдруг поняла, что это тяжкое несчастье будет на всю жизнь, до самой смерти. И я подумала: смогу ли я это выдержать? Первая попытка пойти оказалась безуспешной — я насадила себе синяков и шишек. Но профессор Чаклин, который так много труда вложил, чтобы поставить меня на протезы, категорически запретил персоналу давать мне палку. Начались ежедневные тренировки, и через несколько дней я постепенно стала передвигаться.
Она училась ходить с тем же упорством, с каким когда-то училась водить танк. В день выхода из больницы за Марией Лагуновой приехал нарочный из полка с приказанием явиться ей в часть для дальнейшего прохождения службы. Командование зачислило ее, как сверхсрочника, на должность телеграфистки.
Когда-то, придя в этот полк, Маруся Лагунова наотрез отказалась от каких-нибудь поблажек, которые хотели сделать ей, как единственной девушке из числа курсантов.
Теперь она так же категорически отказывалась от всяких предпочтений себе как инвалиду. Товарищи, поражались ее решимости. Бывший однополчанин Лагуновой уралец Александр Червов хорошо написал мне об этом в своем письме:
«Во всем был виден ее железный характер, упорство, настойчивость. Она часто отказывалась от предложений подвезти ее на машине, старалась больше ходить пешком на протезах. Нетрудно представить, каких мучений стоила ей эта ходьба. Но она, как и ее собрат по судьбе Алексей Маресьев, упорно тренировала себя в ходьбе, ибо она знала, что жизнь ее долгая и ходить ей по нашей свободной земле придется много».
Но все это время Мария Лагунова незримо опиралась на большую моральную поддержку своих товарищей-однополчан, окруживших ее сердечной заботой, теплым человеческим вниманием. «Я буду благодарна всю свою жизнь командованию бригады и полка за заботу и ласку, за решимость вернуть мне жизнь», — пишет Мария Ивановна Лагунова.
Она прослужила в родной части почти четыре года. А когда в 194$ году Мария Лагунова, демобилизовавшись, приехала в Свердловск, нашлись другие такие же отзывчивые люди, тоже старые товарищи, позаботившиеся о ней. Это был коллектив фабрики «Уралобувь» во главе с директором С. Т. Котовьш. Ее устроили работать контролером ОТК, дали ей комнату.
Работа была не тяжелой, но, скованная протезами, она за восемь часов доходила до изнеможения. Однажды, поздно возвращаясь домой после второй смены, она упала — подвернулся протез. Слишком измученная, она никак не могла встать сама. Товарищи по фабрике ушли вперед, улица была безлюдной. Потом вдали показалась компания случайных прохожих. Лагунова только собралась окликнуть их, как один насмешливо сказал: «Ну и нализалась!» — и все засмеялись. Ее словно хлестнули по щекам, и она расплакалась, а потом решила, что никого не станет просить о помощи. Буквально по сантиметрам, опираясь на одни руки, она доползла до стоявшего впереди столба и после долгих усилий поднялась с земли и дошла домой.
Прошло немного времени, и жизнь, которая обошлась с ней так жестоко, вдруг снова улыбнулась ей. Она встретила молодого человека Кузьму Фирсова, знакомого ей еще по фронту и тоже инвалида войны — он был ранен в голову и потерял левую руку. Они подружились, и однажды Кузьма предложил:
— Знаешь, Мария, давай поженимся. Вдвоем будет легче прожить.
— Ведь мы два инвалида, — возразила она. — Нам обоим няньки нужны.
— Из двух инвалидов получится один полноценный человек, — засмеялся в ответ Кузьма.
Они поженились. В 1949 году родился сын, которого назвали Николаем в честь погибшего брата Марии. Четыре года спустя родился второй сын, Василий, — так звали убитого на войне брата Кузьмы Фирсова.
Дети, домашние хлопоты заставили М. И. Лагунову бросить работу на фабрике. Но коллектив рабочих, завком и партком по-прежнему оставались шефами героини войны. Семье предоставили двухкомнатную квартиру, порой оказывали необходимую помощь. А в 1955 году пришлось покинуть родной Урал: М. И. Лагунова заболела, и врачи предписали ей перемену климата. Они переехали на Украину, в город Хмельницкий.
Бывший механик-водитель «тридцатьчетверки», боевой танкист, прошедший с боями путь от Курской дуги до Днепра, М. И. Лагунова теперь просто домашняя хозяйка. Ее муж К. М. Фирсов — мастер завода трансформаторных подстанций. Старший сын Николай — студент Каменец-Подольского индустриального техникума, младший, Василий, — третьеклассник. Жизнь славной героини Великой Отечественной войны вошла в свою прочную, хоть и нелегкую колею как благодаря упорству, настойчивости, твердости характера этой замечательной женщины — настоящего человека нашей героической эпохи, так и благодаря дружеской помощи и поддержке десятков хороших, отзывчивых советских людей.
«Вот так мы и живем, — заканчивает одно из своих писем ко мне М. И. Лагунова. — Да еще кое-кто нам завидует, хотя это и глупо, но факт остается фактом».
Нет, пожалуй, это вовсе не глупо, тут Мария Ивановна ошибается. Как можно не завидовать человеку, который с таким великолепным достоинством прошел такой трагический и славный путь! Она героиня войны, героический борец в послевоенной жизни, эта скромная и гордая женщина с рабочего Урала. Ее характер и воля были крепки, как уральская сталь, ее судьба ярка и необычайна, как уральские самоцветы, и вся ее биография — подвиг. Таким людям хорошо, по-человечески завидуют, ими восхищаются, на их примерах учат и воспитывают молодежь.
И здесь не имеет значения тот факт, что на груди у М. И. Лагуновой только один орден Красной Звезды. Война оставила нам многих неизвестных героев, чьи награды — я уверен в этом — еще впереди. Да и не в наградах дело. Для героя лучшей наградой становится память народа, любовь и уважение людей.
Накануне Международного женского дня 8 марта 1964 года я подробно рассказал в одной из передач по телевидению о Марии Ивановне Лагуновой. В конце передачи я сообщил телезрителям нынешний адрес героини: город Хмельницкий, улица Фрунзе, дом 58, квартира 4. И. как следовало ожидать, реакция была мгновенной.
За какие-то 10–15 дней в этот адрес пришло более 6 тысяч писем из разных уголков страны, от самых различных людей. Это был поток чувств, глубоко сердечных, горячих, полных восхищения и гордости жизненным подвигом женщины. И хотя Мария Ивановна Лагунова по скромности, присущей истинным героям, упорно протестует против того, чтобы ее считали героиней, я уверен, что писавшие ей люди заставили ее снова и по-новому оглянуться на годы, оставшиеся позади, и почувствовать, что ее биография перестала быть ее личным достоянием и сделалась явлением всеобщим, воплощая для миллионов наших граждан прекрасный, чистый и высокий образ советской женщины памятных лет Великой Отечественной войны.
Русские в Риме
Это было 4 июня 1944 года. Англо-американские войска вступали в столицу Италии Рим. Улицы, запруженные народом, были полны грохотом и лязгом гусениц, ревом моторов.
И вдруг в северо-западной части города, в кварталах, прилегающих к широкой улице Номентана, по толпе римлян понесся передаваемый из уст в уста радостно-удивленный возглас:
— Русские в Риме! Русские здесь!
Это казалось невероятным. Все знали, что русские на Восточном фронте победоносно наступают. Но ведь Советская Армия еще недавно вела бои на первых километрах румынской и польской земли, в лесах Белоруссии. Откуда же вдруг русские в Риме? Может быть, они высадили воздушный десант? Однако советские самолеты не появлялись над Италией…
Но тот же возглас раздавался снова и снова, и поток людей стремился вниз по улице Номентана, туда, где она пересекается с улицей 21 Апреля. Толпа залила перекресток, и все смотрели на трехэтажное угловое здание, на фронтоне которого под крышей выделялся барельеф — головы трех белых слонов.
Те, кто жил тут, поблизости, знали, что в этой так называемой «вилле Тай» издавна помещалось посольство азиатского королевства Сиам (Таиланд). Но здание уже много месяцев стояло с закрытыми ставнями, притихшее и обезлюдевшее, — посол Сиама со всем персоналом уехал на север Италии, и в доме, охраняя его, оставался только метрдотель посольства — русский эмигрант, скромный незаметный человек лет сорока, которого соседи на итальянский манер называли именем Алессио.
К удивлению соседей, сейчас вилла Тай оказалась густонаселенной. Все ставни и окна ее были распахнуты настежь, а на широком балконе второго этажа шеренгами выстраивались два или три десятка разношерстно одетых людей с автоматами в руках и гранатами на поясе — явно партизаны. Звучала непривычная для слуха римлян русская речь. Но вместе с русскими там, на балконе, были и итальянцы. И всем распоряжался, как командир, тот самый метрдотель из посольства — Алессио, которого, впрочем, советские партизаны называли по-другому — боевой кличкой «Червонный».
Послышалась его команда, шеренги на балконе замерли, и по флагштоку над крышей виллы Тай медленно поднялось и развернулось на теплом ветру алое знамя с серпом, молотом и звездой — Государственный флаг Союза Советских Социалистических Республик. И тотчас же партизаны на балконе хором грянули: «Широка страна моя родная…»
Толпа разразилась аплодисментами, восторженными возгласами в честь Советского Союза и Красной Армии. И тут же восприимчивые к пению римляне подхватили мелодию. Советская песня гремела над улицами Рима, заглушая грохот проходивших мимо американских танков, с башен которых офицеры недоуменно смотрели на советское знамя, невесть откуда взявшееся в центре итальянской столицы.
Через час к воротам виллы Тай на «джипах» подъехала американская военная полиция. Сиам считался союзником Германии и Италии, и посольская вилла значилась в списке зданий, подлежавших конфискации. К удивлению офицера, у ворот стояли два русских партизана с автоматами, и вышедший к нему Червонный объявил, что в вилле находится штаб-квартира советских партизан и подпольщиков, которые во время оккупации действовали в Риме и его окрестностях и которых сейчас, в соответствии с соглашением между союзными державами, англо-американское командование обязано взять на полное довольствие и обеспечить всем необходимым.
Офицеру оставалось только извиниться. Он сделал отметку в списке, улыбаясь, козырнул союзникам, бросил привычное «О'кэй» и умчался прочь со своими полицейскими.
Два дня спустя, 6 июня, римляне снова увидели советских партизан и их итальянских товарищей. На этот раз их было уже больше полусотни, они шли строем под тем же красным знаменем. Теперь, когда знамя видели вблизи, было заметно, что оно сделано из национального флага Сиама. Только белый слон герб королевства — был спорот с алого полотнища, а взамен него аккуратно нашиты звезда и серп и молот. На рукавах всех русских были красные повязки с буквами «СССР».
Партизаны с песнями прошли через весь город, направляясь туда, где у собора святого Петра лежит резиденция папы римского — Ватикан. В этот день папа Пий XII устраивал торжественный прием в честь союзных держав, воевавших против Гитлера. Так как уполномоченные Советского правительства к тому времени еще не прибыли в Рим, партизаны с виллы Тай были приглашены на прием как представители своей страны. Быть может, впервые в истории в тот день вместе с ними в цитадель католической церкви вошло красное знамя Ленина, и швейцарские гвардейцы папы при виде его брали на караул, отдавая ему воинскую почесть.
Представители каждой союзной страны собирались в отдельном, отведенном для них зале папского дворца. Советские партизаны построились вместе со своими итальянскими товарищами. Появился папа в сопровождении двух капитанов швейцарской гвардии. Обходя шеренги партизан, он вручал каждому на память свой портрет. Он даже выказал некоторое знакомство с русским языком, спрашивая иногда гостей: «Как ваше имья?», «Где ви живьете?» — а потом поинтересовался, когда эти советские люди бежали из гитлеровского плена.
— Первые бежали еще в октябре 1943 года, — ответил ему Червонный.
Папа задумался.
— О, тогда обстановка здесь была далеко еще не ясной, — сказал он. Значит, они бежали не для того, чтобы спасать свою жизнь, а шли бороться, навстречу смерти. Браво, браво! И ведь они были так далеко от своей Родины. Русские — доблестный народ! Я уверен, что они вскоре будут в Берлине.
Он спросил, как они добрались до Ватикана, и, узнав, что пришли пешком, горестно развел руками:
— О бедные! Так далеко!
И, обернувшись к капитану своей гвардии, приказал дать два автобуса, чтобы довезти русских до виллы Тай.
Когда там, в папском дворе, партизаны сели в эти автобусы под своим красным знаменем, на весь Ватикан вдруг раздалось:
Москва моя, страна моя, Ты самая любимая.И здесь, в Ватикане, как и на балконе виллы Тай, партизанами командовал тот же Алессио Червонный.
На самом деле этого человека с очень сложной и трудной биографией звали Алексеем Николаевичем Флейшером. Он был выходцем из русского дворянского рода, которому иностранная фамилия досталась от давних предков — датских купцов. Начиная со времен Кутузова все мужчины в этой семье были офицерами или генералами. Сын подполковника царской армии, Алексей Флейшер тоже готовился стать офицером. Когда началась гражданская война, он был воспитанником кадетского корпуса на Кавказе. Врангелевцы отправили кадетов сначала в Крым, а потом вывезли их за границу. Так, не по своей воле, будучи тогда еще слишком юным, чтобы самому решить собственную судьбу, семнадцатилетний Алексей Флейшер оказался среди чужих людей, без родины, без всяких средств к существованию и за долгие годы до дна испил горькую чашу эмигрантской жизни.
В Болгарии он формовал кирпичи и был шахтером, в Люксембурге — рабочим на кожевенной фабрике, во Франции — экскаваторщиком и машинистом подвесной дороги, в Ницце работал шофером то у итальянского дипломата, то у богатой старухи американки, то у иракского принца. Потом он поселился в столице Югославии Белграде и служил там шофером в греческом посольстве.
Как известно, в 1941 году, незадолго перед гитлеровской агрессией против СССР, Германия и Италия напали на Югославию и оккупировали эту страну. Бежавшее из Белграда греческое посольство было захвачено итальянскими войсками и перевезено в албанский порт Дураццо. Греков вскоре отпустили на родину, в Афины, тоже занятые немцами, а Флейшера, как русского, оставили на месте. Когда началась война на востоке, ему предложили свободное возвращение в Белград при условии, если он вступит добровольцем в белоэмигрантские батальоны, которые гитлеровцы формировали для советско-германского фронта.
Флейшер давно уже проклинал тех, кто когда-то вывез его на чужбину, лишил его родины. Все эти годы эмигрантской жизни он жадно ловил долетавшие до него известия о преобразованиях, совершающихся в Советском Союзе. И он с негодованием отверг предложение изменить своему народу, поднять против него оружие. Наоборот, теперь он напряженно думал, как бы помочь родной стране в тяжелой борьбе с врагом, хоть и находился он так далеко от нее.
Через швейцара гостиницы, где его содержали как интернированного иностранца, он узнал, что в горах по соседству с Дураццо уже действуют албанские и югославские партизаны. Этот же швейцар помог ему связаться с партизанами, и было условлено, что вскоре он убежит в отряд.
Но его опередили. Кто-то донес властям о намерении Флейшера. Его тотчас же в сопровождении жандармов посадили на пароход и отправили на поселение в Италию, в маленькую деревню в Абруццких горах. Оттуда он списался с друзьями из числа русских эмигрантов, живших в Риме, и те выхлопотали ему разрешение переехать в итальянскую столицу. Там он обязан был регулярно отмечаться в полиции, но зато имел право работать по найму. Он устроился на должность метрдотеля в сиамское посольство. Когда в 1943 году союзные войска высадились на юге страны, а Гитлер оккупировал Италию, посол Сиама со всем персоналом уехал на север — в резиденцию марионеточного правительства Муссолини, а Флейшеру оставили ключи от виллы Тай, поручив охранять здание и имущество.
В Риме Флейшер сдружился с несколькими патриотически настроенными русскими эмигрантами. Эти люди, как и он, глубоко переживали события, происходившие на родине, и страдали от мысли, что в такой час они остаются в стороне от борьбы своего народа. Позднее через них Флейщер познакомился со многими итальянскими коммунистами, участниками подпольного антифашистского Сопротивления в Риме.
Как раз в это время — во второй половине 1943 года — гитлеровцы начали привозить в Италию на работу советских военнопленных. Их заставляли демонтировать оборудование заводов, подлежащих вывозу в Германию, — Гитлер уже чувствовал, что в Италии ему долго не продержаться. Стало известно, что в окрестностях Рима есть уже несколько лагерей, где содержатся пленные советские солдаты и офицеры. И тогда у Флейшера и его товарищей возникла мысль — помочь бежать этим пленным, вооружить их и направить в итальянские партизанские отряды или сформировать самостоятельные группы советских партизан. При этом вилла Тай была бы идеальным убежищем для беглецов. Вилла пользовалась правом дипломатической неприкосновенности, и Флейшер был сейчас ее полновластным хозяином — пленные на первое время могли бы укрыться здесь, пока им достанут оружие и переправят в районы партизанских действий.
Одним из новых друзей Флейшера был строительный подрядчик Ренато Боро, коммунист из городка Монтеротондо, в 25 километрах к северу от Рима. Он работал на стройках в самой столице и каждый день приезжал сюда на автобусе. От него и узнал Флейшер, что с Монтеротондо привезли партию советских пленных, которые с помощью таких общепонятных слов, как «коммунист», «Интернационал», уже установили некоторое взаимопонимание с местными антифашистами. Как рассказывал Боро, советские люди жестами и мимикой намекали итальянцам, что они хотели бы бежать из плена и уйти в партизаны. Но в Монтеротондо никто не знал русского языка, и окончательно договориться не удавалось.
Флейшер тут же посвятил Ренато Боро в свой замысел И тогда Боро повел его к видному коммунисту Помпилио Молинари, одному из руководителей антифашистского Сопротивления в римской провинции, Молинари горячо одобрил идею Флейшера и выделил своих людей для подготовки побегов советских пленных. С тех пор вся деятельность русских партизан и подпольщиков в Риме и его окрестностях направлялась и руководилась штабом итальянского антифашистского Сопротивления через Помпилио Молинари, от которого Флейшер получал и задания и необходимую помощь.
Боро привез Флейшера в Монтеротондо и организовал ему тайную встречу с одним из пленных — бывшим санинструктором Красной Армии, богатырски сложенным, могучим человеком Алексеем Коляскиным. Тот обещал подготовить к побегу группу надежных и смелых товарищей. Обо всем было условлено, и дальнейшее взяли на себя итальянские друзья.
Четырнадцать пленных во главе с Алексеем Коляскиным и его другом ефрейтором Анатолием Тарасенко бежали в ночь с 23 на 24 октября 1943 года. Они воспользовались тем, что в этот день немецкая охрана перепилась — у гитлеровцев был какой-то праздник. Часового у выхода удалось бесшумно снять, и беглецы оказались на темной, затянутой осенним дождем улице Монтеротондо.
Там ждал их в назначенном месте итальянец-проводник. Переулками они торопливо выбрались за окраины городка в горы. Проводник привел их в глубокое ущелье, густо заросшее колючим кустарником. Здесь им предстояло организовать свою будущую партизанскую базу.
И вдруг партизаны разом остановились: в глубине ущелья стояли два итальянских солдата. Тотчас же мелькнула мысль о предательстве, о ловушке. Но солдаты, нагнувшись к ящикам, стоявшим около них, стали вынимать оттуда автоматы, ручные пулеметы, протягивая их партизанам. Это были люди Помпилио Молинари, приготовившие для беглецов и оружие и запас продовольствия.
Бывшие пленные едва не задушили в объятиях своих итальянских друзей. Взяв в руки автоматы и пулеметы, они снова почувствовали себя воинами, советскими солдатами, хотя и находились за сотни километров от Родины.
Первые две недели ушли на подготовку: партизаны изучали незнакомое им иностранное оружие, с помощью итальянских товарищей знакомились с местностью, устанавливали связь с надежными людьми в соседних деревнях. Потом они начали боевые действия: уходя за несколько десятков километров от базы, устраивали диверсии, засады на дорогах, нападали на автоколонны и небольшие отряды врага. Вскоре группа пополнилась новыми беглецами и разрослась настолько, что в густонаселенной местности ее трудно стало скрывать и снабжать всем необходимым. Посоветовавшись с Молинари, Флейшер оставил в Монтеротондо часть бойцов во главе с Тарасенко, а большую половину партизан под командованием Коляскина перебросил к югу от Рима, в районы местечек Джендзано и Палестрины, где они продолжали свои операции. А вскоре возникла и третья группа партизан — «Молодежный отряд». Она находилась в самом Риме, в подвале и помещениях виллы Тай и командовать ею Флейшер поручил бывшему технику Красной Армии сибиряку Петру Конопелько.
Этот отряд, составленный из отборных молодых партизан, как и маленькие вооруженные группы, размещенные Флейшером и его друзьями в разных районах Рима, должен был принять участие в будущем восстании на улицах итальянской столицы, которое в то время готовилось штабом антифашистского Сопротивления. Однако восстанию этому так и не пришлось осуществиться. Гитлеровское командование в Италии заявило, что в случае, если партизаны начнут действия в пределах «вечного города», германская армия станет сражаться на улицах Рима против них и против англо-американских войск «так, как русские сражались в Сталинграде».
Рим, как известно, один из древнейших и красивейших городов мира, и здесь множество исторических памятников, сокровищ мировой культуры, которые подверглись бы разрушению и уничтожению во время уличных боев. Поэтому руководство Сопротивления решило отказаться от восстания, и все партизаны в Риме — в том числе и русские — получили строгий приказ не вести никаких боевых действий в городе. Группе Конопелько приходилось совершать дальние вылазки в окрестности столицы и уже там производить диверсии и нападения на автоколонны врага. Одной из самых значительных операций этой группы было уничтожение моста на дороге Рим — Тиволи, которое закончилось напряженным боем с гитлеровцами, где советские партизаны сражались вместе с бойцами итальянских отрядов. Только ночь помогла Конопелько и его товарищам уйти от разгрома и добраться в Рим.
Серьезную диверсию сумела совершить в районе местечка Джендзано группа Коляскина. Это было в декабре 1943 года. Партизанская группа получила задание разведать и взорвать немецкий перевалочный склад боеприпасов и амуниции.
Командир группы Коляскин решил сам провести разведку и взял с собой Ильиных, отчаянного и предприимчивого партизана. Они ночью добрались до склада, нашли удобное место на соседней высотке в виноградниках и весь следующий день вели наблюдение.
Склад, как оказалось, охраняли всего два караульных, сменявшиеся днем и ночью, через два часа, шагали они вдоль одной передней стены ограды с автоматичностью механизма. Направляясь с двух противоположных углов навстречу друг другу, они сходились на середине и, сделав поворот кругом, снова расходились. Словом, охрана была совсем не такой многочисленной, как предполагали, и, посоветовавшись, Коляскин и Тарасенко решили, что незачем вести сюда весь отряд, они вполне могли справиться вдвоем.
Они выждали до ночи и осторожно подползли к углу склада. Как только гитлеровец, дойдя до этого угла, повернулся кругом, Ильиных мгновенно накинул ему сзади на голову свою шинель и заколол кинжалом. Темнота мешала второму часовому видеть своего напарника, а снять фашиста Ильиных сумел совершенно бесшумно.
В несколько секунд сибиряк стащил с убитого его шинель, надел на себя, нахлобучил на голову каску и взяв автомат часового, зашагал так же, как он, навстречу второму гитлеровцу. Тот ничего не заметил и, когда они встретились на середине, сделал привычный поворот кругом. Ильиных тотчас же прыгнул ему на спину, и все произошло так же быстро и бесшумно, как с первым. Охрана была ликвидирована.
Здесь, в складе, стояли и бочки с бензином. Черпая его касками, партизаны облили штабеля амуниции, ящики со снарядами и патронами. Коляскин чиркнул спичкой, и оба стремглав бросились бежать в темноту, торопясь подальше уйти до взрыва. А сзади, разгораясь и поднимаясь все выше, плясало пламя пожара.
Добежав до придорожного кювета, они ничком упали на землю. И в это время услышали могучий взрыв, почти подбросивший их. Склада больше не существовало.
Между тем подпольщикам с виллы Тай удавалось устраивать все новые побеги пленных. Вскоре число бежавших из лагерей перевалило за полторы сотни. Каждого длинного надо было не только вырвать из-за проволоки, но и укрыть вначале в надежном убежище, кормить, достать для него одежду, а главное — оружие и боеприпасы. Конечно, руководство римского Сопротивления немало помогало во всем этом, но его средства были ограниченными, и Флейшеру с друзьями приходилось изворачиваться — добывать и деньги, и оружие, и продовольствие, которого не хватало в оккупированном Риме.
В разных районах итальянской столицы они создали до 40 конспиративных квартир, где постоянно скрывались небольшие группы советских партизан. Хозяевами этих квартир были и русские эмигранты и итальянские патриоты, которые, ежечасно рискуя жизнью, прятали советских людей, кормили их и помогали Флейшеру во всех его предприятиях.
В конспиративную квартиру превратил свою стадию известный русский художник, ученик Серова, Васнецова и Коровина — Алексей Исупов. В 1926 году он по категорическому предписанию врачей уехал из Советского Союза в Италию и с тех пор жил и лечился в Риме (он умер в 1957 году). Его студия находилась прямо напротив фашистской казармы, но у художника всегда скрывались три-четыре партизана, о которых Исупов и его жена горячо заботились и с которыми с грустью расставались, когда тем наступало время идти в отряд. Активными помощниками Флейшера стали русские эмигранты Александр Сумбатов, Вера Долгина, Кузьма Зайцев. Последний был арестован, выдержал пытки и избиения в гестапо, но не выдал товарищей. Отважными подпольщиками были даже два русских католических священника Дорофей Бесчастнов и Илья Марков, выполнявшие многие опасные поручения Флейшера. Кстати, после войны они оба сбросили опостылевшие им черные поповские сутаны и вернулись на Родину.
Но боевое подполье, штабом которого сделалась вилла Тай, было по-настоящему интернациональным. Десятки отважных, самоотверженных итальянцев, полных ненависти к фашизму, любви и уважения к нашей стране, пренебрегая смертельной опасностью для себя и своих семей, скрывали советских партизан и беглецов из плена, делились с ними всем, что имели, самоотверженно помогали Флейшеру.
Это были люди самых разных профессий и состояний: и адвокат Оливьери, и инженер Сантини, и врач Лорис Гаспери, и торговец Джованни Гаффи, и бывший капитан итальянской армии Адреано Танни, и профессор медицины Оскаро ди Фонци. Коммунист с большим подпольным стажем, столяр-краснодеревщик Луиджи де Цорци, работавший в то время швейцаром большого жилого дома, вместе со своей женой Чезариной прятал на чердаке этого здания группы вооруженных партизан, и, хотя муж и жена сами жили впроголодь, они отдавали часть своих продуктов постояльцам. Луиджи не раз выполнял ответственные поручения Флейшера и был его активным помощником.
В тайное убежище, где порой укрывалось по нескольку десятков партизан, превратился подвал бара на улице Кайроли близ площади Виттория. Этот бар содержали Альдо Фарабуллини и его жена Идрана. Кругом шныряли ищейки гестапо, шли поблизости облавы, но ничто не останавливало этих отважных людей: их бар был одной из главных конспиративных квартир Флейшера. Порой бывало, что в баре выпивали и закусывали гитлеровские солдаты, не подозревая того, что под их ногами, в подвале, сжимая оружие, в напряжении ждут советские партизаны. В случае опасности хозяин Альдо Фарабуллини, который с притворной веселостью обслуживал ненавистных ему клиентов, должен был подать условный знак, постучав в пол, и партизаны вырвались бы тогда наверх, чтобы или погибнуть в бою, или прорваться из этого квартала в другие тайные убежища. Альдо и Идрана хорошо знали, что ждет их потом.
Порой, когда поблизости было спокойно, подземные обитатели бара поднимались наверх и завтракали за столиками, словно обычные посетители. Если в это время появлялся настоящий посетитель, они делали вид, что читают газеты, прихлебывая кофе или съедая порцию макарон. Иной раз при этом случались казусы, и кто-нибудь из партизан усердно изображал внимательного читателя, держа газету вверх ногами.
Однажды такой промах едва не обошелся дорого. Рядом с баром Фарабуллини, стена в стену, стоял дом, принадлежавший человеку, известному своими симпатиями к фашистам. Бывало, что этот сосед неожиданно заходил выпить чашку кофе, когда в зале сидели партизаны, и с излишним любопытством посматривал на них. Как-то после этого он вдруг вкрадчиво сказал Идране:
— Я думаю, синьора, вы кого-то прячете у себя в подвале. Два раза я видел, как ваши посетители читают газеты вверх ногами.
Идрана похолодела от ужаса. Но тут же, вспомнив, что сосед — страшный трус, она поняла, что надо ему ответить.
— Это еще не все, синьор, — доверительно сказала она, понижая голос. Имейте в виду, в подвале, у нас, кроме того, сложено столько динамита, что мы можем поднять в воздух весь квартал. Если, конечно, появится какая-нибудь опасность, — добавила она.
Сосед побледнел и, быстро расплатившись, ушел. Несколько дней Идрана провела в глубокой тревоге, но риск оправдался: сосед слишком дорожил своим домом, чтобы донести немцам.
Такими же верными друзьями советских людей были в городках Палестрина и Монтеротондо семьи Ботичелли, Пицци и де Баттисти, Ренато Боро, Лоренцо д'Агостино, Альфреда Джиорджи, Северино Спакатросси, Пино Леви Кавальоне и множество других антифашистов. На какую самоотверженность были способны эти люди, можно судить по случаю, происшедшему с командиром партизанской группы Анатолием Тарасенко.
Придя вечером в Монтеротондо, чтобы получить очередное боевое задание от руководителя местной секции компартии Франческо де Цуккори, он заночевал потом в доме помещичьего батрака Доменико де Баттисти. И жена Доменико Амелия и два его маленьких сына уже хорошо знали и любили этого партизана.
Утром, когда Тарасенко собрался вернуться в лес, к своей группе, оказалось, что вокруг дома расположилась на постой большая немецкая часть. У дверей уже стоял часовой, и гитлеровцы могли каждую минуту войти в комнаты. Амелия тотчас же сообразила, что надо делать. Она потащила Тарасенко в комнату, достала новый костюм и шляпу мужа и заставила партизана переодеться, а потом дала ему на руки своего трехлетнего сына Фаусто, что-то наказав ребенку.
Тарасенко вышел во двор, полный гитлеровских солдат. Часовой, стоявший у дома, окликнул было его. Но маленький Фаусто сделал вид, что испугался, заплакал и, обняв партизана за шею, стал повторять: «Папа! Папа!» И немец, подумав, что это идет отец семьи, махнул Тарасенко рукой: «Проходи!» Партизан с ребенком прошел среди солдат, отнес маленького Фаусто к его деду, жившему неподалеку, и благополучно добрался до леса. Сейчас А. М. Тарасенко переписывается со своим спасителем, который, впрочем, давно стал взрослым человеком и работает в одном из книгоиздательств в Риме.
Удары партизан учащались и становились все более чувствительными для гитлеровцев. С наступлением весны и лета 1944 года партизанская борьба в римской провинции получила новый размах, и советские группы действовали в самом тесном контакте с отрядами местных итальянских антифашистов. А когда германские войска стали отступать на север, Флейшер по приказу штаба Сопротивления снова объединил группы Коляскина и Тарасенко к северу от Рима, около Монтеротондо.
Там вместе с отрядами итальянцев советские партизаны 6 июня 1944 года дали последний бой гитлеровским войскам, отступавшим из Монтеротондо. Партизанские пулеметы неожиданно ударили в упор по большой автоколонне врага. Из трех немецких танков, подоспевших на выручку к своим, два были уничтожены гранатами, причем один из них подбил Алексей Коляскин, смело вышедший на единоборство с бронированной машиной и раненный при этом в руку.
Бой закончился полной победой. Больше сотни гитлеровцев было убито, 250 взято в плен, колонна врага разгромлена, и Монтеротондо освобожден оружием партизан. Над ратушей городка взвилось национальное знамя Италии. Партизаны торжественно праздновали свой триумф, как вдруг на улицах Монтеротондо стали рваться снаряды Это подошли с юга англо-американские войска, решившие штурмовать местечко, уже освобожденное партизанами.
Пришлось срочно посылать к ним гонца. И когда танки союзников вошли в Монтеротондо, американцы, к неудовольствию некоторых своих офицеров, увидели, что стены домов исписаны здравицами не в честь войск США, а во славу Советского Союза и Красной Армии. Если эти надписи пробовали стирать, они появлялись снова и написанные еще более крупными буквами. Слишком много друзей приобрели советские люди в этом городке за время своей многомесячной борьбы в его окрестностях.
Партизаны после этого боя вернулись в Рим и вместе со своими товарищами по подполью — русскими и итальянцами — радостно отпраздновали победу на вилле Тай. Не был забыт и бар Фарабуллини. Все стены его зала были исписаны. Спасенные Альдо и Идраной советские люди от всего сердца благодарили этих мужественных итальянских патриотов. Несколько лет потом Альдо и Идрана бережно сохраняли эти надписи, сам бар был назван «Партизанским», и в его рекламных карточках рассказывалось о том, как скрывались здесь бежавшие из плена русские партизаны.
Эпопея виллы Тай закончилась, когда в Рим прибыли представители Советского правительства. Тогда А. Н. Флейшер выстроил во дворе и передал уполномоченному по репатриации 182 спасенных им бывших советских военнопленных, в числе которых были 11 офицеров. Все они отправились на Родину. Большинство участвовало потом в боях на фронте на заключительном этапе войны, и некоторые пали смертью храбрых.
А потом, после Победы, исполнилась и заветная мечта самого А. Н. Флейшера — он получил советское гражданство и вернулся в СССР. Он поселился в Ташкенте, работал там картографом, получил новую хорошую квартиру, а теперь вышел на пенсию.
Впервые об истории русских партизан в Риме я узнал еще четыре года назад, в 1960 году, из статьи А. Н. Флейшера, напечатанной тогда в «Литературной газете». Потом мы лично познакомились с главным героем виллы Тай в Ташкенте и стали переписываться с ним. А в последующие годы, в связи с работой, над итало-советским кинофильмом, мне пришлось несколько раз побывать в Италии. И всегда, приезжая в Рим, я пользовался этим случаем, чтобы встретиться с участниками заинтересовавших меня событий, друзьями и соратниками Флейшера по римскому подполью.
Я подружился со столяром-краснодеревщиком, старым закаленным коммунистом Луиджи де Цорци и его женой ЧезариноЙ, и всякий раз, когда я бываю в этой славной семье, начинаются воспоминания о советских друзьях военной поры и Луиджи подолгу рассказывает о смелости и отваге своего любимого Алессио Флейшера, а Чезарина, вздыхая, говорит о том, как ей хочется повидать своих бывших «крестников», которых она прятала и кормила то у себя в комнатах, то на чердаке, то в подвале дома. Я встречался и с адвокатом Оливьери и с бывшими палестринцами Северино Спакатросси и Лоренцо д'Агостино, который теперь занимает высокий пост коммунального советника в римском муниципалитете. Я стоял подолгу на углу улиц Номентана и 21 Апреля, глядя на виллу Тай с головами трех белых слонов под козырьком крыши и с балконом, откуда когда-то был поднят над этим домом красный флаг нашей Родины. Сейчас на воротах этой виллы, как и прежде, висит табличка, сообщающая, что здесь помещается посольство королевства Таиланд, а за оградой играют смуглолицые раскосые ребятишки.
Совсем недавно, в феврале 1964 года, мне довелось познакомиться, наконец, с супругами Фарабуллини. Теперь они живут не в Риме: прежний бар пришлось продать, и Альдо с Идраной открыли маленький ресторан на самом берегу моря в курортном местечке Фьюмичино, рядом с римским пассажирским аэропортом.
Мы сидели в их ресторанчике, и Идрана угощала нас своим «фирменным» блюдом — феттучини (род макарон в томатном соусе), а Альдо то и дело отходил к стойке, чтобы наполнить наши бокалы. А на столе перед нами лежал бережно хранимый в семье альбом, на страницах которого советские и итальянские партизаны, спасенные супругами Фарабуллини, оставили свои благодарственные записи. Альдо заставлял нас снова и снова переводить ему русский текст. Эти записи были порой неуклюжи, иногда даже малограмотны, но сколько истинной сердечности, искренних неподдельных чувств стояло за коряво выведенными словами, написанными рукой, тогда больше привыкшей к автомату, чем к перу. А Идрана горячо говорила:
— У меня только одно желание — приехать к вам в Советский Союз и увидеть там Алессио, и Пьетро, и Антонио, и всех, всех, кого мы тогда прятали в подвале своего бара. Я знаю, они встретят нас как родных. Ведь правда же, я могу этого хотеть? — допытывалась она. — Мы жалели и любили ваших людей, завезенных так далеко от Родины, мы ненавидели фашистов и уважали вашу страну. Мы помогали русским партизанам всем, чем могли, и хорошо знали, что нас ждет, если гестапо дознается о наших жильцах в подвале. Что ж, это было страшное время — тогда все рисковали жизнью. А теперь так хочется поехать к вам в Россию и повидать наших «ребят».
И я со всей убежденностью уверял Идрану, что недалек тот день, когда ее мечта осуществится. Я верю в это.
А двумя месяцами позже я встречал в Москве четверых съехавшихся сюда «русских римлян»: Алексея Флейшера из Ташкента, бывшего палестринского командира Алексея Коляскина, приехавшего из Уфы, где он работает зоотехником на конном заводе, и сибиряков — «монтеротондовца» Анатолия Тарасенко, теперь заведующего складом в поселке Анзеба близ Братска, и руководителя «молодежной» группы на вилле Тай, а ныне шофера из города Анжеро-Судженска Кемеровской области Петра Конопелько.
Друзья приехали в Москву, чтобы выступить в передаче Центрального телевидения, посвященной их боевым делам.
Уже известно местонахождение почти двадцати участников этих событий. В Новосибирской области трудятся в колхозах Петр Ильиных, тот самый, что вместе с Коляс-киным взорвал немецкий склад около Джендзано, и его товарищ Федор Корековцев; в Ярославской области работает колхозный плотник Сергей Саржин, в Саратове живет Иван Логинов, в Калининской области — Василий Ефремов, в Вильнюсе — бывший священник Дорофей Бесчастнов, в Москре — Илья Марков.
Все они поддерживают связь между собой, переписываются с итальянскими друзьями и постоянно пишут Флейшеру в Ташкент. Он, одинокий и уже немолодой человек, имеет сейчас только эту семью — товарищей и соратников по антифашистской борьбе в Риме. И как тогда, он остается своего рода «начальником штаба русских римлян». Со всех концов страны бывшие партизаны и подпольщики с виллы Тай шлют ему на перевод письма, полученные из Италии, или, наоборот, просят перевести на итальянский язык письмо, адресованное римскому другу. Он дотошно и аккуратно выполняет эти просьбы, пишет статьи об участии советских людей в римском Сопротивлении как для наших, так и для итальянских газет и журналов, работает над книгой своих мемуаров и время от времени организует встречи старых товарищей — то в Уфе у Коляскина, то в Сибири у Ильиных и Корековцева, то в Саратове у Ивана Логинова.
И, собираясь вместе, они часами вспоминают и белую виллу на зеленой римской улице, и ущелье близ Монтеротондо, и могилу погибших друзей в Палестрине, и все опасности, тяготы и радости тех трудных и славных дней. Но больше всего вспоминают они своих итальянских товарищей — горячих патриотов и антифашистов, смело и самоотверженно пришедших им на помощь в час жестокой судьбы, вырвавших их из-за колючей проволоки гитлеровских лагерей, снова давших им в руки оружие и боровшихся плечом к плечу вместе с ними.


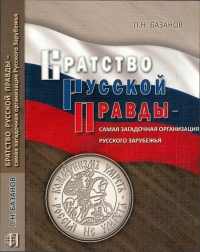
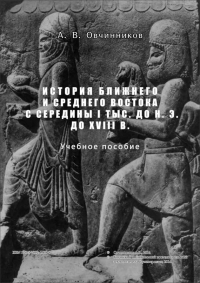
Комментарии к книге «Рассказы о неизвестных героях», Сергей Сергеевич Смирнов
Всего 0 комментариев