Sheila Fitzpatrick
STALIN'S PEASANTS
Resistance and Survival in the Russian Village after Collectivization
New York Oxford Oxford University Press 1894
Шейла Фицпатрик
СТАЛИНСКИЕ КРЕСТЬЯНЕ.
Социальная история Советской России в 30-е годы: деревня
Москва
РОССПЭН 2001
ББК 63.3(2)6-28 Ф 64
Данное издание выпущено в рамках программы
Центрально-Европейского Университета «Translation project»
при поддержке Центра по развитию издательской деятельности
(OSI — Budapest) и Института «Открытое общество».
(Фонд Сороса) — Россия
Издание осуществлено при финансовой
поддержке Отдела культуры
посольства США в РФ
Перевод с английского языка Л.Ю.Пантиной
Фицпатрик Ш.
Ф 64 Сталинские крестьяне. Социальная история Советской России в 30-е годы: деревня. / Пер. с англ. — М.: «Российская политическая энциклопедия» (РОССПЭН), 2001. — 422 с.
Обращаясь к истории проведения коллективизации, автор рассматривает различные стратегии, взятые на вооружение российскими крестьянами, чтобы справиться с последствиями удара, нанесенного им государством в ходе коллективизации, и те способы, с помощью которых они пытались поставить колхозы на службу собственным интересам, а не только интересам государства.
© Перевод — «Российская политическая
энциклопедия», 2001 © Qxford University Press, 1994 © Серия — «Российская политическая ISBN 5-8243-0238-3 энциклопедия», 2001
М.Д. и Д.М.Ф. с любовью От автора
Эта книга создавалась на протяжении долгого времени, и я должна поблагодарить многих за помощь и участие в работе над ней. Выражаю особую благодарность тем, кто был настолько великодушен, чтобы прочесть всю рукопись и дать критический ее анализ, подробный и исключительно полезный: Джону Бушнеллу, Майклу Даносу, Дэвиду Фицпатрику, Ричарду Хелли, Стивену Хоку, Линн Виола и Аллану Уайлдмену. За ценные замечания к отдельным главам благодарю Джонатана Боуна, Лорейн Дастон, Джули Хесслер, Джерри Хафа и Роберту Мэннинг.
Я делала доклады на основе глав данной книги в Мичиганском университете в Энн-Арборе, в Бард-Колледже, Корнеллском университете, Тюбингенском университете, Университете Торонто, Монешском университете, Австралийском национальном университете, Рурском университете в Бохуме, Кельнском университете, Фрайбургском университете и на семинаре Чикагского университета по изучению России и Советского Союза, а также по сравнительной политике и исторической социологии. За ценные замечания и соображения, высказанные как в этом, так и во многих других случаях, мне особенно хотелось бы поблагодарить Леору Аус-лендер, Катерину Кларк, Ранаджита Гуху, Стивена Л. Каплана, Дэвида Лэйтина, Колина Лукаса, Нелли Ор, Уильяма Пэрриша, Т.Х.Ригби, Уильяма Розенберга, Юрия Слезкина, Питера Соломона, Сьюзен Соломон, Рональда Суни и Эндрю Вернера.
Все мои аспиранты в Чикаго так или иначе внесли свой вклад в работу над этой книгой, но особой благодарности заслуживают те, кто были моими помощниками в исследованиях и архивных разысканиях: Гольфо Алексопулос (помогавшая работать в московских архивах), Джеймс Эндрюс, Джонатан Боун, Николас Глоссоп и Джошуа Сэнборн.
Выражаю мою признательность за всесторонние помощь и содействие в получении справок, материалов и доступа к информации В.В.Алексееву, Г.А.Бордюгову, В.П.Данилову (ему я весьма обязана за сообщение о существовании архива «Крестьянской газеты»), покойному В.З.Дробижеву, Джун Фэррис, Беате Физе-лер, Арч Гетти, Константину Гуревичу, Джеймсу Харрису, А.Капустину, А.Кирину, В.А.Козлову, Хироаки Куромия, Гарри
Личу, Т.Мироновой, Джейн Ормрод, Е.И.Пивовару и Т.И.Слав-ко. Благодарю Эдварда Касинеца, начальника отдела славянских и балтийских стран Нью-Йоркской публичной библиотеки, за помощь в подборе и размещении иллюстраций на суперобложке данной книги.
Первая часть моей работы была выполнена еще в Техасском университете в Остине, и мне хотелось бы выразить свою благодарность всем моим остинским коллегам, а особенно тем, кто поддерживал меня и помогал мне не в службу, а в дружбу. Это: Майрон Гутманн, Майкл Кац, Роберт Кинг, Уильям Ливингстон, Стэндиш Мичем, Джагат Мехта, Дженет Мейзел, Сидни Монас и Уолт Ростоу.
При работе над этой книгой мне оказывали содействие Фонд Гуггенхейма, Фонд Джона и Кэтрин Макартур, Исследовательский институт Техасского университета в Остине, IREX, Российский государственный гуманитарный университет и Чикагский университет (выражаю особую признательность Эдварду Ломанну как декану факультета социальных наук, Джону Бойеру во всех его ипостасях и Джону Коутсворту как заведующему кафедрой истории).
Раздел «Как мыши кота хоронили» впервые появился в более пространной редакции в журнале «Russian Review» (1993. Vol. 52. № 3). Выражаю глубокую благодарность журналу за разрешение опубликовать его в данной книге.
ХРОНОЛОГИЯ
Декрет о земле
О земле // СУ РСФСР. 1917. № 1. Ст. 3.
Начинается мобилизация рабочих — « 25-тысячников »
Сталин провозглашает политику «ликвидации
кулачества как класса»
К вопросам аграрной политики в СССР // Сталин. Сочинения. Т. 12. С. 141-172.
5 января 1930 — Резолюция ЦК о повышении темпов коллективизации и раскулачивания
О темпе коллективизации и мерах
помощи государства колхозному строительству //
КПСС в резолюциях... Т. 4. С. 383-386.
Январь 1930 — Кампания по сплошной коллективизации,
закрытие сельских церквей
1 марта 1930 — статья Сталина «Головокружение от успехов»
Головокружение от успехов // Сталин. Сочинения. Т. 12. С. 191-199.
октября 1917 Ноябрь 1929
декабря 1929
I марта 1930 30 июля 1930
II августа 1930
30 июня 1931 20 мая 1932
Первый устав сельскохозяйственной артели Примерный устав сельскохозяйственной артели... // СЗ СССР. 1930. № 24. Ст. 255.
Упразднение сельской общины (мира)
О ликвидации земельных обществ в районах сплошной коллективизации // СУ РСФСР.
1930. № 51. Ст. 621.
Резолюция ЦК о всеобщем обязательном начальном образовании
О всеобщем обязательном начальном обучении // КПСС в резолюциях... Т. 4. С. 473-476.
Закон об отходничестве
Об отходничестве // СЗ СССР.
1931. № 46. Ст. 312.
Закон, разрешающий крестьянам вести торговлю О порядке производства торговли колхозов, колхозников и трудящихся единоличных крестьян... // СЗ СССР. 1932. № 38. Ст. 233.
7 аюуста 1932 — Закон об охране социалистической собственности
Об охране имущества государственных предприятий, колхозов и кооперации и укреплении общественной (социалистической) собственности // СЗ СССР. 1932. № 62. Ст. 360.
Зима 1932
27 декабря 1932
Январь 1933
Начало голода в основных зернопроизводящих районах Украины
Закон, устанавливающий паспортную систему
внутри страны
Об установлении единой паспортной системы по Союзу ССР и обязательной прописке паспортов // СЗ СССР. 1932. № 84. Ст. 516.
Резолюция ЦК о создании политотделов МТС Цели и задачи политических отделов МТС и совхозов // КПСС в резолюциях... Т. 5. С. 78-89.
Февраль 1933 17 марта 1933
Ноябрь 1934
Февраль 1935 17 февраля 1935
7 июля 1935
Первый съезд колхозников-ударников
Новый закон об отходничестве
О порядке отходничества из колхозов // СЗ СССР. 1933. № 21. Ст. 116.
Резолюция ЦК о ликвидации политотделов МТС О политотделах в сельском хозяйстве // КПСС в резолюциях... Т. 5. С. 198-204.
Второй съезд колхозников-ударников
Второй устав сельскохозяйственной артели Примерный устав сельскохозяйственной артели... // СЗ СССР. 1935. № 11. Ст. 82.
Закон, предоставляющий землю «в вечное
пользование» колхозам
О выдаче сельскохозяйственным артелям государственных актов на бессрочное (вечное) пользование землей // СЗ СССР. 1935. № 34. Ст. 300.
Ноябрь 1935
Декабрь 1935 Декабрь 1935
Съезд стахановок-«пятисотниц» свеклосахарного производства
Съезд стахановцев-комбайнеров
Съезд стахановцев-хлеборобов, на котором прозвучали слова Сталина: «Сын за отца не отвечает»
19 декабря 1935 — Закон об укреплении колхозов в нечерноземной полосе
Об организационно-хозяйственном укреплении колхозов и подъеме сельского хозяйства в областях, краях и республиках нечерноземной полосы // СЗ СССР. 1935. № 65. Ст. 250.
Февраль 1936 Осень 1936
Съезд стахановцев-животноводов
Неурожай во многих областях, приведший к голоду зимой и весной 1937 г.
27 февраля 1937 — Законы, отдающие в некоторых областях земли совхозов колхозам
20 марта 1937 Июль 1937 Осень 1937
Об отрезке земель от совхозов, хозяйств орсов и подсобных предприятий... и об увеличении за этот счет земель колхозов // СЗ СССР. 1937. № 16. Ст. 49-58.
- Прощение недоимок по зернопоставкам за 1936 г.
О снятии недоимок по зернопоставкам
за 1936 г. // СЗ СССР. 1937. № 21. Ст. 79.
Секретная инструкция Сталина, предписыва ющая провести облаву на вернувшихся из ссылки кулаков и уголовных преступников
Показательные процессы над сельскими район ными руководителями, обвиняемыми в жесто ком обращении с колхозниками, нарушении устава сельскохозяйственной артели и саботаже
19 апреля 1938 — Закон, запрещающий массовые исключения из колхозов
О запрещении исключений колхозников из колхозов // СЗ СССР. 1938. № 18. Ст. 115.
19 апреля 1938 — Закон о неправильном распределении доходов в колхозах
О неправильном распределении доходов в колхозах // СЗ СССР. 1938. № 18. Ст. 116.
мая 1939
декабря 1939 21 апреля 1940
Декрет «О мерах охраны общественных земель
от разбазаривания»
О мерах охраны общественных земель от разбазаривания // СЗ СССР. 1939. № 34. Ст. 235.
Декрет о посевах
О порядке планирования посевов зерновых культур в колхозах // СЗ СССР. 1940. № 1. Ст. 3.
Закон, разрешающий выплату ежемесячного оклада председателям колхозов (вначале для восточных районов СССР, впоследствии был распространен и на другие районы)
Об оплате председателей колхозов в восточных районах СССР // СЗ СССР. 1940. № Ц. Ст. 271.
ВВЕДЕНИЕ
Зимой 1929—1930 гг. советская власть развернула кампанию по проведению сплошной коллективизации сельского хозяйства. Поддержки в деревне кампания не встретила (да и когда крестьяне активно поддерживали программы коренных перемен, провозглашаемые государством?), но власти об этом не слишком и заботились. Коллективизация проводилась не снизу, а сверху, государство было ее инициатором, и новые коллективные хозяйства организовывались людьми пришлыми — работниками сельсоветов и приданными им в усиление десятками тысяч городских коммунистов, рабочих и студентов, специально командированных для этой цели в деревню.
Многие из городских чужаков, проникнутые духом Культурной Революции1, которая была тогда в самом разгаре, были исполнены воинственного стремления к переменам и презрения к темноте и отсталости крестьянской массы. Они видели свою миссию в социалистическом переустройстве деревни и осуществляли ее в самых крайних формах, в результате чего создание колхозов зачастую сопровождалось насильственным закрытием сельских церквей и публичным уничтожением икон. Но насилие при проведении коллективизации отнюдь не ограничивалось подобными символическими действами, и его не следует списывать на инициативу исполнителей на местах. Сама стратегия коллективизации, разработанная верховной властью, уже включала в себя насильственные меры, а именно экспроприацию и высылку сотен тысяч кулацких семей. Политика массового раскулачивания была провозглашена одновременно с началом кампании коллективизации зимой 1929—1930 гг. Хотя вступление в колхоз объявлялось делом добровольным, с самого начала стало ясно, что смутьяны, не желающие туда вступать, попадут под весьма растяжимую категорию кулаков и окажутся в списках на раскулачивание и высылку.
Первый, еще не слишком организованный этап коллективизации в январе и феврале 1930 г. пришелся на инертный период сельскохозяйственного цикла. Поэтому обобществление хозяйств непосредственно выражалось в том, что государственные уполномоченные забирали у крестьян скот (лошадей, коров, свиней, овец), а кое-где даже и кур, и объявляли все отобранное колхозной собственностью. В начале марта Сталин назвал такое огульное обобществление скота ошибкой и заявил, что крестьянин имеет право в своем личном, необобществленном хозяйстве держать корову, мелкий скот и птицу. Но ущерб уже был нанесен,
10
как в области экономической (угроза захвата скота повела к массовому его забою крестьянами, а обобществленные животные во множестве гибли от неумелого и небрежного ухода), так и в том, что касалось отношения крестьян к колхозам. По их мнению, коллективизация началась с обычного ограбления, впоследствии власти отказались от подобной практики лишь частично (лошади остались колхозной собственностью), а возмещать крестьянам убытки никто и не думал.
Коллективизация явилась жестоким ударом по российскому крестьянству. Правда, на его памяти государство не впервые решало перестроить сельское хозяйство страны во имя экономического и социального прогресса. Первой попыткой такого рода явилась отмена крепостного права в 1861 г., после которой правительству зачастую приходилось посылать в деревню войска, чтобы заставить крестьян подписать акты, обязывающие их уплатить за землю. Второй попыткой стала столыпинская аграрная реформа, начатая в 1906—1907 гг., которая — в нарушение традиций и невзирая на то, что сами крестьяне оказывали предпочтение структурам, предупреждавшим экономическое расслоение деревни и сводившим к минимуму хозяйственный риск, — поощряла самых предприимчивых из них выходить из сельской общины (мира) и становиться независимыми мелкими фермерами (хуторянами). Но ни одна из прежних государственных реформ не проводилась такими насильственными, принудительными мерами, не предполагала такого прямого и всестороннего наступления на вековые крестьянские ценности и не забирала у крестьян так много, давая взамен так мало.
Главной целью коллективизации было увеличить размеры государственных хлебозаготовок и не дать крестьянам придерживать зерно, не выбрасывая его на рынок. Крестьяне это отчетливо понимали с самого начала, поскольку кампания по проведению коллективизации зимой 1929 — 1930 гг. стала по сути кульминационным пунктом в ожесточенной борьбе, которая более двух лет велась между крестьянами и государством из-за хлебозаготовок. При коллективном, механизированном ведении хозяйства значительно повысится урожайность, обещало государство, но, даже если так и было на самом деле, крестьяне от этого ничего не выигрывали. Многие из них называли коллективизацию «вторым крепостным правом», ибо воспринимали ее как механизм экономической эксплуатации, с помощью которого государство могло вынудить крестьян отдавать за номинальную плату гораздо большую часть собранного урожая, чем они сами продали бы в рыночных условиях.
В этой книге я рассматриваю различные стратегии, взятые на вооружение российскими крестьянами, чтобы справиться с последствиями удара, нанесенного им государством в ходе коллективизации, и те способы, с помощью которых они пытались поставить колхозы на службу собственным интересам, а не только ин-
11
тересам государства. Подобные стратегии можно назвать «стратегиями подчиненных»2, ибо они неразрывно связаны с подчиненным статусом крестьян в обществе и их положением как объектов агрессии и эксплуатации со стороны вышестоящих органов и отдельных лиц. Однако в моем понимании стратегии подчиненных не сводятся к различным способам сопротивления властиЗ и включают в себя уловки, с помощью которых слабые пытаются защитить себя и отстоять свои права друг перед другом, так же как и перед сильными; планы достижения индивидуального успеха, так же как и коллективный протест. В общем и целом эти стратегии представляют собой набор способов, позволяющих человеку, на долю которого выпало получать приказы, а не отдавать их, добиваться того, чего он хочет.
СТРАТЕГИИ СОПРОТИВЛЕНИЯ
Поведение российских крестьян после коллективизации зачастую принимало формы «повседневного сопротивления» (выражение Джеймса Скотта), обычные для подневольного и принудительного труда во всем мире: работа спустя рукава, непонимание получаемых распоряжений, безынициативность, мелкое воровство, невыходы в поле по утрам и т.д.4. Подобное поведение характерно было для русского мужика в эпоху крепостного права, а в начале 30-х гг. он, безусловно, отчасти сознательно вернулся к прежним приемам и уловкам, разыгрывая роль крепостного, вынужденного отрабатывать барщину. Когда в 1931 — 1932 гг. новым колхозникам стало окончательно ясно, какую огромную часть урожая намерено отбирать у них государство, пассивное сопротивление крестьян, выраженное, в частности, в демонстративной апатии и инертности, нежелании сеять, сокращении посевных площадей, приняло такие размеры, что Сталин называл это «итальянкой» (итальянской забастовкой). Голод 1933 г. явился результатом такого столкновения непреодолимой силы (государственных требований выполнения плана хлебозаготовок) с неподатливым объектом (упорным пассивным сопротивлением крестьян).
Открытые вооруженные выступления против коллективизации в центре России случались сравнительно редко, отчасти потому, что государство их безжалостно подавляло (любого смутьяна тут же объявляли кулаком и отправляли в Гулаг либо ссылали в Сибирь), отчасти из-за того, что деревенская молодежь — основная потенциальная боевая сила — массами покидала деревню, устремляясь на заработки в города или на промышленные новостройки.
Важное место среди стратегий сопротивления коллективизации, избираемых российскими крестьянами, занимало бегство, но это не были обычные побеги рабов или крепостных от хозяина, стремящегося их вернуть и удержать. Правда, колхозы часто пы-
12
тались воспрепятствовать выходу тех или иных своих членов точно так же, как это делала община в течение длительного периода круговой поруки — коллективной ответственности по выкупным платежам за землю после крестьянской реформы 1861 г., однако государство, являвшееся в конечном итоге главным хозяином своих крестьян, весьма вяло и довольно двусмысленным образом противодействовало уходу их из колхозов, когда вообще обращало на это внимание. В основе воззрений коммунистического руководства в период коллективизации лежало представление, что в деревне находится как минимум 10 млн человек избыточного населения, которое рано или поздно должно будет пополнить собой рабочую силу в городах. Экспроприируя и ссылая кулаков, власть сама удалила из российских деревень свыше миллиона крестьян и побудила к бегству еще большее число людей, опасавшихся, что их постигнет та же судьба. Даже после введения в 1933 г. паспортной системы отток сельских жителей в город не прекращался, и власти относились к этому движению снисходительно, а временами даже активно его поощряли.
В середине 30-х гг. колхозная система укрепилась, соответственно изменилась и стратегия поведения крестьян. Многим из них безоговорочный выход из колхоза стал казаться менее привлекательным, чем более неопределенное и двусмысленное отходничество, то есть отъезд в другие места на заработки, временные или сезонные (по крайней мере теоретически), который не влек за собой отказа от членства в колхозе. К концу 30-х гг., к немалой досаде правительства, удивительно большое число крестьян находили способы сохранять свое членство в колхозе — и тем самым личные приусадебные участки, — мало или совсем не работая в самом колхозе.
Еще одной стратегией сопротивления являлись постоянно ходившие в деревне апокалиптические и антиправительственные слухи. Власти это прекрасно понимали, и тщательное отслеживание ими «разговоров и слухов»5 стало теперь истинным подарком для историков. При первом всплеске движения за коллективизацию основная масса слухов гласила, что вступать в колхозы — опасно, безрассудно, противоречит божеским законам: коллективизация — это второе крепостное право, прежние помещики вернутся, те, кто вступили в колхозы, умрут с голоду, дети колхозников будут отмечены печатью Сатаны, близится Страшный Суд, Бог покарает вступивших в колхозы и т.д. На протяжении всех 30-х гг. самым упорным был слух о том, что скоро будет война, иностранные армии вторгнутся в Россию и колхозы будут отменены.
Сопротивление крестьян государству в некотором отношении принимало религиозную окраску. В 20-е гг. православие в российской деревне было в упадке: церковь находилась в смятении в результате отделения ее от государства после революции, протестантские секты получили много новых приверженцев, среди моло-
13
дежи, особенно возвратившихся с фронта солдат, стало модным демонстрировать свое безбожие и презрение к попам. Однако коллективизация — а точнее, сопровождавшие ее массовое закрытие церквей, сожжение икон, аресты священников — мгновенно возродила православную набожность. Часто по пятам за коллективи-заторами в деревнях ходили плачущие и причитающие крестьянки вместе с сельским священником, распевающие «Господи, помилуй»; такого же рода демонстрации проводились перед сельсоветами. Мотив попрания государством исконной веры крестьян занял центральное место в образной системе, используемой селом для выражения протеста против коллективизации.
Подобное облечение конфликта между крестьянами и государством в религиозные формы имеет в России долгую историю. Достаточно вспомнить отождествление старообрядцами Петра Великого с Антихристом и государственное преследование сектантов в эпоху поздней империи. Вот и во время коллективизации крестьяне для выражения протеста обратились к символике православия. Однако к концу 30-х гг. истинно православное содержание религиозной формы выветрилось или по меньшей мере все больше и больше подавлялось старообрядчеством, сектантством, народными верованиями. Крестьяне создавали доморощенные религиозные обряды и подпадали под влияние многочисленных харизматических и протестантских сект, ведущих в деревне полуподпольное су-ществованиеб.
Насколько можно судить, огромное большинство российских крестьян в 30-е гг. считали себя верующими, и более половины из них рискнули заявить об этом открыто, отвечая на соответствующий вопрос при проведении переписи населения в 1937 г. (после целой лавины слухов о политическом значении этого вопроса и вероятных политических последствиях утвердительного или отрицательного ответа на него). В государстве, проповедующем атеизм, публичное признание себя верующим неизбежно содержало оттенок протеста, но в том, что касается крестьян, может быть верно и обратное: их протест почти неизбежно принимал религиозную окраску. За примерами из самых разных областей взаимодействия крестьян с государством ходить недалеко. Так, то, что власти называли уклонением колхозников от полевых работ, сами колхозники объясняли необходимостью соблюдать те или иные церковные праздники (которые зачастую нельзя было бы найти ни в одном церковном календаре). И в 1937 г., когда государство недолго экспериментировало с выборами в Верховный Совет, предоставляя возможность выбирать из нескольких кандидатов, тех «церковников и верующих», которые, по словам советских газет, пытались злоупотребить новыми правилами выборов, вероятно, с тем же успехом можно было бы назвать обычными крестьянами, поднявшими религиозное знамя, как всегда, используемое деревней для выражения политического протеста.
14
Определение принципов ведения коллективного хозяйства
Не все из стратегий подчиненных, принятых на вооружение российскими крестьянами, были связаны именно с сопротивлением. Многие из них имели отношение к установлению принципов коллективизации, т.е. к процессу выработки условий ведения коллективного хозяйства. До того как коллективизация началась фактически, не существовало никаких наметок по ее проведению, никаких установочных документов, вряд ли они даже обсуждались, — и никакого свода инструкций. Хлебозаготовки — вот почти единственный механизм, связанный с коллективизацией, который был опробован заранее. Даже раскулачивание, при всем размахе поставленных им организационных задач и огромных политических и социальных последствиях, проводилось при минимальных продумывании и подготовке, почти экспромтом.
У партийных руководителей насчет колхозов имелось одно-единственное твердое убеждение: их основная функция — выполнение государственных планов по заготовке зерна и другой сельскохозяйственной продукции. Сверх того «колхоз» в начале 30-х гг. был в сущности пустым словом. Что на самом деле означало это слово, должно было быть определено на практике, в ходе своего рода трехсторонних переговоров между центральной властью, местными руководителями и крестьянством. В отношении своего внутреннего устройства колхоз должен был стать тем, что сделают из него крестьяне и местное руководство, он не являлся чем-то заданным, и форма его находилась в процессе творения. Должен ли колхоз быть коммуной, где вся собственность находится в общем владении, или артелью, в которой крестьяне сообща обрабатывают колхозные поля, но сохраняют и свои личные хозяйства? Совпадает ли колхоз по своим размерам и устройству с деревней и общиной? Могут ли колхозники свободно уезжать на заработки на сторону? Имеют ли они право выращивать овощи и разводить кур в своем хозяйстве? Могут ли они продавать свою продукцию на рынке? Могут ли иметь корову, двух коров или лошадь? Как доход колхоза должен распределяться между его членами? Все эти и многие другие вопросы оставались открытыми.
Коммунисты вначале воображали, что колхоз должен быть крупным сельскохозяйственным объединением (значительно больше прежней деревни), в котором все сельскохозяйственные процессы будут модернизированы и механизированы. На местах руководство и присланные из города коллективизаторы часто считали своей задачей доведение обобществления хозяйств до самой высокой степени, какая только возможна, и запрещали крестьянам сохранять какую бы то ни было личную собственность. Сверх этого их соображения были весьма смутны. Любые черты старой деревни, от чересполосицы до патриархальной власти, автоматически не одобрялись. Поскольку в деревне предполагалось суще-
15
ствование классового расслоения, т.е. наличие эксплуататоров-кулаков и эксплуатируемых бедняков, коллективизаторы всячески пытались также осуществлять принцип «И последние станут первыми», подразумевавший покровительство беднякам и преследование кулаков.
Большинство крестьян вообще не хотели никаких колхозов. Но, когда колхозы стали реальностью, у крестьян, естественно, появились свои соображения относительно каких-то минимальных требований, предъявляемых к колхозной жизни. Они хотели иметь коров и считали, что государство должно наделить коровой каждый двор, где таковой нет. Они хотели, чтобы им вернули обобществленных лошадей, чтобы дали возможность обрабатывать личные наделы (которые государство называло «приусадебными участками») так, как они считают нужным, и не облагали произведенную ими продукцию налогом. Они полагали, что колхоз и, сверх того, непосредственно государство должны помогать крестьянам в неурожайные годы. После уборки урожая, по их мнению, следовало в первую очередь удовлетворить их нужды, а потом уже проводить хлебозаготовки. Эти общие принципы, разумеется, покрывают собой многочисленные расхождения интересов и предпочтений крестьян сообразно региону их проживания, возрасту, полу, наличию или отсутствию источника дохода на стороне и т.д.
Большую часть всего происходившего в 30-е гг. можно рассматривать как процесс притирания, перетягивания, притяжения и отталкивания, в ходе которого различные заинтересованные стороны стремились поставить колхозы на службу своим интересам. В первые годы коллективизации основное место занимала борьба из-за размеров обязательных государственных заготовок, разрешившаяся, катастрофически для обеих сторон, голодом 1932 — 1933 гг. Хотя планы заготовок в результате этого голода временно были снижены, тем не менее государство не отказалось от своего решения забирать у крестьян гораздо большую часть урожая, чем та, которую они продали бы ему по своей воле, и это определило как природу советских колхозов, так и отношение к ним крестьян в течение всего сталинского периода советской истории.
Другие вопросы давали больше простора для компромисса и своего рода повседневных переговоров и соглашений, являющихся по большей части необходимым составным элементом любых человеческих взаимоотношений. По некоторым пунктам, например в вопросе о размерах колхозов, государство изменило свои первоначальные установки. По другим, таким как обязательное обобществление лошадей, оно стояло на своем, невзирая на постоянный нажим со стороны крестьянства. А были и такие вопросы (к примеру, размеры приусадебных участков, объем трудовых обязанностей колхозников), которые стали предметом нескончаемого спора, причем границы допустимого на практике постоянно смещались в ту или иную сторону.
16
Употребляемая нами метафора «переговоры» ставит вопрос о том, какой же идеал «хорошей жизни» лежал в основе желаний и требований крестьян, и вопрос этот непрост, ибо в российском селе в дискурсе крестьян существовало несколько таких идеалов. Они, вероятно варьировались в зависимости от места проживания, пола, возраста и социального положения крестьянина в деревне. Кроме того, российский крестьянин, по-видимому, имел в своем распоряжении целый набор идеалов хорошей жизни, подобно набору поговорок и полезных советов, и в каждый данный момент выбирал из них тот, который наиболее соответствовал обстоятельствам.
Некоторым крестьянам при определенных условиях хорошей жизнью казалось возвращение к тому, что ученые иногда называют «традиционной» деревней, имея в виду замкнутую в себе сельскохозяйственную общину, равнодушную или враждебную к внешнему миру, к другим государствам и городам, руководствующуюся принципами «нравственной экономики» и «ограниченного блага». Нужно сказать, что подобная традиционная деревня всегда была скорее умозрительной конструкцией, чем исторической реальностью, но эта конструкция существовала и в умах российских крестьян, а не только в умах антропологов, что и было самым драматическим образом продемонстрировано в 1917 — 1918 гг., когда, к изумлению многих российских интеллигентов, община возродилась, взяла под свой контроль захват и раздел помещичьих земель и заставила вернуться многих «выделившихся» из общины в ходе предвоенных столыпинских реформ. Еще раз это проявилось, хотя и с меньшей силой, в первые годы коллективизации, когда крестьяне часто требовали, чтобы колхоз распределял хлеб между дворами по уравнительному принципу, принимая в расчет размеры каждой семьи («по едокам»), а не трудовой вклад ее членов в работу колхоза7.
С указанным выше идеалом хорошей жизни соперничал другой, порожденный опытом советской новой экономической политики (нэпа) в 1920-х гг. и предвоенными столыпинскими реформами: превращение крестьян в независимых мелких фермеров, которых государство в значительной степени предоставляет самим себе, которые производят продукцию на рынок и желают большего, нежели просто поддерживать свое существование. Именно эти цели преследовали некоторые предприимчивые колхозники — близкие родственники «разумных крестьян» Попкина8, — постоянно пытавшиеся найти способы увеличить размеры своих приусадебных участков и свои торговые обороты, и именно в этом контексте можно понять существовавшую среди колхозников, столь часто порицаемую тенденцию рассматривать свои участки как частную собственность (понятие, вроде бы чуждое для «традиционных» российских крестьян), которую отдельные лица могут сдавать и брать в аренду, покупать или продавать, как им заблагорассудится.
17
Третий идеал хорошей жизни, возможно, самый поразительный из трех, — представление о таком колхозе, где благосостояние и безопасность колхозников обеспечены целым рядом государственных мер, таких как пенсии, гарантированный минимум дохода, восьмичасовой рабочий день, оплата больничных листов, льготы матерям и даже оплачиваемый отпуск. Подобные требования звучали в заявлениях и письмах отдельных крестьян в органы власти (в отличие от требований «традиционных» и «разумных» крестьян, выражавшихся скорее действиями, нежели словами). Их источником служило отчасти сложившееся еще при крепостном праве идеализированное представление о «хорошем хозяине», помогающем своим крестьянам в годину бедствий. Но главным образом, по-видимому, российских крестьян вдохновляло прочтение новой советской Конституции, служившей предметом организованного сверху всенародного обсуждения в 1936 г., и знание о тех выгодах, которыми пользуются городские рабочие, получающие твердый ежемесячный оклад. Крестьяне желали пользоваться теми же преимуществами, которые уже имели рабочие в городах и которые Конституция обещала всем советским гражданам. В своих требованиях они говорили о гарантиях и льготах как о своих законных правах, цитируя Конституцию. Этот факт можно истолковать как неявное признание того, что по крайней мере в одном отношении у крестьян и социалистического строя были общие ценности, однако он может свидетельствовать и просто о достаточной чуткости крестьян, просивших именно того, что государство, казалось, считало себя обязанным дать. Я называю подобные представления «идеалом всеобщего госиждивенчества», распространившимся в российской деревне вместе с созданием колхозов.
Стратегии активного приспособления
«Тайные протоколы» жизни российских крестьян9 — т.е. то, что они говорили друг другу как собратья по подчиненному положению, вдали от ушей властей предержащих (как они думали), — показывают постоянное и непримиримое ожесточение против колхозов на протяжении всех 30-х гг. По крайней мере, так говорят нам донесения советских органов внутренних дел, касающиеся крестьян. Конечно, эти тайные протоколы, так же как их публичные двойники, освещают лишь одну сторону картины. Крестьянин мог привычно ругать колхозы в разговоре с товарищами по несчастью, членами братства униженных и оскорбленных, и столь же привычно в присутствии начальства соглашаться с тем, что колхоз принес ему все мыслимые и немыслимые выгоды, причем ни одна из этих затверженных позиций не могла служить отражением его истинного мнения как мнения отдельного человека, имеющего свой собственный счет прибылей и убытков,
18
принесенных колхозом ему лично, собственные претензии и стремления.
Точно так же, как в умах крестьян существовал целый ряд идеалов хорошей жизни, в их распоряжении имелся и ряд стратегий поведения в ситуации, сложившейся после коллективизации. Стратегию пассивного сопротивления использовали в той или иной степени большинство крестьян. К ней присоединялась стратегия пассивного приспособления, т.е. неохотного признания новых правил игры, рожденных появлением колхозов, и старания как можно лучше применить их в своих интересах. Однако налицо были и стратегии активного приспособления, и те, кто выбирал их, не пользовались популярностью у односельчан, исходивших из принципа «ограниченного блага» (согласно которому член общины, претендующий на больший кусок пирога, тем самым уменьшает куски остальных).
Существовало три основных пути активного приспособления: занять руководящую должность в колхозе, стать механизатором, работающим часть года на местной МТС, или стать стахановцем. По первому пути шли главным образом люди сравнительно зрелого возраста, второй в основном выбирали молодые мужчины, хотя власти делали все возможное, чтобы открыть доступ в ряды механизаторов женщинам. Третий путь в принципе был открыт любому колхознику, не занимающему руководящего положения в колхозе. На практике эту возможность использовали по большей части молодые механизаторы и, что самое важное, женщины: обычные полевые работницы, доярки, скотницы.
Руководящий пост в колхозе имел большее значение, чем в общине, и приносил более существенное вознаграждение, как формальное, так и неформальное, в особенности это касалось должности председателя колхоза, в меньшей степени — колхозного бригадира или бухгалтера. Все же, после недолгого периода неразберихи в начале 30-х гг., преемственность между общиной (официально упраздненной в России в 1930 г.) и колхозом оставалась весьма заметной. Во-первых, колхоз территориально часто совпадал с прежней общиной и являлся ее непосредственным преемником как административная и организационная единица. Во-вторых, колхоз и община выполняли сходную функцию посредника в отношениях между крестьянами и государством. Особенно явно их сходство выражалось в том, что как община в течение полувека после крестьянской реформы несла коллективную ответственность по выкупным платежам, так и колхоз нес коллективную ответственность по выполнению обязательных заготовок.
Изгнание кулаков и временное господство городских пришельцев в начале 30-х гг. разорвали было преемственность между руководством прежней общины и колхоза, однако к середине 30-х гг. среди крепких крестьянских семей, которых прежде отталкивала и пугала коллективизация и подвергали гонениям союзники государства из числа бедноты, стала появляться тенденция возвра-
19
щаться на сцену и принимать на себя бразды правления в колхозах, как прежде в общине.
Должность председателя колхоза по многим признакам можно сравнить с должностью сельского старосты, но председатель пользовался большей властью, большими экономическими выгодами и подвергался большему риску. Можно провести также параллель между ролью председателя и колхозных бригадиров, с одной стороны, и, с другой стороны, — так называемых большаков в крупном помещичьем имении, привилегированной группы, помогавшей управляющему имением держать в повиновении остальных крестьян10. Колхозный председатель служил главным посредником в отношениях между колхозной деревней и государством, в частности между деревней и районными властями. Именно ему приходилось доказывать району, что планы заготовок такой-то и такой-то сельхозпродукции слишком высоки, и добиваться их снижения; сообщать крестьянам, что район собирается принять серьезные меры для прекращения мелкого воровства и использования колхозных лошадей в личных целях; находить оправдания при невыполнении планов заготовок и т.д.
Как местные, так и присланные со стороны председатели играли эту роль, хотя и по-разному. Председатель со стороны пользовался большим доверием и престижем в сношениях с внешним миром. Он мог говорить с районом его языком и почти на равных. Однако местный председатель лучше знал деревню и ее реальные производительные ресурсы, к тому же односельчане ему больше доверяли. К середине 30-х гг. большинство председателей колхозов были местными — из той же деревни или по крайней мере из того же района — и лишь малая часть их (около трети) состояла в коммунистической партии.
Председатели колхозов могли пользоваться весьма существенными материальными выгодами. Во-первых, им платили лучше, чем остальным колхозникам, даже до того, как они добились установления долгожданного ежемесячного денежного оклада в начале 40-х гг. Во-вторых, их положение давало им массу привилегий, включая фактический контроль над колхозным имуществом, например лошадьми, и распоряжение денежными доходами колхозов. Однако эта должность была связана и с определенным риском: председатель мог быть арестован, если колхоз срывал план государственных заготовок. К тому же должность председателя колхоза не давала честолюбивому крестьянину возможности подняться по административной лестнице. Районное руководство могло поручить председателю возглавить другой колхоз или назначить его председателем сельсовета, но обе эти должности были отсечены от установившейся бюрократической структуры; у председателя колхоза или сельсовета было мало шансов занять какой-либо административный пост в районе.
Молодые колхозники, становившиеся механизаторами (трактористами и комбайнерами), составляли еще одну привилегирован-
20
ную группу. За работу на МТС в течение шести месяцев в период роста и созревания зерновых им платили гораздо больше, чем простым колхозникам, их мобильность и существовавшие для них возможности продвижения значительно превосходили возможности других крестьян. Но механизаторы в колхозной жизни стояли на отшибе, и не только потому, что работали на МТС, а и потому, что с большой долей вероятности могли в самом скором времени воспользоваться своими техническими знаниями и навыками как билетом для отъезда из деревни и вступления в ряды городских рабочих.
Для колхозной жизни в 30-е гг. симптоматично стремление молодежи уехать, так как только за пределами деревни ей мог выпасть шанс пробиться в жизни. В этом проявлялось наиболее характерное различие между молодежью и стариками, ибо молодым уехать было так же легко, как трудно пожилым, но, со всей очевидностью, данное различие не приводило к конфликту между поколениями. Коллективизация изменила отношения отцов и детей. Столкновения ценностей и пренебрежения родительским авторитетом, столь типичного для молодежи 20-х гг., больше не замечалось. Напротив, родители, по-видимому, были всецело согласны с тем, что уехать из деревни — самое лучшее, что могут сделать их дети, особенно сыновья.
Стахановское движение было развернуто с целью поощрения личной инициативы в деле повышения производительности труда. Оно зародилось в промышленности и было перенесено в деревню в середине 30-х гг. В колхозе, как и на заводе, стахановцем назывался работник, перевыполнявший норму, — тот, кто по своей воле работал усерднее или дольше остальных. При этом сам работник получал премию, но у начальства появлялся повод повысить нормы всем прочим. Стахановцы во всех отраслях, в том числе и в сельском хозяйстве, вызывали негодование других работников и часто становились объектами злобной мести, но колхозные стахановцы составляли особую категорию, потому что ими часто становились женщины, работавшие в поле или на ферме. Их самоутверждение на трудовом поприще влекло за собой попрание авторитета мужчин (отцов и мужей) в семье. Лозунги освобождения женщин от патриархального гнета, сопровождавшие стахановское движение, несомненно, настолько же привлекали некоторых крестьянок (главным образом молодых, но порой и женщин более старшего возраста, овдовевших или брошенных мужьями), насколько казались оскорбительными большинству крестьян.
Вообще женщину, стремившуюся воспользоваться возможностями, которые ей предоставляло провозглашенное освобождение, и становящуюся председателем колхоза, трактористкой или стахановкой, судили гораздо строже, чем мужчину, делавшего то же самое. Если дело касалось мужчин, то к стратегиям приспособления, избиравшимся отдельным человеком (семьей), относились с большой долей терпимости. Но с женщинами, особенно не обреме-
21
ненными обязанностями главы семьи, все обстояло иначе. Со стахановками, в частности, нередко обходились как с предательницами, заслуживающими общественного презрения, даже несмотря на то, что власти могли сурово покарать за подобные выпады.
Остается открытым вопрос, насколько стратегии активного приспособления, взятые на вооружение некоторыми колхозниками, могут свидетельствовать о «советизации» деревни, то есть о примирении ее с ценностями, провозглашаемыми существующим строем, и усвоении этих ценностей. Примирение как таковое в 30-х гг. всегда было поверхностным; наверное, только послевоенное восстановление колхозов (вопреки широко распространившимся надеждам на деколлективизацию) убедило крестьян, что колхозы были и будут. Крайне тяжкое бремя обязательных государственных заготовок в течение всех 30-х гг. также не способствовало примирению с принципом коллективного хозяйствования.
Одним из факторов, препятствующих советизации, явилось то, что крестьяне, наиболее расположенные к восприятию советских ценностей, обладали и наибольшими возможностями покинуть деревню и устроить свою жизнь в городе. Этот процесс быстро унес из колхоза большинство его немногочисленных искренних приверженцев (молодежь, бросающую вызов мудрости своих предков, крестьян-рабочих, стоящих одной ногой как бы в двух мирах, бывших красноармейцев); в дальнейшем молодые колхозники нескончаемым потоком покидали село для службы в армии, работы на шахтах и промышленных новостройках, для продолжения образования — и никогда больше не возвращались. В первые годы существования колхозов, когда от половины до трети сельских жителей еще не вступили в них и бандитские налеты на колхозы (часто осуществляемые кулаками, подвергнутыми экспроприации), не были редкостью, начал, по некоторым признакам, развиваться своего рода колхозный патриотизм, основанный на соперничестве между колхозниками и единоличниками. Однако всего за несколько лет почти все единоличники, обложенные репрессивным налогом, принуждены были вступить в колхозы, и этот источник колхозного самосознания и патриотизма иссяк.
Стратегии манипулирования
В российском селе 30-х гг. царил раскол. Правда, большая часть сельских жителей сходилась во мнении по некоторым основным пунктам, например: что коллективизация — это плохо, что налоги и государственные планы хлебозаготовок слишком высоки, что район должен перестать вмешиваться и отдавать невежественные распоряжения относительно таких сельскохозяйственных работ, как сев или уборка урожая. Но это вовсе не значило, что вмешательство государства сплотило деревню. Скорее, верно было обратное, а уж в какой степени — это зависит от того, какой мы
22
должны считать деревню 20-х гг.: в высшей степени раздробленной (как думали современные советские наблюдатели) или сравнительно единой (как полагают западные историки)11.
Коллективизация ухудшила экономическое положение большинства крестьян и тем укрепила их хроническую привычку завидовать соседям. Раскулачивание, которому подвергли некоторые семьи, давая возможность остальным нагреть руки на их несчастье, невероятно повысило число взаимных обид и претензий в деревне. Ликвидация мира, естественно, уменьшила способность сельской общины держать в узде своих членов и улаживать ссоры, по крайней мере до тех пор, пока колхоз не утвердился на позиции преемника сельского мира. Коллективный принцип, формально воплощенный в колхозном строе, по-видимому, не находил никакого отклика среди российских крестьян, несмотря на наследие общинного быта. Крестьяне никогда не соглашались с тем, что являются в каком-то смысле совладельцами колхозной земли и имущества. Они предпочитали изображать себя рабочей силой, которую используют на колхозных полях ради чьей-то выгоды.
Возможно, когда-то российских крестьян и отличали великодушие, взаимовыручка, общинная солидарность, с такой ностальгией описывавшиеся славянофилами и народниками, хотя, наверное, разумнее будет отнестись к подобным рассказам скептически1 2. Во всяком случае мало что свидетельствовало об этом в те десять лет, которые последовали за коллективизацией, когда в настроении крестьян, казалось, преобладала смесь возмущения, злобы и апатии. Российское село 30-х гг. напоминало мексиканскую деревню — не идиллическую, как у Роберта Редфилда, а раздираемую склоками, как у Оскара Льюиса, — или, скорее, унылую и злобную деревню южной Италии 50-х гг., где (по словам одного социолога) нищета и чувство неполноценности в сочетании с эксплуатацией со стороны севера породили уверенность, что единственной возможностью достичь хорошей жизни является эмиграция13.
Самая глубокая пропасть пролегла в российском селе 30-х гг. между бывшими бедняками и бывшими кулаками (или родственниками кулаков). Это различие отчасти основывалось на экономическом положении крестьян до коллективизации, но отражало также и официальный статус, полученный ими в период проведения коллективизации, когда некоторые семьи были заклеймены как кулацкие вследствие раскулачивания какого-либо их родственника, а другие составили группу бедняков, которая помогала коллективизаторам, нередко завладевая при этом конфискованной у кулаков собственностью. Конфликт между этими двумя группами был ожесточенным, сложным и длительным.
Вопреки утверждениям славянофилов, раздробленность и междоусобная вражда не являлись для российской деревни чем-то новым. Еще в недавнем прошлом столыпинские реформы и гражданская война до предела обострили существовавший там антаго-
23
низм. Ничего нового не было и в том, что крестьяне выносили свои раздоры за пределы деревни, жаловались местным властям, писали ходатайства и доносы. Однако в 30-е гг. поток жалоб и доносов из деревни принял поистине беспрецедентные размеры. Это объяснялось не только повышением уровня грамотности (в Советском Союзе в начале десятилетия на селе грамотными были менее 70% мужчин, не достигших 50 лет, и менее 40% женщин, а в конце — 85 — 90% мужчин и более 70% женщин), но и сильнейшим поощрением со стороны властей индивидуальных ходатайств, жалоб и доносов. Советские руководители 30-х гг. считали их важным каналом информации снизу, компенсирующим недостаточное административное присутствие государства в сельской местности. В этой единственной области сталинский режим, обычно пренебрегавший (в лучшем случае) интересами и нуждами крестьян, проявлял чрезвычайную отзывчивость. Руководство читало письма крестьян, проводило расследования по их жалобам и зачастую действовало на основании их доносов.
В российской деревне существовала давняя традиция составления ходатайств и жалоб, как коллективных, так и индивидуальных, адресованных властям, но практика 30-х гг. имеет некоторые отличия. Во-первых, большинство ходатайств были индивидуальными, а не коллективными. Крайне редко колхоз обращался с коллективным ходатайством или жалобой, как это часто делала община, потому что советская власть могла заподозрить заговор или покарать село за организацию массового протеста. Во-вторых, в подавляющем большинстве случаев в селе 30-х гг. крестьяне, не занимавшие руководящих постов в колхозе, писали жалобы и доносы на тех крестьян, которые их занимали.
Доносы на должностных лиц, в особенности на председателей колхозов, в таком большом количестве посылавшиеся крестьянами в газеты, в местные и центральные органы власти, можно сравнить с жалобами на управляющего поместьем при крепостном праве, которые крестьяне слали хозяину поместья в Петербург или Москву. Но для этого вида жалоб существовал прецедент и в советское время. В 20-е гг., когда советская власть еще считала неудобным поощрять осведомительство и доносительство, напоминавшие о старом режиме, она все-таки создала институт «сельских корреспондентов» (селькоров) — внештатных деревенских добровольцев, регулярно писавших для советских газет заметки с разоблачениями преступлений местных кулаков, разложившихся чиновников и священников. Селькорами 20-х гг. часто были учителя и другие люди, занимавшие в деревне маргинальное положение, они сотрудничали с советской властью (и тем самым порывали с «отсталой» деревней), следуя своим идеологическим убеждениям. В 30-е гг. термин «селькор» стал употребляться весьма вольно, пока, наконец, различие между селькорами и обычными авторами крестьянских писем совершенно не исчезло. Лишившись идеологической убежденности, письма с разоблачениями из деревни све-
24
лись к доносам и стали общепринятым оружием, используемым в деревенских склоках.
Крестьяне быстро усвоили, какого рода обвинения вызывали автоматическую реакцию властей. «Связь с кулаками» служила излюбленным мотивом обвинений и контробвинений до периода Большого Террора, когда общим местом стали «связь с врагами народа» и расплывчатое понятие «троцкистская контрреволюционная деятельность». Подобные «идеологические» обвинения, как правило, сопровождались более конкретными, такими как обвинение в расхищении или злоупотреблении колхозными фондами. Расследования, провоцируемые этими письмами, сплошь и рядом заканчивались арестами, уголовным преследованием и смещением колхозных должностных лиц и сельских руководителей низшего звена со своих постов.
Непрерывный поток доносов, может быть, и служил в каком-то отношении интересам государства, но, с другой стороны, сильно вредил административной стабильности и не давал создать опытные, квалифицированные кадры сельских руководителей. Вовсе не государству, а доносчикам-крестьянам в действительности приносила выгоду подобная практика. Правда, тут был и свой риск: иногда проведенное расследование уличало доносчика, а не его жертву, и именно его постигала кара. Однако шансы на благоприятный исход дела все же были достаточно велики. В условиях 30-х гг. донос являлся важной разновидностью стратегии подчиненных, используемой российскими крестьянами. Это была не стратегия сопротивления, а стратегия манипулирования государством, механизм, побуждавший государство не только защищать крестьян от издевательств местного начальства (что, возможно, было в интересах государства, так же как и крестьян), но и вмешиваться в деревенские склоки (что несомненно было исключительно в интересах крестьян-жалобщиков).
ПОТЕМКИНСКАЯ ДЕРЕВНЯ
В 30-е гг. российским крестьянам необходимо было выбирать стратегию поведения для того, чтобы справляться не только с реально существовавшими колхозами, но и с потемкинской деревней, т.е. с идеализированным и искаженным представлением государства о сельской жизни.
Потемкинство царило в речах Сталина, в которых не уделялось никакого внимания недостаткам и противоречиям настоящего и говорилось не о мире, каким он был, а о том, каким он должен был стать, каким он, как думали советские марксисты, обязательно будет. Образом этого мира заменял картину реальной жизни метод социалистического реализма в литературе и искусстве. Потемкинская деревня обладала всеми благами и высокой культу-
25
рой, каких не было и в помине в настоящей российской деревне; крестьяне там были счастливы и не думали возмущаться советским строем; там царил вечный праздник и всегда светило солнце. Именно потемкинскую деревню можно было увидеть в кино — бывшем единственным источником информации о деревенской жизни для Сталина, как впоследствии заявлял Хрущев14, — и не только в кино.
Многие публичные ритуальные действа с участием настоящих крестьян, как, например, всесоюзные съезды колхозников-ударников или стахановцев, на деле служили изображению потемкинской деревни. Роли крестьян в этом спектакле играли не профессиональные актеры, а, если можно так выразиться, профессиональные крестьяне, специализировавшиеся на воплощении образа советского крестьянства. Среди крестьян, которых посылали на съезды стахановцев и выбирали депутатами в Советы, некоторые становились настоящими знаменитостями, как, например, Паша Ангелина или Мария Демченко, которым персонально поручалось разыгрывать роль крестьянок перед Сталиным и другими политическими руководителями реальной жизни, регулярно присутствовавшими на этих съездах. Но и на местном уровне был спрос на потемкинских крестьян: стахановки областного масштаба произносили речи, благодаря секретаря обкома за подаренную швейную машинку; местные газеты помещали фотографии, на которых стахановки районного масштаба доили коров или внимательно слушали речи на собрании в районе.
Потемкинство имело место и в практике повседневной жизни деревни, а именно на многочисленных формально проводившихся колхозных собраниях, представлявших собой главное культурное достижение, связанное с коллективизацией. Но деревня часто была сурова к тем, кто чересчур увлекался потемкинским образом, и сам этот образ стал главной темой деревенских шуток и анекдотов. Тем не менее, потемкинство открывало крестьянам новые возможности для манипулирования, как в положительном смысле (энергичный колхозный председатель сам натаскивал какую-нибудь доярку на роль стахановки, желая использовать ее общественный вес в районе или области), так и, по большей части, в отрицательном (у крестьян появлялся повод критиковать местных руководителей и колхозное начальство за то, что под их руководством деревня не может достичь надлежащего потемкинского уровня).
Во время Большого Террора, когда во многих районных центрах проходили показательные процессы местных руководителей, показания свидетелей-крестьян служили доказательствами для обвинения их в жестоком вымогательстве, незнании сельского хозяйства и равнодушии к страданиям крестьян. Все это было политическим театром — следовательно, частью потемкинского мира, — но свидетели играли в нем самих себя, а не потемкинских крестьян, и высказывали свои истинные претензии. Процес-
26
сы, пожалуй, можно было бы назвать выражением протеста крестьян, замаскированным узаконенным потемкинским фасадом. С точки зрения государства, такая комбинация представлялась опасной, поэтому неудивительно, что показательные процессы подобного рода продолжались всего несколько месяцев и затем их сняли с репертуара.
В потемкинском мире колхозники были «сталинскими крестьянами», отличавшимися особой, даже какой-то интимной привязанностью к вождю, которую выражали ораторы на съездах стахановцев. Эта сторона потемкинской деревни нередко принималась за чистую монету сторонними наблюдателями, в особенности теми, кто находился под впечатлением традиции «наивного монархизма», якобы существовавшей в среде российского крестьянства. Можно ли принимать на веру торжественные заявления крестьян, арестованных в 1860-е гг. за бунты против местных властей, об их верности царю — само по себе вопрос15, но уж их потемкинские образчики в сталинскую эпоху точно на веру принимать нельзя. Последние следует рассматривать диалектически (пользуясь излюбленным эвристическим приемом советского марксизма) скорее как антитезу, чем как тезу советской действительности, и читатель должен помнить, что заглавие американского издания моей книги «Сталинские крестьяне» призвано передать иронию, скрывающуюся за этим выражением.
Судя по донесениям органов внутренних дел, российские крестьяне питали к Сталину сильнейшую антипатию, возлагали на него лично вину за коллективизацию и голод и встречали все его последующие шаги навстречу им с неизменным глубоким подозрением, постоянно отыскивая кроющийся в них подвох. Эта враждебность, хотя и в меньшей степени, переносилась на всех прочих политических руководителей, в том числе и «мужика» Калинина, за исключением тех, кто, подобно Зиновьеву, был официально объявлен врагом советской власти и тем заслужил честь именоваться другом крестьянства. Когда в 1934 г. был убит Киров, якобы самый популярный из советских руководителей, его оплакивали только крестьяне потемкинской деревни, а реальные их двойники, если верить донесениям, выражали удовлетворение, что хоть какой-то коммунистический лидер пал от руки убийцы, и сожалели лишь о том, что жертвой был не Сталин.
РАМКИ ИССЛЕДОВАНИЯ
В данной работе рассматривается эпоха 30-хгг., хронологически ограниченная коллективизацией 1929 — 1930 гг. и вступлением Советского Союза во Вторую мировую войну в 1941 г. Этот период выделяется в истории российских колхозов по нескольким причинам. Во-первых, колхоз 30-х гг. в основном совпадал по разме-
27
рам с прежним селом, чего больше не было после укрупнения колхозов в начале 50-х гг. Во-вторых, в течение всего этого периода российское село не могло оправиться от удара, нанесенного ему в самом начале коллективизацией и голодом. Колхозы еще не воспринимались крестьянами как непреложный факт, и негодование против советского строя еще не улеглось под влиянием времени и сложных испытаний германского вторжения и Второй мировой войны.
Эта книга — о российских крестьянах. «Российские крестьяне» — довольно проблематичное понятие, потому что сами крестьяне в России обычно осознавали свою принадлежность к деревне или определенному региону больше, чем к нации, но для моих целей оно подходит, поскольку меня в первую очередь интересовала реакция на испытание, выпавшее на долю всем российским крестьянам, — коллективизацию. Коллективизация, навязанная государством без учета специфических местных условий, не только придала крестьянству по всей России одинаковую организационную структуру (колхоз), но и породила сходные культурные модели сопротивления и адаптации. В меньшей степени эта общность распространялась на другие советские республики, в частности Украину и Белоруссию. Конечно, в разных регионах России тоже существовали серьезные различия в том, что касалось опыта коллективизации и культурного строительства колхозов, но рассмотрение их выходит за рамки моего исследования.
1. Село в 20-е гг.
ОБЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ ДЕЛ
Население России — около 140 миллионов человек накануне Первой мировой войны — к моменту большевистской Октябрьской революции на четыре пятых оставалось сельским и преимущественно крестьянским. В Европейской России почти половина сельского населения была грамотной, но под этой цифрой скрывалось резкое расхождение между почти всеобщей грамотностью среди молодых мужчин и гораздо более низким уровнем грамотности женщин и пожилых людей. Старики в деревне еще помнили крепостное право, отмененное в 1861 г., и следы этого института оказывали влияние на многие стороны жизни крестьян вплоть до начала двадцатого столетия1.
Старые категории времен крепостного права часто использовались в официальных документах при определении социального положения крестьян. Перепись населения 1897 г. требовала от респондентов из крестьянского сословия указывать категорию, к которой они относились до 1861 г.: «помещичий крестьянин», «государственный крестьянин», «монастырский крестьянин» и т.д. По сообщениям счетчиков, многие крестьяне в 1897 г. заявляли, что не могут припомнить свой прежний статус. Была ли эта забывчивость истинной или являлась формой протеста, в любом случае крестьяне на рубеже веков скорее могли бы отождествлять себя с подобными социальными категориями, чем с более дробными старыми, вроде «однодворцев» или «вольных хлебопашцев», которых Петр Великий свел в единую категорию государственных крестьян; крепостничество придало российскому крестьянству однородность, по крайней мере внешнюю. Официально применялся и другой способ идентификации — по сельскому обществу (миру), к которому принадлежал крестьянин2.
Сами себя сельские жители России называли крестьянами (от слова «христиане»), хлеборобами, хлебопашцами и православными. Последнее, разумеется, относилось только к славянам, составлявшим огромное большинство сельского населения в центре Европейской России. На севере, юге, востоке и западе Европейской России имелись также инородцы и иноверцы, как русские называли народы неславянского происхождения и неправославной веры: финны на севере, тюркоязычные мусульмане, татары и башкиры, в Поволжье на востоке, поляки-католики и евреи (исключенные из сферы сельскохозяйственных занятий) на западе, не говоря уже о казаках (этническая смесь славян и татар, исповедующих
29
православие) и немецких колонистах (по большей части протестантского вероисповедания) на юге3.
Россия — страна, объединяющая огромное разнообразие природных условий. В Европейской России положение крестьян плодородной, но перенаселенной черноземной полосы на юге во многих отношениях существенно отличалось от положения их собратьев, живущих в менее плодородной нечерноземной полосе ближе к северу, где больше были развиты ремесла и торговля, хотя крепостное право являлось историческим опытом обеих этих групп4. Но этот опыт сам по себе был разным в зависимости от того, должны ли были крепостные отрабатывать для хозяина барщину или платить ему оброк. Барщинная повинность считалась наиболее тягостной и обременительной, оброк же, повсеместно распространенный в Нечерноземье, сближал положение крепостного с положением государственного крестьянина.
В Сибири крестьяне никогда не были закрепощены, а казачьи поселения на Дону и Кубани с самого начала состояли из беглых крепостных центральных областей России. На Украине и в Центральном сельскохозяйственном районе России господствовали земельный голод и перенаселенность, тогда как в Сибири и на Дальнем Востоке земли было в избытке, а населения очень мало. На севере Европейской России деревни в 20 — 25 дворов были нормой, в Центрально-Черноземной области типичная деревня состояла из 100 — 200 дворов, а в казачьих станицах на южных границах России и на Северном Кавказе население насчитывало от 5000 до 10000 чел., или свыше 1000 дворов.
В начале XX в. крестьяне все еще платили выкупные платежи, установленные крестьянской реформой 1861 г. Способ проведения реформы лег наибольшим бременем на крепостных помещичьих крестьян, составлявших немногим меньшую, но значительно более обделенную группу, чем государственные крестьяне. Они освобождались с землей, но обязаны были уплатить за нее. Эти платежи (поступавшие государству, которое, в свою очередь, уплачивало компенсацию землевладельцам) были рассрочены на сорок девять лет с момента окончания некоего переходного периода «временной обязанности», длившегося иногда несколько лет, в течение которого бывшие крепостные продолжали отрабатывать барщину и вносить оброк хозяевам.
Форма освобождения крестьян вызывала многочисленные нарекания. Хотя реформа по идее должна была принести крестьянам выгоду, выработанный в итоге сложный механизм ее проведения явно в первую очередь служил интересам землевладельцев и государственной казны, а не бывших крепостных. Крестьяне чувствовали себя обманутыми, потому что им приходилось платить за землю, которую они традиционно считали своей, поскольку обрабатывали ее. Крестьян плодородного черноземья возмущал и тот факт, что часть земли, которую они раньше возделывали для себя, была отрезана и отдана землевладельцам. Протест в деревне
30
выражался по-разному. Несколько раз случались бунты, причем крестьяне заявляли, что прочитанный им местными властями документ — не настоящий и что местные чиновники и землевладельцы вступили в заговор с целью скрыть от народа истинные намерения милостивого царя. Нередко крестьяне отказывались, подчас с оружием в руках, подписывать грамоты, устанавливающие финансовые обязательства и земельное устройство отдельной общины5.
Во многих российских селах, принадлежавших помещикам, господская и крестьянская земля были слиты или перемешаны, и крестьяне обрабатывали все вместе. В 1860-е гг. протесты крестьян еще не включали в себя заявлений, что и помещичья земля по праву принадлежит им, хотя впоследствии такие претензии появились тоже.
В течение периода выкупа (закончившегося в итоге революцией 1905 г.) очень многое напоминало крестьянам об эпохе крепостничества. Коллективная ответственность по выкупным платежам препятствовала отъезду отдельных крестьян или крестьянских семей из деревни, ограничивая свободу передвижения точно так же, как это раньше делало крепостное право. Бывшие хозяева не только сохранили свои поместья (и зачастую нанимали крестьян для работы в них), но и все еще пользовались значительной властью в деревне. Даже мир, орган крестьянского самоуправления, выступавший посредником между деревней и государством и распределявший между дворами общинную землю, нес на себе отпечаток порядков эпохи крепостничества: к примеру, если в одной деревне жили крестьяне, принадлежавшие двум разным хозяевам, или бывшие помещичьи и государственные крестьяне, то эти две категории входили в два разных сельских мира.
В 1890-е гг. в России начались быстрая индустриализация и рост городов. Городское население увеличилось с 6 млн чел. в 1863 г. до 12 млн в 1897 г. и более 18 млн к началу 1914 г. Это, разумеется, означает, что большое число крестьян уходили на работу в город, невзирая на сохранявшиеся ограничения свободы передвижения. В добавление к постоянному потоку мигрантов, многие из которых сохраняли свои земельные наделы и оставляли семью в деревне, появилось много крестьян-отходников, курсировавших между деревней и городом и работавших часть года в качестве наемных рабочих. Отход был явлением традиционным, но бремя выкупных платежей в сочетании с экономическим развитием страны в пореформенную эпоху вызвало пятикратное увеличение ежегодного числа отходников за 1860—1900 гг. Перед самой войной крестьянам-отходникам ежегодно выдавалось почти 9 млн паспортов6.
Крестьян нечерноземной полосы, включавшей в себя Санкт-Петербург, Москву, Иваново и другие крупные промышленные центры, быстрая индустриализация конца XIX — начала XX в. затронула сильнее всего, но ее влияние чувствовалось и в Цент-
31
ральном сельскохозяйственном районе, например, в перенаселенных Тамбовской и Воронежской губерниях члены многих крестьянских семей работали в отходе на шахтах украинского Донбасса. Этнографы, собравшие массу данных о российском крестьянстве периода 1890-х — начала 1930-х гг., отмечают, что во многих регионах Центральной России в жизнь крестьян стали проникать городские нравы и предметы быта, порой вызывая жесточайшие конфликты между консервативным старшим поколением (в особенности семейными патриархами) и молодежью.
В 1905 г. в крупных городах Российской империи вспыхнула революция, перекинувшаяся и в деревню. Крестьяне жгли помещичьи дома, прогоняли помещиков, и правительству потребовалось два года, чтобы окончательно «усмирить» деревню, применяя широкомасштабные насильственные и карательные меры. Тогда был создан революционный Крестьянский союз, потребовавший отдать «землю тем, кто ее обрабатывает». Многие либералы придерживались убеждения, что удовлетворить крестьян может только та или иная форма законодательного отчуждения и передачи им помещичьих земель. Однако правительство империи во главе с премьер-министром П.А.Столыпиным приняло после революции 1905 г. другое решение.
В ходе столыпинских реформ, начатых в 1906 г., государство перестало поддерживать мир, в котором раньше видело полезное с административной точки зрения учреждение, имеющее глубокие корни в прошлом России, и приступило к демонтажу традиционной системы общинного землепользования. При старой системе надел крестьянского двора был нарезан на ряд узких полосок, разбросанных по всей общинной земле. Он це считался частной собственностью, и его нельзя было покупать или продавать (Крестьянский союз придерживался этого же принципа в 1905 г.). Во многих селах поддерживалось традиционное равенство между дворами с помощью периодически проводившегося миром передела полосок. Это лишало крестьян всякого стимула к мелиорации почв и было признано главным препятствием на пути модернизации российского сельского хозяйства.
Столыпинские реформы были направлены на то, чтобы выделить крестьянские дворы из общины, способствовать созданию из «крепких и сильных» хозяев нового класса независимых мелких собственников, способного модернизировать сельское хозяйство и не заинтересованного в революции, и дать возможность более слабым хозяевам продать свою землю и стать наемными рабочими в сельском хозяйстве или промышленности. Процесс этот был сложным. В первую очередь двор на законном основании отделялся от общины. Затем принадлежащие ему полоски сливались в единый надел, так называемый отруб. После этого крестьянская семья могла выселиться из деревни и построить отдельную усадьбу на своей земле (хутор).
32
Реформы, так и не завершенные к началу Первой мировой войны и остановленные в 1915 г., проводились с большой осторожностью, с помощью целой армии агрономов и землемеров, помогавших крестьянам советом и делом, но все же вызвали в деревне глубокий раскол. Меньшинство предприимчивых крестьян с задатками капиталистов, так одобрявшимися Столыпиным, те самые, кого большевики впоследствии назвали кулаками, приветствовали реформы. Некоторые бедняки тоже рады были возможности продать землю, но другие относились к реформам с опаской, поскольку их вынуждали пуститься в свободное плавание на свой страх и риск, не надеясь на спасательный круг в лице сельского мира. Многие крестьяне смотрели на выделившихся как на предателей мира и исконных традиций и осуждали их стремление воспользоваться шансом и жить лучше своих односельчан.
Деревня не была непосредственно вовлечена в кризис, завершившийся свержением царской власти в результате Февральской революции 1917 г., когда Россия еще участвовала в Первой мировой войне, но, как и в 1905 г., потребовалось немного времени, чтобы отголоски городской революции докатились и туда. Весной 1917 г. начались захваты земли крестьянами, и к лету солдаты уже толпами дезертировали из армии, стремясь поскорее вернуться в свои села и принять в этих захватах участие. Временное правительство, созданное после Февральской революции, медлило с решением земельного вопроса. На выборах во Всероссийское учредительное собрание, состоявшихся в ноябре, крестьяне голосовали за партию, пользовавшуюся у них наибольшей популярностью последние пятнадцать лет, — партию эсеров. Большевики, партия городских рабочих, были меньше известны в деревне, но они первыми одобрили захваты земли, и с тех пор, как они завоевали народную поддержку в городах и в армии, крестьяне стали то и дело слышать о них от возвращавшихся отходников и дезертиров.
Захватив в октябре 1917 г. власть, большевики (к которым вскоре присоединилось, хотя и ненадолго, левое крыло партии эсеров) в числе первоочередных мер издали декрет о земле, выполняя «крестьянский наказ» по этому вопросу. В нем провозглашались: немедленная экспроприация помещичьих земель; передача этих земель (а также земель, принадлежавших царской семье, церкви, монастырям, государственным учреждениям и т.д.) народу; отмена частной собственности на землю; признание принципа уравнительного распределения и принципа «Землю — тем, кто ее обрабатывает». Каждая деревня сама должна была решить, какую форму землепользования избрать: традиционную общинную или какую-то другую, например, коллективные хозяйства (артели) или хутора'.
При переделе земли, проводившемся кое-где в 1917—1918 гг., община играла главенствующую роль, к изумлению многих образованных людей, полагавших, что время ее прошло. Общинное
2 - 1682 °°
землепользование и чересполосица прочно утвердились во многих местах, и зачастую крестьяне силой принуждали выделившиеся хозяйства вернуться в общину. Так, например, в губерниях Среднего Поволжья доля хозяйств на отрубах и хуторов упала с 16% в 1916 г. почти до нуля в 1922 г. По вопросу о том, можно ли это рассматривать как проявление классовой борьбы против предприимчивых крестьян (кулаков) как социальной группы, мнения расходятся. Однако слово «раскулачивание», означавшее насильственную экспроприацию кулаков, впервые появилось именно в то время, и, несомненно, тогда бывали случаи экспроприации и конфискации собственности кулаков на местах, возможно, в результате стихийной инициативы крестьян, а скорее всего — под влиянием посторонних пришельцев из города и Красной Армии. Во всяком случае ожесточенные раздоры и междоусобицы в деревне часто изображались впоследствии как конфликт между бедными и богатыми (или просоветски и антисоветски настроенными) крестьянами в ходе гражданской войны**.
Хорошее поначалу отношение крестьян к советской власти сильно испортили продразверстки во время гражданской войны, начавшейся в середине 1918 г. и тянувшейся до конца 1920 г. Как красные, так и белые армии реквизировали зерно, но крестьяне обычно считали красных меньшим из двух зол, так как боялись, что белые в случае победы восстановят в правах помещиков. Однако все возраставшая жестокость, с какой большевики отбирали хлеб до последнего зернышка, оттолкнула крестьян, особенно в главных зернопроизводящих районах — Центральном Черноземье и Среднем Поволжье. Другой причиной недовольства были попытки большевиков расколоть деревню, объявляя своими союзниками бедняков, на которых крепкие хозяева зачастую смотрели как на лодырей и тунеядцев. Комитеты бедноты, созданные под влиянием большевиков, чтобы помогать им отбирать у кулаков хлеб (и оспаривать власть сельского мира), были крайне непопулярны в России, и от них пришлось отказаться, хотя на Украине подобные организации просуществовали до 20-х гг.
Конец гражданской войны ознаменовался восстаниями крестьян против советской власти в Тамбовской губернии и на Украине; в 1921 — 1922 гг. Поволжье было охвачено голодом и эпидемией тифа. И восстания, и голод явились, по крайней мере отчасти, результатом безжалостных военных продразверсток9. В начале 1921 г., когда в стране царила экономическая разруха, советская власть вынуждена была пойти на значительные уступки крестьянам: заменить продразверстку фиксированным продовольственным налогом (впоследствии превращенным в денежный) и снова открыть рынки, в большинстве мест закрытые в эпоху военного коммунизма. Отказавшись (во всяком случае на данный момент) от идеи союза с бедняками, большевики провозгласили новую политику смычки со всем «трудовым крестьянством» — кроме кулаков, которых они по-прежнему считали капиталистическими экс-
34
плуататорами и естественными противниками советской власти. Эта политика, известная под названием «новой экономической политики» (нэпа), оставалась в силе до конца 20-х гг., когда началась коллективизация.
С введением нэпа для российского крестьянства начался относительно благоприятный период. Революция все же принесла ему определенную выгоду, невзирая на все лишения и потери во время империалистической и гражданской войн и голода. Главная выгода состояла в том, что прежние землевладельцы бежали из деревни (а многие в конце гражданской войны вообще эмигрировали из страны) и крестьяне получили помещичью землю, а также земли, принадлежавшие прежде церкви, монастырям, царской семье и государству. Общая площадь перешедшей к крестьянам земли, часто преувеличиваемая советскими пропагандистами, составляла 40—50 млн гектаров (110 — 140 млн акров). В Европейской России одно крестьянское хозяйство получило в среднем 1 — 5 акров пахотной земли (часть которой прежде сдавалась в аренду), а также право пользования лугами и лесами, принадлежавшими раньше помещикам10.
С другой стороны, население Европейской России уменьшилось с 72 млн чел. в 1914 г. до 66 млн в 1920 г., а общая убыль населения Советского Союза за период 1915 — 1923 гг. оценивалась в 25 — 29 млн чел. Среди погибших непропорционально велика была доля молодых мужчин; это повлияло на соотношение женщин и мужчин в деревне даже сильнее, чем в городе. В 1920 г. среди сельского населения сорока пяти губерний Европейской России в возрастной группе 19 — 29 лет на 100 мужчин приходилось 230 женщин. Демобилизация лишь незначительно изменила ситуацию, поскольку демобилизованные стремились устроиться в городах. Шесть лет спустя в деревнях Европейской России в возрастной группе 25 — 35 лет на 100 мужчин все еще приходилось 129 женщин11.
Наряду с потерями в людях велики были потери скота, особенно тяглового (лошади в военное время подлежали реквизиции). Количество лошадей на территории Советского Союза уменьшилось с 34 млн в 1916 г. до 23 млн в 1923 г. и даже накануне коллективизации еще не достигло довоенного уровня. В 1922 г. более трети крестьянских дворов в РСФСР не имели никакого тяглового скота12.
Российское сельское хозяйство оставалось на весьма примитивном уровне. Железный плуг далеко не всюду еще заменил традиционный деревянный, основными орудиями при уборке урожая служили серпы и косы. Картину из давних времен, изображающую ряды мужчин, женщин и подростков, засевающих узкие полоски земли или жнущих серпами хлеб, можно было воочию наблюдать в российской деревне 20-х гг. Для будущих модернизаторов сельского хозяйства положение складывалось невеселое. Отмена столыпинских реформ означала, что в основных сельскохо-
35
зяйственных областях России 98 — 99 % крестьянских земель были нарезаны на полосы и находились в общинном пользовании, зачастую подвергаясь постоянным переделам.
Земельный кодекс 1922 г. позволял отдельным хозяйствам покидать общину. Но тут большевики оказались перед дилеммой: поощряя крестьян оставаться в рамках общины, они должны были бы распроститься с надеждой на какие-либо значительные улучшения в сельском хозяйстве, а поощряя выход из общины, они открывали дорогу сельскому капитализму столыпинского толка. На практике некоторые местные земельные отделы, возможно, под влиянием землемеров столыпинских времен, поступивших на службу к советской власти, следовали политике осторожного поощрения отделения отрубов и хуторов, и число таких хозяйств постепенно росло в западных губерниях и в Центральном промышленном районе (например, в Ленинградской, Ивановской и Тверской губерниях), где застрельщиками этого движения выступали крестьяне-рабочие. Тем не менее, к 1927 г. доля хозяйств на отрубах и хуторов была сколько-нибудь значительной лишь в северо-западном и западном регионах РСФСР (соответственно 11% и 19%)13.
После революции резко сократились доходы крестьян от несельскохозяйственных работ и ремесел. Разруха в промышленности, вызванная гражданской войной, вынудила отходников и крестьян-рабочих (многие из которых, по-видимому, уже полностью ассимилировались в среде рабочего класса) вернуться в родные деревни. Последние снова уехали в город, как только в первой половине 1920-х гг. стали открываться заводы и шахты, но работы всем не хватало, и профсоюзы делали все возможное, чтобы ограничить приток рабочих из деревни. Другая важная форма дореволюционного отходничества — сезонные сельскохозяйственные работы в крупных коммерческих хозяйствах — перестала существовать вместе с исчезновением таких хозяйств. В течение 20-х гг. положение улучшилось, и число отходников между 1923—1924 и 1927 — 1928 гг. выросло больше чем вдвое, но и в 1928 г. уровень отходничества (чуть меньше 4 млн чел.) далеко не достигал довоенного (около 9 млн отходников в год)14.
Сельские ремесла и мелкое сельское промышленное производство тоже находились в упадке, особенно в первые годы нэпа, по причине разрушения сложившейся системы торговых связей во время гражданской войны. Например, в Пензенской губернии основное местное ремесло — бондарное (производство бочек для рыбной промышленности) — совершенно заглохло с исчезновением посредников, поставлявших сырье и распространявших готовую продукцию. Единственной процветающей отраслью сельской промышленности являлось изготовление самогона, широко развернувшееся в ответ на введение сухого закона в 1914 г. Большевики, придя к власти, на несколько лет продлили сухой закон, но в 1925 г. отменили его по фискальным соображениям. Власти про-
36
водили энергичные кампании против самогонщиков, но результаты были ничтожны. По оценкам советских статистиков, в 1928 г. более 40% крестьянских хозяйств в России гнали самогон, производя в общей сложности 6,15 млн л в год15.
Продовольственный налог, введенный в начале нэпа, позднее был превращен в денежный и получил название сельскохозяйственного налога. Он являлся главным источником государственного дохода, и для городского населения эквивалентного налога не существовало. Хотя сельхозналог был дифференцирован (кулаки платили больше, а небольшая группа беднейших крестьян освобождалась от налога совсем), он лег тяжким бременем на огромное большинство крестьян. Доходы от несельскохозяйственных работ тоже были обложены налогом с 1926 г. По словам Ю.Ларина, известного большевистского экономиста, общее налогообложение крестьян (включая косвенные налоги) было ниже, чем до революции, но прямые налоги возросли, и крестьяне, несомненно, чувствовали, что налоговое бремя для них стало гораздо тяжелее, чем прежде. В Новгородской губернии, например, налог на среднее крестьянское хозяйство вырос от 12 примерно рублей (4% от чистой прибыли) в 1905 — 1912 гг. почти до 24 довоенных рублей (14% от чистой прибыли) в 1922—1923 гг. К этой налоговой системе, превращавшей крестьян в основной источник дохода для государства, добавлялась советская ценовая политика, направленная на то, чтобы изменить условия торговли не в пользу крестьян: цены на промышленные товары неизменно устанавливались высокие, а на сельскохозяйственную продукцию — низкие16.
После налетов большевистских продотрядов в гражданскую войну период нэпа был относительно спокойным, и административное присутствие новой власти в деревне свелось почти к минимуму. Коммунисты на селе в 20-х гг. были редкостью. Сельские партийные организации в начале 1925 г. насчитывали 160000 членов, правда, в следующие три года это число удвоилось. Большинство сельских коммунистов действительно были крестьянами по происхождению, но на текущий момент меньше трети из них работали на земле. Остальные главным образом занимали административные посты17.
Органом административной власти в деревне являлся сельсовет, но это учреждение существовало лишь номинально и зачастую состояло из председателя, получавшего 12 руб. в месяц (сумма, совершенно недостаточная, чтобы прожить), и секретаря, иногда оплачиваемого, а иногда и нет. Эту должность нередко занимал бывший волостной писарь. У сельсоветов в 20-е гг., как правило, не было своего бюджета и никаких источников доходов; если председатель сельсовета не имел собственной лошади, то приходилось просить какого-нибудь крестьянина отвезти его каждый раз, когда ему нужно было съездить в уездный центр. В среднем лишь один из шести председателей сельсоветов середины
37
20-х гг. состоял в коммунистической партии. Разумеется, все они были крестьянами, и общепризнанной квалификацией, дававшей возможность занять эту должность, являлась служба в Красной Армии во время гражданской войны18.
Сельские общины, входившие в числе б—8 в юрисдикцию типичного сельсовета, были куда более эффективными и уважаемыми учреждениями. Они могли облагать сборами своих членов и иметь другие источники дохода, как, например, сдача земли в аренду и т.п. Община (земельное общество) являлась юридическим лицом, могла заключать контракты, возбуждать дело в суде и находилась в официальных сношениях с правительственными учреждениями; ее руководитель, как правило, принадлежал к числу «деловых и влиятельных людей», умеющих вести дела с государством по самым разным вопросам. Большевики смотрели на общину с растущим подозрением, которое вызывал у них ее статус соперника сельсовета: эти два учреждения один большевистский журналист в 1928 г. назвал «двумя крестьянскими активами в деревне». Впрочем, многие крестьяне с ним не согласились бы, поскольку для них местным органом власти была только община19.
В период нэпа большинство жалоб крестьян на большевиков были связаны с налогообложением. Иногда крестьяне сравнивали сельхозналог с оброком времен крепостничества, и ходили слухи, будто настоящая причина, по которой государство его взимает, — выплата компенсации бывшим землевладельцам и промышленникам за собственность, утраченную во время революции. В Тамбове (где антисоветские настроения по-прежнему были сильны) даже распространился слух, что на самом деле произошел тайный переворот, буржуазия снова у власти «и теперь налог пойдет за налогом»20.
Еще одной причиной недовольства служило предпочтение, которое большевики оказывали городским рабочим. Большевики, будучи марксистами, называли себя рабочей партией, а свой строй — диктатурой пролетариата. Они признавали, что крестьяне принадлежат к «трудящимся массам», угнетавшимся царизмом, и, следовательно, являются частью их естественной социальной базы, однако в отношении большевиков к этим двум группам и в обращении с ними заметно было резкое различие. В глазах большевиков крестьяне исторически являлись жертвами, но все же не были пролетариями и обладали «мелкобуржуазной» сущностью, которой лишь отсталость деревни не давала развиться в капиталистическую. Большевики видели в деревне инертную, косную, суеверную, неевропейскую, несовременную Россию, которая должна была подвергнуться революционной социалистической модернизации.
В крестьянских жалобах на предпочтение, отдаваемое рабочим, делался упор на тот факт, что заработок рабочего не облагался налогом, а заработок крестьянина-отходника с 1926 — 1927 гг. — облагался. По сообщениям студентов педагогических
38
вузов, проходивших практику в деревне, крестьяне говорили: «Все для рабочего, а крестьян обманули», жаловались на преимущественный доступ к образованию для рабочих и полагали, что «в конце концов на партийных должностях будут только рабочие». Были и другие похожие сообщения о жалобах на то, что у рабочих есть профсоюзы, защищающие их интересы, а у крестьян нет, и что у рабочих лучше медицинское обслуживание. «У нас рабочий на первом месте, и никакими цифрами и словами этого не скроешь». «У власти стоит куда больше рабочих, чем крестьян. Но ведь в нашей стране крестьян больше». Говорили даже, что политика большевиков в отношении производства водки и криминализация самогоноварения направлены против крестьян21.
В большинстве сообщений высказывалась мысль, что типичное отношение крестьян к советской власти в 20-е гг. не было ни резко положительным, ни резко отрицательным. Чаще всего крестьяне видели в ней такое же правительство, как любое другое, а не революционную народную власть. Одни критиковали коммунистов за атеизм и называли их «жидами», другие говорили, что они карьеристы, третьи называли их утопистами, лишь на время отказавшимися от фантазий эпохи военного коммунизма. Сторонние наблюдатели (по большей части коммунисты, следует заметить) находили в деревне мало признаков сожаления о царе или прежней верности эсерам; по их мнению, большинство крестьян с уважением относились к Ленину и другим политическим лидерам, самой острой критике подвергая местное руководство. В сельской местности, прилегавшей к крупным промышленным центрам, где существовали многосторонние контакты между крестьянами и городскими рабочими, крестьяне проявляли к советской власти более теплые чувства: в Московской губернии даже пели «советские частушки». В центральных сельскохозяйственных губерниях, наиболее тяжко пострадавших от продразверсток в гражданскую войну, напротив, сильнее чувствовалась враждебность (в Рязани частушки были «явно контрреволюционные, желчно-злобные»). Но большинство крестьян потеряли интерес к политике22.
КУЛАЦКИЙ ВОПРОС
Согласно марксистскому анализу большевиков в начале XX в. капитализм только начал пускать корни в российской деревне. Сама по себе эта тенденция развития являлась «прогрессивной», поскольку рыночно-ориентированные мелкие фермерские хозяйства представляли собой более высокую ступень, нежели натуральное хозяйство традиционной деревни, однако в условиях социалистического строя она несла в себе угрозу. Если бы среди российского крестьянства появился настоящий слой капиталистов, он
39
обязательно встал бы в оппозицию социалистической советской власти. Большевики, фигурально выражаясь, очутились между Сциллой закоснелого традиционного мира и Харибдой крестьянского капитализма. Кулак внушал им страх и как нарождающийся капиталист, и как самое влиятельная сила в общине.
По словам Сталина, «из 100 коммунистов 99 скажут», что скорее готовы бить кулака, как они это делали во время продразверсток в гражданскую войну, чем, следуя политике нэпа, избегать конфронтации и проводить смычку с середняком. «Люди вводили нэп, зная, что нэп есть оживление капитализма, оживление кулака», — сказал Сталин в 1925 г., но коммунисты инстинктивно видели в кулаках врагов23.
Во время гражданской войны многие дореволюционные кулаки лишились своего имущества или бежали с белыми. По оценкам советских статистиков, к концу гражданской войны лишь 3% крестьянских хозяйств можно было отнести к категории кулацких (ср. с 15% до революции). Но коммунисты боялись, что процесс раскулачивания не доведен до конца, особенно за пределами центральных российских губерний, в Сибири, на Северном Кавказе, в Крыму, на Украине, и что нэп породит новых кулаков. Экспроприация кулаков в Центральной России лишь обострила антагонизм между большевиками и поддерживавшими их крестьянами, с одной стороны, и кулаками — с другой. Униженный, разоренный бывший кулак представлял большую опасность, чем кулак, только нарождающийся. Как писал один большевистский интеллигент в 1924 г.: «Может быть, сейчас у данного крестьянина скота мало и хозяйство небольшое. Но это — раскулаченный кулак, у которого революция обрезала крылья. В политике он даже более свирепый враг революции, чем тот буржуй, что нажил сейчас и пользуется нажитым»24.
Динамика сельского хозяйства и будущая эволюция крестьянства служили в 20-е гг. предметом жарких дебатов. Эта дискуссия продолжала старый спор между марксистами и народниками, тянувшийся с 1880-х гг. На одной стороне стояли марксистские социологи и экономисты, в особенности связанные с Сельскохозяйственным институтом Коммунистической академии. Они ожидали и боялись эволюции деревни в сторону капитализма, с тревогой подмечали признаки растущего классового расслоения крестьянства и считали общину лишь тормозом на пути преодоления отсталости деревни. На другой стороне была группа ученых-немарксистов, связанная с Тимирязевской сельскохозяйственной академией и возглавляемая А.В.Чаяновым, отрицавшим развитие капиталистических отношений в деревне. Чаянов объяснял расслоение деревни естественной цикличностью крестьянской жизни; в каждый заданный отрезок времени, считал он, какие-то крестьянские хозяйства процветают, так как имеют много трудоспособных членов и мало неработающих иждивенцев, а другие приходят в упадок по причине неблагоприятного соотношения работников и иждивен-
40
цев, но эта ситуация не является постоянной, и в основе ее не лежит эксплуатация бедных богатыми25.
Среди руководителей большевистской партии существовали разногласия по вопросу о том, насколько близка и сильна кулацкая угроза, однако все, как правило, сходились во мнении, что необходимо пристально следить за развитием классовых отношений в деревне и что отношение того или иного крестьянина к советской власти скорее всего непосредственно связано с его классовой принадлежностью. В статистических справочниках 20-х гг. крестьяне никогда не обозначаются просто — «крестьяне», но классифицируются как «бедняки», «середняки» и «кулаки». Было выведено следующее процентное соотношение этих групп по стране в конце гражданской войны: 35 — 40% бедняков и батраков, 55 — 60% середняков и 3% кулаков26.
Выявление классовых отношений в деревне оказалось нелегким делом. Крайне трудно было найти подходящие критерии для определения факта существования классового расслоения и эксплуатации. Сначала полагали, что эксплуататорами являются крестьяне, использующие в своем хозяйстве наемный труд, но в реальности ситуация оказывалась куда сложнее. Например, безлошадный (следовательно, бедный) крестьянин мог платить богатому односельчанину, имеющему лошадь, за вспашку своей земли. Кроме того, изыскания большевиков в этой области сильно тормозила привычка давать заведомо неверную информацию, выработанная поколениями и поколениями крестьян в ходе общения со сборщиками податей. Крестьяне знали, что большевики не любили кулаков, и имели представление о том, по каким признакам власти надеялись распознать последних. Так, например, судя по докладу о работе сельских изб-читален в Сибири, кулаки брали «преимущественно юридические книги» и знали Земельный кодекс, Уголовный кодекс и прочие законы и указы советской власти лучше, чем работники местных органов правосудия27.
Классификация крестьян по классовой принадлежности в 20-е гг. имела вовсе не чисто академическое значение. Классовая принадлежность определяла правовой статус человека и затрагивала многие важные стороны его жизни. Кулаки и прочие «классовые враги» пролетариата с 1918 по 1936 г. были лишены избирательных прав, они облагались чрезвычайным налогом, их подвергали дискриминации при приеме в учебные заведения и пр. и пр. Местные советы должны были хранить списки кулаков по каждому избирательному округу, периодически внося в них добавления и изменения. Бедняки, напротив, освобождались от сельхозналога, пользовались льготами при приеме в средние и высшие учебные заведения, в комсомол и коммунистическую партию28.
За период 1921 — 1927 гг. экономическая статистика не показывает ярко выраженной тенденции классового расслоения: группа кулаков в составе всего крестьянства увеличилась лишь на одну или две десятые доли процента. А вот политические тенденции в
41
это время были весьма тревожными. «Кулацкая угроза» стала главной темой внутрипартийных дискуссий, причем левая оппозиция и сталинцы соревновались, кто займет более жесткую позицию в этом вопросе. На выборах в Советы в 1927 г., после того как местные избирательные комитеты получили наказ повысить бдительность в отношении кулаков и других классовых врагов, избирательных прав лишилось в два-три раза больше людей, чем в 1925 и 1926 гг.29.
Если обратиться к точке зрения крестьян, то крепкий хозяин — тот, кого большевики чаще всего называли кулаком, — служил в деревне объектом восхищения, зависти и, наверное, злобы. Его голос имел особый вес в общине. Он был нередко самым знающим и дельным в селе, лучше всех умел вести дела с городскими людьми и правительственными учреждениями. Более слабые хозяева не осмеливались ему перечить, потому что им могла понадобиться его помощь, например, ссуда зерном в самые трудные месяцы перед новым урожаем. Во времена невзгод крестьянину не к кому было обратиться, кроме как к более зажиточному односельчанину. Условия, на которых зажиточные крестьяне оказывали помощь и давали ссуды, могли быть более или менее тяжелыми, но чаще всего создавали отношения зависимости наряду с отношениями эксплуатации (или даже в большей степени отношения зависимости, чем эксплуатации).
Что же касалось бедняков, то общественное мнение в деревне, по всей видимости, проводило различие между теми, кто обеднел не по своей вине, а в силу несчастного стечения обстоятельств (например, смерти главы семьи или гибели лошади), и теми, кто был беден вследствие своей неумелости, пьянства, лености. Крестьяне нередко выражали досаду и недоумение по поводу того, что большевики отдавали таким «лодырям» предпочтение перед хорошими, работящими хозяевами, самостоятельно пробивающими себе дорогу в жизни. В деревне видели, что бедняки в результате этого предпочтения получали значительные преимущества — целый ряд льгот и привилегий, зачастую ставивших бедняков в лучшее положение, чем середняков.
Стоит задуматься над письмом, которое в 1926 г. прислал в ЦК партии крестьянин, назвавший себя «бедным середняком»:
«Я имею лошадь, корову и 3 овцы, за то меня беднота зовет буржуем, а никто не обсудит, сколько приходится середняку работать, тяжелее, чем бедняку. Мне своего корму на содержание скота не хватает, то я должен занимать у бедняков, за что я им землю обрабатываю. А бедняцкое дело побольше поспать... [Бедняк] идет стройно, чистенький, штанишки, сапожки и рубашка по форме и фуражка, из-под которой опрятно волос торчит... Вдруг середняк побогаче меня — сапоги в грязи, голенища перекосову-рились, галкам ночлег, только рубаха без пуговиц, наверное, еще в воскресенье лицо умывал, которое напоминало вид его, — схватил махорку, керосину и скорее домой, чтобы лошадь не была го-
42
лодной. Бедняки — к заведующему — одолжите папирос на двугривенный. Тут же садится и раскуривает, и думаю, какая привилегия есть, потом одумался, правда, налогу нет, лошадь не тратит, словом, повинностей никаких, что заработает — все на себя, а пашню я ему заработаю, но для меня обидно, что меня еще и буржуем называют... »30
Было бы ошибкой думать, будто наличие классовых конфликтов в деревне целиком являлось выдумкой большевиков. Вышеприведенное письмо свидетельствует о том, что сами крестьяне зачастую отчетливо осознавали свою принадлежность к категории бедняков, середняков или крепких хозяев и враждебно относились к представителям других категорий. Слово «буржуй», новое для деревни, завоевало в 20-е гг. большую популярность, это признавали даже те, кто в целом подвергал сомнению существование классового расслоения в среде крестьянства31. Однако возникала немалая путаница в понятиях вследствие того, что названные категории не были чисто экономическими, а изображаемые большевиками отношения эксплуатации между кулаками и бедняками не соответствовали реалиям тогдашней деревни. «Классовая» принадлежность, заявляемая крестьянами, настолько же определялась политической лояльностью и исторической памятью, насколько реальным экономическим положением.
Некоторые разногласия в деревне зародились в столыпинскую эпоху и даже раньше, но многие возникли в период гражданской войны. Крестьяне, которых большевистские продотряды с помощью местных активистов из комитетов бедноты лишили коров и лошадей, нескоро могли об этом забыть, так же как и выдававшие их продотрядам активисты. В местностях, много раз переходивших во время войны из рук в руки, то к красным, то к белым, жертвы предательств, доносов, мести, конфискаций и переделов собственности без конца менялись местами.
Когда крестьянская газета «Беднота» в 1924 г. проводила среди своих читателей опрос на актуальную тему: «Кто такой кулак?», авторы огромного числа писем ссылались на опыт гражданской войны. Многие респонденты (большинство из них, но не все, были крестьянскими активистами) утверждали, что нынешнее экономическое положение — не главный отличительный признак кулака. Главное, говорили они, — это прошлое крестьянина, его отношение к советской власти и общий нравственный облик. Если он алчен и скуп — он кулак. Если стал заниматься торговлей — неважно, насколько мелка торговля или насколько велика была нужда, заставившая его это сделать, — он тоже кулак, «паразит» на теле деревни, как выразился один респондент. Другой респондент, из Гомеля, углубился в историю, с гордостью заявляя, что даже в голодные годы после крестьянской реформы, когда крестьянам в его губернии приходилось туго и многие вынуждены были уехать на шахты, ни один из них не занялся торговлей, потому что «не наше это дело, для этого шинкарь имеется»32.
43
Часто встречался в деревне особого рода классовый антагонизм — между отходниками и кулаками, несомненно, имевший свою историю, берущую начало в дореволюционную эпоху. Именно бедняков в первую очередь нужда гнала работать на шахты, и, возвращаясь в деревню, они, в силу давней вражды и недавно обретенных уверенности в себе и организаторских способностей, становились наиболее вероятными соперниками зажиточных, фермерски-ориентированных крестьян, заправлявших в общине33.
В 1917 — 1920 гг. в деревню хлынул поток возвращавшихся отходников и даже рабочих крестьянского происхождения, отсутствовавших годами и десятилетиями. Одних после революции привлекло известие, что в деревне делят землю, другие бежали из голодающих городов во время гражданской войны. Вернувшимся давали землю, но у них зачастую не было другого необходимого имущества: лошадей, коров, плугов. Эти «бедняки» нередко выступали зачинщиками конфискаций «лишнего» скота и инвентаря у зажиточных крестьян, помогали большевистским продотрядам отыскивать припрятанное зерно и становились активистами в комитетах бедноты. Представления большевиков об их союзнике — деревенском бедняке — в значительной степени сложились под влиянием этих вернувшихся отходников и рабочих, грамотных, повидавших мир, а также солдат, демобилизованных из армии в то же время или несколько лет спустя.
Конфликт между отходниками и кулаками во время гражданской войны описывают многие источники. Вот, например, сообщение из Смоленской волости34:
«В волости после социалистического землеустройства и уравнительного перелома земли произошло некоторое уравнение, и вчерашние кулаки сегодня стали середняки. Одним из таких "неудачников" был крестьянин В. из дер. Тростяки. Он имел три лошади, великолепное хозяйство, а теперь: "Шахтеры все отняли!"
"Шахтерами" он называет тех крестьян, которые по бедности раньше ходили в Юзовку, а теперь на едока получили одинаковую с ним».
Многие вернувшиеся отходники и рабочие снова подались в город в середине 20-х гг., но многие остались, или по своей воле, или потому, что не смогли найти работу. Например, в Саратовской губернии отходники, вынужденные остаться в деревне из-за безработицы, не только испытывали материальные лишения, но и «вступали в острый конфликт с кулацкой верхушкой»35.
КОНФЛИКТ НА РЕЛИГИОЗНОЙ ПОЧВЕ
Большевики были атеистами. Они называли религию предрассудком и обвиняли церковь в продажности и лицемерии. Особенно враждебно относились они к православной церкви, долгое
44
время бывшей верной опорой царизма. Новое Советское государство официально провозгласило отделение церкви от государства декретом 1918 г., положившим конец финансовой поддержке церкви и объявившим национализацию церковной собственности (хотя церкви было предоставлено право пользования зданиями и предметами культа, необходимыми для отправления обрядов). Церковные школы были секуляризованы и перешли в ведение государства; регистрация рождений, смертей, браков передавалась гражданским властям; был узаконен развод. Конституция РСФСР гарантировала свободу совести, а также «свободу религиозной и антирелигиозной пропаганды»36.
На местах обхождение революционеров с церковью и священниками часто было куда более грубым и враждебным, чем можно было бы предположить, судя по умеренному тону декретов центральной власти. Местные советы нередко силой закрывали церкви и даже разрушали их. В городах во время гражданской войны запрещали звонить в колокола, а священникам не разрешали показываться в общественных местах в церковном облачении. Конституция 1918 г. лишила избирательных прав монахов и священников (а также пасторов, раввинов, мулл и прочих служителей культа) вместе с другими «эксплуататорскими классами».
Комсомол особенно отличался воинствующим безбожием. Было много сообщений о том, как комсомольцы срывали службы в сельских церквях, разыгрывали всякие шутки со священниками и служками, устраивали пародии на православную литургию на площади перед церковью и т.д. Следует заметить, что в 20-е гг. комсомол в деревне был представлен гораздо сильнее, нежели коммунистическая партия: к концу десятилетия число членов сельских комсомольских организаций в три-четыре раза превышало число членов сельских партийных организаций; комсомольское движение привлекало крестьянскую молодежь, в особенности мужского пола, в таких масштабах, что партия никак не могла с ним соперничать37.
Крестьяне старшего возраста часто называли комсомольцев «хулиганами», и в самом деле, сельские комсомольцы 20-х гг. во многих отношениях казались прямыми потомками тех сорванцов, чье буйное и непочтительное поведение — подражавшее поведению их городских сверстников — возбуждало негодование деревенской общественности в предвоенные годы. Сельский комсомол и в особенности его антирелигиозная деятельность, говорил один советский этнограф, «привлекают как раз озорников, тех, от которых "отцы" отказались давно, и дают им новую идейность и новую работу...»38
В 1923 г., с некоторым запозданием привнося дух нэпа и в область религии, XII съезд партии подчеркнул, особо ссылаясь на крестьян, как важно не допускать оскорбления чувств верующих и издевательства над их верой. Он также отметил и сурово осудил «комсомольские увлечения по части закрытия церквей». В следу-
45
ющем году XIII съезд партии снова постарался предупредить «какие бы то ни было попытки борьбы с религиозными предрассудками мерами административными, вроде закрытия церквей, мечетей, синагог, молитвенных домов, костелов и т.п.»39. (Этот повторный призыв к терпимости, следует заметить, свидетельствует не столько об умеренности и благоразумии партийных руководителей в вопросе о верующих, сколько о нетерпимости и воинственном антирелигиозном пыле рядовых партийцев.)
Православная церковь в течение десятилетия после революции находилась в агонии, лишенная своего положения государственной церкви и большей части собственности, терзаемая неуверенностью и внутренними раздорами. Был избран первый за двести лет патриарх — Тихон, — встретившийся с огромными трудностями как в управлении церковью, так и в налаживании отношений с Советским государством. Изъятие в 1922 г. церковных ценностей — золота, серебра и драгоценных камней — для оказания помощи голодающему Поволжью привело к сильнейшему ожесточению и взаимным обвинениям. Приблизительно в то же время церковь раскололась на последователей Тихона и приверженцев «живой церкви» (в которой позже тоже произошел раскол); патриарх Тихон некоторое время провел под арестом и вынужден был подписать обязательство отказаться от всякой антисоветской деятельности40.
Но все происходившее было далеко от деревни. «Белое» духовенство — приходских священников, которые могли вступать в брак и не имели никаких надежд на духовную карьеру, — от безбрачного «черного» духовенства и церковных иерархов всегда отделяла глубокая пропасть. Приходские священники традиционно получали очень малую финансовую поддержку от церкви, если вообще получали (хотя в период поздней империи предпринимались усилия изменить это положение и установить для них ежемесячное содержание), и жили на то, что поступало от прихожан, главным образом на плату за требы. Сельское духовенство равнодушно отнеслось к соперничеству между тихоновцами и «живой церковью»: у него хватало своих забот. Сельсоветы во многих случаях отбирали у священников землю и дома под предлогом, что те, как паразиты, «живущие нетрудовыми доходами», не имеют на них права41.
Многие священники бежали к белым, из оставшихся большое количество отрекалось от своего сана и подыскивало другой род занятий. Нередко приходилось слышать о священниках, ставших учителями, секретарями сельсоветов, сельскими писарями, журналистами, пропагандистами атеизма, хлеборобами и даже плотниками. Один батюшка заведовал сельским драмкружком и сам играл на сцене (его «самыми любимыми ролями — были роли попов»)42.
Образ попа в русском фольклоре всегда наделялся отрицательными чертами. Поп обычно изображался скрягой, лентяем и
46
пьяницей. Крестьяне, переезжавшие в города в ходе индустриализации, как и их собратья в Западной Европе, постепенно теряли свою набожность, по крайней мере, переставали соблюдать церковные обряды. В начале XX в. деятели церкви выражали тревогу по поводу растущего равнодушия к религии в деревне и все большего числа жалоб на расходы по содержанию приходских священников, непомерную плату, которую те требуют за отправление различных служб (крестин, свадеб, похорон). Один православный деятель объяснял это явление, в числе всего прочего, дурным влиянием отходников: «Люди, побывавшие в городах и на фабриках, относятся к религии холодно и даже враждебно»43.
Многие говорили о сдержанном отношении крестьян к религии и священникам в 20-е гг. Я.А.Яковлев, будущий нарком земледелия, повсеместно наблюдал это «наплевательское отношение» и делал ироническое предположение, что единственный способ вновь разжечь в деревне религиозный пыл — это закрыть церкви указом сверху. Однако община обычно готова была прийти на помощь приходскому священнику: порой последнему давали земельный участок или помогали его обрабатывать. Яковлев отмечал также, что в одном селе люди, при всем их внешнем равнодушии к религии, «кормили 8 человек, обслуживающих церковь, и не могли прокормить одного учащего детей», хотя и заявляли, будто понимают всю важность школьного образования. За исключением водки, плата священнику (главным образом за совершение различных обрядов) еще в конце 20-х гг. составляла самую большую расходную статью бюджета крестьянской семьи44.
Показателем отношения крестьян к церкви может служить тот факт, что в 20-е гг. в деревне начали распространяться гражданские браки и разводы. Конечно, большинство крестьянских пар по-прежнему венчались в церкви, но и свадьбы помимо церкви, по словам современников, стали в деревне «обычным явлением», по крайней мере в нечерноземной полосе Европейской России. «В каждом селе есть 3—4 семейства невенчанных», говорили они, и крестьяне относятся к этому беззлобно. Когда Морис Хиндус в 1929 г. вернулся в родную украинскую деревню, он был поражен тем, насколько молодежь не знает церковных обрядов и не интересуется ими45.
Безразличие к религии было характерно для демобилизованных солдат, многие из них даже объявляли себя атеистами. «В каждом селе имеются атеисты, не верящие в бога. Об этом говорят громогласно. Крестьяне принимают без удивления...» Впрочем, по общему признанию, под давлением традиций сельского быта подобные настроения за несколько лет могли измениться. Вот один пример: «Вернулся я из Красной Армии, — рассказывает демобилизованный, — в церковь сперва не ходил. Встретил меня как-то поп и говорит: "Эй, солдат, что в церковь не ходишь? Венчать не буду"... А тут мать пристает. Задумал жениться
47
— пришлось идти в церковь. Теперь женился и в церковь не хожу»46.
Пожилые женщины обычно оставались тверды в своей вере. Среди них появлялось множество слухов о божественных знамениях, вроде чудесного обновления икон в разных местах страны, куда богомолки совершали настоящие паломничества. То здесь, то там верующим являлись знаки, предвещающие Божью кару, которая обрушится на богохульников-большевиков. В Курской губернии в середине 20-х гг. ходил слух, «...будто в Курске на один монастырь сошел святой крест. Крест этот видели многие, в том числе и коммунисты. Последние сели на аэроплан и пытались схватить крест. Но он не давался — и коммунисты так и не догнали его»47.
В селе 20-х гг. налицо был острый конфликт между поколениями, особенно в промышленных губерниях Нечерноземья. «Молодежь не хотела больше носить старый деревенский костюм, воспринимая его как символ вековой отсталости». «Большой популярностью пользовался у мужчин военный костюм, оставшийся у многих после первой мировой и гражданской войн... В военном и полувоенном костюме ходили бывшие солдаты, сельские активисты, комсомольцы, т.е. все те, кто причисляли себя к передовым людям. Отцовской одежде завидовали парни-подростки, которые также старались нарядиться в шинель и буденновку». Деревенские девушки, к ужасу своих матерей, начали употреблять пудру и румяна. Городские танцы, танго и фокстрот, вытеснили старые народные пляски48.
В некоторых местах огни большого города и зарево революции настолько вскружили молодым голову, что те стали презирать и деревню, и родителей, и вообще земледельческий труд. Один студент-этнограф так выразил в 1923 г. общее настроение молодежи в своей родной деревне под Волоколамском, недалеко от Москвы:
«"Старики — дураки. Ломают, ломают, а все ничего нет. Им больше нечего делать, как пахать. Все равно деваться некуда", вот слова и реплики по адресу своих отцов со стороны молодежи...»
Чего же хотели молодые?
«Бежать, бежать скорее. Куда-нибудь, только бы бежать: на заводы ли, в армию ли, на курсы ли комсостава — все равно. Прожить бы вольной птицей!»4^
Отношение к религии почти всегда занимало главное место в этом конфликте поколений. Сыновья, реже — дочери, отказывались носить крест, не проявляли уважения к церкви и священникам; их матери, а иногда отцы, напрасно бранились и умоляли. По мнению известного этнографа В.Богораза, подобная форма иконоборчества имела глубокие исторические корни. Насмешки над священниками и пренебрежение к религии не были чем-то таким, что занесли в деревню городские комсомольцы и коммунисты. Скорее наоборот, заявлял он, революционеры-марксисты
переняли обычные черты деревенских вольнодумцев, «богоборцев»: «Постоянная пища деревенской ком-ячейки это анекдоты о попах, с хреном, с горчицей, вообще анекдоты "для курящих"». В глазах народа, полагал Богораз, враждебное отношение к церкви, попам и религиозным «предрассудкам» являлось главной заповедью коммунизма. Крестьяне, по-видимому, соглашались с этим выводом: лингвистические исследования, проведенные с целью выяснить, насколько крестьяне понимают новую советскую лексику, показывают, что слово «коммунист» часто означало для них «тот, кто в бога не верует»50.
НАКАНУНЕ
Лихорадочная сплошная коллективизация и массовое раскулачивание, начавшиеся зимой 1929 — 1930 гг., явились кульминацией нараставшего в течение двух с половиной лет политического и социального напряжения. Такая перемена курса вовсе не отражала реальные процессы, происходившие в среде крестьянства, и не была результатом какой-либо продуманной аграрной политики партии. В действительности политическое руководство страны в эти годы лишь от случая к случаю уделяло внимание сельскому хозяйству и крестьянам, сосредоточившись главным образом на внутрипартийных делах и подготовке первого пятилетнего плана, который должен был ознаменовать вступление Советского Союза в новую эру быстрого индустриального роста в условиях централизованного планирования.
Тон задавало ожидание войны в 1927 г. — совершенно беспочвенный, но почти истерический страх перед неминуемым скорым нападением капиталистических держав. В результате повысилась активность органов внутренних дел, и все общество было озабочено выискиванием шпионов, разоблачением заговоров и внутренних врагов. Бизнес городских частных предпринимателей (нэпманов) был прикрыт, многие из них подверглись арестам. Сталин, уже явно захвативший политическое лидерство, заставил исключить Троцкого и других лидеров оппозиции из коммунистической партии и отправил их в ссылку; затем он начал игру в кошки-мышки с более умеренной «правой оппозицией» в Политбюро. Закончилась эта игра поражением и публичным унижением лидеров правой оппозиции в 1929 г. Из всех вариантов первого пятилетнего плана был принят самый амбициозный; как сказал Сталин, используя обычную риторику времен гражданской войны: «Нет в мире таких крепостей, которых не могли бы взять трудящиеся, большевики». В партии и правительственном аппарате шли чистки «правых оппозиционеров» и «классовых врагов». Воинственные молодые коммунисты-радикалы атаковали позиции культурной гегемонии старой интеллигенции под лозунгом пролетарской
49
Культурной Революции, а комсомол повел энергичное наступление на религию.
В деревне начались проблемы с государственными заготовками, в 1927 г., несмотря на хороший урожай, уровень их был неожиданно низок. Возможно, сыграла свою роль военная истерия: ожидая скорой войны, крестьяне не хотели продавать хлеб. Другая причина заключалась в том, что государство, намереваясь создать капитальные резервы для индустриализации, установило слишком низкие закупочные цены на сельскохозяйственную продукцию. Ситуация не обязательно должна была стать критической, но Сталин, не обращая внимания на доводы будущей правой оппозиции, пожелал считать ее таковой. Несомненно, он предвидел конфронтацию с крестьянством, поскольку в высших эшелонах партии распространилось мнение, что нужно «выжать» из крестьян средства на индустриальные проекты первой пятилетки, и вот, было решено щелкнуть кнутом и показать крестьянам, кто в стране хозяин51.
Как обычно, во всем обвинили кулаков, но пострадали не только они. Сталин заявил, что кулаки пытаются саботировать государственные хлебозаготовки, придерживая зерно, и рекомендовал карать за сокрытие зерна, как за «спекуляцию», по ст. 107 Уголовного кодекса. Однако ссылка на Уголовный кодекс была чистейшей фикцией: кризис хлебозаготовок предполагалось разрешить в первую очередь не судебными, а внесудебными мерами, с помощью насилия и запугивания. Главная роль при этом отводилась ОГПУ. Десятки тысяч коммунистов были посланы в деревню, чтобы помогать проводить хлебозаготовки. Хотя Сталин и отрицал это, однако всем было ясно, что власти возвращаются к прежним методам времен гражданской войны, казалось, отошедшим в прошлое с введением нэпа. Если крестьянин не хотел продавать хлеб, у него его реквизировали52.
И в первые месяцы 1928 г., и в 1929 г. применялись «чрезвычайные меры» по проведению хлебозаготовок. Заготовительные отряды и местные власти закрывали рынки, ставили посты на дорогах, чтобы не дать крестьянам сбыть зерно частным перекупщикам, обыскивали амбары, арестовывали кулаков, мельников и других «укрывателей», конфисковывали зерно, а также лошадей, молотилки и другое имущество. Невыполнение плана хлебозаготовок рассматривалось как политическое преступление. Государственные уполномоченные произносили перед крестьянами речи, угрожали им и доходили даже до рукоприкладства. Как и в 1918 г., бедняки вознаграждались за донесения о зажиточных односельчанах, прячущих зерно.
Иногда крестьянское хозяйство экспроприировалось полностью. Писатель М.А.Шолохов рассказывал об одном казаке из его родных мест на Кубани, у которого в 1929 г. отобрали все имущество вплоть до одежды всей семьи и самовара за то, что он не смог уплатить изрядный дополнительный налог зерном и налич-
50
ными, произвольно навязанный ему после того, как он уже уплатил обычный сельхозналог и сдал 155 пудов зерна в заготконтору. По словам Шолохова, ни этот казак, ни другие крестьяне даже не могли пожаловаться на несправедливое обложение, потому что районные власти запретили почтовому отделению принимать телеграммы с жалобами и отказывали в проездных документах тем, кто собирался отвезти их в Москву лично53.
Отовсюду сыпались сообщения о том, что не только кулаки, но и середняки, и даже бедняки подвергаются аресту и конфискации имущества. Но эти отдельные репрессивные меры были лишь частью картины. В 1929 г. была введена контрактная система, обязывавшая все село (строго говоря, сельское общество или мир) сдавать определенное количество зерна государству. Если село не выполняло своих обязательств, его наказывали. Например, на Средней Волге в 1929 г. заготовительные отряды «блокировали» провинившиеся села, проводили повальные обыски и держали «укрывателей» по нескольку дней под арестом в неотапливаемом амбаре. Вокруг села устраивались демонстрации с черными флагами и лозунгами типа: «Смерть такому-то селу», «Бойкот селу», «Въезд и выезд запрещаются»54.
Сталин выдвинул идею сплошной коллективизации в своей речи по поводу кризиса хлебозаготовок в январе 1928 г., намекнув попутно на возможность массовой экспроприации кулаков. Несмотря на то что приняты были энергичные меры, чтобы обеспечить выполнение плана хлебозаготовок, сказал он, следует ожидать такого же саботажа в следующем году, и вообще всегда до тех пор, «пока существуют кулаки». Но кем заменить кулака как основного поставщика зерна? Сталин предложил как можно быстрее увеличить в хлебной торговле долю государственных и коллективных хозяйств, чтобы «в течение ближайших трех-четырех лет» они смогли обеспечить по меньшей мере треть поставок зерна и тем самым снизить для государства угрозу кулацкого саботажа55.
Помимо этих общих рекомендаций, представления о коллективизации у Сталина оставались весьма смутными. Неясно было, идет ли речь о добровольной или принудительной коллективизации и какую форму коллективного хозяйства имеет в виду Сталин: коммуну, где обобществлялось решительно все; артель, где обобществлялись средства производства; или ТОЗ, где в совместном владении находились только земля и основной сельскохозяйственный инвентарь. Больше всего сбивало с толку то, что хотя, судя по некоторым сталинским замечаниям, колхоз должен был в корне отличаться от уже существовавших в Советском Союзе коллективных хозяйств, но Сталин, по-видимому, и сам не знал, в чем должно заключаться это отличие.
По Сталину, колхоз — это крупное механизированное сельскохозяйственное объединение вроде коммерческого хозяйства, производящего продукцию на рынок, при капиталистической сис-
51
теме, то есть то же самое, что и совхоз (государственное хозяйство с наемными рабочими). Несмотря на то что, с марксистской точки зрения, между этими двумя формами существовали коренные структурные различия, Сталин видел в них лишь общее — средство модернизации советского сельского хозяйства. Цель коллективизации, сказал он в мае 1928 г., заключается в том, «чтобы перейти от мелких, отсталых и распыленных крестьянских хозяйств к объединенным, крупным, общественным хозяйствам, снабженным машинами, вооруженным данными науки и способным произвести наибольшее количество товарного хлеба»56.
Едва ли могло быть что-то более далекое от этой модели, чем уже существовавшие в 1928 г. коллективные хозяйства. Как правило, все они были мелкими, экономически слабыми, не могли выжить без государственных дотаций и не являлись сколько-нибудь значительными поставщиками продукции на рынок. В середине 1928 г. 33000 коллективных хозяйств объединяли менее 2% крестьянских дворов, в средний колхоз входили всего 12 дворов — примерно одна шестая среднего села или земельного общества57.
Коллективные хозяйства — коммуны, как их обычно называли в 20-е гг., — представляли собой незначительные социально-экономические единицы, в глазах народа они связывались с пережитками утопических мечтаний времен гражданской войны. Жившие по соседству крестьяне часто говорили, что коммунары — это горожане, непривычные к сельскому труду. Многими коммунами руководили харизматические лидеры, без которых они сразу бы развалились. Молотов впоследствии заявил (довольно неожиданно), будто и он, и Сталин осуждали эту черту коммун и поэтому предпочли артельную форму коллективизации58. Скорее всего, дело тут было в том, что харизматические личности, возглавлявшие коммуны, далеко не всегда оказывались коммунистами. Некоторыми коммунами, достигшими наибольшего успеха, руководили сектанты, например, Чуриков, прославившийся в 20-е гг. своим крестовым походом против пьянства, создал процветающую коммунальную молочную ферму под Ленинградом59.
В конце 20-х коллективные хозяйства вновь стали пользоваться вниманием властей, в них появилась современная техника, в некоторых — даже собственные трактора, они стали достигать большего экономического благополучия, нежели их предшественники. Но, увы, при более пристальном рассмотрении многие из них оказывались, с точки зрения советской власти, лжеколхозами. В Сычевском районе Западной области, например, группа торговцев и кулаков, внеся по 3000 руб. с человека, создала колхоз, приносивший значительную прибыль благодаря новейшей мельнице, работавшей на нефтяном двигателе; в Рославльском районе на базе бывшего помещичьего имения был образован колхоз «Коминтерн» под руководством бывшего управляющего. Газеты 20-х гг. часто упоминали еще один тип лжеколхозов — «святые» колхозы, возникавшие на землях бывших женских и муж-
52
ских монастырей, члены которых на поверку оказывались бывшими монахинями и монахами. В одном таком колхозе, сумевшем даже получить государственный кредит на устройство птицефермы, по сообщению газеты, монахини -«хищнически эксплуатировали» наемных работников60.
В 1928 г. советские руководители впервые повели среди крестьян активную пропаганду коллективного хозяйствования, убеждая их вступать в существующие колхозы, которые часто располагались в бывших помещичьих или церковных владениях и земли которых примыкали к землям сельчан. Прогресс в этом деле был сравнительно невелик, поскольку крестьяне должны были вступать в колхоз добровольно, по принципу «двор за двором». Впрочем, намеченные в данной области планы первой пятилетки, начавшейся в 1929 г., тоже были довольно скромны: предполагалось, что к концу ее будут коллективизированы менее 15% крестьянских хозяйств61.
Крестьяне заявляли властям, что им нужно время, чтобы посмотреть, как работают колхозы, и убедиться в их преимуществах. «Мы, конечно, не против сплошной коллективизации, — говорили они, — но вступать в колхоз пока воздержимся». Однако трудно поверить в искренность подобного дипломатического ответа. Обследование сельсоветов Шахтинского района, предпринятое в конце 1929 г., принесло много неприятных открытий относительно степени готовности местного населения к проведению коллективизации: «Тяги в колхозы нет», «Вопрос о сплошной коллективизации прорабатывался, но население отказывается идти в колхозы», «Настроение против колхозов — общее, даже у бедноты»62.
Между тем продолжавшийся между крестьянами и государством конфликт из-за хлебозаготовок порождал напряженность и насилие в деревне. Не то чтобы там разразилась настоящая классовая война между кулаками и беднотой, как обычно заявляли советские историки, но даже более или менее воображаемая классовая борьба, придуманная коммунистами, производила вполне реальное разрушительное действие. Организуйте меры против кулаков так, чтобы они проводились «в порядке инициативы снизу (курсив мой. — Ш.Ф.), от бедноты», инструктировали райкомы партии местных должностных лиц, и даже такие надуманные инициативы вносили раскол в деревню. Крестьяне на Урале жаловались: «Собраний бедноты собирать не надо, а то они вносят размычку среди крестьянства»^.
Напряженность отношений в повседневной жизни села может проиллюстрировать самый обыденный инцидент, произошедший в далеком уральском селе весной 1929 г. Сельская беднота и крепкие хозяева справляли Пасху раздельно. Все напились. Один бедняк, недавно вступивший в коммунистическую партию, отправился с бутылкой в руке на тот конец, где жили зажиточные сельчане. Один из них вышел и стал оскорблять бедняка, называя его
53
«бумажным коммунистом». Тот ударил обидчика бутылкой по голове64.
Признанные кулаки — те, кого считали таковыми в деревне или кого занесли в списки кулаков местные избирательные комиссии, — оказались в положении прокаженных, остальные крестьяне сторонились их, боясь прослыть подкулачниками. Зажиточные крестьяне (тип «крепкого хозяина») все больше беспокоились, как бы их не объявили кулаками. Крестьянские активисты сталкивались с растущей враждебностью со стороны односельчан, возлагавших на них вину за жестокость, с какой государство проводило хлебозаготовки. Некоторые бедняки из категории «лодырей» помогали властям отыскивать утаенное зерно, чтобы получить долю от конфискованного, другие изобретали собственную тактику вымогательства, вроде той, о которой сообщали в начале 1930 г. из Западной области: «Если ты не дашь мне 20 руб., я тебя обложу индивидуальным налогом, конфискую все твое имущество и тебя выселю как кулака, ты ведь знаешь, что я активист-колхозник и что хочу, то и сделаю»65.
На выборах в сельские советы, состоявшихся в начале 1929 г., статус бедняка значительно чаще, чем когда-либо прежде, служил наилучшей рекомендацией для выдвижения кандидата. Число крестьян, лишенных избирательных прав как кулаки, росло, вместе с тем росло и количество зарегистрированных жалоб на неправильное определение классовой принадлежности. Хотя выборы проводились под контролем сверху и списки кандидатов составлялись заранее, все-таки оставалась возможность высмеивать и отводить кандидатов, бойкотировать выборы. В советской печати появились зловещие сообщения о создании политических альянсов между кулаками и середняками, кулаками и попами, кулаками и сектантами в разных регионах страны. Смутьяны выступали на избирательных участках «с карикатурами и пародиями» на кандидатов, размахивали собственными лозунгами, сравнивающими «лодырей и нищих» из официального списка с «хозяйственными, самостоятельными» крестьянами, которых напрасно чернят большевики. Распространялись антисоветские листовки, и один комментатор отмечал, что гораздо чаще, чем в прошлом, приводились доводы, оперирующие понятиями ума и компетентности («Почему я богатый? Значит, умный. А раз умный, могу и советом править умно»66).
Уровень преступности в деревне в течение 1929 г. был необычно высок: за девять месяцев было зарегистрировано больше тысячи преступлений, совершенных «классово чуждыми элементами», в том числе 384 убийства и более 1400 поджогов. Эскалация насилия началась летом и достигла своего пика осенью в сезон хлебозаготовок. Почти ежедневно в печати появлялись сообщения о нападениях на сельских должностных лиц, коммунистов и сельских активистов и об их убийствах. Главной мишенью служили председатели и секретари селдьсоветов, а также члены заготови-
54
тельных отрядов. Шолохов рассказывал, что в июне на Дону впервые со времен гражданской войны появились вооруженные банды. К концу года такие же банды были замечены и в Сибири67.
По материалам, печатавшимся в октябре «Беднотой», газетой сельских активистов, можно выделить несколько категорий насильственных преступлений. К первой категории относились преступления против представителей советской власти, бывших в деревне чужаками. Подобные деяния могли совершать озлобленные кулаки либо другие крестьяне, которых подговаривали и направляли кулаки. На Украине, к примеру, один кулак, как сообщалось, после того как у него конфисковали имущество за неуплату сельхозналога, напал с топором на милиционера. В Калуге кулаки избили двух советских пропагандистов, присланных из города. Остальные жители села не реагировали на их крики о помощи. В конце концов, обоих раздели догола и оставили на дороге, предупредив: «Беги, не оглядывайся, а то застрелим»68.
Вторая категория — преступления против местных советских активистов. Например, в Среднем Поволжье члена сельсовета Анастасию Семкину убили, а тело сожгли. В Центральном промышленном районе местный крестьянин А.Н.Борисов, председатель сельсовета, был убит выстрелом через окно, очевидно, в отместку за действия против кулаков. По сообщению газеты, «тов. Борисов был настолько популярен и любим крестьянством, что отдать ему последний долг собралось почти все население шести окружающих сел и деревень. За гробом шло 2000 душ»69.
Третью категорию составляли нападения на бедняков, доносивших властям на других крестьян. В Сибири один бедняк был убит за то, что рассказал представителям власти, кто из его односельчан прятал зерно. В Грузии кулак, при одобрении остальных жителей села, ночью убил и тайно захоронил бедняка по фамилии Папашвили. После смерти Папашвили был объявлен «активистом», однако ничего конкретного о его деятельности не говорилось. Вероятно, он тоже являлся осведомителем70.
Помимо прямого насилия деревенские активисты подвергались общественному остракизму. В одной деревне Иркутской области два активиста, Климентьев (коммунист) и Вакуленко, стали объектами сильнейшего негодования со стороны односельчан. После того как разнесся слух, будто Климентьев предлагает снести местную церковь, сельчане задумали его убить, но отказались от этой мысли по настоянию местного учителя. Вместо этого был созван сельский сход, и крестьяне проголосовали за то, чтобы исключить Климентьева и Вакуленко из общины и запретить им пасти свой скот на общинных выгонах. Климентьев, заявлялось в постановлении общины, исключается за то, что «вступил в партию, не крестил ребенка, снял иконы и сжег их». Причина исключения Вакуленко формулировалась коротко и ясно: «За активную советскую работу»71.
55
Жесточайшие конфликты вспыхивали в деревне в связи с созданием колхозов. Осенью 1929 г., когда члены нового колхоза в Западной области вышли пахать, «явилась на месте работы толпа женщин, вооруженная топорами, вилами, кольями, и совершили нападение на колхозников: избили одного колхозника и жену председателя, уничтожили 12 плугов, попортили упряжь, одной лошади выбили глаз». По словам представителей власти, расследовавших этот случай, нападение было спланировано и организовано кулаками, наблюдавшими за побоищем из укрытия поблизости".
«Наступил героический период нашего социалистического строительства», — восклицал раскаявшийся оппозиционер Г.Л.Пятаков в октябре 1929 г.73. Подобно прежнему «героическому периоду» гражданской войны, то было время, когда даже наиболее разумные и здравомыслящие люди в партии поддавались общему поветрию и начинали верить в рай земной, ожидающий за ближайшим углом. Юные энтузиасты-комсомольцы в исступлении кидались в атаку, разоблачая правых оппозиционеров и классовых врагов, наводя страх на бюрократов, ломая все, что они считали наследием старого мира. Жажда немедленных революционных перемен становилась все сильнее из-за неустройств и нестабильности в реальной повседневной жизни: кругом не прекращались слухи о скорой войне, коммунисты и государственные служащие трепетали под бдительным оком комиссий по чистке, в городах уже вводились карточки на продукты питания и другие основные товары.
Во второй половине 1929 г. начали происходить некоторые важные процессы. Во-первых, ускорился темп коллективизации. За четыре месяца (с июня по сентябрь 1929 г.) число колхозов, составлявшее в начале этого периода 1 млн, почти удвоилось. В некоторых важных зернопроизводящих районах местное руководство рапортовало о необычайных успехах в деле коллективизации: например, на Северном Кавказе к концу лета были коллективизированы 19% крестьянских хозяйств, на Нижней Волге — 18%. В ноябре один район на Нижней Волге заявлял, что там коллективизированы более 50% хозяйств. «Реальность превосходит все наши планы!» — ликовал один высокопоставленный руководитель, ответственный за коллективизацию сельского хозяйства74.
Эти чрезвычайные достижения отчасти объясняются тем, что областные и районные руководители с удвоенным рвением взялись за дело и нажим коммунистов на крестьян усилился: элемент добровольности при объединении в колхоз практически исчез. Вместо того чтобы спрашивать крестьян: «Кто за коллективизацию?» или хотя бы: «Кто против коллективизации?», власти задавали грозный вопрос: «Кто против советской власти?»75
Существовала и другая причина успеха кампании коллективизации: местные руководители нашли превосходный способ сокра-
56
тить путь. Они перестали убеждать отдельные дворы вступить в колхоз, как делалось раньше, и завели обычай записывать туда одним махом целые деревни — т.е. превращать существующую общину в колхоз с помощью простой процедуры голосования76. При этом в повседневной жизни села могло не происходить никаких резких перемен, зато в официальных отчетах появлялись внушительные цифры. Рассказывали даже истории о городских пионерах, отправлявшихся в то или иное село, произносивших зажигательную речь на сходе и затем торжественно объявлявших: «Я его коллективизировал!»
Несмотря на то что новая стратегия предоставляла широкие возможности для очковтирательства, она имела существенное значение. Раньше крестьяне, вступавшие в колхоз, считались по сути отделившимися: решение вступить в колхоз само собой подразумевало решение выйти из общины. Новая стратегия лишила коллективизацию этой черты. Более того, если большинство членов сельской общины записывалось в новый колхоз, а меньшинство не соглашалось это сделать, то уже это меньшинство невольно оказывалось в положении отделившихся.
Еще один важный момент заключался в том, что во второй половине 1929 г. участились случаи экспроприации кулаков местными властями (раскулачивания). Центр пока еще не провозгласил политику массового раскулачивания, но было ясно, что, несмотря на неоднократно повторявшиеся за последние два года заверения коммунистических лидеров, будто у партии нет таких намерений, идея радикального решения «кулацкого вопроса» носилась в воздухе. Отдельные случаи экспроприации имели место в связи с хлебозаготовками, и правительство поддержало эту тенденцию, санкционировав указом от 28 июля 1929 г. конфискацию и продажу с торгов имущества кулаков, являвшихся «злостными саботажниками хлебозаготовок». В течение 1929 г. секретариаты Калинина и Сталина получили не меньше 90000 жалоб крестьян на противоправные, произвольные и насильственные действия, совершенные по отношению к ним, в том числе и на раскулачивание'7.
Новая стратегия коллективизации придала еще большую актуальность проблеме: что делать с кулаками? В частности, во всей остроте встал вопрос о том, могут ли кулаки вступать в колхоз. Ведь они являлись членами сельской общины. Если колхоз создавался на основе общины, то существовала возможность, что кулаки автоматически войдут в него и захватят власть в новой структуре так же, как раньше захватили власть в общине. С точки зрения большевиков, такой оборот событий был крайне нежелателен, но придумать подходящую альтернативу было трудно. Нельзя же сослать всех кулаков «на пустующие окраины либо на необитаемый остров», как саркастически предлагал один высокопоставленный руководитель сельского хозяйства летом 1929 г.78. Или все-таки можно? Этот невысказанный вопрос все больше занимал умы коммунистов.
57
Следует упомянуть еще один момент — быстро набиравшую обороты антирелигиозную кампанию, связанную в первую очередь с деятельностью комсомола. Комсомольцы, к негодованию верующих, устраивали на улицах городов во время Пасхи шумные и многолюдные антирелигиозные «карнавалы». Осенью газеты поместили ряд тревожных репортажей о раскрытых ОГПУ антисоветских заговорах, в которых принимали участие церковники и сектанты. Были также сообщения о конфликтах, вспыхивавших в деревне в ходе проведения хлебозаготовок и коллективизации, где главную роль играли попы и верующие: например, в одном селе Ивановской области разъяренная толпа под предводительством «попов и кулаков» пыталась устроить самосуд над местными коммунистами и комсомольцами, после того как те захотели распахать старое кладбище и пронесся слух, будто они оскверняют могилы и собираются закрыть церковь'9.
Участились случаи закрытия церквей в городах по инициативе местных городских властей наряду с довольно нелепой кампанией по переплавке колоколов «на нужды индустриализации». На Украине в деревню из города хлынули толпы юных энтузиастов, снимавших колокола с сельских церквей. Кульминацией антирелигиозного движения явился экстраординарный эпизод, произошедший в Донбассе, в Горловке, в декабре 1929 г. Там на площади были торжественно сожжены 4000 икон, причем на улицах плясала и веселилась толпа шахтеров, насчитывавшая 15000 — 18000 чел.80.
СЛУХИ О КОНЦЕ СВЕТА
По мере того как ускорялся темп коллективизации и росла напряженность, слухи наводняли деревню81. Говорили, что близится день Страшного Суда, что на земле уже появились посланцы Антихриста, что с неба упала книга, в которой крестьянам запрещается вступать в колхозы. Когда в один сельский район под Псковом прибыл для проведения коллективизации отряд рабочих, протестанты возвестили, что это явился Антихрист, чтобы «насаждать дьявольские гнезда» и «ставить дьявольские клейма» на крестьян. В Западной области коллективизаторы прослыли посланцами Антихриста, которые «обещают лучшую жизнь и записывают в пекло»82.
В тех же апокалиптических терминах российские крестьяне более двух столетий назад выражали свой страх и негодование по поводу реформ Петра Великого. Однако не все слухи конца 20-х гг. нынешнего столетия укладывались в традиционную схему. Мы можем обнаружить в «народной молве» того времени большое разнообразие сюжетов и оборотов речи. Одни слухи брали за основу Апокалипсис, другие использовали образы русских сказок и
58
народных предании, а третьи — отражали лексику советских газет и даже их содержание: в некоторых слухах, касающихся политики и международных отношений, определенно прослеживается отпечаток марксистского мировоззрения.
В разговорах о коллективизации выдвигались различные гипотезы, объясняющие действия государства. Одна гипотеза предполагала, что коллективизация — результат сделки между Советским правительством и правительствами других стран, предоставивших убежище экспроприированным землевладельцам, возможно, это первый шаг к возврату бывшим владельцам земель, захваченных в 1917 — 1918 гг., или даже к возвращению крестьян в дореформенное положение крепостных. В Великих Луках летом 1929 г. крестьяне говорили, будто коллективные хозяйства создаются, потому что бывшие землевладельцы, находящиеся в эмиграции, поставили Советскому правительству ультиматум: их имения должны быть восстановлены и возвращены им, «иначе все государства пойдут на Россию войной». Даже в 1931 г. в Ленинградской области ходил подобный слух: «Колхозы потому организуются, чтобы восстановить хозяйства помещиков, после чего явится барин и будет хозяйничать»83.
Повод к таким слухам, по-видимому, в какой-то степени подало сообщение (опубликованное в советской печати в 1928 г.) о письме князя П.П.Волконского из Парижа, в котором тот подтверждал претензии на свои бывшие поместья в Рязанской губернии. Письмо было прочитано на митингах бывших крестьян этих поместий и вызывало, по словам газет, проклятия и возмущенные протесты84. Можно усмотреть также менее непосредственную связь упомянутых слухов с широко публиковавшимися материалами шахтинского дела 1928 г., где утверждалось, будто руководители промышленности замышляли вернуть некоторые предприятия бывшим владельцам под видом концессий.
Существовала еще одна гипотеза, что коллективизация, конечно, задумана в интересах прежних землевладельцев, но инициаторами ее являются бывшие помещики, пробравшиеся в советский государственный аппарат и добившиеся большого влияния в Наркомате земледелия85. Тут развивалась очень модная в советской печати конца 20-х гг. тема «классовых врагов» среди специалистов государственного аппарата, использующих свое положение, чтобы манипулировать коммунистами и извращать политику партии.
Технологический аспект коллективизации вызывал массу комментариев. Крестьяне, как правило, с подозрением относились к новым технологиям: на Украине осенью 1929 г. появление первых тракторов порой встречали со злобой. Подозрения выливались в самые разные формы, как архаические, так и вполне современные. По одним слухам, относящимся к архаическому типу, аббревиатура МТС расшифровывалась так: «Ммр топит сатана. Не ходи в колхозы». В других — содержалось довольно разумное
59
предположение, что новые МТС являются функциональным эквивалентом прежних поместий: они должны «закрепостить население, превратить хлеборобов в рабов». Были также слухи, очевидно, обязанные своим возникновением поддерживаемой большевиками популяризации научных знаний, будто «трактор отравляет землю своими газами и через 5 — 10 лет земля перестанет родить»86.
Аэропланы, вызывавшие огромный интерес в Советском Союзе в 20-е гг., так же как в Германии и США, фигурировали и в некоторых слухах по поводу коллективизации. Было предположение, будто они служат для сбора информации о посевах, которая позволит государству увеличить планы хлебозаготовок: в Думи-ничском районе крестьяне говорили «о том, как через их местность пролетал аэроплан, который засеял все крестьянские поля, и государство узнает, сколько в их районе будет хлеба, а летал он здесь, потому что коммуна организована, а поэтому надо эту коммуну ликвидировать»87.
Другие слухи, связанные с авиацией, представляли аэроплан чудо-птицей, которая избавит «настоящих крестьян» от самозванцев-колхозников: «Колхозники, мол, все безбожники, они колокола с церквей будут снимать и будут грабить все, что найдут, у настоящих крестьян. И это, вишь, только травят колхозников с крестьянами, а после этого всех колхозников посажают на аэроплан и увезут на Соловки...»88
Страх перед угрозой, которую несла коллективизация традиционному укладу крестьянской жизни, выражала настоящая эпидемия истеричных рассказов о том, что все колхозники будут якобы спать под одним одеялом, что жены у них будут общие, что колхоз «сошьет одну ватную курточку на всю семью и заставит ходить в ней, как арестантов» и т.д. Мельница слухов производила и некоторые рецепты возможных способов сопротивления, например: «Зачем сеять, если всему скоро конец?» Раздавались порой довольно трезвые оценки и прогнозы: «В колхозе сидят на голодном пайке, а все излишки отбирает государство»; «В колхозах будут введены розги и палки»89.
2. Коллективизация
ВАКХАНАЛИЯ
В начале 1930 г., зимой, когда крестьяне обычно не работали и сидели по домам, буря, подготовлявшаяся почти два года, наконец разразилась с неистовой силой. Вдохновленные Сталиным, заявившим в декабре, что пришла пора приступить к «ликвидации кулачества как класса», коммунисты и комсомольцы толпами хлынули на село, чтобы разделаться с кулаками, коллективизировать деревню, закрыть церкви и вообще втащить отсталое крестьянство за шиворот в социалистический двадцатый век. В основе действий этих воинствующих модернизаторов, разглагольствующих, запугивающих, арестовывающих непокорных, лежал незамысловатый принцип: либо вступайте в колхозы, по сути говорили они крестьянам, либо рискуете оказаться в числе кулаков и отправиться на Соловки или в Сибирь.
Крестьяне, со своей стороны, отвечали плачем, стенаниями и всякого рода пассивным сопротивлением исподтишка, но в целом проявляли покорность судьбе, записывались в колхозы, не находя другого выхода и не поднимая открытого мятежа. Конечно, многие видели в колхозах возврат к крепостному праву, но это было, по крайней мере, знакомое зло, к тому же данное зло они переживали все вместе, сообща, а не предоставленные самим себе, как несчастные кулаки. Высылка кулаков вызывала у некоторых крестьян сочувствие, но большинство относилось к ней равнодушно (или с тайной надеждой получить в конечном итоге больший кусок пирога?). Самое худшее в раскулачивании было то, что оно носило неупорядоченный, произвольный характер: кто угодно мог пасть жертвой несчастного стечения обстоятельств или чужой злобы, хотя, конечно, одни подходили на эту роль гораздо больше, чем другие.
В беспримерном наступлении на вековые крестьянские ценности и традиции, которое велось в течение января и февраля 1930 г., по всей видимости, наибольшее возмущение вызывала атака на религию. Однако не стоит заблуждаться: вряд ли крестьяне долго сохраняли вновь обретенную демонстративную приверженность к православной церкви. Чаще всего они скоро переставали соблюдать обряды, выказывали равнодушие или ударялись в сектантство. Просто это была самая надежная почва для сопротивления коммунистам (ибо в данной области последние могли иногда позволить себе отступить, и порой так и делали), а может быть, крестьяне считали благоразумным, заявляя свой про-
61
тест, уладить таким образом отношения с Богом на случай, если тот все-таки собирается обрушить громы и молнии на богохульников и нечестивцев.
Коллективизация
Четких инструкций по проведению коллективизации не было. Распоряжение правительства провести в некоторых областях «сплошную коллективизацию» показывает лишь назревшую неотложность задачи, однако никто не объяснил, какую форму коллективного хозяйства желает создать советская власть, не говоря уже о том, как этого достичь. Политбюро утвердило подробный примерный устав сельскохозяйственной артели только 1 марта 1930 г., в тот самый день, когда первый оголтелый натиск коллек-тивизаторов был остановлен статьей Сталина «Головокружение от успехов». Даже тогда Политбюро не сказало открыто — если вообще имело это в виду, — что колхоз должен создаваться на основе прежней сельской общины. В результате полные энтузиазма местные руководители заболели «гигантоманией», стремясь, чтобы коллективные хозяйства были как можно больше и лучше (на бумаге), и это гораздо сильнее вредило делу, чем если бы их планы были теснее связаны с реальностью.
То, что центр не дал надлежащих инструкций по проведению коллективизации и раскулачивания, нельзя рассматривать как обычный просчет. Скорее, это представляется определенной стратегией, главной целью которой было заставить местные кадры стремиться сделать максимум возможного и тем самым достичь быстрых результатов, а заодно и узнать пределы этого максимума. Руководители на местах, из кожи вон лезшие, чтобы коллективизировать сельское хозяйство в своем районе, могли не знать, что в сущности означает коллективизация, но они отлично знали, что при ее проведении «лучше перегнуть, чем недогнуть» (как для их собственной карьеры, так и для дела). Знали они и то, что, соблюдая букву закона, революционных социальных перемен не достигнешь. Руководитель Колхозцентра так напутствовал свою армию перед великой битвой: «Если в некотором деле вы перегнете и вас арестуют, то помните, что вас арестовали за революционное дело»1.
Как заявлялось в передовице смоленской областной газеты в январе 1930 г., коммунисты, проводящие коллективизацию и раскулачивание, не должны хныкать и спрашивать центр, как им выполнять поставленные задачи, ибо это — признак «правизны». Подобная «тенденция мягкотелости, примиренчества, попытка отсрочивания практического проведения в жизнь политики ликвидации кулачества» является «главной опасностью» в настоящее время — т.е. это считалось большей опасностью, чем любые
62
ошибки, проистекающие от чрезмерного рвения, воинственности и спешки2.
Такой метод, дававший коммунистам полную волю следовать собственной интуиции, характерный для менталитета пролетарской Культурной Революции, в значительной степени объясняет хаотическую смесь тяги к насилию, пылкой убежденности и утопизма, проявляемых коммунистической стороной в возникшей конфронтации. Это, конечно, объясняет и то, почему было сделано так много вопиющих ошибок (неверно оценивались как реальные возможности, так и намерения партийной верхушки). Не имея четких инструкций относительно природы колхозов, которые они должны были организовывать, местные руководители зачастую предпочитали форму коммуны, где обобществлялось все и даже трапезы происходили совместно, всем прочим менее радикальным формам. Порой они даже ухитрялись превзойти обычную для коммун 20-х гг. степень обобществления имущества: в одном уральском районе одежду обобществили тоже, и крестьяне должны были, выходя на работу в поле, брать какую придется одежду из общей кучи, «что вызвало недовольство среди колхозников»3.
Коллективизаторы часто старались обобществить в крестьянских хозяйствах все вплоть до поросят и кур, считая, что их заслуга будет больше, если они отрапортуют, что создали коммуну, а не артель. В Татарской республике некоторые призывали обобществлять «все, кроме домов». Тот же максимализм заставлял некоторых руководителей утверждать, что крестьяне, с тех пор как они вступили в колхоз, не вправе иметь личные приусадебные участки или продавать продукцию с этих участков на рынке, и даже отрицать законность существования самих крестьянских рынков. В целом ряде мест Центрально-Черноземной области зимой 1929—1930 гг. рынки и базары, как сообщалось, были закрыты административным распоряжением4.
Не только работники районных и сельских советов принимали самое активное участие в коллективизации. Для этой кампании проводилась широкая мобилизация городских коммунистов, комсомольцев, рабочих и студентов, командировавшихся в село кто на краткий, кто на долгий срок. Преимуществом этих людей было то, что они не имели никаких местных связей, а недостатком — то, что они чаще всего ничего не знали ни о деревне, ни о сельском хозяйстве. С точки зрения крестьян, все они были «чужаками». Некоторым из них была доверена серьезная, долгосрочная миссия, например, «25-тысячникам» — рабочим-добровольцам с крупных предприятий, из числа которых вышли многие колхозные председатели первых лет коллективизации. Другие являлись обычными сорвиголовами «комсомольско-хулиганского» типа, обуреваемыми жаждой действия (обычно заключавшегося в том, чтобы пить и громить церкви).
63
Порой в одну и ту же деревню наезжали несколько разных бригад и оставались там неделями. Одна женщина, специалист по дошкольному образованию, мобилизованная в такую команду, рассказывала, что ее бригада, представлявшая Ленинградское отделение Союза научных работников, оказалась в некой деревне Псковского района одновременно с другой бригадой — с завода «Красный Треугольник». По меньшей мере 18 человек собирались каждую ночь, еще больше приходили днем, и несколько ошеломленные сельчане покорно кочевали с собрания на собрание и с них — на лекции по таким далеким от происходивших событий предметам, как наука и устройство детских садов: «Как объясняли мне, они боятся что-нибудь пропустить, как бы без них чего не решили, а кроме того, сейчас время свободное (поскольку была зима. — Д/.Ф.)...»5
Собрания представляли собой существенный момент начального процесса коллективизации. Как мы увидим дальше, в зимнюю кампанию 1929 — 1930 гг. принципу добровольности придавалось не слишком много значения, тем не менее, как и во многих других случаях взаимоотношений коммунистов с крестьянами, коммунисты ревностно заботились о соблюдении демократической формы. Это означало, что крестьян нужно было всеми правдами и неправдами убедить поставить подпись под документом о коллективизации. Отсюда и бесконечные собрания всей сельской общины (за исключением кулаков, объявленных недостойными вступления в колхоз), продолжавшиеся по многу часов изо дня в день. Коммунисты объясняли, упрашивали, угрожали до хрипоты, стараясь заставить крестьян проголосовать за колхоз. Крестьяне иногда слушали молча и скептически, но нередко спорили, выдвигали возражения или пытались найти такую форму согласия, которая на деле ни к чему бы их не обязывала.
На этих собраниях крестьяне демонстрировали все свое мастерство в тактике уклончивости и проявляли чудеса изобретательности. Сообщалось о множестве разных уловок, позволявших прервать собрание, прежде чем от собравшихся потребуют подписи. В решающий момент врывались старухи, распевающие «Христос воскрес». Печи начинали нещадно дымить. Кто-нибудь прибегал с известием, что в соседней деревне пожар. Или, для разнобразия, еще пример: «Вбегают ребятишки с криком: "Дяденька, дяденька, вашу лошадь угнали". Все присутствующие словно по команде выбегают на улицу. Собрание срывается»6.
Временами эта уклончивость принимала явно издевательский оттенок. Например, крестьяне, казалось, были счастливы записаться в колхоз — и в последнюю минуту отказывались. В одном селе бригада городских рабочих, приехавшая провести собрание по поводу коллективизации, обрадовалась было, когда сельский исполнитель «привел организованную группу в 25 крестьян, которые шли с пением революционных песен, но на собрании все выступали против коллективизации...»7
64
Много было подобных примеров издевательства крестьян над представителями власти, в особенности городскими чужаками. В одном селе Ленинградской области сельский сход принял ряд постановлений по поводу коллективизации — непогрешимо просоветских по форме, однако отрицательных, а не положительных по содержанию. В Таганрогском районе собрание бедноты и середняков проголосовало следующее постановление: «В колхоз не пойдем, семфондов сдавать не будем, т.к. задавили хлебозаготовки, но решение сплошной коллективизации приветствуем»8.
Коллективизаторы использовали разного рода угрозы, пытаясь заставить крестьян вступить в колхоз. Наиболее обычным было предложение выбирать между двумя альтернативами: записаться в колхоз или быть высланным в качестве кулака. Так, один председатель райисполкома на Урале объезжал сельсоветы в сопровождении начальника районной милиции и говорил крестьянам: «Кто в колхоз — записывайся у меня, кто не хочет — у нач. милиции» (двенадцать человек, отказавшиеся вступить в колхоз, были арестованы тут же на месте)9.
Альтернативы, предлагавшиеся другими коллективизаторами, мало отличались от вышеприведенной: в колхоз или на Соловки; в колхоз или в Нарым. В одном селе Центрально-Черноземной области10 представитель райкома отдал приказ, чтобы все крестьяне вступили в колхоз в течение 24 часов. «Лодыри», обещал он, даже если они бедняки или середняки, предстанут перед революционным трибуналом. И это была не пустая угроза: много было известно случаев, когда крестьяне, отказывавшиеся вступить в колхоз, действительно арестовывались или заносились в список на высылку как кулаки11.
Порой коллективизаторы даже размахивали на собраниях револьверами, угрожая застрелить отказывающихся вступать в колхоз^. В одном селе крестьян терроризировали ночными вызовами в сельсовет, где их иногда задерживали на несколько дней. Очевидец писал в органы власти:
«Ночными вызовами, арестами и угрозами люди были доведены до крайней степени затаенного страха. Я видел, как издевались над народом местные заправилы Берсенев, Копылов, Рябцев. Они говорили: "Горе вам, не подчиняющимся нам". Никто не смел жаловаться, ибо за жалобы жестоко расплачивались»13.
В другом районе поступали несколько мягче:
«"Коллективизаторы" ходили по дворам с оркестром. Вызывали на улицу крестьян. Если он соглашался вступить в колхоз, оркестр играл бравурный туш, если отказывался — капельмейстер взмахивал своей палочкой и медные трубы устрашали нерешительного единоличника — "похоронным маршем"»14.
Местные власти использовали в качестве средств убеждения прямое насилие и унижения, хотя в разных местах — в разной степени. Чудовищный случай был на Урале (этот регион вообще отличался высокой степенью насилия при проведении коллективи-
3 — 1682 65
зации): коллективизатор из района вызывал отдельных крестьян на допрос по поводу их отношения к колхозу, и там их «били кулаками, прижигали папиросами тело, ставили на колени, выдергивали бороды, инсценировали расстрел». Часто сообщалось о том, как непокорных крестьян сажали «в холодную». Одну женщину схватили, когда она только вышла из бани, с мокрыми волосами, и потащили на допрос. Во время допроса «у нее коса замерзла в сплошную сосульку»15.
Коллективизаторы придумывали самые разнообразные унижения, например, заставляли крестьян раздеваться и пить воду из ведра, словно лошади. Поразительно, какую важную роль, судя по слухам, в этих издевательствах играли волосы. Один уполномоченный из района, как говорили, выдирал у крестьян клочья волос из бород, насмешливо восклицая: «Вот утильсырье — это заграничный товар». Во время этой коллективизационной вакханалии произошел и еще более нелепый эпизод: убедив крестьян проголосовать за колхоз, группа коммунистов обрезала волосы у 180 женщин, объясняя это тем, «что волосы женщины носят зря, волосы можно продать, купить трактор, и тогда будем'пахать на тракторе»16.
Прием с раздеванием могли использовать обе стороны. Были случаи, когда должностные лица таким образом унижали крестьян, например, в Челябинске крестьянок подвергали личному обыску, заставляя раздеваться до сорочек в присутствии мужчин. А вот в Западной области такую своеобразную форму принял крестьянский протест. Когда представители власти ходили от дома к дому, описывая имущество перед коллективизацией, их «встретила у себя одна женщина совершенно нагой и говорила: "Ну-ка, описывайте"»17.
Местные власти, так заботившиеся о соблюдении демократической формы при записи в колхозы, как только подписи были получены, начинали творить произвол, безжалостно отбирая в колхоз лошадей и коров без всяких разговоров и даже без предупреждения: «Я пошла в ЕПО за керосином, вернулась домой, а корову за это время уже увели», — рассказывала одна крестьянка. Если хозяева запирали животных в хлеву, то, например, в одном уральском районе, «срывались замки и скот уводился силой», хотя женщины «с ножами и вилами» пытались остановить их1**.
Подобная манера забирать в колхоз скот у коллективизированных хозяйств несомненно несла на себе отпечаток метода принудительной конфискации, применяемого к хозяйствам раскулаченным. У некоторых отбирали семенное зерно, невзирая на возмущенные протесты крестьян, а иногда и другие ценности. На Урале один председатель сельсовета, «взяв 7 человек понятых, совершил налет на престарелых женщин коммуны, живущих в одном доме, отобрал 520 рублей денег и внес их в коммуну, написав заявление от имени старух, что деньги они вносят добровольно»19.
66
Результатом всего этого стал высокий (по крайней мере на бумаге) процент коллективизированных хозяйств за очень короткое время наряду с огромными потерями экономических ресурсов деревни. По официальным данным, к 20 февраля 1930 г. крестьянские хозяйства в Советском Союзе были коллективизированы на 50%, причем в Центрально-Черноземной области — на 73 — 75%. Однако крестьяне начали забивать и продавать скот, или боясь раскулачивания в том случае, если у семьи было две лошади либо две коровы, или не желая отдавать животных в колхоз даром. Бойни не справлялись с возросшей нагрузкой; и, хотя целый ряд организаций, в том числе Союз кооперативов и совхозы, покупали у крестьян скот и пытались сохранить поголовье, большое количество купленных животных пало из-за отсутствия надлежащего ухода, нехватки кормов и помещений20.
Раскулачивание
Массовую экспроприацию кулаков формально проводили специальные комиссии при сельсоветах, возглавляемые «работниками райисполкомов» (в том числе, по-видимому, представителями ОПТУ) и включавшие представителей сельсоветов, местных парторганизаций, а также деревенской бедноты и батраков21.
Когда Сталин на встрече с аграрниками-марксистами в декабре 1929 г. провозгласил политику «ликвидации кулачества как класса», составить списки на раскулачивание оказалось нетрудно (по крайней мере в принципе). Такие списки уже имелись в местных избирательных участках, поскольку кулаки находились среди лишенных права голоса на выборах в Советы. Но в рискованном положении были и многие лица, не попавшие в список лишенцев, — например, зажиточные середняки, экономически близкие к кулакам, или известные деревенские смутьяны (особенно те, кто выступал против коллективизации). «Кулачество и АСЭ настроены панически, — ежечасно ожидают своего выселения», — говорится в одном зимнем рапорте, сохранившемся в Смоленском архиве22.
Яркую картину положения пока еще не раскулаченных потенциальных жертв рисует письмо крестьянина Новгородской области родственнице, работающей на текстильной фабрике в Москве:
«Настя, дорогая Настя, у нас очень много неприятностей и дела очень плохи, имущество наше все описали, но голосу меня не лишили, и не знаю, выгонят меня из своего дома или нет... А брата Колю лишили голосу, и на 28 марта ночью приехали бригадники и отправили из своего дому со всей семьей неизвестно куда. Имущество и весь скот арестован, и не знаю, куда его денут. Наверно, беднота заберет этот скот. Беднота замучила весь народ, на кого захотят, на того и налепят, и им вся вера. Прошу тебя, Настенька, нельзя ли так куда сходить к начальникам
« 67
вашим и узнать право, если такое гонение народу. У нас в одну ночь 60 семей убрали, и неизвестно куда, так что и я беспокоюсь, и если меня выгонят, то придется мне с моим семейством умирать с голоду...
Дай мне, пожалуйста, поскорее ответ, мне самому к Вам приехать походатайствовать или сама разузнаешь. Я давно приехал бы, так мне не дают разрешения поехать куда-либо. У нас насильно принуждают в колхоз, но народ не желает, были записавшиеся, но опять выписались...»23
Комиссия Политбюро, возглавляемая В.М.Молотовым, в середине января наметила основные руководящие установки по раскулачиванию, включая распоряжение отправить около 60000 кулаков в «концентрационные лагери» и сослать 150000 кулацких семей на Север, в Сибирь, на Урал и в Казахстан. С этого момента за дело взялось ОГПУ, мобилизовав для выполнения гигантской задачи весь свой аппарат, призвав отставных чекистов из резерва и добавив своим войскам «1000 штыков и сабель». Директива ОГПУ требовала раскулачить 3—5% всех крестьянских хозяйств24.
На Средней Волге крайком 20 января принял план: немедленно арестовать 3000 человек и организовать массовую высылку до 10000 кулацких семей за период 5—15 февраля. (Вероятно, такова была стандартная процедура, потому что власти в Москве и Иваново поступали так же, хотя намечаемые ими цифры были несколько ниже.) 29 января, когда крайком собрал секретарей райкомов, чтобы дать им инструкции, собрание приняло повышенные обязательства: арестовать 5000 кулаков и выслать до 15000 семей25. В целом ряде мест планы были перевыполнены, в частности, Центрально-Черноземная область достигла невероятной цифры — там подверглись раскулачиванию 15% всех крестьянских хозяйств26.
По сообщениям очевидцев, в Западной области многие районные руководители считали, что чем больше хозяйств они раскулачат, тем лучше, и постоянно вносили в списки новые имена. Порой эти имена выбирались произвольно, вследствие личных счетов или чрезмерного внимания к социальному происхождению. Так, в списках на раскулачивание оказалось, без всяких к тому оснований (как выяснилось впоследствии), множество сельских учителей. С Урала сообщали, что активисты одного заводского поселка раскулачили старика, который при царской власти был деревенским жандармом, хотя у того не было «ни земли, ни лошади, ни коровы». Другие попадали в число жертв, потому что их отцы когда-то до революции или при Временном правительстве занимали какой-либо пост в местных органах власти27.
Любой, кто проживал в одном доме с кулаком, даже в качестве жильца или работника, подлежал раскулачиванию или, по меньшей мере, подвергался конфискации имущества, неизбежно сопровождавшей этот процесс. В Свердловском районе, например,
68
дочь батрака Клавдия Ушакова работала днем на сельской фабрике, а по вечерам — у кулака Белякова за жилье. Когда Белякова раскулачили, заодно конфисковали и все имущество Ушаковой28.
Иногда встречались такие жертвы, которых скорее выбрала бы в этом качестве деревня, нежели коммунистическая партия. В эту категорию попадали многие непопулярные сельские активисты (учителя, бывшие красноармейцы), как можно видеть из их удовлетворенных впоследствии жалоб на незаконное раскулачивание. В одном селе в список кулаков внесли местного вора — в точности так же, как в дореформенную эпоху деревня сдала бы его в рекруты29.
Первым шагом к раскулачиванию была опись имущества кулаков. Проводилась она с целью помешать кулакам распродать имущество, пока власти не соберутся конфисковать его, но, конечно, зачастую в результате вся семья или некоторые из ее членов тайком скрывались ночью из деревни. Описи сеяли панику и отчаяние. Вот один пример:
«В деревне Маслово Ржевского района комиссией произведена опись у 62-летней старухи-вдовы за то, что муж ее торговал еще в дореволюционное время и умер 25 лет тому назад. Эта старуха живет бедно. Дети работают на поденных работах, активные. В результате эта гражданка пришла в сельсовет, с плачем говоря: "Лучше застрелите меня на родине, куда я пойду, мне 62 года"»30.
Нередко опись и конфискация происходили одновременно — а иногда имущество конфисковали без всякой описи. Обычно бригаду по раскулачиванию составляли несколько работников районного или сельского совета, которым иногда помогали местные бедняки и комсомольские активисты. Порой участие в раскулачивании принимали рабочие из близлежащих городов; в Западной области, а возможно, и в других местах, к делу привлекали и военных из местных гарнизонов, однако районное руководство быстро отказалось от подобной практики. Даже без военных раскулачивающие, в особенности комсомольцы, любили изображать участников боевой операции и ходили по деревне, размахивая винтовками, «грозя людям, стреляя собак»31.
Бывали случаи изнасилований и другие акты немотивированного насилия. В Башкирии одна волостная партийная ячейка решила следовать «линии Троцкого» (sic!) и ликвидировать местных кулаков в течение пяти дней, «...для чего была организована ударная группа, именовавшаяся "красными фашистами"... Эти "красные фашисты" на самом деле превращались в уголовников, допускали бесчинства, пьянство, присваивали вещи раскулаченных и т.д.»32.
Предположительно раскулачивающие должны были конфисковывать кулацкие средства производства и передавать их в качестве основного капитала новым коллективным хозяйствам. На практике, однако, они частенько хватали все, что попадалось под руку, и оставляли у себя добрую часть отобранного. (Впоследст-
69
вии, когда некоторые жалобы на неправильное раскулачивание были удовлетворены и экспроприация жаловавшихся объявлена незаконной, один коммунистический руководитель признавался: «Мы имеем целый ряд случаев... когда имущество неправильно раскулаченных полностью не возвращается только потому, что находится в личном пользовании тех, кто раскулачивал»33.)
Иногда раскулачивающие даже не скрывали, что видят в конфискации санкционированное ограбление. Под Вязьмой «при дележке имущества, изъятого у кулаков Бухаринского района, одному гражданину достались кровать и диван; он лег на диване и говорил — "Поспал поп, теперь поспим мы"». При конфискации отбирали одежду, порой снимая ее прямо с крестьян, и потом ее носили раскулачивающие. Когда, к примеру, рабочие из Иваново раскулачивали одного мельника, одна работница сняла с его дочери теплую юбку со словами: «Довольно тебе ходить в ней, надо и мне походить». В деревне вблизи Козельска лица, проводившие раскулачивание, ходили в овчинных тулупах, конфискованных у двух кулаков. Если раскулачивающим случалось найти еду и напитки, они зачастую поглощали их тут же, на месте. В Вельском районе члены бригады по раскулачиванию у одного зажиточного крестьянина «забрали яйца и сварили яичницу». Другая сельская бригада, «раскулачивая» священника, нашла у него большое количество меда: «...тут же его съели; ели все. Вообще при раскулачивании в Станищевском сельсовете была установка: "пей, ешь — это наше"»34.
Разумеется, подобное поведение не оставалось незамеченным. Обо всех приведенных выше случаях кто-то сообщил в высшие инстанции, и они пополнили собой перечень «перегибов», о которых говорилось в мартовской статье Сталина «Головокружение от успехов», призывавшей остановить вакханалию коллективизации. Этим «кем-то» мог быть какой-нибудь сосед, решивший написать на местных руководителей донос вроде приведенного ниже (присланного из Пермской области):
«При раскулачивании гр. з. Ашапа Тимшина Ивана Андреевича [те, кто] производили раскулачивание, съели тут же мед, папиросы положили в карман, а тоже и серебряные часы в опись не были внесены и положены в карман милиционером Игошевым. Каким-то образом кулацкие часы с золотым ободком попали секретарю Ординского райкома партии тов. Останину...»35
О присвоении имущества раскулаченных писали очень много, а вот сообщения о том, что раскулачивающие за взятки вычеркивали некоторые имена из списков на раскулачивание, встречаются сравнительно редко36. Тем не менее, представляется весьма вероятным, что некоторые председатели сельсоветов (имевшие доступ к подобным спискам) предупреждали старых друзей, чтобы те успели вовремя скрыться из района.
Раскулаченные семьи, наряду с экспроприацией, подлежали высылке (первая и вторая категории — за пределы области, тре-
70
тья категория — за пределы района). Иногда решение о высылке принималось с соблюдением всех необходимых формальностей, см., например, резолюцию, принятую сельсоветом в Ленинградской области:
«Выселить из пределов Новосельского района, как незаконного эксплуататора земли, как кулацкое хозяйство, которое нажито в дореволюционное время кабальными сделками (заклад билетов на воспитанников, торговля, кабальный наем рабочей силы), как служившего во время прихода белых старостой сельского о-ва, как индивидуальное хозяйство, имеющее нетрудовой доход, как вообще социально опасный элемент, кулака Егорова В.И., а также членов его семьи: жену Екатерину Васильевну и сыновей — Семена, Василия и Ивана»37.
Однако зачастую в определении дальнейшей судьбы раскулаченных царила сплошная импровизация, а какие-либо принципы и правила придумывались уже задним числом. Раскулачивание почти всегда означало немедленное выселение раскулаченных из дома. Но что должно последовать за выселением, было уже не так ясно. Иногда раскулачивающим казалось достаточным забрать у кулака движимое имущество, ободрать со стен обои и выгнать его на улицу. Такое решение в самом скором времени создавало проблемы для всей деревни: «Эти раскулаченные ходят и бродят по улицам, огородам и нервируют крестьянскую массу». В одном районе Татарской АССР раскулаченные, оставшиеся тут же, по соседству, терроризировали сельчан, которые вынуждены были «ложиться спать одевшись и с вилами в руках» из страха перед ночными налетами. В ответ местные власти начали настаивать на высылке кулаков, даже если те принадлежали всего лишь к третьей категории. Некоторые такие кулаки сами в отчаянии просили хоть как-то решить их судьбу:
«14 фев. с.г. к пом. прокурора по Карачевскому району и в наш оперпункт приходило до 20 кулаков с вопросами "куда идти, дайте квартиру, арестуйте, избавьте от детей"»^8
Одним из способов решения проблемы был арест кулаков. Наряду с милиционерами и работниками ОГПУ аресты проводили районные чиновники, работники сельсоветов, председатели колхозов и вообще все члены бригад по раскулачиванию. Арестованных отправляли, часто без всяких сопроводительных документов, не только в местную тюрьму или отделение милиции, но даже в райсоветы. Прокуратура лихорадочно пыталась придать этому хаосу сколько-нибудь законную форму, добиваясь, чтобы на каждого арестованного было хотя бы заведено дело: «Имели место случаи, когда прокурора буквально "ловят" в 11 — 12 час. ночи на заседания для дачи заключения по делам, которые в ту же ночь подлежат отправке»39.
По некоторым сообщениям, крестьяне равнодушно относились к судьбе кулаков или даже горячо приветствовали раскулачивание. Бедняки в одних случаях являлись инициаторами раскулачи-
71
вания, в других — принимали в нем активное участие. Были села, где не только выносили постановления, призывающие к раскулачиванию, но и требовали смертной казни для кулаков. Один очевидец утверждал, что не заметил среди крестьян Западной области никаких признаков жалости к кулакам, лишь временами проявлялось некоторое сочувствие к их детям40.
Однако гораздо больше было рассказов о сочувствии кулакам. В нескольких случаях целые села ходатайствовали об освобождении своих кулаков. По донесениям ОГПУ, в одном селе большинство крестьян проголосовали против изгнания местных кулаков, «т.к. они не чувствуют обиды с их стороны». В другом селе беднота «вынесла постановление "восстановить в правах ликвидированных кулаков"». Один колхоз в Московской области отказался принять имущество раскулаченных, мотивируя это тем, «что чужого и не нажитого своим трудом ему не нужно». «Кто эти кулаки? — писал один крестьянин в начале 1930 г. в местную газету. — ...те, которые пользовались чужим трудом, теперь таковых нет у нас в деревнях... В деревнях теперь раскулачивают... тех тружеников, которые никогда чужой труд не эксплоатировали, а все время живя не батраком, а отходя в отхожий промысел... и непосильным своим трудом улучшали свое собственное хозяйство»41.
Порой сельчане оказывали активное противодействие высылке кулаков. В Викуловском районе на Урале, когда вывозили кулаков, собралась целая толпа, кричавшая: «Выселять кулаков не дадим, долой коммунистов, бей их, собак!» Освободив кулаков, собравшиеся вознамерились отомстить за их арест председателю сельсовета, но тот вовремя скрылся42.
Еще чаще случалось, что крестьяне плакали, когда увозили кулаков. «В Брянском округе, при прохождении через ст. Болва эшелона с 200 выселяемыми кулаками, в том числе и попами, последние пели похоронно-религиозную песню — "Волною морской", чем вызвали у собравшихся на станции зрителей жалость, часть которых плакала...» На деревенских посиделках в Мануйлово молодые кулаки играли на аккордеоне такие жалобные песни, что «заставили плакать и всю молодежь». В другом селе бедняки устроили кулакам, уезжающим в ссылку, настоящие проводы. Случаи пышных общественных проводов с непременной водкой, похожих на проводы рекрутов в прежние времена, отмечались и на Урале43.
Многие крестьяне, очевидно, смотрели на раскулачивание как на часть общего наступления на село. «Арестами и высылкой кулаков коммунисты стараются запугать остальных, чтобы никто не мешал строить колхозы и чтобы все крестьяне шли в колхозы». Часто можно было слышать мнение, что, как только разделаются с кулаками, наступит очередь середняков или всей крестьянской общины44.
72
Антирелигиозная кампания
Антирелигиозная кампания кое-где затронула деревню еще до нового года, особенно вблизи городов. Появился ряд сообщений о закрытии церквей или передаче их «под временные зернохранилища» после уборочной страды 1929 г. В одном заводском поселке Владимирской области в конце года местные «парни» организовали антирождественское карнавальное шествие, затем собрались на крыльце церкви, где шла служба, и стали швырять в дверь камни45.
Однако по-настоящему широко кампания развернулась в январе 1930 г., одновременно с раскулачиванием и коллективизацией. Остается неясным, кто дал распоряжение о ее проведении, если такое распоряжение вообще было; по всей видимости, происходившее в основном являлось результатом местной инициативы. Как выразился один очевидец, «наша Калуга была объявлена районом сплошной коллективизации, и тут же началось сплошное закрытие церквей»46.
Закрывая церкви, так же как и заставляя крестьян записываться в колхозы, коммунисты, как правило, настаивали на соблюдении демократических форм. Им было важно, чтобы местное население приняло резолюцию с требованием закрыть церковь. Однако добиться такой резолюции честными методами было еще труднее, чем заставить крестьян проголосовать за коллективизацию, так что нередко приходилось прибегать к недозволенным приемам. В одном уральском селе, например, коллективизаторы безуспешно пытались получить согласие схода на закрытие церкви. Тогда они сменили тактику:
«Ретивые организаторы пошли по домам спрашивать каждого в отдельности и под угрозой налогов за Церковь заставили подписываться каждого, в то же время церковного старосту выселили и лишили всего имущества. Местные хулиганы выбили в Церкви 17 окон, когда церковники пришли жаловаться в сельсовет, им ответили "у вас есть бог, вы ему и жалуйтесь, пусть он вас и охраняет, а мы же взыщем с вас за изломанные окна". На другой день... хулиганы вновь выбили несколько окон. А из попов сделали мучеников. У местного попа отобрали крест, а религиозных женщин вызывали в сельсовет, стращали налогами...»47
Со священниками, а также с раввинами, пасторами, муллами и прочими служителями культа, повсеместно обращались как с кулаками; в первые месяцы 1930 г. многие из них были арестованы, «раскулачены» и высланы. Один активист из Союза воинствующих безбожников жаловался на бригады коллективизаторов, не желающие советоваться с его организацией: «У нас совершенно самовольно производят аресты и высылки, а потом посылают нас — пойдите, успокойте нашу массу, взволнованную нашими действиями». Некоторые священники подвергались нападению местных хулиганов, как, например, на Урале, где «...к местному
73
попу в 12 часов ночи ворвались 3 хулигана под видом борьбы с религией, произвели в квартире погром, избили священника и его 48
В результате всего за несколько недель, в самый разгар кампании по раскулачиванию и коллективизации, в сельской местности было закрыто значительное количество — едва ли не большинство — действующих церквей. Так, например, в Спас-Деменском районе Западной области, насчитывающем около 50000 чел. населения, имелось 11 церквей; в указанный период закрылись все кроме двух, а несколько месяцев спустя сообщалось, что и в двух оставшихся невозможно проводить службы, так как священники уехали, а церковное имущество конфисковано^.
Союз безбожников имел мало отношения к развертыванию антирелигиозной кампании. Хотя его лидеры, с одной стороны, радовались, видя столь неожиданное массовое движение, с другой стороны, оно вызывало у них тревогу. Уже в конце января они выражали озабоченность по поводу неподготовленности кампании и отсутствия политического такта, проявившихся при закрытии церквей и снятии колоколов, неблагоприятного влияния таких действий на темпы коллективизации и, конечно, по поводу того, что вся кампания проходит без какого бы то ни было руководства со стороны Союза. Ярославский заявил на собрании Союза безбожников в марте: «Перед нами налицо громадное антирелигиозное движение, идущее снизу. Нам нужно прямо сказать, что мы организационно этого движения не охватываем... например, закрытие церквей, снятие колоколов — все это произошло без всякого участия Союза Воинствующих Безбожников»50.
Большинство очевидцев называли инициаторами подобных действий комсомольских активистов. Обычно в сообщениях не говорится достаточно отчетливо, были ли эти молодые люди местными или приехавшими из города, однако наверняка среди них находились городские комсомольцы, посланные своими ячейками на село помогать проводить коллективизацию. Карнавальное исступление, с каким они кидались в атаку на церковь, рвение, с каким святотатствовали и богохульствовали, и негодование, вызываемое всем этим у сельских жителей старшего возраста, составляют один из наиболее драматических моментов коллективизации. '
В селе Новоуспенское Западной области комсомолец Василий Смирнов, его брат Сергей и их дружки, находившиеся в различной степени опьянения, превратили закрытие местной церкви в импровизированное театральное представление. Под предлогом описи церковного имущества они забрали ключи у церковного сторожа. «Прибыв в церковь, Смирновы и Боков зажгли свечи, нарядились в поповские облачения и в церкви открыли танцы. При выходе на улицу бродили по деревне в поповском облачении с разожженным кадилом в руках под звон колоколов, при этом Смирнов заявлял: "Пусть нас считают за хулиганов, а если попы в течение 300 лет так делают и ходят и им ничего не бывает, а
74
потому мы совершенно правильно поступали"». Затем вся компания спустилась в церковный подвал и, обнаружив там склеп местной помещичьей семьи, Жидковых, взломала его. «Увидев, что покойники забальзамированы, подняли жену б. помещика из гроба и поставили стоять, причем последней палкой проткнули живот...»51 Покончив с Жидковыми, братья Смирновы устроили в церкви танцы для деревенской молодежи. Из других сел Западной области, где закрывались церкви, поступали похожие сообщения. В одном из них говорится, что молодежь проголосовала за то, чтобы закрыть церковь и устроить в ее здании танцы, но среди людей старшего возраста «несколько женщин по поводу такого события плакали». В одной деревне Курской области секретарь райисполкома, закрыв церковь, изъял оттуда все ценности, а затем «нарядили лошадей в венцы и ризы и так с колхозниками подъехали к РИКу, где и состоялось собрание»52.
Публичное уничтожение икон, церковной утвари и прочих изъятых из церкви ценностей было излюбленным занятием комсомольских бригад. Иконы часто бросали в костер на площади, как в Горловке. Описывался один случай, когда комсомольцы принесли иконы на местный базар и разыграли пародию на казнь, стреляя по иконам и затем вешая на них таблички с надписью: «Мы, ударная бригада, расстреляли такого-то угодника за то-то и то-то». В другом месте расстрельная команда официально приговорила святых, изображенных на конфискованных иконах, к смерти «за сопротивление колхозному строительству» — и затем привела приговор в исполнение, расстреляв иконы53.
Многие коллективизаторы придерживались взгляда, что крестьяне, вступившие в колхоз, не должны держать в домах иконы или ходить в церковь. Новым колхозникам часто приказывали принести и сдать иконы. Иногда последние сжигались на площади, иногда с них снимали серебряные оклады «на нужды индустриализации»54. В одной деревне пионер предложил на собрании, чтобы все жители деревни, включая местного священника, сдали свои иконы. В результате были собраны и сожжены на площади в базарный день 8 возов икон. Это вызвало в деревне величайшее возмущение. Когда на следующем собрании один крестьянин «выразил мысль, что мы за бога», раздался «гром аплодисментов»55.
В итоге все подобные действия привели к тому, что демонстративная поддержка, оказываемая крестьянами церкви и своим священникам, достигла беспрецедентного размаха и в сопротивлении крестьян коллективизации появилась значительная символическая составляющая. Женщины в сопровождении священника часто ходили по деревне за коллективизаторами с плачем, причитаниями и пением отрывков из литургии. В Спас-Деменском районе, протестуя против закрытия церквей, «группа женщин до 300 чел. устроили шествие с пением "христос воскрес"»56.
75
Увидев парад комсомольцев в облачениях только что раскулаченного священника, крестьяне, записавшиеся было в колхоз, нередко пытались взять свои подписи обратно. В одной карельской деревне, где в колхоз вступили все крестьяне, все они тут же вышли из него, когда учитель-комсомолец произнес речь с призывом закрыть церковь: «Собрались бабы, докладчик еле избежал самосуда». В другой деревне во время организации колхоза арестовали священника, и весь процесс был сорван: «Собираются бабы, поднимают крик. Разгоняют собрание, а бабы заявляют: "До тех пор не уймемся, пока попов не дадите". И пришлось отпустить попа» 57.
В одном селе Западной области все 200 хозяйств вышли из колхоза, после того как местные активисты сняли в церкви иконы и «тут же изрубили топором, в целях отделения металлических частей для утильсырья». На Средней Волге возмущение, вызванное антирелигиозной кампанией, повело к «открытым антисоветским выступлениям» во многих местах. В Сибири, где за первый квартал 1930 г. были сняты 90% колоколов и закрыты 250 церквей, на религиозной почве разразилась «жестокая классовая борьба», по словам члена местного отделения Союза воинствующих безбожников. Сами безбожники пугались дела своих рук. Тот же корреспондент сообщал, что в закрытых церквях «самовозгораются свечи, ночью слышится пение молитв и даже коммунисты боятся проходить мимо этих церквей»58.
БОРЬБА
Кампания коллективизации .зимой 1930 г. явилась началом жесточайшей борьбы между государством и крестьянами, продолжавшейся более трех лет. Открытый мятеж был не в обычае у крестьян, особенно в Центральной России. Преобладала форма пассивного сопротивления, но уж она приняла широчайшие масштабы, включая отказ проводить сев, угрожавший как существованию самих крестьян, так и успеху государственных планов. Первые ответные шаги режима были примирительными («Головокружение от успехов», март 1930 г.). Однако он и не думал отказываться от основной цели коллективизации и вскоре перешел к политике жестоких репрессий и экономического вымогательства. К концу 1932 г. сельское хозяйство было коллективизировано более чем на 60% — и главные зернопроизводящие районы страны оказались на пороге голода, знаменовавшего собой кульминацию борьбы за коллективизацию.
4Головокружение от успехов*
В начале марта 1930 г. Сталин опубликовал свою статью «Головокружение от успехов», в которой осуждал «перегибы», допу-
76
щенные местными руководителями, и нарушение ими принципа добровольности коллективизации, особенно в местностях с нерусским населением (т.е. на окраинах Советского Союза, где оказывалось наиболее ожесточенное сопротивление). По словам Сталина, некоторые представители власти на местах чересчур форсировали темпы коллективизации, принуждали крестьян, вместо того чтобы убеждать, и зашли слишком далеко в обобществлении крестьянской собственности, обобществляя коров, свиней и даже кур. В действительности, заявлял Сталин, полностью обобществленная коммуна — вовсе не та форма колхоза, к которой следует стремиться. Главной целью должна быть артельная форма, при которой крестьяне могут иметь в личном хозяйстве корову, огород, мелкий скот и птицу59.
Сталин не отрекся публично от антирелигиозной кампании, хотя и отозвался с презрением о «"революционерах", которые дело организации артели начинают со снятия с церквей колоколов». Но Центральный Комитет принял в то же самое время постановление, осуждающее насильственное закрытие церквей без согласия местного населения, которое «льет воду на мельницу контрреволюции и не имеет ничего общего с политикой нашей партии»60.
Причина столь внезапного отступления, по-видимому, заключалась в том, что партийные лидеры запаниковали, когда в феврале стали поступать сообщения о возмущении крестьян во многих местах, включая Украину, Казахстан, Сибирь и Центрально-Черноземную область. Положение казалось крайне опасным, объясняли они в секретном письме местным партийным организациям несколько месяцев спустя:
«Если бы не были тогда немедленно приняты меры против искривлений партлинии, мы имели бы теперь широкую волну повстанческих крестьянских выступлений, добрая половина наших "низовых" работников была бы перебита крестьянами, был бы сорван сев, было бы подорвано колхозное строительство и было бы поставлено под угрозу наше внутреннее и внешнее положение»61.
Если теперь, задним числом, опасность и кажется преувеличенной, то для такого преувеличения высшее партийное руководство имело основания: ему многое нужно было объяснить местным парторганизациям, которые оно сделало козлами отпущения за просчеты, лежавшие в значительной степени на его совести. Статья «Головокружение от успехов» была откровенным предательством местных коммунистических кадров и вызвала у многих из них гневную реакцию. «Местных работников статья Сталина просто ошарашила. Некоторые до сих пор еще утверждают, что статья Сталина появилась несвоевременно, т.е. говорят "все шло хорошо, появилась статья Сталина и все испортила"», — сообщали из Западной области. Прочитав «Головокружение от успехов», один партийный секретарь в Поволжье «"с горя" напился и в сердцах изорвал портрет т. Сталина»62.
77
Крестьяне, разумеется, реагировали совершенно иначе. Многим из них статья «Головокружение от успехов» давала зеленый свет, позволяя выйти из колхоза. В следующие несколько недель буквально миллионы крестьян сняли свои подписи из списков членов колхоза: за одну ночь деревни, на бумаге «коллективизированные на 90%», снова становились обычными деревнями, хотя и потерявшими значительное количество тяглового и прочего скота. По стране доля крестьянских хозяйств, зарегистрированных как коллективизированные, сократилась с 57% в марте до 28% два месяца спустя; в Центрально-Черноземной области с 83% до 18%63.
Однако выход из колхоза оказался не таким простым делом. Первейшую проблему представляло возвращение крестьянам скота, если он был отобран колхозом. Конфискованное имущество чаще всего вернуть было практически невозможно. В некоторых случаях обобществленные животные пали от небрежного ухода или были проданы; в других — колхоз или лицо, в распоряжении которого они находились, не желали их отдавать. Как откровенно высказался на местной партийной конференции один районный партийный руководитель: «Мы признаем, что допустили перегибы, мы говорим голословно, что признаем ошибки, но факт остается фактом, что у мужика, который имел жеребенка и лошадь, мы этого жеребенка продали»64. Кроме того, много скота забили сами крестьяне в знак протеста против коллективизации, а крестьянин без лошади или коровы не мог выжить как хозяин-единоличник.
Второй проблемой для крестьянина, вступившего в колхоз и решившего из него выйти, являлось получение обратно земли. Община в результате коллективизации развалилась и больше не могла решать вопросы распределения наделов. Теперь определять, какая часть деревенских земель должна составлять наделы крестьян, было делом местного сельсовета или самого колхоза — властные полномочия этих двух организаций и их взаимоотношения между собой еще не определились с достаточной ясностью. Разумеется, колхоз был заинтересован в том, чтобы сохранить за собой лучшие земли. Крестьянин, выходивший из колхоза, не мог просто потребовать обратно полоски или участок, которые он обрабатывал раньше. Он получал новый надел, как правило, хуже старого, и зачастую с такими проволочками, что практически покинуть колхоз до весеннего сева в 1930 г. оказывалось невозможным. Нередко колхоз лишал крестьян доступа к пастбищам и воде65.
Вскоре стало ясно, что государство вовсе не желает отпускать крестьян из колхозов, несмотря на «Головокружение от успехов», и что провозглашенный принцип добровольности — чистое надувательство. Совершая в конце марта инспекционную поездку по южным зернопроизводящим областям, Молотов сказал Северо-Кавказскому крайкому, что лучше всего не давать крестьянам
78
уходить из колхозов, пока не закончен весенний сев. Конечно, это противоречит подтвержденному Центральным Комитетом принципу добровольности, признал он, но тактика партии заключается в том, чтобы «сманеврировать» — укрепить колхоз и, прежде всего, упрочить его положение нового «хозяина» в деревне, засеяв как можно большую площадь деревенских земель66.
Продолжавшиеся экспроприации, аресты и высылка кулаков также показывали истинные намерения режима. Сталинские рассуждения о «перегибах» в марте никак не касались раскулачивания. Несколько месяцев спустя он заметил, что раскулачивать середняков — неправильно, однако по отношению к кулакам его позиция осталась неизменной: «Терпеть дальше этих пауков и кровопийц незачем», — сказал он колхозникам 25 апреля. Весной 1931 г. по всей стране прокатилась новая волна раскулачивания, даже более мощная, чем в прошлом году. Деревни нечерноземной полосы, где сельское хозяйство было менее распространено, до сих пор часто вообще избегали раскулачивания (наверное, потому, что там и не было настоящих кулаков). Теперь и до них дошла очередь, а зернопроизводящие районы, принявшие на себя удар в первый раз, пострадали вторично67.
Эти меры принесли желаемый эффект. В весенней посевной 1930 г. лишь 26% крестьянских хозяйств участвовали в качестве членов колхозов, и в течение года это число повысилось незначительно. Зато с января по март 1931 г. — когда прошла вторая волна раскулачивания — цифра резко подскочила с 30% до 42%. К концу посевной 1931 г. в Советском Союзе оказались коллективизированы более половины всех крестьянских хозяйств, и более 60% — после уборки урожая68.
Сопротивление крестьян
В первые месяцы 1930 г. много говорилось о крестьянских волнениях, вызванных коллективизацией, но наиболее серьезные открытые выступления случались на окраинах, в Казахстане, Сибири, в горах Северного Кавказа, в казачьих областях на юге России и на Украине. В центральных районах России волнения характеризовались сравнительно небольшими масштабами. В Тамбовской области было несколько вооруженных восстаний «бывших антоновцев», принимавших участие в мятеже 1921 г., но вообще для Европейской России подобные явления не были нормой. В большинстве случаев речь шла о кратких инцидентах, когда местные крестьяне в количестве нескольких сотен человек, а то и меньше, собирались перед сельсоветом или в районном центре, протестуя против отдельных актов раскулачивания или закрытия церквей69.
Одно из самых нашумевших происшествий такого рода имело место 22 февраля в Астраханской области. Пьяная толпа в не-
79
сколько сотен человек, вооруженных кольями, топорами и вилами, собралась по сигналу набата и осадила здание сельсовета, где забаррикадировалась комиссия по раскулачиванию. В последовавшей за тем свалке были убиты и ранены 6 коммунистов. В Брянской области три-четыре сотни крестьян напали на комсомольских активистов, снимавших колокола с церквей, избили их и выгнали из деревни. Когда расследовать этот инцидент приехали представители власти из района и области, толпа набросилась на них с кольями и вилами'О.
Зачастую ведущую роль в выступлениях против коллективизации играли женщины, что, по-видимому, сильно беспокоило партийное руководство, особенно после волны «бабьих бунтов», прокатившейся в феврале по Северному Кавказу. Однако вряд ли справедлив был вывод, будто женщины сильнее настроены против коллективизации, чем их мужья. Громогласные протесты женщин, скорее, выражали общее настроение сельской общины, — но такая форма протеста с меньшей вероятностью влекла за собой карательные меры со стороны властей. Мужчины, по мнению одного очевидца, были вполне согласны со своими женами, но считали, что для них безопаснее держаться на заднем плане, предоставляя активно действовать женщинам («Бузи, Матрена, тебе ничего не будет»). Представители власти не осмеливались арестовывать женщин, даже в том случае, когда пятьдесят человек их сорвали собрание с криком: «Долой колхозы! Вздуем выступающего! Вернем царя!» Особенно старухи могли безбоязненно дать волю своей ярости, подобно той семидесятилетней крестьянке, которая сорвала сход: «вышла церед всеми и стала плясать и петь антиколхозные частушки»71.
Кроме того, совершалось бесчисленное множество нападений на отдельных коллективизаторов, застигнутых врасплох. Часто бывали случаи, когда какой-нибудь крестьянин или несколько крестьян подкарауливали ночью «25-тысячника», поджигали избу председателя сельсовета, стреляли из-за угла в представителя советской власти. В одном сибирском селе было совершено зверское нападение на учителя — советского активиста, его «несколько раз ударили топором, приговаривая: "Вот тебе за хлеб, вот тебе за церковь, вот тебе за коммунию"». Порой и женщины набрасывались на коллективизаторов, но они, в отличие от мужчин, редко действовали в одиночку. В Западной области женщины «схватили председателя сельсовета и насыпали снегу в штаны». В Дагестане «разъяренные толпы женщин» кричали: «..."долой колхоз", "отдай сельскохозяйственный налог", "верни права лишенцам". Агронома бросились бить. Сельсовет разгромлен...»?2.
Одной из самых распространенных форм протеста, поистине сокрушительной по своим экономическим последствиям, стал забой скота. В Центрально-Черноземной области за первые три месяца 1930 г. было забито 25% крупного рогатого скота, 53% свиней, 55% овец и 40% кур. По возможности крестьяне старались
80
выручить за свой скот деньги: по всей России государственные бойни и конторы по заготовке мяса и кож не справлялись с возросшей нагрузкой, а на Северном Кавказе, где страховка за потерю лошади превышала ее рыночную стоимость, многие забивали лошадей ради страховки. Но, несомненно, чаще всего забой скота происходил исключительно в знак протеста, и за ним следовали дни, когда семья объедалась мясом, — своего рода прощание с прежней жизнью. На вопрос, зачем им понадобилось забивать лошадь или корову, крестьяне обычно давали один из двух стандартных ответов, безусловно свидетельствующих скорее о хитрости, чем о наивности (как часто думали должностные лица): «Идите в колхозы без средств производства — там дадут» или «Колхозы машины дадут — режь скот»73.
Прочие формы сопротивления относились к разряду пассивных. Уже в самые первые месяцы коллективизации крестьяне начали проявлять ту апатию, вялость, несамостоятельность, какие стали так характерны для них в последующие десятилетия существования советских колхозов. Один руководитель из Москвы, ездивший в марте с инспекцией по областям, был поражен настроениями крестьян, полагавших, что в колхозе кто-то все для них сделает. Они осаждали председателей, требуя настелить им полы, выдать мясо, обувь и другие вещи. Один председатель, которого колхозники изводили просьбами дать им молоко и масло, «выпрыгнул в окно и убежал»74.
В своих мемуарах генерал Григоренко (сам крестьянин по происхождению) рисует интересную картину степной украинской деревни Архангелки, которую он в качестве парторга посетил летом 1930 г. Несмотря на то что уборочная страда была в разгаре, деревня казалась вымершей. «Восемь человек работали на одной молотилке в одну смену. Остальные работники — мужчины, женщины, молодежь — сидели вокруг или лежали в тенечке. Когда я пытался заговорить, мне отвечали неохотно, с полнейшим равнодушием. Если я говорил, что зерно осыпается и портится, то слышал в ответ: "Конечно, портится"... Люди чувствовали такое отвращение к принудительной коллективизации, что совершенно поддались апатии»75.
Многие крестьяне, пытаясь сопротивляться законными средствами, писали просьбы и ходатайства. В основном писали в областные центры или в Москву, не рассчитывая найти правосудие у себя в районе. Огромное число жалоб и просьб было связано с действиями бригад по коллективизации и раскулачиванию, из них большая часть касалась раскулачивания. В Сибири, например, на 1 июня 1930 г. было зарегистрировано более 35000 жалоб на несправедливое раскулачивание или лишение права голоса, и почти 50% из них признаны оправданными. В Центрально-Черноземной области, по неполным данным, прокуратура поддержала более 30000 жалоб середняков, протестовавших против неправильного раскулачивания76.
81
Мельница слухов
Деревенские слухи раз и навсегда приклеили коллективизации ярлык «второго крепостного права», но в них редко содержался призыв к восстанию; чаще всего муссировалась тема возможной войны, передавались известия о международном осуждении антирелигиозной кампании и коллективизации, выражалась надежда на чудесное избавление униженного и оскорбленного российского крестьянства с помощью иностранцев. «Весной будет война». «Скоро будет война, крестьяне воевать не хотят и не будут, красноармейцы откажутся идти в окопы, и тогда Советская власть падет». Говорили «о резне коммунистов, когда падет соввласть, упоминали о Ворфоломеевской ночи»77.
Все эти слухи, очевидно, возникали в результате чтения и толкования крестьянами советских газет. Об угрозе иностранной интервенции газеты твердили более или менее постоянно еще с 1927 г. Более свежую пищу для разговоров дало язвительное, но в основном точное освещение в советской печати негативной международной реакции на дело меннонитов (препятствия, которые советская власть чинила немецким колонистам, пожелавшим, отчасти в знак протеста против коллективизации, эмигрировать из страны); сообщалось в ней также о весьма жестком послании папы римского в январе 1930 г., призывавшем прекратить гонения на верующих в Советском Союзе.
Слухи, ходившие в Западной области, где жило довольно значительное число католиков, изображали папу героической личностью и потенциальным спасителем: «Папа римский за нас заступается»; «Папа римский объявил войну большевикам». Похожие слухи распространялись и в других частях страны даже спустя больше года после папского послания. Православные крестьяне на Южном Урале весной 1931 г. говорили, «что римский папа защищает верующих, требуя взамен от них сильнейшего отпора колхозному движению». В одной деревне Московской области, всего в 40 км от промышленного центра Орехово-Зуево, среди крестьян можно было услышать: «Войска папы римского с барабанным боем двигаются к Москве»7^.
Если от папы помощь не придет, может быть, вмешаются другие члены международного сообщества? «Весь мир за нас»; «Весь мир против советской власти», — говорили наиболее оптимистично настроенные крестьяне. В Западной области были «упорные слухи», будто какой-то английский корабль спас сотни людей, заключенных на Соловках, «из милосердия к обездоленным в СССР». В казачьем районе на Дону один священник заверял свою паству, что «христолюбивое воинство будет наступать из Америки», а на Урале даже прошел слух, будто рабочие Америки (жизнь которых часто служила темой для советских газет) услышали «вопли обиженных крестьян» и написали Сталину, выражая
82
свое возмущение по поводу коллективизации и закрытия церквей^.
Целую лавину слухов вызвала кампания по сбору металлолома и прочего утильсырья на нужды индустриализации и экспорта. Даже по советским стандартам эта кампания представляла верх нелепости. В 1929—1930 гг. настоящая лихорадка охватила школы, молодежные организации, добровольные общества, соревновавшиеся друг с другом, кто соберет рекордное количество утиля. Союз воинствующих безбожников, к примеру, разослал своим членам список материалов, которые необходимо собирать, включавший жестянки, старую обувь, вишневые косточки, пробки, веревки, куски резины и человеческие волосы. Коллективиза-торы, снимавшие колокола и оклады с икон, часто оправдывали свои действия именно лозунгами этой кампании («Металл на нужды индустриализации!» )80.
Насилие, бесчеловечность, эксплуатация — вот преобладающие мотивы слухов, связанных с кампанией по сбору утильсырья. Помимо переплавки колоколов и иконных окладов самой популярной темой служил сбор человеческих волос. Говорили, будто всем женщинам обрежут косы, сдадут в утиль и экспортируют в Китай; будто старообрядцам будут отрезать бороды и «обстриженные волосы... отправлять за границу и обменивать на тракторы»81. Как ни странно, тема утильсырья пришлась по душе как той, так и другой стороне: выше в этой главе уже рассказывалось о случаях, когда коллективизаторы действительно отрезали косы, «чтобы купить трактор», или выдирали волосы из бород «на утильсырье».
Мысль о коллективизации как втором крепостном праве была основным мотивом слухов в начале 30-х гг. «Человек, который попадет в колхоз, очутится в рабстве, как при крепостном праве». Аббревиатуру ВКП (Всесоюзная коммунистическая партия) расшифровывали как «второе крепостное право». Впрочем, хотя обычный термин «крепостное право» и употреблялся порой, как показывают вышеприведенные примеры, но чаще крестьяне, говоря о коллективизации, использовали слово «барщина»: «В колхозы сгоняют насильно и вводят барщину»; «В колхозе будет барщина, приезжают 25000 рабочих баринами»82.
Отражение тем и образов, используемых слухами, можно увидеть в гневных письмах крестьян Западной области в газеты и органы советской власти. «Все как-то непонятно, в особенности для темного крестьянина, — пишет Прокофий Максимович Киселев из деревни Завидовка. — Вот пример, к чему и что вышло примерно с гужповинностью, т.е. можно считать, или принудработа крестьянину за то, что он живет в соввласти, потому что на мужике ездили как раньше, так и ездят теперь. Или это еще ворочается старое крепостное право». «Колхоз это такая барщина, — вторит ему другой крестьянин, — лишь только не хватает кнута»83.
83
Неправда, будто крестьяне вступают в колхозы добровольно, пишет бедняк Иван Чугунков: «Вы же силой гоните ее [массу] в колхоз. Для примера я возьму свой сельсовет Юшковский, к нам приезжала бригада красноармейцев, этой бригадой были охвачены все населенные уголки, и вы думаете, что они организовали колхоз, нет, не организовали, батрак и бедняк выступали против этого строительства и говорили, не хотим мы барщины, не хотим крепостного права»84.
Коллективизация — плохая идея, говорится в письме Игната Рубцова из деревни Бордашевка. Предполагаемый «актив бедноты» — это всего лишь «полдесятка лоботрясов, пьяниц, которые способны на всякие вещи». Всякий, кто усердно работает, теперь кулак, пишет другой крестьянин, «а те, которые пьянствовали, бродяжничали, во власти обирают его до ниточки, в пользу колхоза»85. Лучше отказаться от глупой мысли о коллективизации, советует крестьянин, пожелавший остаться неизвестным. Дела идут в десять раз хуже, чем было при царе, лучше дать крестьянам свободно торговать, дать им обувь, и еще: «Дайте молодежи гулянье открывать, почему вы в деревне закрыли, даже в деревню нельзя ходить, сидим, как козы дикие, в помещении»86.
ГОЛОД
Голодом 1932 — 1933 гг. завершилась борьба между государством и крестьянами из-за планов обязательных зернопоставок, неразрывно связанных с коллективизацией. Так считают не только большинство историков — точно так же считали и крестьяне, обвинявшие Советское правительство за этот голод даже сильнее, чем обвиняли его за голод в Поволжье в 1921 —1922 гг. (возникший в результате реквизиций) или его имперского предшественника за голод 1891 г. (в результате высоких налогов и большого экспорта зерна). Хотя голод 1932 — 1933 гг. — случай вопиющий, однако некоторая доля ответственности государства — и народное мнение об ответственности государства — являются скорее нормой, чем исключением, в современной истории голода. Как указывает экономист Амартья Сен, голод редко случается исключительно по причине засухи или неурожая и редко является следствием абсолютного дефицита продуктов питания в стране87.
В следующих разделах речь идет главным образом о трех аспектах голода 1932—1933 гг. Первый аспект — борьба за хлебозаготовки и ее связь с крестьянским сопротивлением коллективизации. Второй — как эта борьба отражалась и интерпретировалась крестьянами, с одной стороны, и властью — с другой. Третий аспект — жестокие репрессии среди крестьян в первые месяцы 1933 г., когда голод был в самом разгаре88.
84
Борьба за хлебозаготовки
Голод можно объяснить тем, что государство установило слишком большие планы хлебозаготовок. Но тогда возникает вопрос, каков же был реальный потолок этих планов и как его можно было определить. Урожай 1932 г. был всего третьим по счету с начала коллективизации, и государство еще только пыталось понять, сколько оно может выжать из крестьян при новом порядке. Крестьяне же, со своей стороны, делали все возможное, чтобы понять, до какого минимума они могут сбить планы обязательных поставок — даже снижая общий объем произведенной продукции, если будет на то необходимость.
Государство составляло планы заготовок, наугад определяя размеры будущего урожая. И это было только начало. Как только всем объявлялись планы на текущий год, тут же следовала обычная реакция — начиная от рядовых колхозников и далее вверх по ступеням административной лестницы, от сельсовета до района, области и даже республики — все пытались торговаться. Каждый колхоз, район и область доказывали, что по ряду объективных причин спущенный им план невозможно выполнить. При этом каждый колхоз, район и область знали, что если они в этом году выполнят план полностью, точно и в срок, то в следующем году им его повысят, а то и спустят дополнительный план еще в этом году.
Крестьяне имели обыкновение всячески преувеличивать свои трудности и преуменьшать собранный урожай. Районные руководители это прекрасно понимали и в разговоре с колхозными председателями не обращали внимания на подобные доводы. Однако, разговаривая с областным руководством, они пользовались тем же приемом. В области, в свою очередь, грубо обрывали жалобы района — и включали их в отчеты, направлявшиеся в республиканские органы и в Москву. Даже администраторы, пламенно преданные делу коммунизма, не могли устоять перед этой несокрушимой логической цепочкой. Действие ее несколько нарушалось крайне жесткими мерами принуждения, включавшими немедленный арест, которые высшие органы власти применяли к низшим. Но государственное принуждение — не слишком надежный метод, чтобы узнать, сколько зерна реально могут дать колхоз, район или область. Достигая определенного уровня, оно лишь препятствовало передаче достоверной информации с мест в Москву и тем самым мешало правительству принимать взвешенные решения89.
И с точки зрения крестьян, и с точки зрения государства, новая практика проведения хлебозаготовок имела сильное сходство с традиционным ритуалом сбора податей. В каждой деревне сборщику податей приходилось выслушивать скорбные повествования: посевы гибли на корню, на скотину нападал мор, все мужчины уходили в отход, горели избы и амбары и т.д. и т.п. Сбор-
85
щик был привычен к таким историям, однако кое-что могло оказаться правдой. Его работа и заключалась в том, чтобы определить положение данной конкретной деревни по сравнению с остальными и сумму, которую он реально может с нее получить.
Тем не менее, некоторые характерные черты отличали хлебозаготовки начала 30-х гг. от веками заведенного порядка. Во-первых, это было дело новое, не позволявшее опираться на опыт прошлого; Москва и ее уполномоченные сильнее подвергались риску неверно оценить ситуацию.
Во-вторых, под давлением первого пятилетнего плана Москва более чем обьгано была склонна к иррациональным суждениям. С одной стороны, власти питали глубокое убеждение, что следует максимально повысить планы хлебозаготовок и экспорт зерна для обеспечения нужд промышленности. С другой стороны, за время первой пятилетки они приобрели привычку принимать совершенно фантастические экономические планы. Подобная привычка, несомненно, даже для промышленности являлась пагубной, но все же не такой фатальной, как для сельского хозяйства. Если планы промышленного производства оказывались чересчур завышены, то рабочие все равно получали свою зарплату и свои карточки. Если же завышались и безжалостно выжимались планы хлебозаготовок, крестьяне рисковали остаться без еды на зиму и без семян для весеннего сева.
Третья характерная черта хлебозаготовок начала 30-х гг. — враждебное отношение крестьян к коллективизации. Оно выражалось повсеместно в нежелании работать на колхоз — в том, что руководитель сибирской партийной организации Сергей Сырцов назвал «производственной апатией и производственным нигилизмом, которые проявляются у значительной части крестьянства, вошедшей в колхозы», — и особенно в нежелании сеять хлеб, пока большую часть урожая отбирают в счет хлебозаготовок. «Хлеб все равно заберут», — говорили крестьяне Днепропетровской области весной 1933 г., отказываясь начинать сев даже несмотря на то, что получили специальную семенную ссуду. Ежегодные «посевные кампании» в начале 30-х гг. превратились в постоянные схватки между государством, твердо намеренным поддерживать на прежнем уровне размеры колхозных посевов и обеспечить их соответствие планам хлебозаготовок, и крестьянами, решавшими сократить посевы «государственного» хлеба, даже рискуя при этом остаться голодными^О.
Как и во время реквизиций в гражданскую войну, борьба за хлебозаготовки приняла наиболее ожесточенный и отчаянный характер в главных зернопроизводящих районах страны: на Украине, Северном Кавказе, Средней Волге и в Центральном сельскохозяйственном районе России, включавшем Тамбовскую и Воронежскую области. Именно эти местности, и Казахстан в придачу, оказались охвачены голодом в 1932 — 1933 гг. В нечерноземных
86
областях севера и запада борьба была менее острой, и голода в тот период они не испытали.
После прекрасного урожая в 1930 г. государство повысило планы хлебозаготовок. Но урожай 1931 г. уже не был так хорош, особенно на Украине, сильно отставшей от спущенного ей плана поставок зерна. В 1931 г. в счет хлебозаготовок там отбиралось 33% собранного урожая — в сравнении с 27% в 1930 г. На Северном Кавказе, представлявшем собой богатый хлебный рынок, государство забрало в 1931 г. 63% урожая, тогда как в 1930 г. — 46%91. В результате неурожая и высоких норм зернопоставок у колхозов осталось очень мало зерна для распределения между колхозниками. (Процедура проведения хлебозаготовок, установленная государством на тот момент, позволяла колхозу взять 10 — 15% урожая авансом для раздачи своим членам немедленно после уборочной, затем предписывала сдать зернопоставки и создать семенной фонд. Лишь по выполнении всех этих требований колхоз мог пустить оставшееся на натуральную оплату работы колхозников в течение года. Однако в начале 30-х гг. для этой цели зачастую ничего не оставалось, и колхозники могли получить только аванс.)
Подобные планы хлебозаготовок во многих областях поставили крестьян в трудное положение и повсеместно рассматривались как несправедливые и грабительские. Государство не только забирало гораздо больше зерна, чем крестьяне сочли бы возможным выбросить на рынок как излишек, но и платило за него крайне мало. В 1931 г. заготовительные организации платили колхозам 5 — 6 руб. за центнер ржи и 7 —8 руб. за центнер пшеницы, что, по словам советского историка, было куда ниже их себестоимости92.
Крестьяне реагировали по-разному. Одни разочаровывались в колхозе и подавались в отход; другие писали жалобы Сталину93; большинство же принималось воровать. Весной в Западной Сибири целые группы колхозников совершали налеты на колхозные амбары, где хранились семена, уводили коров и лошадей из колхозного стада. Летом 1932 г., когда созрел новый урожай, набеги на колхозные поля и групповое хищение зерна стали во многих местах обычным явлением. Сообщали даже о сельских сходах, на которых собравшиеся крестьяне решали забрать зерно, прежде чем оно достанется государству. Иногда налеты совершались «бандитами» и «кулаками», т.е. крестьянами, не вступившими в колхоз, но чаще это было дело рук самих колхозников, «воровавших» собственное зерно, чтобы не дать государству отнять его путем хлебозаготовок94.
Кое-где крестьян толкал на воровство в первую очередь голод, однако в других местах главным побудительным мотивом явно служил гнев. Воровали всякую колхозную собственность — «лопаты, колеса, все что угодно» — и порой исключительно по злобе, поскольку украденные вещи находили тут же, поблизости, изломанными и выброшенными. Центрально-Черноземная область
87
весной и летом 1933 г. была охвачена такой эпидемией воровства, что колхозники боялись выходить в поле, оставляя избы без присмотра^.
Государство ответило законом от 7 августа 1932 г. (как говорят, плодом личного творчества Сталина), объявив во всеуслышание, что колхозное зерно и вообще все, принадлежащее колхозу, является государственной собственностью, «священной и неприкосновенной», и те, кто эту собственность расхищает, дорого за это заплатят. Закон гласил: «Покушающиеся на общественную собственность [включая колхозную] должны быть рассматриваемы как враги народа». Лица, виновные в краже зерна из амбара, колосков с поля или скота, подлежали высшей мере наказания (расстрелу) с конфискацией всего имущества96.
Главным объектом преследования по закону от 7 августа стали крестьяне. За первый квартал 1933 г. трое из пяти осужденных по новому закону являлись колхозниками. Среди жертв оказались взрослые и дети, до уборки урожая пробиравшиеся на поля с ножами и ножницами и срезавшие колоски, старый колхозный сторож, стянувший три картофелины, после того как три дня не ел, и колхозница, укравшая три пуда пшеницы из колхозной кладовой и получившая 10 лет ссылки; у нее осталось трое маленьких детей «в тяжелом материальном положении». Закон от 7 августа делал основной упор на борьбу с кулаками как источником наибольшей угрозы для социалистической собственности, однако крестьяне толковали его смысл по-своему. «Добрались до бедняков и середняков», — вот что говорили о новом законе в деревне97.
Среди крестьян после уборки урожая царили уныние и отчаяние. Таким же было и настроение коммунистов — как тех, кто из Москвы забрасывал руководителей на местах приказами выполнить план хлебозаготовок любой ценой, так и тех, кто работал в зернопроизводящих районах и понимал, к чему это может привести. Конфронтация усиливалась.
Колхозники вслух говорили о своем нежелании сдавать зерно. По некоторым сообщениям с Украины и Северного Кавказа, «многие колхозники выступали на собраниях против навязанных им хлебозаготовительных планов, отказывались выходить на работу». Местные руководители доносили, что крестьяне убирают хлеб так же вяло, как сеяли его весной. Например, в колхозе «Молотов» на Средней Волге посевная длилась 42 дня и уборка урожая затянулась «до глубокой осени», из-за чего много зерна пропало. Несмотря на огромные усилия, предпринимаемые государством, чтобы помешать расхищению и сокрытию зерна на всех стадиях, от созревания до уборки и обмолота, крестьяне не переставали воровать и пытались прятать хлеб от заготовителей. Случались нападения на подводы, вывозящие зерно из района, иногда, чтобы преградить им дорогу, разрушали мосты98.
88
Если план хлебозаготовок после уборочной 1932 г. не выполнялся, как было, например, на Украине, Москва вторично посылала заготовительные отряды. Впрочем, такое случалось и в тех местностях, которые свой план выполнили: им спускался дополнительный, так называемый «встречный» план. Крестьяне, разумеется, протестовали, доказывая, что у них осталось зерно только на семена и для собственного потребления до нового урожая. Но они говорили так и раньше — это заготовители привыкли слышать от них всегда. Обычно государство заявляло, что заготовители ни в коем случае не должны трогать семенные фонды, даже если им нужно любой ценой выполнить план.
В конце декабря 1932 г. Политбюро, в бешенстве и смятении из-за провала хлебозаготовок, издало распоряжение, чтобы колхозы, не выполнившие план, сдали «все имеющееся зерно, в том числе и так называемые семенные фонды (курсив мой. — Ш.Ф.)»99. Порочный круг замкнулся. Если крестьяне будут отказываться сеять, то государство и не будет оставлять им семена для посева. После этого, по логике вещей, не придется ждать ни урожая, ни зернопоставок. Игра будет окончена.
Восприятие и оценка
Между тем, что говорила и думала о голоде власть, и тем, что говорили и думали о нем крестьяне, лежит глубокая пропасть. Мнение власти было известно крестьянам, и они порой высмеивали и опровергали его. Мнение крестьян не так хорошо было известно власти, несмотря на старательно собираемую ОГПУ информацию, поскольку довести эту информацию до сведения руководителей-автократов, не желавших ее знать, было делом нелегким и опасным. Память о голоде и в корне различное к нему отношение обеих сторон сохранялись на протяжении всего предвоенного периода. Именно эта страница истории сформировала определенный взгляд на советскую власть в сознании крестьянства, так же как и взгляд на крестьянство в сознании руководителей партии и государства.
Советские средства массовой информации не признавали факт голода в Советском Союзе, зато все газеты зимой и весной 1932 — 1933 гг. наперебой рассказывали своим читателям о страшном голоде и неурожаях во всем остальном мире. «Это не кризис, это катастрофа», — трубил один заголовок. Речь шла о Польше, где крестьяне якобы вынуждены были просить милостыню, чтобы прокормиться. «Вымирающие деревни» — называлась другая статья — о Чехословакии. «Катастрофа сельского хозяйства... Голод несмотря на хороший урожай. Рост крестьянских волнений» — это о Китае. «Зарубежное крестьянство в тисках нищеты и разорения» — так была озаглавлена передовица, сообщавшая, что фермеры в Соединенных Штатах и Канаде находятся на грани
89
банкротства, а в Польше, Словакии, Закарпатской Украине, Венгрии, Румынии, Югославии и Болгарии — катастрофический неурожай пшеницы100.
Замалчивая голод, советская печать следовала примеру Сталина. В январе 1933 г. он похвалялся заслугами советской власти «в уничтожении... обнищания и пауперизма в деревне», а в феврале—в самый разгар голода — заявил, выступая перед колхозными активистами, что коллективизация спасла «не менее 20 миллионов бедняков... от нищеты и разорения»101.
Как же в таком случае объяснялось появление крестьян с несомненными признаками голодного истощения, переполнявших железнодорожные вокзалы и станции, попрошайничавших на улицах Харькова и Москвы? На языке советских газет это называлось спектаклем, уловкой, чтобы вызвать сочувствие. Мнимые жертвы, оказывается, «пытались инсценировать "голод"», занимались «симуляцией голода и голодания*. Появившиеся в городах Поволжья нищие «выдавали себя за разоренных колхозников». Те, кто пытался бежать с Украины в Россию, были вовсе не жертвами голода, а пропагандистами-антисоветчиками, распространявшими слухи о голоде по наущению Польши. Голод представлял собой всего лишь предлог, чтобы не выполнять обязательства по хлебозаготовкам: например, один крестьянин «морил семью голодом и агитировал' "Вот видите, семья с голоду пухнет, а с меня семена требуют"»102.
Наряду с подобными утверждениями, отдающими патологией, Сталин предложил довольно рациональный, хотя и односторонний, анализ причин голода. Крестьяне устроили «итальянку», говорил он. Нежелание работать в колхозе и сдавать зерно государству — это форма политического протеста. Отвечая писателю М.А.Шолохову, протестовавшему против насильственных методов, которые коммунисты применяли к голодающим крестьянам в его родных местах, на Кубани, Сталин заявил, что Шолохов кое-что упускает из виду: «...уважаемые хлеборобы вашего района (и не только вашего района) проводили "итальянку" (саботаж!) и не прочь были оставить рабочих, Красную Армию — без хлеба. Тот факт, что саботаж был тихий и внешне безобидный (без крови), — этот факт не меняет того, что уважаемые хлеборобы по сути дела вели "тихую" войну с советской властью. Войну на измор, дорогой тов. Шолохов...»10-*
Если предположить, что крестьяне вели войну, то вела ее и власть. Так, по словам украинского партийного руководителя П.Постышева, обязательные зернопоставки являлись не только средством обеспечения государства хлебом, но и «орудием», «методом перевоспитания». Заставляя колхозников выполнять план, власть приучала их к социализму и колхозам10^.
Весть о голоде разнеслась среди крестьян по беспроволочному телеграфу слухов, проникла даже в Нечерноземье, не затронутое голодом непосредственно, например в Западную область. Отход-
90
ники приносили новости о голоде на Украине, мгновенно распространявшиеся по окрестным селам. Молчание советской печати не осталось незамеченным и способствовало усилению скептицизма, с каким крестьяне и раньше относились к прочитанному в газетах или услышанному от официальных пропагандистов. «...Вы нам пишете, что в иностранных державах очень большое количество ходит без работы и нищих и голодных, но... наоборот, не за рубежом, а в СССР», — писал один крестьянин М.И.Калинину несколько лет спустя105.
С точки зрения крестьян, отказ в помощи голодающим областям со стороны государства являлся нарушением общественного договора между правительством и народом, а может быть, знаком того, что государство и не заключало такого договора с колхозниками. Это было хуже, чем при крепостном праве, потому что барин все же помогал своим крестьянам при крайней нужде. В голодающем Среднем Поволжье считали само собой разумеющимся, что ответственность за голод всецело несет государство, и подозревали здесь скорее злой умысел, чем несчастное стечение обстоятельств. Оставался один вопрос: зачем государству это нужно?
По мнению одних, жадность заставила его настолько завысить планы хлебозаготовок и тем самым вызвать голод. Был такой слух, будто голод и создание магазинов Торгсина106 — две стороны единой стратегии, направленной на то, чтобы выкачать у населения припрятанные запасы золота. Как полагали другие, очевидно под влиянием заявлений, подобных постышевскому, о воспитательной роли хлебозаготовок, голод должен был показать крестьянам, что им лучше смириться с коллективизацией, или покарать их за плохую работу в колхозах. Наиболее едкое замечание на этот счет, ходившее в 1933 г. в саратовских и пензенских селах, сравнивало методы государства по «перевоспитанию» крестьян с методами знаменитого циркового дрессировщика Дурова, не кормившего своих животных за непослушание107.
РЕПРЕССИИ
Объединенный пленум ЦК партии и Центральной контрольной комиссии в январе 1933 г. подчеркнул намерение высшего руководства проводить безжалостную репрессивную политику в отношении крестьянства. Каганович объявил о создании для этой цели новых контролирующих инстанций в деревне — политотделов МТС. Десятки тысяч городских коммунистов были мобилизованы для работы в этих политотделах (повторялась, в еще более грозном виде, мобилизация 25-тысячников 1929 г.). Перед ними стояла задача очистить колхозы от «чуждых» элементов, провести чистку местных партийных кадров (обращая особое внимание на «умеренных», заявлявших, что голод не позволяет им выполнить
91
план хлебозаготовок) и обеспечить проведение посевной на колхозных полях, в особенности в главных зернопроизводящих — следовательно, голодающих, а местами и мятежных — районах страны: на Северном Кавказе, Нижней и Средней Волге и в Центрально-Черноземной области108.
В первые месяцы 1933 г. начались жесточайшие репрессии против колхозов, не выполнивших свои обязательства по зернопоставкам, главным образом на Украине и Северном Кавказе. Для таких случаев завели «черные доски». Попасть на черную доску для колхоза почти равнялось коллективному смертному приговору. Это означало изъятие всех товаров из местных кооперативных магазинов, полное запрещение торговли, опечатывание складов с зерном, предназначенным для потребления, изъятие семенного фонда, который распределялся окрестным колхозам. Если после всего этого колхоз не исправлялся, его распускали и все его имущество (включая скот и инвентарь) конфисковывали. Применялось и еще более суровое наказание: высылка на север целых колхозов с Северного Кавказа109.
В то же время прокатилась новая волна арестов, ссылок и исключений из колхозов «кулаков» и «подкулачников». В некоторых отношениях она отличалась от прежних кампаний по раскулачиванию. Во-первых, большинство этих «кулаков» не имели ничего общего с соответствующей социально-экономической категорией: это были просто крестьяне, которых власти считали смутьянами. Во-вторых, большая часть жертв состояла в колхозах, и от колхозов часто требовали содействия в преследованиях. Так, например, в один колхоз на Средней Волге явился местный чиновник (вероятно, работник политотдела МТС) со списком «кулаков» данного колхоза (некоторых из них планировалось отдать под суд за не определенные пока преступления) и потребовал, чтобы колхоз сам провел у себя чистку и исключил их из своих членов. По словам представителя Наркомата земледелия, присутствовавшего в качестве наблюдателя, состоялось «чрезвычайно бурное» колхозное собрание, продолжавшееся до 4 часов утра. Большинство в конце концов проголосовало за исключение «кулаков», однако неохотно, «при упорном сопротивлении» друзей обвиняемых («подкулачников»)110.
Как объяснял Сталин, кулаки сменили тактику. Они не осмеливались больше открыто бороться против советской власти и колхозов, а противодействовали тайно, «тихой сапой», под маской покорности и лояльности:
«Они сидят прямо в колхозе, занимают должности кладовщиков, завхозов, счетоводов, секретарей и т.д. Они никогда не скажут: "Долой колхоз". Они "за" колхоз. Они за хлебозаготовки — но требуют создавать всякие резервы для животноводства, страховки и пр.; требуют, чтобы колхоз "выдавал на общественное питание от 6 до 10 фунтов в день на работника"».
92
Несмотря на внешне миролюбивое поведение, заявлял Сталин, эти кулаки совершают дерзкие акты саботажа, вредительства, ломают машины, поджигают амбары, губят лошадей и другой скот. А сверх того, они воруют. «Они чуют как бы классовым инстинктом, что основой советского хозяйства является общественная собственность, что именно эту основу надо расшатать»111.
В это же время Сталин сделал несколько весьма отрезвляющих замечаний по поводу колхозов. Коммунисты не должны «идеализировать» колхоз, «переоценивать» его, «превращать в икону», предупреждал он. Колхозная форма организации — это «оружие, и только оружие», которое может быть использовано как государством, так и против государства (например, при недавних восстаниях колхозов на Северном Кавказе). Коммунисты должны без колебаний карать любое проявление неподчинения в колхозе. Всем колхозам или колхозникам, не признающим советскую власть, следует нанести «сокрушительный удар»112.
У нас нет достоверных цифр, позволяющих определить масштабы репрессий в первые месяцы 1933 г., но дело, несомненно, приняло серьезный оборот. На Ленинградскую область, скорее потребляющую, чем производящую зерно, удар не был направлен в первую очередь, к тому же руководитель ленинградской партийной организации (С.М.Киров) был известен тем, что проводил коллективизацию сравнительно мягкими методами, но даже там более 7000 крестьянских семей — т.е. одна семья на каждые два колхоза — были вычищены из колхозов как кулацкие, подвергнуты аресту и высылке113.
Легко понять, почему советские кампании чисток автоматически приводили к перегибам, если обратить внимание на бюрократическую процедуру отчетности. Каждый политотдел МТС должен был заполнять печатную форму, озаглавленную: «Очистка колхозов от классово-чуждых и антиколхозных элементов. Выдвижение новых кадров». По каждому колхозу ответственный за него работник МТС вносил следующие цифры: сколько снято и вычищено руководителей и рядовых колхозников; сколько выдвинуто. Естественно, работники, желающие отличиться, хотели видеть в обеих колонках высокие результаты, по возможности превышающие установленные или подразумевавшиеся плановые цифры, так же как они старались перевыполнить планы хлебозаготовок или увеличить размеры засеянной в колхозе площади. В Центрально-Черноземной области политотделы МТС смогли отрапортовать, что вычистили 3677 чел., занимавших руководящие должности в колхозах (председателей, бухгалтеров, бригадиров, конюхов и пр.), и сняли еще 20000. Кроме того, они разоблачили, исключили из колхозов и арестовали почти 11000 «классово-чуждых элементов», проникших в колхозы в качестве рядовых чле-
нов114.
93
Удар по тормозам
Репрессии, свирепствовавшие в течение всего десятилетия, в первые месяцы 1933 г. достигли своего пика. Государство очень скоро почувствовало, какое бремя возложило на себя, проводя принудительные меры с такой интенсивностью. Еще в 1932 г. проблемы, связанные с расселением огромного количества высланных, заставили правительство попытаться — по всей видимости, безрезультатно — приостановить поток депортируемых из Центральной России115.
В мае 1933 г. в партийные и правительственные учреждения, судебные органы и органы внутренних дел была разослана секретная инструкция, подписанная Сталиным и Молотовым и призывавшая прекратить массовые репрессии. «В результате наших успехов, — заявлялось в ней, — в деревне наступил момент, когда мы уже не нуждаемся в массовых репрессиях, задевающих, как известно, не только кулаков, но и единоличников, и часть колхозников». За исключением чрезвычайных случаев, пора отказаться от применения массовых высылок и «острых форм репрессии в деревне»116.
Эта секретная инструкция дает запоминающуюся картину разгула репрессий и арестов, прочно вошедших в практику коммунистического руководства, испытывавшего давление как сверху, так и снизу. Областные руководители, говорится в инструкции, постоянно просят Москву санкционировать все новые высылки крестьян: «В Центральном Комитете и Совнаркоме... находятся заявления о немедленном выселении около 100000 семей». Массовый характер приняли «беспорядочные аресты»:
«Арестовывают председатели колхозов и члены правлений колхозов. Арестовывают председатели сельсоветов и секретари ячеек. Арестовывают районные и краевые уполномоченные. Арестовывают все, кому не лень и кто, собственно говоря, не имеет никакого права арестовывать. Не удивительно, что при таком разгуле практики арестов органы, имеющие право ареста, в том числе и органы ОГПУ и особенно милиция, теряют чувство меры и зачастую производят аресты без всякого основания, действуя по правилу: "Сначала арестовать, а потом разобраться"»117.
Отметив, что подобные методы «изжили себя», ЦК и Совнарком приказывали «немедленно прекратить массовые выселения». Выселить из областей их нынешнего проживания предписывалось не более 12000 крестьянских семей. Правом ареста должны были обладать исключительно работники прокуратуры, ОГПУ и милиции. Только лица, обвиняемые в таких тяжких преступлениях, как контрреволюционная деятельность, терроризм, вредительство, бандитизм и убийство, могли содержаться под стражей до суда, причем работникам ОГПУ, прежде чем произвести арест, необходимо было получить санкцию прокурора. Исключение составлял широкий спектр политических обвинений (терроризм, взрыв, под-
94
жог, шпионаж, дезертирство, политический бандитизм, оппозиционная политическая деятельность)118.
Согласно инструкции, на тот момент в тюрьмах СССР находились 800000 заключенных (не считая тех, кто был в исправительно-трудовых лагерях и колониях)11!). Это число в течение двух месяцев должно было быть снижено вдвое, чтобы разгрузить тюрьмы. Мелких правонарушителей следовало отпускать на свободу, прочих — отправлять в исправительно-трудовые лагеря ОГПУ; кулаков, приговоренных к 3 — 5 годам заключения, — высылать вместе с семьями в специальные места поселения120.
Майская инструкция, по всей видимости, успешно приостановила массовые высылки и принудительное переселение крестьян. В дальнейшем в течение 30-х гг. они не достигали такого размаха, как в 1930 г., хотя к подобной практике вновь вернулись в 40-е гг., когда были депортированы целые этнические группы и большое количество жителей вновь присоединенных к Советскому Союзу Прибалтийских государств и бывшей территории Восточной Польши. Что же касается произвольных арестов, то это явление, разумеется, не исчезло совсем из деревенской жизни в последующее десятилетие. Однако майская инструкция способствовала некоторому ослаблению репрессий, и количество «несанкционированных» арестов, проводимых в деревне лицами, не имеющими на то права, никогда больше не достигало пика, отмеченного в безумные первые годы коллективизации.
3. Исход
Для миллионов крестьян коллективизация повлекла за собой не вступление в колхоз, а уход из деревни. На каждые 30 человек, ставших колхозниками в 1929—1932 гг., 10 — оставляли крестьянский труд и становились наемными рабочими. При этом некоторые поступали на работу в совхозы, однако большинство покидало деревню совсем. В начале 30-х гг. миграция из села в город достигла беспрецедентных масштабов. Более 2,5 млн крестьян переселились в город в 1930 г., 4 млн — в 1931 г., тогда как в конце 20-х гг. в среднем переезжало около 1 млн в год. Все 12 крупнейших городов Советского Союза сильно разрослись за этот период; шесть из них — быстро растущие промышленные центры: Свердловск и Пермь на Урале, Сталинград и Горький на Волге, Сталино (Юзовка) в Донбассе и Новосибирск в Сибири — в 1929—1932 гг. удвоили и утроили свое население. Число жителей Москвы почти удвоилось — с 2 млн чел. до 3,7 млн чел. (на 181%). Следующие по величине города империи — Ленинград, Баку и Харьков — выросли почти так же резко1.
За период 1928—1932 гг. из деревни в город переселилось в общей сложности около 12 млн чел. Такой сильный отток населения был частью вынужденным, частью добровольным. Одни крестьяне насильно высылались из своих сел в связи с раскулачиванием, и почти половина из них в конце концов стали рабочими на предприятиях. Другие бежали сами из страха перед раскулачиванием или ненависти к колхозам. Третьи уезжали потому, что в результате промышленного роста в годы первой пятилетки в городах создавались новые рабочие места2.
Коммунистические теоретики 20-х гг., как правило, считали, что деревня перенаселена. Один уважаемый экономист, специалист по отходничеству, исчислял «избыток» сельского населения в 10 млн чел.; оценки других колебались от 5 млн до 30 млн3. Быстрая индустриализация должна была, по их мнению, перетянуть этот избыток в состав городской рабочей силы. Однако никто, по-видимому, не ожидал великого исхода, совершившегося в таких масштабах и с такой внезапностью в годы первой пятилетки.
Невозможно представить себе все влияние коллективизации на российскую деревню, не принимая во внимание этот исход. Количество крестьянских хозяйств в Советском Союзе сократилось с 26 млн в 1929 г. до 19 млн в 1937 г.4. Такая огромная убыль населения неизбежно означала деморализацию деревни даже в том случае, если бы колхозная система оказалась менее эксплуататорской и более привлекательной. Мужчины уезжали чаще, чем женщины, а среди покидавших деревню мужчин большинство состав-
96
ляли молодые, сильные, энергичные — у них было больше возможностей уехать. Оставшиеся в деревне часто теряли супруга или взрослых сыновей, от которых можно было бы ждать поддержки в старости.
Как это ни парадоксально, массовый отъезд крестьян одновременно и снижал вероятность активного сопротивления коллективизации, и лишал колхоз большей части его сторонников в деревне. С уходом столь многих молодых мужчин российские села теряли потенциальных предводителей вооруженных восстаний; кроме того, надежда найти работу за пределами села умеряла гнев и отчаяние крестьян. В то же самое время великий исход уносил в своем потоке значительное число «советских элементов» деревни: юных комсомольцев, которые помогали закрывать церкви и жечь иконы, пока не уезжали учиться или строить Магнитку; ветеранов Красной Армии, которых нередко посылали в другие места в качестве организаторов и администраторов; отходников и сельских ремесленников, которые могли найти работу на предприятии. Крестьянин, занимавший в 20-е гг. прогрессивную, современную, урбанистически ориентированную, просоветскую позицию, в начале 30-х гг. обладал наибольшими возможностями для устройства в городе. К 1932 г. нередко оказывалось, что самые стойкие защитники первых колхозов и самые пламенные их противники уже покинули деревню навсегда.
Те, кто оставался, были, по многим признакам, деморализованы и сломлены массовыми высылками и самой коллективизацией. Безусловно, бывают случаи, когда крестьянство даже при сильной миграции может сохранить чувство самоуважения, осознание ценности своего труда и образа жизни (стоит вспомнить Ирландию), однако такие примеры крайне редки. Деморализованную российскую деревню 30-х гг. можно сравнить с деревней в южной Италии 50-х гг., когда высокая степень эмиграции и ощущение экономического гнета привели к обесцениванию крестьянской жизни в глазах самих крестьян5. После коллективизации стало почти аксиомой мнение, что «хорошей жизни» можно добиться только за пределами села и самые смышленые из крестьянских детей непременно должны ехать в город, как только подрастут. «Умные давно из колхоза уехали; остаются только дураки», — так считали повсюду в деревне, хотя и не всегда говорили это вслух6.
ПУТИ ПЕРЕМЕЩЕНИЯ
Те почти 12 миллионов крестьян, которые в годы первой пятилетки уехали из деревни, покидали ее разными путями. Самый страшный и тернистый путь выпал раскулаченным, отбывавшим под конвоем ОГПУ в места заключения или в ссылку. Затем следует назвать паническое бегство крестьян, боявшихся раскулачи-
4 — 1682
вания или, в 1932 г., — голода. Третий путь был «нормальным» — крестьяне шли в отход, чтобы заработать денег на стороне, и не возвращались. Иногда превращение крестьянина в постоянного наемного рабочего совершалось внезапно, иногда — затягивалось на годы. Выбрать этот путь крестьян побуждали различные мотивы. Одни уезжали, потому что чувствовали отвращение к коллективизации, других манили новые рабочие места, открывавшиеся в городах и на стройках. В сознании многих мигрантов, несомненно, оба эти мотива неразрывно переплетались.
Во время кампании раскулачивания в начале 30-х гг. кулаков разделили на категории по степени опасности, которую они представляли для общества. Хуже всего было попасть в первую категорию: таких кулаков отправляли в лагеря, а тех из них, кого считали «наиболее злостными к.р. элементами», расстреливали. Семьи кулаков первой категории высылались. Комиссия Молото-ва установила приблизительное число кулаков первой категории, подлежащих отправке в лагеря, в 60 000 чел. Кулаков второй категории ОГПУ депортировало вместе с семьями в спецпоселения на Север, в Сибирь, на Урал и в Казахстан. По рекомендации комиссии Молотова депортации подлежали 150000 семей7.
Кулаков менее тяжких категорий экспроприировали (т.е. конфисковывали все имущество и выселяли их из дома), так же как принадлежащих к первой и второй категории, но от них не требовали покинуть район проживания, и местные власти должны были проследить за их обустройством на самых плохих землях. В придачу к официальным категориям тут же появилась неофициальная — «самораскулаченные». Это были крестьяне, попавшие или боявшиеся попасть в список на раскулачивание. Они распродавали свое имущество и бежали, не дожидаясь экспроприации. Между тем, подобные действия считались противозаконными: согласно указу правительства от 1 февраля 1930 г. кулацким семьям запрещалось продавать имущество и самовольно покидать место жительства8.
Наиболее сильный и драматический эффект произвела первая волна раскулачивания в 1930 г., однако вторая кампания 1931 г. превосходила ее по своим масштабам почти вдвое (по недавно полученным из бывшего Советского Союза данным, была раскулачена четверть миллиона хозяйств). Экспроприации и высылки продолжались и в 1932 г., и в первые месяцы 1933 г. Районные и областные руководители с головой ушли в это дело, не обращая внимания на попытки центра снизить темпы и стенания перегруженных работой должностных лиц в местах ссылки. Само собой, «планы», намеченные комиссией Молотова, были многократно перевыполнены, во всяком случае в отношении высылки. Недавно обнаруженные в архивах материалы позволяют довести предполагаемое число семей, раскулаченных и сосланных в 1930 и 1931 гг., до 381000. Согласно памятной записке, посланной Сталину Г.Ягодой, главой ОГПУ, в январе 1932 г. 1,4 млн чел. были
98
высланы и переселены на Урал, в Сибирь, Казахстан и Северный край. Хотя высылки, по самым скромным оценкам, продолжались еще 18 месяцев, цифра Ягоды, по-видимому, не была превзойдена, учитывая высокую смертность среди спецпереселенцев в пути и на новом месте. Когда в начале 1935 г., через полтора года после того, как прекратились массовые депортации, в спецпоселениях провели перепись, там жили почти 1,2 млн кулаков и членов их семей^.
Около 60% сосланных кулаков в конце концов стали работать на производстве, где после нескольких первых лет их положение уже мало чем отличалось от положения остальных (вольных) рабочих, разве что ссыльным не разрешалось покидать место ссылки. В начале 1935 г. примерно 640000 сосланных кулаков и членов их семей трудились на промышленных предприятиях, составляя отдельный корпус огромной (более 10 млн чел.) армии крестьян, вступивших в ряды наемной рабочей силы в первой половине 30-х гг. Ю.
После десятилетий почти полного молчания о жизни сосланных кулаков начали появляться мемуары и записи устных рассказов. К наиболее примечательным произведениям такого рода относятся воспоминания Ивана Твардовского, брата поэта Александра Твардовского. Их отец Трифон Твардовский был кузнецом в одном селе Западной области. К началу коллективизации Александр уже уехал учиться в Смоленск, собирался вступить в партию и начал приобретать известность как «пролетарский поэт». Весной 1930 г. семью Твардовских обложили тяжелым индивидуальным налогом, и отец скрылся, уйдя в отход — в Донбасс. Годом позже, после лихорадочных и бесплодных скитаний Ивана и его старшего брата Константина по Волге, Черному морю и Донбассу, семью раскулачили. Всех, кто оставался дома, забрали в райцентр, чтобы отправить в ссылку. Там к ним присоединились Константин, сидевший в тюрьме в Смоленске (по-видимому, за неуплату индивидуального налога), и Трифон, взятый под стражу сразу по возвращении из Донбасса. Александр, который, возможно, знал, а возможно, и не знал, что случилось с его семьей, остался в стороне и отделался сравнительно легко, хотя следующие пять лет жизнь его была омрачена тем, что в любой момент постыдная тайна — наличие раскулаченного отца — могла раскрыться и тогда его карьера рухнула бы.
После раскулачивания семью Твардовских запихнули в товар ный поезд вместе с другими ссыльными и отправили на Урал, где несколько лет прошли в скитаниях с места на место, безуспешных попытках вернуться на Смоленщину, постоянной борьбе за суще ствование и за сохранение связи между членами семьи. Они под держивали контакты с родным селом: друживший с ними сосед играл для ссыльных Твардовских роль «почтового ящика», но через несколько лет им пришлось признать, что вернуться они не смогут. Тогда они стали добиваться получения паспортов и ГОрОД- ^в УУ
ской прописки, чтобы заложить более прочный фундамент новой жизни — жизни городских рабочих. В конце концов, в разной степени преисполнившись ожесточения против существующего строя и Александра, ставшего к середине 30-х гг. восходящей звездой советской литературы, они кое-как приспособились к новому существованию в качестве рабочих и городских жителей11.
Многие нераскулаченные или раскулаченные, но не высланные крестьяне бежали из деревни, боясь, что их постигнет такая же судьба. Из всего числа крестьян, официально раскулаченных в 1930 — 1932 гг. (приблизительно 600000 семей), выслано было, наверное, около половины. Из оставшихся некоторое, неизвестное нам, число расстреляли или отправили в Гулаг, а всех прочих, выселенных из домов и лишенных всего имущества, оставили на произвол судьбы. В принципе местные власти должны были переселить этих кулаков третьей категории на бросовые земли в пределах района, но на практике такое вряд ли случалось. Большинство бежало из деревни и находило работу в городе. Наравне с ними бежали и члены четверти миллиона семей, называвшихся «самораскулаченными», т.е. те, кто продавал имущество и скрывался прежде, чем у государства доходили руки до экспроприации. Несколько миллионов крестьян — мужчин, женщин и детей — покинули деревню подобным образом12.
Материалы, касающиеся таких побегов, разрознены и неполны. В Смоленском архиве есть беглые упоминания о ряде случаев. Крестьянин по фамилии Балашев до 1921 г. работал на производстве, но в 20-е гг. вернулся к земле. Он преуспел, и в результате получил в 1931 г. индивидуальное «твердое задание», не только обременительное само по себе, но и опасное, потому что «твердозаданец» был ближайшим кандидатом в кулаки. Попав в категорию «твердозаданцев», он сразу покинул деревню и вернулся к жизни рабочего на производстве. В деревне Щетинино «кулак Горенский продал дом, кузницу, имущество, до основания вырубил лес, уехал в Гжатск, где купил дом, оставил в нем семью и сам уехал в Москву». Локшина, вдова мельника, после того как в 1932 г. ее лишили права голоса, уехала в Москву и стала работать на кожевенном заводе. В Комаричском районе четыре мельника бросили свои мельницы и бежали13.
Иногда эти отрывочные сведения дают нам некоторое представление о процессе и механизме отъезда. Так, кулаки, проживавшие в поселке Покровщина Западной области, провели собрание и решили: «Нам сейчас остается только одно, — скорее сниматься с места и скорее уезжать, пока еще не арестованы». Из Ставропольского края 1 марта 1930 г. поступило донесение, что «кулацкие хозяйства ночью нагружают свое имущество на подводы... и увозят в неизвестном направлении». Для таких отъезжающих было весьма желательно, хотя и не жизненно важно, иметь документы, удостоверяющие их некулацкое происхождение. Петр Щербаков из села Верное Западной области был раскулачен, но
100
подкупил председателя сельсовета, подарив тому швейную машинку, и получил документ о том, что является •«середняком»; оба вместе пили всю ночь, после чего Щербаков навсегда покинул село. Группе раскулаченных крестьян из Мордовии не так повезло с документами, зато их односельчане создали свое землячество на московском автозаводе, так что раскулаченным удалось получить там работу и места в заводском общежитии1'*.
«Лысый Митрофан» из родной деревни писателя Михаила Алексеева Выселки в Саратовском крае бежал от раскулачивания в казахские степи, оставив жену и детей. В деревне его больше не видели, но, по непроверенным слухам, он позже стал председателем колхоза-миллионера в Казахстане. Приблизительно в это же время уехали из Выселок и многие другие. Деревенский летописец Иннокентий Данилович даже составил список:
«В Саратове их около двухсот — к ним следует прибавить потомство, родившееся уже в городе и знавшее о Выселках лишь по рассказам отца да матери; в Алма-Ате — десять; в Новосибирске — пять; в Воркуте — семь; на Камчатке — одиннадцать, на Сахалине — десять».
Среди уехавших был, например, середняк Епифан Леснов, работавший впоследствии на стройках и заводах в Москве и Киеве. Он, как рассказывал Иннокентий Данилович, «испугался колхоза, заколотил наглухо окна, жену под мышку — и айда в город. Взял я грех на свою душу — раздобыл ему в сельском Совете нужную справку. Укатил мой Епифан. Выпили с ним на прощание поллитровку — и все...»15.
Для многих уехавших важнейшим побудительным мотивом служил соблазн городской жизни и работы на производстве. Быстрый рост индустриальной рабочей силы начался в 1929 г. В 20-е гг. найти работу на заводе было трудно, в промышленности царила сильная безработица, и профсоюзы делали все возможное, чтобы удержать предприятия от найма новоприбывших из деревни, не имеющих профсоюзного билета. Профсоюзы и в 1929 г. относились к наплыву крестьян в город без всякого энтузиазма, в частности, потому, что согласно первому пятилетнему плану даже к концу пятилетки (1932 г.) предполагалось существование около полумиллиона безработных. Однако в начале 1930 г. биржи труда с трудом могли обеспечить предприятия достаточным количеством рабочих, несмотря на то что на них были зарегистрированы свыше полумиллиона безработных, и всю первую половину года периодически выражалась острая тревога по поводу нехватки рабочих рук в развивающихся отраслях промышленности16.
С этого момента и до временного кризиса в 1932 г. спрос на рынке рабочей силы превышал предложение. Крестьяне, покидающие деревню, — четыре пятых из них находились в трудоспособном возрасте (16 — 59 лет) — без труда находили работу по причине большого спроса на неквалифицированную рабочую силу в промышленности, строительстве, государственной торговле и об-
101
щепите. Большинство из них приезжали в город сами, часто еще не имея ясного представления, являются ли они мигрантами или отходниками, которые рано или поздно вернутся в деревню. Некоторых набирали предприятия; в принципе они должны были заключать с колхозами договоры по оргнабору и вербовать рабочих из числа колхозников, но на практике брали любого, кто являлся на сборный пункт. (В донесении 1931 г. из Центрального земледельческого района отмечалось, что из 22000 крестьян, набранных в одном районе для работы на шахтах Донбасса, «довольно значительный процент» оказались членами кулацких семей.) В Советском Союзе за этот период удвоилось общее число наемных работников с ежемесячным окладом, и были созданы 16 — 17 млн новых рабочих мест. По меньшей мере 10 млн новых рабочих составляли крестьяне10.
Невозможно определить точно, скольких отъезжающих крестьян «притягивала» промышленность, а скольких «отталкивала» коллективизация. Нет никаких сомнений в том, что с открытием новых рабочих мест в промышленности после «мертвого сезона» в период революции, гражданской войны и нэпа многие уехали бы искать работу в город при любых обстоятельствах. Когда работа в городах была доступна, молодые и бедные крестьяне постоянно отправлялись туда за лучшей долей. Подобный путь описан в воспоминаниях Н.П.Сапожникова, крестьянина из бедной семьи уральских казаков, ставшего знатным сталеваром в Магнитогорске. Сапожников закончил шестой и последний класс местной школы в конце 20-х гг. «...На этом мое образование закончилось, — пишет он, — восьмилетка была в городе, ехать туда было не на что. В то время до нашей станицы дошли слухи, что у горы Магнитной будут строить чугуноплавильный завод... Слух о том, что у горы Магнитной величайший в мире завод строиться будет, взбудоражил всех — и старых и малых. Рассказывали, что народу туда едет видимо-невидимо. Собрались и мы: я и двоюродный брат»18.
Конечно, нам не дано знать, имелись ли у Сапожникова другие причины для отъезда, кроме тех, о которых он счел нужным написать в своих воспоминаниях, опубликованных в сборнике, прославляющем советскую индустриализацию. Скорее всего, им, как и многими другими людьми, двигали смешанные мотивы. Молодой крестьянский паренек из семьи, оказавшейся после коллективизации в тяжелом положении, мог покинуть деревню как из-за семейных проблем, так и из-за собственного стремления в город. Точно так же и сын раскулаченного, бежавший из села и нашедший пристанище на заводе, мог «сочинить» историю своего отъезда в сапожниковском духе и поверить в собственное сочинение.
Среди уезжавших в город были крестьяне, сравнительно хорошо настроенные по отношению к коллективизации. Как это ни покажется парадоксальным, но таково было естественное следствие того факта, что меньшинство сельских жителей, имевших в 20-е гг.
102
городскую, советскую ориентацию, одинаково способны были как поддерживать колхозы, так и приветствовать новые возможности, открывавшиеся в городе. Эту группу «покидающих, любя» составляли отходники, сельские ремесленники (кузнецы, портные, строители), которым проще было стать индустриальными рабочими, молодежь, вовлеченная в орбиту комсомола, которая рассеивалась в самых разных направлениях (учеба, служба в армии, работа на производстве). Многие из бывших красноармейцев, столь зримо присутствовавших на селе в эпоху, предшествовавшую коллективизации, тоже исчезли оттуда в начале 30-х гг., по-видимому, перейдя в городскую промышленность или разраставшийся бюрократический аппарат.
Беглый портрет крестьянина, не так уж плохо относящегося к колхозу, но собравшегося уезжать, можно найти в воспоминаниях Е.Герасимова о коллективизации в Спасе-на-Песках. Как-то раз в 1930 г., проезжая деревню Макрушино, Герасимов застал любопытную сцену: молодой парень-колхозник тащил за рога обобществляемую корову, а бывшая ее владелица держала животное за хвост, крича, что не отдаст. Муж этой женщины стоял, молча наблюдая за событиями: «Его хата с краю, он хоть и записался в колхоз, но вербовщик, приехавший из города, уже завербовал его на ударную стройку пятилетки — в кармане и аванс, и договор. А за бабу свою он не ответчик. Ну что с ней поделаешь? Известно — темнота, несознательность, дурость одна деревенская»19.
Среди отъезжающих были и настоящие колхозные энтузиасты. Например, 18-летний Николай Миняев из Московской области пламенно защищал колхоз и ссорился по этому поводу с отцом. В результате подобных ссор в деревне не стало места для них двоих — и сын уехал:
«В 1929 г. мне пришлось вести большую "войну" с отцом, который не хотел вступать в колхоз... Я ушел от него. Стал жить у своего приятеля, комсомольца Ивана Климова. Вскоре мы с Климовым поехали в Баку, и я поступил на судостроительный завод. Комсомольская организация мобилизовала меня в торговый флот Каспийского бассейна. Там я работал на судне матросом второго класса».
Тем временем Миняев-старший вступил в колхоз. Через несколько лет Николай вернулся, женился на деревенской девушке, но в 1935 г. снова стал подумывать об отъезде. Не то чтобы у него убавилось энтузиазма в отношении колхоза — просто и он, и его жена закончили семилетку, а это значило, что им, как и множеству других молодых энтузиастов 30-х гг., нужно было уехать, чтобы продолжить образование. Она собиралась стать актрисой. Он хотел быть инженером20.
Писатель М.Алексеев показывает еще один случай отъезда энтузиаста, связанный на этот раз со стремлением сделать карьеру на советской работе. Мишка Зеленов, секретарь и комсомольской,
103
и партийной ячеек в родной деревне писателя Выселки, был в начале 30-х гг. «самым большим активистом на деревне», одним из первых организаторов колхозов и нес личную ответственность за снятие колоколов с местной церкви. По версии односельчан, «в самое-то худое время Мишка в город подался, испужался, знать, трудностей».
У Зеленова, конечно, была своя версия происшедшего. «Меня выдвинули», — говорил он. Зеленое получил высокий административный пост в Саратове, периодически наезжал в свою деревню и предавался воспоминаниям о героической борьбе за коллективизацию и первых днях колхоза21.
В июле 1932 г. многие выступавшие на Третьей украинской партийной конференции сообщали, что из-за голода крестьяне украинских сел бегут в Москву, Ленинград, на Северный Кавказ, в украинские города в поисках пищи и средств к существованию. Социалистический эмигрантский журнал привел одно такое сообщение: «На юго-востоке... деревня голодает. Железнодорожные станции Украины, Дона и Северного Кавказа и пр. хлебородней-ших в прошлом районов теперь переполнены толпами голодающих крестьян из ближайших деревень, которые умоляют проезжающих дать "корочку хлеба"...»".
Создался значительный контингент крестьян-беженцев, бродивших по стране. В 1933 г. М.И.Калинин получил слезное письмо от крестьян, которые в 1932 г. были исключены из колхоза и «сделались бродячими по всему Советскому Союзу». Обойдя Сибирь, Среднюю Азию, Северный Кавказ и даже Дальний Восток, «многие вернулись на свое родное место и теперь не имеют крова и куска хлеба». Около 40000 крестьян бежали из голодающих районов из-под Саратова и Куйбышева в 1932 — 1933 гг., найдя пристанище в Гавриловском районе Тамбовской области. Им повезло больше, чем другим: по сообщению от 1937 г., они получили землю и лошадей как единоличники и неплохо зарабатывали на жизнь извозом23.
В Казахстане массовый исход принял особенно драматический характер. В 1932 г. целое племя казахов-кочевников — «не менее 2 млн», по недавно появившимся советским материалам, — свернули свои юрты, сели на лошадей и ушли из колхозов, где были поселены. Одни пересекли китайскую границу, другие отогнали свои табуны в Поволжье, третьи не знали, куда податься. «Огромные толпы» казахов заполонили железнодорожные станции и города Казахстана. Караганда, по словам очевидца, «буквально была окружена кольцом откочевщиков»24.
Многие украинские крестьяне подавались на шахты Донбасса. Но некоторым путешествие было не по силам, как, например, деду советского журналиста Юрия Черниченко. Двоюродный брат Черниченко рассказывал:
«Мы в то время жили в Донбассе, в Сталино, в тот год к нам приехало 15 человек родственников. Знаешь, страшно вспомнить
104
то время: опухшие, голодные... Отец спросил у теток, почему старика не привезли. Тетя Варя сказала — очень плохой, не доехал бы... "Но вы-то доехали — и он бы доехал". Стали по возможности собирать и отправлять посылки. Но дедушка был слаб ходить на почту и поручал получать посылки невестке Степаниде, она получала и кормила свою семью, все остались живы, а дедушки не стало...»25.
Коммунисты тоже бежали из голодающих районов. Около 30000 коммунистов исчезли с Северного Кавказа в разгар голода, а в Казахстане половина всех членов партии покинула свои посты26. В автобиографическом романе М.Алексеева «Драчуны» описывается саратовская деревня после того, как последние заготовительные отряды покинули ее осенью 1932 г., вывезя последние запасы хлеба по «встречному плану», и пришла зима. Деревня казалась забытой, брошенной всем остальным миром на произвол судьбы. Среди тех, кто уехал, был и отец писателя, председатель сельсовета, который незадолго до этого развелся с женой. Он получил работу в райцентре и переехал туда с другой женщиной27.
Анализ миграции городского населения в Советском Союзе показывает превышение прироста над убылью на 2,7 млн чел. в
г. — меньше, чем рекордные 4,1 млн чел. в 1931 г., но выше, чем показатель предыдущего 1930 г. Впрочем, еще за не сколько месяцев до введения паспортов и городской прописки в
г. передвижение по железной дороге было запрещено без специального разрешения, власти старались не пускать крестьян в большие города и выгоняли нищих. Сотни тысяч крестьян были арестованы на станциях и отправлены назад в свои деревни28.
Кроме различных возможностей, предоставлявшихся в городе, у крестьянина, решившего покинуть деревню и/или колхоз, был еще один выбор — пойти работать в совхоз в качестве наемного работника. Государственные планы модернизации сельского хозяйства предусматривали как создание колхозов, так и широкое развитие государственных хозяйств. Географическое положение совхозов совпадало с положением прежних коммерческих хозяйств и плантаций, чьи земли совхозы отчасти унаследовали: они были сконцентрированы в Поволжье, на Северном Кавказе, в Западной Сибири, на Украине и в Крыму.
С августа 1929 г. по август 1930 г. число лиц, работавших в совхозах, выросло с 663000 чел. до 1100000 чел., а в августе 1931 г. составило более 2 млн чел. Своего максимума оно достигло в августе 1932 г. — почти 2,7 млн чел. Только 44% от этого количества составляли постоянные работники; за следующие 5 лет количество постоянных работников уменьшилось незначительно, а вот общее число работников, включая временных, резко упало. В 1937 г. в совхозах работали только 1,2 млн чел. (66% из них — постоянно). Совершенно очевидно, что крестьяне использовали совхозы как убежище на время голода, так же как бездомные
105
дети использовали детские дома зимой. Когда кризис миновал, многие вернулись в деревню и снова стали работать в колхозе29. В отличие от крестьян, совхозные рабочие получали вожделенную социальную категорию «пролетарии» (как батраки в 20-е гг.), но в начале 30-х гг. это их преимущество было одним из очень немногих — и его главный практический результат, преимущественный доступ к среднему и высшему образованию для детей, в глазах большинства сельчан стоял в лучшем случае на втором месте. Совхозы начала 30-х гг. не могли привлечь крестьян из-за плохих условий быта и низкой оплаты труда. Работать в совхозе, как правило, означало жить в наскоро возведенных временных жилищах самого примитивного типа — бараках и землянках. Типичное совхозное жилье начала 30-х гг. не имело ни отопления, ни кухни, ни водопровода, ни ванной. Рабочие скудно питались в общей столовой, где часто не хватало самого необходимого, например ложек и мисок. До 1933 г. совхозным рабочим запрещалось держать скот или возделывать приусадебные участки. Крестьянам довоенного периода пойти в совхоз казалось не лучше, а возможно, и хуже, чем в прежние времена пойти батрачить на местного кулака, когда заставляет нужда30.
РЕГУЛИРОВАНИЕ ПЕРЕМЕЩЕНИЯ
После революции внутренние паспорта были упразднены. В 20-е гг. правительство предпринимало лишь формальные попытки контролировать или отслеживать перемещения крестьян31; главным образом они регулировались нехваткой рабочих мест и усилиями профсоюзов, стремившихся ввести в промышленности практику найма на работу только членов профсоюза. Естественно, когда в 1929 г. поток крестьянских мигрантов стал нарастать, профсоюзы забили тревогу по поводу «крестьянизации» рабочей силы в промышленности, поскольку уровень безработицы тогда все еще оставался высоким, а промышленный рост, предусмотренный первым пятилетним планом, был делом будущего. Партийное руководство тоже забеспокоилось, ибо, как показывали проверки, те, кто покидал деревню и устраивался на производство, были не бедняками, как в прошлые годы, а зажиточными крестьянами и кулаками, не видевшими для себя будущего в занятии сельским хозяйством3^.
Тем не менее, руководство не предпринимало каких-либо серьезных мер, чтобы остановить этот поток, а за несколько месяцев соотношение спроса и предложения на рьшке рабочей силы изменилось. К лету 1930 г. многие развивающиеся промышленные предприятия стали испытывать острую нехватку рабочих рук, а биржи труда оказались неспособны удовлетворить их требования. Высшее руководство, занимавшееся вопросами труда и занятости,
106
уже обдумывало в панике, какие меры принуждения и поощрения могут заставить крестьян в достаточном количестве уехать из деревни и поступить на производство. Как это ни кажется смешно в свете последующего развития событий, но они боялись, что коллективизация помешает притоку крестьян в промышленность. Один руководитель мрачно заметил в январе 1930 г.:
«Жизнь в деревне начинает улучшаться, и не будет такой притягательной силы идти в город на заработки, которая была до настоящего времени. Не будет той колоссальной нужды, которая гнала многих идти в город на заработки»33.
Главной причиной тревоги служило то, что новые коллективные хозяйства энергично отстаивали свое право контролировать перемещения своих членов (как это делала община в пореформенную эпоху) и, вдобавок, пытались вычитать из платы колхозникам все их заработки, полученные на стороне. Работники, ведавшие вопросами труда и занятости, сообщали о сильнейшем сопротивлении колхозных правлений отходничеству колхозников в 1929 — 1930 гг. Вербовщики с промышленных предприятий стали часто натыкаться на резкий отпор колхозной верхушки («Когда мы указываем, что это неправильно, что срывает строительство, они отвечают, у нас свое строительство») или вынуждены были платить колхозу большие деньги за то, чтобы он дал своим членам разрешение на отъезд34.
Столкновение интересов колхозов, желавших удержать при себе своих членов, и промышленных предприятий, стремившихся завербовать их на работу, было воспроизведено и на уровне высокой политики. Первые полтора года после начала коллективизации (в 1930 г.) мощная промышленная бюрократия (возглавляемая членом Политбюро Серго Орджоникидзе) настойчиво добивалась признания приоритета нужд промышленности в решающие годы первой пятилетки, тогда как правительственное учреждение, занимавшееся вопросами коллективизированного сельского хозяйства (Колхозцентр, возглавляемый Я.А.Яковлевым), боролось за интересы колхозов35.
Несмотря на сильнейший отток крестьян из деревни в город и на промышленные стройки в последующие два года, промышленность продолжала страдать из-за острой нехватки рабочих рук, потому что не существовало эффективного механизма, который мог бы взаимно регулировать предложение рабочей силы (поступавшей в основном из областей Центральной России) и спрос на нее (существовавший в первую очередь на новых предприятиях и стройках в отдаленных частях страны). Советские «промышленники» чувствовали, что дефицит рабочей силы ставит первый пятилетний план под угрозу срыва.
Партийное руководство, сильно недооценивавшее в тот момент масштабы миграции из села после коллективизации, согласилось с точкой зрения «промышленников». Нет больше смысла рассчитывать на самотек рабочей силы из деревни, сказал Сталин на встре-
107
че с руководителями советской промышленности в июне 1931 г. В результате успеха коллективизации, уничтожившей нищету в деревне, традиционное «бегство мужика из деревни в город» осталось в прошлом36. (Когда в конце года были подсчитаны цифры миграции село — город, оказалось, что превышение количества приезжающих в город над количеством отъезжающих оставалось на своем обычном высоком уровне: 4 млн чел. в год.)
Решение, принятое по итогам июньской встречи, демонстрировало победу интересов промышленности над интересами коллективизированного сельского хозяйства. Указ правительства об отходничестве, изданный 30 июня 1930 г., явился ответом на мольбы промышленных руководителей и со всей определенностью устанавливал, что колхоз не имеет права препятствовать отъезду своих членов для работы на производстве, а, напротив, должен всячески содействовать ему. Согласно указу колхозу не позволялось вычитать из платы колхознику его заработки на производстве. Колхозники, бывшие в отходе, имели равные права на долю урожая с теми, кто участвовал в уборочной. Если отходник из колхоза решал остаться рабочим на предприятии, ему не нужно было для этого разрешение колхоза, а колхоз не должен был наказывать членов его семьи, оставшихся в деревне37.
Закон о паспортизации
Уже через восемнадцать месяцев власти снова пришлось задуматься, так ли желательна неконтролируемая миграция из села в город. Главной причиной для этого послужили вспыхнувший в основных зернопроизводящих районах Советского Союза голод и последовавшее с наступлением зимы 1932 г. бегство умирающих от голода крестьян в города, вызвавшее кризис. Города, и так уже переполненные мигрантами прошлых лет, оказались не в силах справиться с новым притоком. Карточная система, от которой зависело выживание городских жителей, грозила полностью рухнуть. Кроме того, промышленность, хаотично развивавшаяся в последние три года, исчерпала возможности роста, и ее нужда в рабочей силе временно была удовлетворена с лихвой.
Три важных меры, предпринятые зимой 1932 — 1933 гг., должны были оградить города от наплыва голодающих крестьян и предотвратить развал городской системы снабжения и распределения. Во-первых, закон о трудовой дисциплине призван был сократить число пользующихся рабочими карточками и смягчить жилищный вопрос. Во-вторых, реорганизация карточной системы предотвращала дублирование карточек и связывала их получение непосредственно с местом работы. Третьей мерой, наиболее важной и имевшей самые длительные последствия, являлось введение внутренних паспортов и городской прописки, направленное на то, чтобы остановить приток крестьян в города и, в то же время,
108
очистить города от нежелательных и нетрудовых элементов. Кроме того, приближалось время весеннего сева, и новый закон должен был ограничить отъезд крестьян из колхозов.
Хлебные карточки были введены в советских городах в
г., а в следующие несколько лет большинство основных про дуктов питания и промышленных товаров стали отпускаться по карточкам. Число людей, охваченных централизованной системой распределения хлеба по карточкам, выросло с 26 млн чел. в
г. до 33 млн чел. в 1931 г. и 40 млн чел. — в 1932 г. Это значит, что государству в 1932 г. пришлось кормить на 7 млн ртов больше, нежели в 1931-м, и подобное увеличение количества едо ков превосходило даже 4-миллионный прирост городского населе ния в том же году38.
Закон о трудовой дисциплине от 15 ноября 1932 г. не просто давал директорам предприятий право, но и вменял в обязанность увольнять любого работника, прогулявшего хотя бы один день без специального на то разрешения. В законе подчеркивалось, что уволенные работники должны быть немедленно выселены с ведомственной жилплощади и лишены карточек. В качестве дополнительной меры правительство в начале декабря реорганизовало карточную систему, передав непосредственно в ведение предприятий как выдачу карточек, так и отпуск по ним товаров своим работникам через систему закрытых распределителей. Администрация предприятий стала выдавать новые карточки в начале года, и тут же посыпались сообщения, что из системы распределения удалось исключить «десятки тысяч прихлебателей» и «мертвых душ»39.
Новый закон, провозглашающий введение внутренних паспортов, был издан 27 декабря 1932 г. Паспорта выдавались «всем гражданам Союза ССР в возрасте от 16 лет, постоянно проживающим в городах, рабочих поселках, работающим на транспорте, в совхозах и на новостройках», — иными словами, всем городским жителям, и наемным работникам, даже совхозным, но не крестьянам (неважно, будь они колхозниками или единоличниками). Чтобы получить паспорт, граждане должны были быть прописаны в городе по новой, более строгой системе. В новом паспорте указывались полное имя владельца, его возраст, национальность, социальное положение, постоянное место жительства и место работы.
С введением городской прописки население городов подверглось основательной чистке. Лицам, которые не работали на государство, не учились и вообще «не занимались общественно-полезным трудом» (за исключением инвалидов и пенсионеров), отказывали в прописке и изгоняли их из города. Особые усилия направлялись на то, чтобы избавить рабочие поселки и стройки от «укрывающихся кулацких, уголовных и иных антиобщественных элементов». Лицам, не получившим паспортов, предписывалось покинуть город в течение 10 дней40.
109
Введение вновь внутренних паспортов, долгое время поносившихся как инструмент репрессий при царизме, было шагом неожиданным и (для многих коммунистов старшего поколения) непонятным. Авель Енукидзе, секретарь ЦИК, находившийся, как и многие, в замешательстве, пытался, однако, объяснить, что данная мера не является такой регрессивной и репрессивной, какой кажется. Правительству, говорил он, не оставалось иного выбора, кроме как принять меры, чтобы остановить «это бессмысленное, иногда бесцельное, передвижение огромной массы населения из деревни в город и из города в город» в последние восемнадцать месяцев. Косвенным образом Енукидзе признал некий антикрестьянский оттенок этих мер, заявив, что они направлены на защиту городов не только от городских тунеядцев и преступников, но и от «гастролеров из деревни, которым не по душе пришлась коллективизация сельского хозяйства»41.
Как указывал японский историк Нобуо Шимотомаи, настроение партийного руководства в то время приобрело характер отчетливо антиколхозный, а не только антикулацкий, как прежде. Нападки на крестьянство — иногда под маской нападок на кулаков, иногда открыто — занимали центральное место в комментариях по поводу новых законов. В редакционной статье одной газеты, комментирующей закон о прогулах, цитировалось изречение Ленина о том, что работник-крестьянин стремится дать советскому государству «работы поменьше и похуже и содрать с "него" денег побольше» 42.
Месяц спустя «Правда» в своей передовице, посвященной закону о паспортизации, пошла еще дальше. Неохотно признавая, что среди вновь набранных рабочих есть люди, достойные восхищения, особенно «рабочая молодежь и колхозники», она напирала на то, что новостройки заполонили «сотни классово-чуждых пролетариату и деклассированных людей, которым чудятся возможности легкой наживы, которые пытаются разложить, ослабить железную дисциплину социалистического труда». В представлении «Правды» прибытие новых рабочих-крестьян превратилось в злонамеренное вторжение кулаков, решивших «прожить привычно, т.е. паразитически, не трудясь». «Разоблачаемые в "родных" селах и районах передовыми колхозниками, партийцами и комсомольцами, сотни и тысячи кулаков и их приспешников... устремляются, проникают в жизненные центры нашей страны — в города, на новостройки, в рабочие поселки»43.
Все это, несомненно, отражало растущие параноидальные страхи высшего руководства, непосредственно связанные с голодом и его замалчиванием. В одной примечательной секретной телеграмме по поводу бегства крестьян, разосланной партийным организациям приблизительно в то же время, Сталин и Молотов заявляли, что бегство крестьян в города определенно не является результатом голода. Массовый исход крестьян с Украины, утверждали они, организовали «враги Советской власти — эсеры и
НО
агенты Польши», которые хотят вести в России антисоветскую пропаганду и подстрекать против советской власти крестьян в районах, не затронутых голодом44.
Газетные комментарии подчеркивали связь закона о паспортизации с законом о прогулах, принятым в ноябре 1932 г., который обязывал промышленные предприятия увольнять прогульщиков, лишать их карточек и выселять из ведомственного жилья45. После того как закон о прогулах ударил по «псевдорабочим, дезорганизующим труддисциплину и разваливающим производство», «последующим шагом» было «вытряхнуть этот социальный мусор из переуплотненных городов, разгрузить наши индустриальные центры от людей, не несущих никакого общественно-полезного труда». Удаление «отбросов», заявляли газеты, позволит «сохранить жилищный фонд советских индустриальных центров для размещения тех кадров рабочих и специалистов, в которых страна действительно нуждается». Оно даст возможность избавиться от кулаков, воров, спекулянтов и мошенников и справиться с проблемами, вызванными наплывом раскулаченных, часть которых стала спекулировать карточками. «Очистить, разгрузить наши города, новостройки, рабочие поселки от этих паразитических элементов — важнейшая задача», — утверждала «Правда», настолько важная «политическая задача», что решать ее призвано ОГПУ46.
Паспортизация началась в Москве 5 января 1933 г., и первыми паспорта получили рабочие девяноста ведущих предприятий. Лица, не получившие паспортов, должны были покинуть город, и им запрещалось селиться в любом другом городе, где введена паспортная система47.
«Нью-Йорк тайме» сообщала в январе, что «уже понемногу начался отъезд людей из Москвы» в связи с близящейся паспортизацией. По словам газеты, «недавняя проверка, проведенная на Московском электрическом заводе, одном из крупнейших заводов города, показала, что из 5000 (примерно) его работников 800 человек не получили паспортов, так как были отнесены к категориям бывших белогвардейцев, кулаков, лишенцев и уголовных преступников». Несколько недель спустя та же газета поместила на своих страницах репортаж из Финляндии о «поголовном выселении» из Ленинграда лиц, не получивших паспортов: «Огромные толпы народа бродят по дорогам вокруг города в поисках пищи и крова... Некоторых из выселенных отвезли по железной дороге в сельскую местность минимум за 60 миль от Ленинграда»48.
По словам, очевидно, хорошо информированного корреспондента «Социалистического вестника», первоначально планировалось выселить из одной только Москвы полмиллиона человек, но «несчастные, обреченные на разорение, привели в движение такие силы, что число выселяемых сейчас уменьшено: из Москвы, например, выселят лишь 300 тыс. (!), а всего из крупных городов предполагают выселить 800 тысяч. Выселяемые обречены прямо
111
на голод и бездомность, т.к. у них отбирают продовольственные карточки и им не позволяют взять с собою свою мебель и даже размер разрешенного к вывозу платья ограничен». Помимо тех, кому было отказано в прописке и предписано выехать из города, многие люди из группы риска (бывшие кулаки, нэпманы и прочие, лишенные права голоса), по всей видимости, покинули его добровольно, как только была объявлена паспортизация4^.
Весна 1933 г. ознаменовалась ревностными усилиями по выявлению и удалению из промышленности «классовых врагов», а также сокращению штатов работников, которых нужно было оплачивать и обеспечивать карточками. В Баку, где нашли работу многие раскулаченные, «напряженная борьба на заводах за чистоту рабочих рядов» началась вместе с паспортизацией и продолжалась всю первую половину 1933 г. Было арестовано множество «кулаков», и в отчетах намекалось на забастовки и «умышленную дезорганизацию производства»5*).
В то же время правительство приняло меры, чтобы не дать голодающим крестьянам покидать свои села. Препятствуя бегству голодающих с Украины в РСФСР, в большей части которой голода не было, советский нарком путей сообщения А.А.Андреев издал приказ, воспрещающий продажу железнодорожных билетов в сельской местности на Украине без предъявления командировочных удостоверений от местных властей; наряды ОГПУ проверяли все поезда на границе, вылавливая безбилетников. В других регионах страны тоже использовались кордоны и заградительные отряды, чтобы помешать передвижениям крестьян. Согласно недавней советской публикации, весной 1933 г. были пойманы и водворены назад в свои села 220000 крестьянских беженцев51.
Кроме того, правительство спешно приняло 17 марта 1933 г. новый закон об отходничестве, налагавший на этот вид деятельности гораздо большие ограничения. По новому закону отходники должны были получать разрешение колхоза на отъезд; каждый, кто уезжал или оставался вдали от колхоза без такого разрешения, исключался из колхоза и не мог рассчитывать на уже заработанную выплату по трудодням. В особенности «всех летунов колхозников, которые к севу самовольно уходят из колхоза, а потом к уборке и молотьбе возвращаются», новый закон предупреждал о том, что они не будут участвовать в ежегодном распределении хлеба после уборки урожая5^.
ЖИЗНЬ ПРИ ПАСПОРТНОЙ СИСТЕМЕ
Ограничения передвижения крестьян, введенные в ответ на зимний кризис 1932 — 1933 гг., надолго пережили сам кризис. Внутренняя паспортная система действовала на протяжении всей советской эпохи, а крестьяне получили право на автоматическое
112
получение паспорта не раньше 70-х гг. Точно так же осталось в силе требование, чтобы колхозники получали разрешение колхоза на отход; практически закон 1933 г. об отходничестве в целом так и не был отменен, несмотря на то что целый ряд позднейших указов и политических заявлений противоречили его статьям об исключении из колхоза53. Эти ограничения раздражали крестьян. Во время всесоюзного обсуждения новой Конституции в 1936 г. многие из них писали, что колхозники должны иметь право работать там, где хотят, а колхоз не должен отказывать им в разрешении на отъезд для работы за его пределами54.
На практике, однако, ограничения передвижения крестьян вовсе не были так строги, как в теории. Исключение составлял лишь 1933 г., первый год существования паспортной системы, когда были предприняты действительно серьезные и довольно успешные усилия, чтобы сократить отходничество и крестьянскую миграцию в город. Начиная с 1934 г., несмотря на формальные ограничения, вызывавшие раздражение и недовольство колхозников и заставлявшие их чувствовать себя гражданами второго сорта, для трудоспособных колхозников уехать на время или навсегда не являлось особой проблемой, а в иные годы, когда в промышленности не хватало рабочих рук, правительство активно поощряло их к этому.
После кризиса 1933 г. наблюдался постепенный рост городской экономики в течение 30-х гг., количество наемных работников увеличилось с 24 млн чел. в 1932 г. до 34 млн чел. в 1940 г. Это увеличение было не таким резким, как в годы первой пятилетки, когда число занятых на предприятиях удвоилось почти за четыре года, однако достаточным, чтобы требовать постоянного притока рабочей силы из деревни. По расчетам советских ученых, за период 1935 — 1940 гг. около 7 млн крестьян стали наемными рабочими. Большинство из них были колхозниками, уезжающими на работу в города. Городское население возросло с 40 млн чел. в 1933 г. до 56 млн чел. в 1939 г., что показывает соотносимые масштабы миграции из села в город55.
Это ни в коей мере не противоречило намерениям власти. Главным ее приоритетом большую часть периода 30-х гг. оставался промышленный рост, а промышленность могла развиваться, только постоянно вербуя новых рабочих из крестьян. Вряд ли колхозы были заинтересованы в том, чтобы отдавать своих лучших работников, но, как дал понять Сталин в 1931 г., там, где интересы промышленности и колхозов вступали в конфликт, побеждать должна была промышленность. И действительно, в конце 30-х гг., когда увеличившийся призыв в армию, казалось, исчерпал ресурсы рабочей силы в колхозах, Сталин, тем не менее, призвал колхозы выполнить свой долг перед промышленностью и давать ей по меньшей мере полтора миллиона молодых колхозников в год. В результате активисты-общественники Щербинского райо-
113
на на Кубани вызвали другие районы на соревнование — чьи колхозы обеспечат больше работников для производства5**.
Существовали разные способы перемещения. Для молодых колхозников основными путями служили продолжение образования и призыв в армию. Для остальных отход — временный отъезд на заработки за пределы колхоза — часто бывал первым шагом к отъезду навсегда. Масштабы отходничества из колхозов достигли примерно 4 млн чел. в год во второй половине 30-х гг., приблизительно на таком же уровне было отходничество в конце 20-х — до сильного оттока сельского населения в годы первой пятилетки57. Каждый год многие отходники возвращались в колхоз, но кое-кто и не возвращался. Порой это было следствием осознанного решения влиться в ряды городского рабочего класса, и на такое решение указывало, например, то, что человек перевозил из деревни в город жену и детей. Но зачастую осознанное решение не принималось: просто отходник все реже и реже наведывался в деревню (к своей жене и родным), пока, наконец, не переставал приезжать совсем.
Уехать из колхоза на заработки вне сферы сельского хозяйства можно было двумя способами. Первый способ представлял собой традиционный индивидуальный отход: отдельные крестьяне уезжали по собственной инициативе и искали работу самостоятельно. Многие, ушедшие работать на производство, и все, работавшие в других сферах деятельности, выбрали путь индивидуального отходничества. Второй способ назывался «организованный набор рабочей силы» (оргнабор): колхоз подписывал с промышленным предприятием договор, обязуясь послать на данное предприятие определенное количество работников на конкретный период времени; предприятие обещало обеспечить транспорт, жилье и пр. На практике метод оргнабора применялся в первую очередь для вербовки крестьян из Центральной России на работу в отдаленные местности (на лесоповал, шахты, стройки, новые предприятия Сибири и Урала и т.д.). Хотя статистика по этому вопросу скудна и крайне запутана, представляется, что в конце 30-х гг. примерно половина покидавших деревню уезжала по орг-набору, а другая половина шла в индивидуальный отход58.
Несмотря на свое название, оргнабор вовсе не являлся высокоорганизованным и умело планируемым методом вербовки рабочей силы. После упразднения в 1933 г. Наркомата труда не существовало никакого центрального правительственного органа, ответственного за набор и распределение рабочей силы. Хотя в конце 30-х гг. и предпринимались попытки рационализировать практику вербовки рабочих для производства59, рациональное планирование так и не стало ее отличительным признаком. Специалист по экономической географии описывает функционирование системы оргнабора в 30-е гг. следующим образом:
«В этом деле редко, а то и никогда не осуществлялось централизованное планирование или руководство, и вместо целенаправ-
114
ленного перемещения избытка сельского населения в местности с дефицитом рабочей силы в промышленности реальный процесс набора протекал в крайне анархических формах. Отдельные предприятия посылали вербовщиков, обещавших набрать массу потенциальных рабочих в селах, и без того страдающих от острой нехватки рабочих рук. Завербованным порой приходилось отправляться на огромные расстояния — встречаясь по пути с другими завербованными, движущимися в обратном направлении. Завербованные были неопытными сельчанами и не отвечали требованиям квалифицированного труда. Во время вербовки много денег расходовалось на выплату авансов крестьянам, уже набравшим авансы от других вербовщиков...»60.
Промышленные предприятия в густонаселенной Европейской России и на большей части Украины обычно без труда находили рабочих и без специальной процедуры оргнабора. На практике они даже предпочитали обходиться без оргнабора, потому что иначе им пришлось бы подписывать договор, гарантирующий работникам жилье, которого ни одно предприятие в 30-е гг. не имело в достаточном количестве. Например, завод «Калинин» в 1937 г. сообщал, что хотя он и нанял в этом году более тысячи рабочих, но не подписывал никаких договоров оргнабора — и не мог бы этого сделать, поскольку у него нет жилья для новых работников. На липецкой фабрике, в том же году нанявшей по орг-набору меньше 10% своих новых работников, найм рабочих «у проходной» казался гораздо более легким выходом, хотя на это смотрели косо и заводская администрация вынуждена была оправдываться за свои действия в ежегодных отчетах61.
Полезным находили оргнабор предприятия, расположенные вдалеке от ресурсов крестьянской рабочей силы: большие новые промышленные объекты на Урале, в Сибири и на Дальнем Востоке, лесозаготовки, шахты в отдаленных частях страны и т.п. Шахты и металлургические заводы Донбасса практиковали оргнабор в деревне точно так же, как вербовали рабочих в Центральной России до революции. Вся процедура была на самом деле очень схожа с процедурой вербовки капиталистическими предприятиями при царизме. Вербовщики раздавали взятки, обещали золотые горы и рассказывали заманчивые истории о чудесной жизни на шахтах и заводах, как делали их предшественники в царское время, а колхоз в данном случае играл роль прежней сельской общины62.
В принципе советский вербовщик, проводящий оргнабор, должен был приехать в колхоз, обсудить с председателем и правлением возможность отправки группы работников на свое предприятие, рассказать колхозникам об условиях труда и затем составить договор, взаимовыгодный и для колхоза, и для предприятия. Если это был вербовщик с шахты, он мог предложить колхозу уголь, разные технические услуги и дефицитные товары вроде гвоздей, стекла и труб.
115
На деле процесс вербовки протекал несколько иначе. Чтобы приступить к делу, вербовщик, по-видимому, давал взятку и председателю колхоза, и председателю сельсовета. Он редко давал себе труд подумать, какой набор промышленных товаров и услуг может быть полезен данному колхозу, а просто предлагал деньги. В документах центральной Угольной администрации подобные выплаты деликатно именовались «соцпомощью», и в 1937 г. обычная ставка была — около 10 руб. за каждого завербованного колхозника. Впрочем, вербовщики жаловались, что такая ставка слишком низка, чтобы привлечь колхозные правления, особенно если колхозники должны будут оставаться на шахтах во время уборочной63.
Угольная промышленность в 1937 г. завербовала 5145 крестьян, причем свыше 4000 из них — в колхозах, но вряд ли хоть в одном случае вербовки составлялся формальный договор. Вербовщики объясняли это тем, что, несмотря на все их усилия, колхозные правления «обычно отказываются заключать договоры... накладывающие на них какого-либо рода обязательства»64.
При некоторых обстоятельствах оргнабор мог быть делом более тягостным и принудительным, чем в описанных выше случаях. Так бывало, когда местные власти мобилизовали крестьян на краткосрочные тяжелые работы на лесозаготовках или каком-нибудь срочном строительстве. На лесозаготовки крестьяне мобилизовались со своими лошадьми, как когда-то при гужевой повинности (разница была в том, что теперь крестьянам платили). На колхозы это ложилось тяжелым бременем, вызывавшим сильное возмущение. Кроме того, состав рабочей силы на большинстве таких объектов отличался своеобразием. Северная лесная промышленность почти не имела постоянных работников и в этом отношении зависела в равной степени от Гулага и колхозов. Например, в 1937 г. в коллективе Усть-Ваенгской механизированной лесопилки трудились 115 местных жителей, 200 заключенных из колоний и 103 крестьянина, мобилизованных из Куйбышевской области. Из 13000 сплавщиков, работавших летом 1939 г. в Архангельском крае, меньше четверти составляли постоянные работники, половину — крестьяне-оргнаборщики, остальные были заключенными65.
Молодым покинуть колхоз было сравнительно легко. Во-первых, молодые мужчины, призванные на службу в армию, по окончании срока службы получали паспорт, и многие предпочитали не возвращаться в колхоз. В сталинскую эпоху, да и в течение двух десятилетий, прошедших после смерти Сталина до реформы паспортов в начале 70-х гг., это публично не признавалось, но на подобные факты часто ссылались крестьяне в своих жалобах в органы власти. К примеру, в одном письме Сталину и Калинину из Восточной Сибири приводилось такое «лучшее доказательство» бедственного положения коллективизированной деревни: «...красноармейцы, отслужившие срок службы в РККА, очень редко при-
116
виваются к колхозу, а большинство разузнают, чем в колхозе пахнет, и сматываются на производство в город»66.
Во-вторых, дорогу из колхоза открывало образование. Это касалось не только сравнительно небольшого числа колхозников, способных поступить в институты и техникумы, автоматически по окончании получавших паспорта и по большому счету никогда не возвращавшихся в колхоз67. В какой-то степени это касалось всех молодых колхозников, желавших продолжить образование после окончания местной сельской школы (в начале 30-х гг., как правило, четырехлетки; к концу десятилетия — семилетки). Если молодой колхозник или колхозница уезжали в город, чтобы закончить семь классов, шансы на то, что он или она вернутся жить в колхоз, значительно уменьшались.
Даже шестинедельные курсы колхозных бухгалтеров, водителей грузовиков или трактористов в райцентре могли дать предприимчивому молодому крестьянину билет в большой мир. В 30-е гг. таких курсов была масса, и выбор кандидатов для обучения на них являлся одной из важнейших прерогатив колхозного правления. (Были и курсы для председателей колхозов, и сообщения о председателях, уезжавших на такие курсы и больше не возвращавшихся.) Счетоводство и бухгалтерия явно представляли собой специальности, которые могли найти применение и вне колхоза. Впрочем, на практике колхозные механизаторы — колхозники, обученные водить грузовик или трактор, производить простейший ремонт механизмов или работать на токарном станке, по-видимому, пользовались даже большим спросом. В результате текучесть кадров среди колхозных механизаторов была невероятно высокой: едва обучившись, они находили работу с ежемесячным окладом на МТС, в совхозе или на заводе и исчезали из колхоза.
На это исчезновение трактористов обратил особое внимание на встрече с колхозными активистами в 1933 г. нарком земледелия Я.А.Яковлев:
«ЯКОВЛЕВ: У нас много трактористов-летунов — сегодня он здесь, а завтра где там — этого никто не знает. Мы проверяли в ряде МТС, где же их трактористы?.. Процентов 30—40 насчитают. А остальные где? А эти остальные делают так: месяц поучился, удостоверение получил — "Я тракторист" — и сбежал из села. А вы, ударники, прощаете им. Верно? Сколько у вас трактористов сменилось за последние годы? Половина? (Голоса: Больше!) Больше, безусловно! Во многих МТС на тракториста учатся сейчас столько же людей, сколько работало в прошлом году. Это значит, что многие МТС превращали в проходной двор: тракторист в одну дверь вошел, в другую вышел...»68.
Разумеется, молодым колхозным механизатором, уходившим работать в город, паспорта автоматически не выдавались, так же как и другим отходникам, решившим не возвращаться в село. Но совершенно очевидно, что если у колхозника была постоянная ра-
117
бота в городе, то легализация его статуса как городского жителя не стоила особого труда — и ни в коем случае не представляла такой чудовищной проблемы, как, например, в настоящее время получение вида на жительство для нелегальных иммигрантов в Соединенных Штатах.
Как дети, так и родители в деревне прекрасно понимали, что образование и профессиональное обучение открывают дорогу в городскую жизнь. Несомненно, именно по этой причине крестьяне в 30-е гг., как оказалось, придавали большое значение образованию. Когда в 1936 г. их попросили присылать свои замечания к проекту новой Конституции, они особенно подчеркивали важность права на образование и доступа в среднюю и высшую школу для крестьянской молодежи, несмотря на то что дети, получившие образование, как с грустью признавали некоторые, были потеряны для села и родителям не приходилось ожидать от них поддержки в старости69.
Часто крестьяне жаловались на то, что колхозные правления не отпускали колхозников на курсы бухгалтеров, водителей, трактористов и т.п.; или посылали их на курсы, но отказывались оплачивать учебу; или не разрешали окончившему курсы работать за пределами колхоза, который нуждался в работниках данной специальности70. Были и не менее пламенные жалобы на правления, не разрешавшие уезжать колхозникам, которые хотели уйти работать на производство. Колхоз не должен отказывать в таких разрешениях, заявляли в своих письмах крестьяне, надо, чтобы «...каждый трудящийся мог работать, где ему нравится... Многие колхозники имеют желание работать на заводах и могут дать хорошие показатели в своей работе и улучшить свою жизнь»71.
То, что молодые имели возможность уехать из села и действительно уезжали толпами, вызывало у старшего поколения смешанные чувства. С одной стороны, здесь была тревога о будущем (кто будет заботиться о родителях в старости, если дети уедут?) и даже обида. С другой стороны, достижения молодого поколения могли стать для старших источником гордости. Понятно, что публицисты 30-х гг. всячески старались подчеркнуть именно этот второй момент. Популярным журналистским приемом было заставлять крестьян какого-либо села (колхоза) перечислять имена своих детей или односельчан, уехавших учиться и получивших хорошо оплачиваемые городские профессии. Вот один пример:
«Три старика из села Новорусаново, Жердевского района — Тучин, Короткое и Коротин — заинтересовались вопросом, кто из их односельчан учится в средних и высших учебных заведениях и кто стал специалистом. Они подсчитали... что 75 являются студентами вузов, а 439 чел. занимаются в начальных и неполных средних школах. Сын колхозника Авдеева стал летчиком, сын Михалова учится в дорожном техникуме, дочь Шашина стала учительницей и т.д. В дореволюционное время из этого села обу-
118
чалось только 40 чел.; да и те в большинстве из кулацких и поповских семей»72.
В соседнем районе такие же подсчеты были сделаны в селе Налжи, оказавшемся родиной более сорока бывших колхозников и сельчан — все моложе 33 лет, — которые пополнили ряды новой интеллигенции, в том числе 9 учителей, 2 агрономов, 3 летчиков, 3 бухгалтеров и 7 офицеров Красной Армии73.
Трудно сказать, испытывали ли крестьяне на самом деле такого рода гордость за своих уехавших детей или журналисты несколько присочинили. В любом случае крестьяне, несомненно, осознавали, что сельская жизнь обесценилась в глазах младшего поколения — и, таким образом, в их собственных глазах тоже. Крестьянские письма Сталину и Калинину в 1937 г. несут на себе отчетливый отпечаток упадка духа, и их авторы скрепя сердце соглашаются с мнением молодых, что в городе жизнь лучше. Один крестьянин из Восточной Сибири с ностальгией вспоминает добрые старые дни нэпа, «когда люди интересовались жить и работать в крестьянстве» и в селах царило экономическое оживление и ключом била жизнь. Теперь же, продолжает он, все изменилось:
«С 1930 г. с коллективизацией все богатство провалилось, как сквозь землю... Люди работают словно принудительно, большинство уходят из колхозов в город, совершенно не интересуются жить в колхозе... Уходят люди в город на производство — дескать, там порядки лучше»74.
В том же духе писал Калинину другой крестьянин из Кировской области:
«Я читаю... о достижениях колхозов, но все это поверхностно... Положение свидетельствует фактом, а именно текущностью колхозников из колхозов. И в настоящее время в колхозах осталось, если считать старое население, которое было до колхозов, только осталось 50%.
Но чем объяснить текущность колхозников из колхозов, я думаю, тем, что колхозы и колхозники обижены правительством. А именно то, что сравнить рабочих на фабриках, то они гораздо живут лучше колхозников, но если доказать этот факт — есть колхозники, которые уехали из колхозов уже года 2 и пристроились на предприятиях, пишут, что в настоящее время жить на заводе и фабриках стало лучше, чем в колхозах. Там каждый день известно, сколько он заработает, пишут, можно зарабатывать от 15 руб. и больше и на заводе все можно купить, и мануфактуру и другие товары можно купить сколько угодно, и пишут, что я живу здесь гораздо лучше, чем в колхозе.
Но попробуй купить колхозник в своей местности — так что мануфактуры здесь не купишь, и колхозники ходят плохо одетые... Сейчас у нас существует живая очередь, в которую колхозники не поспевают, да им из деревни ходить некогда...»75.
119
4. Коллективизированное село
В 1930 г. «колхоз» был пустым словом, формой, которая еще должна была наполниться содержанием. Советская власть призывала к коллективизации, не указывая точно, что это должно означать на деле. Основной тип коллективного хозяйства, существовавший в 20-е гг., — небольшая коммуна на земле, не принадлежащей селу, — явно не мог служить образцом. Пока не закончилась первоначальная массовая кампания коллективизации, не существовало никаких руководящих установок относительно структуры коллективного хозяйства: Примерный устав сельскохозяйственной артели, узаконенный 1 марта 1930 г., был опубликован в том же номере «Правды», что и статья Сталина «Головокружение от успехов». Таким образом, этот устав не мог служить руководством для коллективизаторов, а являлся, скорее, обобщением недавнего опыта, полученного советской властью.
Ответы на вопрос «Что такое колхоз?» появлялись постепенно, со временем. Некоторые из ответов давались в официальных декларациях или правительственных постановлениях. Например, вопрос о праве колхозника держать корову был разрешен статьей «Головокружение от успехов», а о праве вести торговлю — майским указом 1932 г. Другие ответы порождались практикой реальной жизни, но никогда не объявлялись официально и не формулировались как определенная политика (например, доминирующая роль колхозного председателя или статус двора как основной хозяйственной единицы в колхозе). Некоторые решения, вроде пересмотра вопроса о приусадебных участках в 1935 г., появлялись в ходе открытых переговоров властей с представителями крестьянства.
В основе всех этих столь различных процессов лежал своего рода диалог между правительством и крестьянами. В процессе взаимодействия крестьян и государства неизменно существовали определенные постоянные моменты. Государство хотело получать больше зерна; крестьяне хотели отдавать как можно меньше. Государство обычно хотело довести обобществление собственности (особенно земли, тягловой силы) до максимума; крестьяне желали свести его к минимуму. Государство стремилось расширить сферу своего контроля, к примеру, давая подробные посевные планы и инструкции по основным сельскохозяйственным процессам, тогда как крестьяне старались как можно больше ограничить вмешательство государства.
Конечно, «государство» в действительности представляло собой не монолит, а сплетение взаимосвязанных, но различных интересов. Интересы центрального руководства партии и прави-
120
тельства (предположим, ради удобства изложения, что оно было монолитно) не были тождественны интересам районной администрации. Интересы районной администрации не совпадали с интересами уполномоченных по заготовкам, присылавшихся из центра, или государственных промышленных предприятий, желавших нанять на работу колхозников, не говоря уже о политотделах МТС. А еще необходимо принять в расчет конфликты по поводу полномочий и субординации, вспыхивавшие между 25-тысячника-ми и работниками районных и сельских советов в начале 30-х гг. или между районом и политотделами МТС в 1933 — 1934 гг.
Крестьянство тоже нельзя было рассматривать как сплоченную массу. Существовали сильные региональные различия: на юге, например, вопросы торговли (и, следовательно, размеров приусадебных участков, политики в отношении фруктовых садов и т.д.) приобретали первостепенную важность, так же как и в колхозах, поставляющих свою продукцию в соседние крупные города; в менее плодородных областях Центрального промышленного района, как правило, больше внимания уделялось правилам, регулирующим отходничество и занятия несельскохозяйственным трудом. Были различия, связанные с возрастом и полом. Постепенно появлялись и такие, которые зависели от положения в колхозе: у председателя были одни интересы (отчасти интересы колхоза в противостоянии району, отчасти свои личные), у трактористов другие, у полевых работников — третьи. Интересы «колхоза» (здесь имеется в виду не только колхоз как организация, но и сельская община) и отдельных колхозников зачастую расходились, как, например, в вопросе об отходничестве и людских ресурсах колхоза.
В этой главе рассматриваются три важных аспекта процесса колхозного строительства первой половины 30-х гг. Первый из них касается территории и размеров колхоза и тесно связан с ключевым вопросом об отношении нового колхоза к старому селу и общине. Второй аспект — членство в колхозе, в частности, права и обязанности колхозников и пределы дисциплинарной власти колхоза. Последняя рассматриваемая тема — это обсуждение принципов организации колхоза на Втором съезде колхозников-ударников в 1935 г. и новый вариант Устава сельскохозяйственной артели, принятый съездом.
ЗЕМЛЯ
Летом 1929 г. советская власть избрала новую стратегию коллективизации, пытаясь записывать в колхоз не отдельные крестьянские дворы, а целые села и земельные общества1. Именно по такому принципу проводилась коллективизация в бурные первые месяцы 1930 г. В общих чертах этот принцип колхозного стро-
121
ительства сохранился на протяжении всего десятилетия. Когда летом 1930 г. община в России была упразднена, колхоз стал de facto ее преемником2. Иными словами, колхоз 30-х гг. представлял собой коллективизированное село.
Правда, коммунистам нелегко было с этим согласиться. С их точки зрения, «село» означало мелкую, технологически отсталую, традиционную крестьянскую организацию, тогда как «колхоз» по определению принадлежал к совершенно иному миру крупного, механизированного, социалистического сельскохозяйственного производства. Советские комментаторы, как в то время, так и позднее, проделали поразительную работу, всячески затемняя вопрос о базовой единице коллективизации. Село было косвенным образом признано естественной основой советского колхоза не раньше 1935 г.3.
В пылу первоначального натиска коллективизации коммунисты не просто носились с идеей колхоза, который был бы крупнее села, — они пытались создать такой колхоз на практике. Вот что вызвало недолгий период гигантомании в первые годы коллективизации в Советском Союзе. Гигантомания родилась из той же странной смеси модернизаторских устремлений, насильственных методов и утопических фантазий, какая была характерна для пролетарской Культурной Революции и нашла столь драматическое выражение в разгроме коллективизаторами сельских церквей. Коллективизаторы-коммунисты видели свою цель в социалистической модернизации сельского хозяйства. Это означало переход от экономически нерационального, мелкого, традиционного земледелия к современному, экономически рациональному, крупному, неразрывно связанному с механизацией. Считая понятие «традиция» синонимом отсталости, нерациональности и предрассудка, советские коммунисты не прислушивались к здравым доводам рассудка, говорившим, что строить новое легче на базе существующих структур.
Задним числом именно термином «гигантомания» можно обозначить пристрастие коммунистических руководителей и коллек-тивизаторов в 1929 и 1930 гг. к нереально огромным коллективным хозяйствам. В те годы районные и областные власти, соревнуясь друг с другом, создавали колхозы-гиганты, занимавшие (на бумаге) десятки тысяч гектаров — иногда целые районы — и включавшие в себя дюжины и даже сотни сел и поселков4. Излюбленной формой коллективного хозяйства была коммуна, предполагавшая максимальное обобществление собственности. Предавшись утопическим фантазиям и бездумному теоретизированию, местные власти кое-где планировали создание коммун, охватывающих целые районы с сотнями деревень. К примеру, один руководитель сельского хозяйства из Москвы, посетивший некий район на Урале, докладывал в марте 1930 г.:
122
«По заданию Рик'а 12 агрономов в течение 20 дней безвыходно и без выездов на места составляют оперативно-производственный план несуществующей районной коммуны...»5.
Такой же гигант был создан, если верить бюрократическим отчетам, в Великих Луках, в Западной области. Затем, когда сочинители планов увидели, что громоздкое сооружение не способно функционировать, они решили разделить колхозную площадь на 32 квадрата, в среднем по 2500 га каждый. На каждый квадрат должен был приходиться один колхоз; квадраты определялись по карте без всякого учета реально существующих деревень, поселков, рек, холмов, болот и прочих демографических и топографических особенностей местности6.
Не только из-за утопических фантазий местные власти не желали видеть в селе базовую единицу коллективизации. В донесении из Западной области в начале 1930 г. отмечалось, что там, где с одобрения властей создавались колхозы на основе села, они, как правило, выбирали из своих членов компетентное правление и быстро ориентировались на выполнение новых задач. Однако такое положение часто не устраивало районное руководство, говорилось в донесении, поскольку колхозы приобретали слишком большую самостоятельность. Коммунисты с подозрением относились к реально избранным правлениям колхозов-сел, несомненно опасаясь, что там придет к власти прежняя верхушка общины и поведет хозяйство по традиционной колее. Преимущество колхозов-гигантов, с точки зрения коммунистов, заключалось в том, что их правления никак не могли в сколько-нибудь полном значении этого слова выбрать крестьяне. В колхозе-гиганте можно было подобрать в формально избранное правление свои кадры, разделить площадь колхоза на участки и поставить на каждом участке члена правления («как в старое время управляющих», — с иронией говорилось в донесении)7.
В 1932 — 1933 гг. «квадратную теорию» коллективизации осудили как нереалистичную, и критики, говоря о наиболее фантастических амбициях местных коллективизаторов, начали использовать уничижительный термин «гигантомания». Из огромного числа колхозов, с гордостью взявших себе название «Гигант» в первые годы коллективизации, лишь немногие остались гигантами в действительности. Так, например, колхоз «Гигант» в Сердоб-ском районе Саратовской области в 1934 — 1935 гг. включал в себя меньше 150 дворов — типичная величина села в Среднем Поволжье8.
На Втором съезде колхозников-ударников в 1935 г. слово «село» в проекте нового Устава сельскохозяйственной артели было заменено на «селение» по предложению делегатов, стремившихся не оставить местным властям лазейки, чтобы игнорировать село как основную единицу (в Уставе 1930 г. использовалось множественное число — «селения» )9.
123
Отвод земель единоличникам
В вопросе о земле ситуация на селе в первой половине 30-х гг. была чрезвычайно запутана из-за того, что не все крестьянские дворы состояли в колхозе. Село разделилось на колхозников и единоличников, однако процентное соотношение этих двух групп постоянно изменялось. В 1933 г. единоличники еще составляли 35% крестьянских хозяйств РСФСР, в 1935 г. доля таких хозяйств понизилась до 17%, а в 1937 г. — до 7%10. Колхоз de facto унаследовал земли села, но единоличники тоже предъявляли на них претензии, которые нельзя было не принять во внимание. Как же следовало делить землю между обеими группами?
В начале 30-х гг., когда коллективизировали село (или часть его дворов), первоочередной мерой был раздел общинной земли на пропорциональной основе между колхозом и единоличными хозяйствами. Коллективизация проводилась в большой спешке, предполагалось, что раздел будет временным, поэтому его на скорую руку производила комиссия сельсовета, где были представители и от колхоза, и от единоличников. Иногда поля данного села делились на два больших клина, один отходил колхозу, другой — единоличникам. В других случаях между двумя группами распределялся ряд небольших участков. Поскольку в первые годы число членов колхоза было весьма неустойчиво, раздел зачастую пересматривали каждый год перед посевной, чтобы привести его в соответствие с процентным соотношением дворов, состоящих и не состоящих в колхозе11.
Получившуюся в итоге путаницу трудно себе представить. Начальство нередко меняло свои намерения на ходу и произвольно наделяло землей хозяйства, которым покровительствовало. Правила не учитывали всех возможных случаев: если единоличник вступал в колхоз, предполагалось, что его надел должен был присоединяться к колхозным землям; если же колхозник уходил из колхоза, чтобы хозяйствовать единолично (что в первые годы вовсе не было редкостью), он не мог отделить от колхозной земли свой надел. В заметке из Великолуцкого района в 1933 г., например, описывается, как после совершенно хаотичного раздела земли местными властями перед самым весенним севом «колхозники вышли в поле, а единоличники в июне все еще толпились у дверей сельсовета и районного земельного отдела, не зная, где им сеять. Даже получив землю, они не были уверены, сеять или нет, потому что зимой, может быть, землю отберут»12.
Дело осложнялось еще и тем, что единоличники по-прежнему придерживались традиционного метода обработки земли чересполосицей, а колхоз обязан был уничтожать чересполосицу, запахивая межи перед первым колхозным севом13. В принципе это было разумно, однако порой полоски единоличников вклинивались в колхозную землю. При большом количестве единоличников колхозу нелегко было избавиться от чересполосицы и обрабатывать
124
землю единым клином. По сообщениям газет, в середине 30-х гг. во многих колхозах все еще существовала чересполосица14.
«Отрезки*
В ходе коллективизации колхозы потеряли значительное количество земли, принадлежавшей раньше селу и обрабатывавшейся крестьянами: районные власти решали передать ее совхозам или различным учреждениям и организациям. Это влекло за собой массу претензий со стороны крестьян, так же как и в эпоху крестьянской реформы 1860-х гг. В центральные органы управления сельским хозяйством сыпались слезные жалобы и просьбы вернуть эту землю. Так, в 1932 г. колхоз «Красная Звезда» в Западной Сибири жаловался, что райзо передал двум совхозам всю его пахотную землю, а взамен дал 200 га на расстоянии 12 км от колхоза и сенокос — удаленный на все 40 км15.
Было много других жалоб подобного рода. В одном из наиболее нелепых случаев имел место своего рода круговой обмен землей между соседними колхозами. Колхозники уже готовы были начать весенний сев, когда «на территории колхоза появились представители райзо и молча занялись переделом земли», отказываясь как-то объяснить или оправдать свои действия. В другом случае большое число крестьян из сел Подольского района в 1931 г. бежали от коллективизации, бросив 5000 га земли, которые были переданы местным совхозам. На следующий год некоторые из бежавших передумали, вернулись в свои села, вступили в колхозы и начали ходатайствовать о возвращении им земли16.
Во время обсуждения новой Конституции в 1936 г. некоторые крестьяне Воронежской области, по донесениям НКВД, высказывали «контрреволюционное» мнение, что вся земля и инвентарь, принадлежащие совхозам, должны быть переданы колхозам17.
В феврале 1937 г. правительство решило вернуть отнятые совхозами и другими организациями отрезки колхозам в Московской, Оренбургской, Западной областях и в Восточной Сибири, а также в других регионах и республиках Советского Союза. В Омской области (Восточная Сибирь) колхозы в результате увеличили общий объем своей площади на 2,3 млн га1^.
Стабилизация землепользования
Хотя правительство в сентябре 1932 г. постановило, что колхозам гарантируется право на пользование землей, которую они обрабатывают, понадобилось еще несколько лет, чтобы ситуация стабилизировалась. Представитель Центрального Комитета жаловался в 1933 г.:
«В каждом районе, куда ни приедешь, с кем ни поговоришь, каждый рассказывает, что до сих пор еще, несмотря на то что
125
есть запрещение правительства, колхозы у нас укрупняют и разукрупняют, от одного колхоза к другому прирезывают землю по каким-то известным району соображениям, но колхознику часто не известным» 19.
Правда, в конце 1935 г. ЦК сам добавил путаницы, распорядившись слить «чрезвычайно мелкие» колхозы нечерноземной полосы в более крупные объединения — конечно, «при условии строжайшего соблюдения принципа добровольности». Местные власти, по крайней мере в Западной области, поняли так, что им дали зеленый свет для нового укрупнения, и руководствовались при этом принципами рационального планирования, не обращая внимания на сложившиеся традиции и существующую систему расселения. Годом позже «Правда» бранила руководство Западной области за то, что оно без нужды обижало местное крестьянство и поддалось гигантомании, насильно сливая средние и мелкие колхозы, включая порой до 17—18 селений в один колхоз20.
Можно было бы предположить, что профессиональные землемеры и землеустроители будут являться ключевыми фигурами коллективизации. Однако в первой половине 30-х гг. они, по всей видимости, играли совершенно незначительную роль. Для тщательных обмеров, сопровождавших создание новых коллективных хозяйств в 20-е гг., не хватало времени, еще большим препятствием, несомненно, служили перемещения сельского населения и энергичный захват земли совхозами и другими учреждениями. Районные земельные отделы в те годы даже и не пытались провести в колхозах научное землеустройство; они лишь давали «зем-леуказания»21. Незначительный статус землемеров и землеустроителей являлся также результатом политической опалы, в которой находилась их профессия. Многие из них работали еще со времен дореволюционных столыпинских реформ и в 20-е гг. продолжали (с одобрения Советского правительства, что несколько удивительно) помогать крестьянам отделяться от общины, объединять свою землю в один клин и становиться единоличными мелкими хозяевами. Но коллективизация полностью дискредитировала подобный подход. Власти организовали в начале 30-х гг. показательный процесс А.Чаянова, знаменитого теоретика семейной фермы, и других специалистов по сельскому хозяйству; многие менее известные землемеры и землеустроители были арестованы как «вредители»22.
Землемеры в массовом порядке снова вышли на сцену только в середине 1935 г., когда правительство издало закон, дающий колхозам право на «вечное пользование» землей, с той оговоркой, что в будущем колхозные земли могут быть увеличены (по мере того как последние единоличники будут вступать в колхозы), но ни при каких обстоятельствах не уменьшены. Это означало, что следовало определить точную площадь колхозных земель, провести межевание и топографическую съемку земли, поставить межевые столбы. Срочно потребовались более 800000 землеустроите-
126
лей, чтобы, как объявил Наркомат земледелия, рационализировать и консолидировать колхозные земельные площади, разрешать межевые споры и там, где это необходимо, навсегда уничтожить чересполосицу. (В распоряжении земельных отделов на тот момент находилась едва ли десятая часть от требуемого числа, и на лиц этой профессии по-прежнему сыпались обвинения во «вредительстве». Всего за несколько месяцев до того в Горьком прошел показательный процесс землеустроителей, обвинявшихся в том, что провоцировали недовольство крестьян, неумело производя «отрезки», и в покровительстве единоличникам^.)
Межевание колхозных земель и выдача актов на них продолжались весь 1936-й и часть 1937-го года, встречая множество трудностей. Во-первых, не хватало землемеров и землеустроителей для такой огромной работы. Во-вторых, крестьяне часто оставались недовольны результатами, не получая в конечном итоге земли, которая была им нужна или которую они исторически считали своей.
Крестьяне Псковского района жаловались, что землеустроитель, приехавший в их село, чтобы разделить землю между вновь организованными колхозами и одиннадцатью единоличниками, потребовал за свои услуги по 80 коп. с человека, но ни разу не побывал в поле. Он просто взял план сельских земель и «ткнул пальцем», показывая границы между колхозной землей и наделами единоличников. В результате весенний сев задержался, потому что никто не знал, где ему сеять. В Андреевском районе Западной области колхозники возмутились, получив акты на землю, границы которой не совпадали с традиционными границами земель их сел. В одном колхозе, по их словам, отрезали 40 га лучшей земли, а колхозную межу провели так, что «надо перебраться через три оврага и речку», чтобы попасть из села на колхозные поля24.
В Западной области, где, по-видимому, процесс выдачи актов на землю встречал больше затруднений, чем где-либо еще, в областной земельный отдел в середине 1937 г. поступила почти тысяча жалоб, хотя примерно пятая часть всех колхозов актов еще не получила. Наиболее часто звучали просьбы о возвращении отрезков и замене тощих и заболоченных земель, а также жалобы на то, что у крестьян отбирали приусадебные участки, прилегающие к их домам, выделяя взамен в качестве приусадебных участков неудобно расположенные земли в полях. Некоторые колхозы жаловались на объявление их лесных угодий государственными: это означало для них запрет на рубку леса. Все подобные жалобы фигурировали в качестве основных доказательств на процессах эпохи Большого Террора, состоявшихся в Западной области осенью 1937 г.25.
Несмотря на все досадные проблемы, связанные с землепользованием, довоенный российский колхоз являлся по сути коллективизированным селом и обрабатывал более или менее те же
127
самые земли, которые раньше обрабатывали крестьяне, входившие в общину. В 1937 г., когда были коллективизированы более 90% всех крестьянских хозяйств, средний колхоз в РСФСР включал 67 дворов (в среднем по Союзу — 76 дворов). За этой средней величиной скрывались широкие различия по регионам, поскольку разной была заселенность территории на плодородном юге и в нечерноземной полосе. На северо-западе страны, в том числе в Западной области, средний колхоз включал лишь 37 дворов26.
Впрочем, в результате поспешного и произвольного проведения межей в начале 30-х гг. случаев, когда колхозные земли не совпадали точно с землями прежней общины, было не счесть. Это порождало постоянные жалобы и взаимные претензии: коллективизированные села, потерявшие землю, энергично старались вернуть выгоны и пахотные земли, переданные соседним селам или совхозам, а те, на кого свалилось такое благодеяние, стремились сохранить свои приобретения. Все это лишь усиливало взаимное озлобление и раздоры, столь характерные для российской деревни в 30-е гг.
ЧЛЕНСТВО В КОЛХОЗЕ
Звание колхозника в 30-е гг. означало не просто род занятий. В советском обществе оно представляло собой особый правовой статус. Легче всего это понять, если провести аналогию с сословным статусом в царской России. Если вы, к примеру, принадлежали к купеческому сословию или сословию государственных крестьян, то данный узаконенный статус определял ваши права, привилегии и обязанности в отношении государства. Точно так же обстояло дело для колхозника в сталинской России. У него были особые обязанности, в виде налога и трудовых повинностей, которых не несли другие группы граждан. Колхозник не мог иметь лошадь и должен был просить разрешения, чтобы уехать работать на сторону. С другой стороны, он имел право на приусадебный участок земли больших размеров, чем у любой другой социальной группы, и право торговать продукцией с этого участка — данным правом одинаково пользовались и колхозники, и единоличники.
В 30-е гг. некие сословные признаки появились у всех социальных групп27, но колхозное крестьянство, безусловно, продвинулось дальше всех по этому пути. Например, при проведении переписей 1937 и 1939 гг. членство в колхозе рассматривалось как особый статус, который следовало указывать дополнительно, наряду с родом занятий — подобное требование существовало также для разного рода парий общества вроде спецпоселенцев, но не для свободных граждан. В результате снова встает вопрос о связи коллективизации с крепостничеством, но тут есть одно существен-
128
ное различие: статус крепостного по сути всегда означал минус, а вот статус колхозника мог быть и плюсом. Подобно крепостным, колхозники часто делали все возможное, чтобы сбежать из колхоза и найти работу где-нибудь в другом месте. Однако, в отличие от крепостных, когда колхозники устраивались на другую работу, им не было особой нужды скрывать свой статус или избавляться от него: советские власти не устраивали облав на колхозников и не возвращали их в села. Более того, в условиях сельской жизни потеря колхозного статуса (в результате исключения или роспуска колхоза) нередко являлась катастрофой высшего масштаба.
В середине 30-х гг. колхоз представлял собой ассоциацию сельских землепользователей, как и его предшественник — община. Точнее, это была ассоциация землепользователей, получавших от колхоза плату по трудодням (единица измерения, выражавшая как характер труда, так и время, затраченное на него). Лица с ежемесячным окладом заработной платы, как, например, учителя и агрономы, после самых первых лет коллективизации обычно не были членами колхоза, хотя имели право вступить в него и поначалу активно поощрялись к этому28. Почти наверняка такое положение дел было вызвано инстинктивной реакцией на возникновение негласной советской сословной системы, в которой сословие государственных служащих пользовалось более высоким статусом, нежели сословие колхозников.
Колхоз являлся кооперативной и (в принципе) добровольной ассоциацией, каждый из членов которой владел долей общего имущества. Эта доля (паевой взнос) первоначально «приобреталась» колхозом, когда крестьянин, вступающий в коллектив, вкладывал в него свои средства производства. Если впоследствии этот крестьянин уходил из колхоза, он должен был, по идее, получить наличными большую часть своего пая (хотя, нужно сказать, на практике данная процедура была крайне сложна и запутана), а если переходил в другой колхоз, имущество, равноценное внесенному им, должно было передаваться новому колхозу29.
Проблема двора
Членство в колхозе, в отличие от членства в общине, было индивидуальным, а не подворным. Советские писатели и публицисты любили превозносить этот факт, поскольку он, во-первых, давал женщинам равные права с мужчинами, а во-вторых, должен был уничтожить традиционный патриархальный гнет в крестьянском хозяйстве. Вначале думали, что крестьянский двор просто потеряет свое значение как социо-экономическая единица в селе. Коллективизация «уничтожает понятие крестьянского двора», сказал высокопоставленный работник органов труда в 1930 г. Юристы в начале 30-х гг. считали, что двор потерял свой статус юридического лица30.
129
5 - 1682 ^
Однако, с крестьянской точки зрения, двор по-прежнему оставался основной единицей села. Иногда, судя по некоторым сообщениям, они даже не знали, что членство в колхозе индивидуальное, или знали, но выражали свое несогласие с этим положением, разрешая голосовать на общих колхозных собраниях только главам семей3!. В действительности приоритет двора в выполнении повседневных функций, в том числе в экономических и финансовых отношениях с государством, остался прежним, вне зависимости от того, признавали его юристы юридическим лицом или нет. Именно колхозный двор, а не отдельный колхозник, имел приусадебный участок и корову; именно с колхозного двора государство требовало уплаты местных налогов и выполнения обязательств по зернопоставкам.
Точка зрения крестьян на практике возобладала над точкой зрения коммунистов, и в 1935 г. это было косвенным образом признано: новый Устав сельскохозяйственной артели в статьях о приусадебных участках и содержании домашнего скота называл в качестве единицы, наделяемой соответствующими правами, крестьянский двор32. Затем в 1936 г. сталинская Конституция решительно признала колхозный двор юридическим лицом, гарантируя его права на приусадебный участок. В результате советским юристам пришлось, применяясь к новой ситуации, подумать над определением колхозного двора. Определение оказалось на удивление широким. Любое крестьянское хозяйство, в составе которого был член колхоза, называлось колхозным двором, имеющим право на более низкую ставку налогообложения и больший приусадебный участок, чем единоличное хозяйство. При этом член колхоза не обязательно должен был быть главой семьи, а все остальные члены семьи могли быть единоличниками, совхозными рабочими, работать вне сферы сельского хозяйства — это никак не нарушало колхозный статус двора33.
Смешанные колхозные дворы встречались очень часто. Проверяющий из Наркомзема сообщал в 1935 г. об одном южном колхозе, где в 70 колхозных дворах фактически было только по одному члену колхоза, все прочие или вели единоличное хозяйство, или работали на шахтах и железной дороге. В качестве примера он приводил семью Яцковых, состоявшую из матери-колхозницы и трех сыновей старше 20 лет — зажиточных единолични-ков34.
Обычным явлением были браки между колхозниками и единоличниками. Во всех подобных случаях колхозники обычно говорили властям, что не могут пока внушить супругам или родителям свою прогрессивную точку зрения. В действительности же они, скорее всего, старались воспользоваться преимуществами оставленной законом лазейки: единоличник мог держать лошадь, а колхознику полагался больший приусадебный участок. Конечно, это не всегда получалось, поскольку местные власти не были склонны неукоснительно соблюдать все законодательные нюансы.
130
Но если дело все-таки выгорало, роли в смешанном дворе распределялись так: жена вступала в колхоз, потому что женщинам в колхозе обычно позволяли работать на своем приусадебном участке большую часть времени, чем мужчинам, а муж (со своей лошадью) оставался единоличником-^.
Прием в колхоз
Вступить в колхоз имели право все «трудящиеся», и у колхоза не было четко оговоренного права отказать им. Впрочем, в начале 30-х гг. в колхозы не допускались кулаки и священники, а также члены их семей. Через несколько лет этот запрет был снят сначала для детей кулаков, а потом и для самих кулаков, но для сельских священников и, по-видимому, их детей остался в силе36.
Особые проблемы возникли в 1933 году, когда голодающие крестьяне, например на Северном Кавказе и в Краснодарском крае, отчаянно пытались весной вступить в колхозы, потому что у них не было семенного зерна. Их заявления буквально затопили колхозы, которые не в состоянии были принять всех. Местная газета, смущенная этой дилеммой, высказывала мнение, что нужно принимать тех, чьи заявления «искренни»3?.
К середине 30-х гг. кризис миновал, и колхозы, по идее, вновь должны были принимать всех желающих подходящего социального происхождения. Однако теперь, когда фортуна окончательно оказалась на стороне колхозов, а единоличники становились все большей редкостью, колхозники часто не хотели принимать в свой коллектив единоличников, отчасти потому, что смотрели на них с возмущением, как на пришедших к шапочному разбору, когда колхозные старожилы преодолели все самые большие трудности, но главным образом потому, что единоличники приходили с пустыми руками: их скот и инвентарь были либо распроданы, либо конфискованы за неуплату налогов, либо пропали во время голода. Колхозники не имеют права отказывать в приеме единоличникам, сказал один партийный деятель на съезде колхозников-ударников в феврале 1935 г., но у них есть право требовать, чтобы те заплатили сумму, эквивалентную стоимости всего скота, проданного за последние два года, с рассрочкой на какой-либо разумный период времени. Это положение было записано в новый Устав сельскохозяйственной артели, утвержденный на съезде и изданный в 1935 г. Тем не менее, еще в 1937 г. бывали сообщения о том, что колхозы не хотят принимать «голых» единоличников, а районные власти не считают нужным заставлять их делать это38. Впрочем, по мере сокращения числа единоличников к концу десятилетия этот вопрос терял остроту.
В первые годы коллективизации лишь немногие крестьяне действительно стремились стать членами колхоза, но со временем положение изменилось. Во второй половине 30-х гг. нередко можно
« 131
было встретить крестьян, гневно протестующих, когда им отказывали в приеме или исключали из колхоза. Разумеется, причиной тому были преимущества, которые давал статус колхозника, преимущества двоякого рода. Одни касались жизни на селе и представляли собой выгоды колхозного статуса по сравнению с единоличным: например, право на больший приусадебный участок, более низкое налогообложение или покос на колхозных лугах. Но были свои преимущества и в сохранении статуса колхозника человеком, работавшим в основном за пределами села, по найму: подспорье для семьи, оставленной в селе, «страховка» на случай потери трудоспособности или увольнения, а иногда и просто гарантия респектабельности (т.е. некулацкого происхождения) в глазах городских работодателей. В Калининской области в 1937 или 1938 г., к примеру, крестьянка-единоличница Агафья Зверева подала жалобу на местный колхоз, отказавший ей в приеме, и выиграла дело. Оказалось, однако, что причина, по которой она так добивалась приема в колхоз (и по которой колхоз отвечал ей отказом), заключалась в следующем: она хотела работать в Ленинграде, «для каковой цели ей нужна была справка, что является колхозницей»39.
Исключение из колхоза
Колхоз имел право исключать своих членов, хотя согласно Уставу 1935 г. (параграф 8) за исключение должно было проголосовать большинство на общем собрании, где присутствовали не менее двух третей колхозников. Это рассматривалось как крайняя мера, исключенные колхозники имели право подать апелляцию районным властям с требованием восстановления, и их действительно часто восстанавливали. Если следовать правилам (что вряд ли имело место во всех случаях), процедура исключения бывала очень сложной. Члены колхоза теоретически являлись совладельцами колхозного имущества. Даже если они покидали колхоз в результате исключения, а не по своей воле, колхоз обязан был выплатить им денежный эквивалент первоначального паевого взноса40.
На практике исключения случались часто. Во-первых, председатели колхозов и другие сельские должностные лица нередко использовали исключение из колхоза как дисциплинарную санкцию — то же самое, что увольнение нерадивого или строптивого работника. Во-вторых, сами колхозники склонны были исключать дворы, которые, по их мнению, не оправдывали себя, особенно в тех случаях, когда в колхозе не хватало рабочих рук, а отсутствующие колхозники отказывались вернуться из отхода. Короче говоря, колхоз в некоторой степени унаследовал от крестьянской общины старую традицию круговой поруки и стремление наказывать дворы, неспособные нести свою долю общего бремени.
132
Голод 1932 — 1933 гг. породил чрезвычайную ситуацию и в том, что касалось исключения из колхоза, а не только приема в колхоз. Весной, когда в районах, недавно до нитки обобранных государством, семенное зерно осталось только в колхозах и совхозах, членство в колхозе приобрело необычайную важность. «Исключение из колхоза для колхозника смерти подобно. Если кого исключают, то он плачет и просится не исключать его», — докладывал политотдел МТС на Северном Кавказе. В то же время колхозы сами находились на грани голодной смерти. Тяжелые обстоятельства заставляли исключать колхозников, которые весной и летом были в отходе, чтобы те осенью не явились и не потребовали своей доли урожая. Исключение из колхоза — это «оружие» в руках колхоза против «лодырей», сказал колхозным активистам в начале 1933 г. зав. сельскохозяйственным отделом ЦК Я.А.Яковлев41.
Однако два года спустя, после исключения «сотен и тысяч колхозников» в качестве дисциплинарной меры, Яковлев заговорил совершенно по-другому. Следует избегать исключения из колхоза, заявил он на Втором съезде колхозников-ударников в 1935 г. Председатели колхозов и другие сельские представители власти не должны пользоваться им как способом поддержания дисциплины и наказания провинившихся или прогульщиков. При крайней необходимости такой меры колхозник должен быть исключен по решению общего собрания, а ни в коем случае не по прихоти председателя или какого-либо другого сельского представителя власти. Через несколько месяцев эти слова получили подтверждение, когда представитель ЦК А.Жданов резко порицал Саратовский обком партии в числе прочих грехов и за то, что он допустил настоящую эпидемию «беспочвенных исключений» колхозников42.
Несмотря на все это, наказания в виде исключения из колхоза оставались общей практикой, и главными, но не единственными жертвами их стали отходники и их семьи (на которые в колхозе зачастую смотрели как на иждивенцев, бремя, которое глава семьи повесил на шею колхозу). Из одного колхоза Ленинградской области в разное время были исключены более трети всех дворов. Некоторые исключенные жаловались в район, однако никаких действий по их восстановлению предпринято не было. У других не хватало храбрости или знания своих прав, чтобы протестовать. «Я никуда не жаловалась, потому что думала, что так полагается», — сказала крестьянка из Воронежской области, исключенная из колхоза, после того как вышла замуж за железнодорожника, несмотря на то что она продолжала жить и работать в колхозе4^.
Последствия исключения часто бывали тяжелыми, особенно для тех, кто не имел, в отличие от отходников, источника дохода на стороне, потому что крестьяне, как правило, уходили из колхоза без земли, без лошади, без сельскохозяйственного инвентаря. «Исключить колхозника из колхоза... значит не только опозорить
133
его в общественном мнении, но и обречь его на голодное существование», — отметил ЦК в 1938 г. Правда, в некоторых случаях крестьянин, исключенный из колхоза, мог переехать в другое село и вступить в колхоз там. Закон этому не препятствовал, но на практике такое, по-видимому, бывало редко, если только у крестьянина не было в том колхозе близких родственников. Женщины, выходившие замуж за крестьян из других сел, могли перейти в колхозы, членами которых были их мужья, а пожилые крестьяне иногда переезжали в колхозы, где жил кто-то из их детей. Имеется упоминание по крайней мере об одном случае, когда крестьянин, хронически не ладивший с руководством своего колхоза, был исключен, переехал в родное село жены и смог вступить в тамошний колхоз44.
Зимой 1937 — 1938 гг., во время Большого Террора, исключения из колхоза вновь приняли эпидемический характер4^. В результате весной 1938 г. появилось постановление правительства, осуждавшее огульные исключения и запрещавшее «проведение чистки под каким бы то ни было предлогом» в колхозах. Но в политике не произошло никаких существенных сдвигов. Немногим более года спустя новое постановление, вводившее обязательный минимум трудодней, порицало «лжеколхозников», которые желают пользоваться преимуществами статуса колхозника, не участвуя в общем труде, и рекомендовало не считать таких людей членами колхоза4^.
Для крестьянина существовала и другая возможность потерять свой статус члена колхоза — развал или роспуск самого колхоза. В большинстве известных случаев это происходило в результате массового выхода колхозников, голода или произвольных карательных санкций со стороны местных властей, вызывавших глубокое негодование крестьян. В голодный 1933 год многие колхозы прекратили свое существование, по крайней мере на время. Несколько подобных случаев, хотя и при менее экстремальных обстоятельствах, было весной 1937 г. после неурожая во многих регионах страны в 1936 г.47.
Примеры массового выхода из колхоза как коллективной акции политического протеста крайне редки, однако по меньшей мере один такой случай упоминается в материалах Смоленского архива. В колхозе «Село», само название которого говорит о несколько отчужденном отношении к советским ценностям, вспыхнуло столь острое недовольство, что «в половине июля [1934 г.] все колхозники подали заявление о выходе из колхоза и стали косить хлеб единолично». Это спровоцировало районное руководство на действия, которые впоследствии были сурово осуждены вышестоящими инстанциями: оно послало вооруженный отряд из 42 чел. в поле, где работали бывшие колхозники, и пыталось взять 8 заложников. В последовавшей стычке один колхозник был убит, а другой тяжело ранен48.
134
Насильственный роспуск колхоза местными властями, случавшийся чаще, чем перестрелки в поле, почти в такой же степени вызывал неодобрение вышестоящего руководства. Подобные акции обычно проводились, если какой-либо местный орган власти желал прибрать к рукам колхозную землю либо другое имущество, или в качестве чрезвычайной карательной меры, если колхоз в каких-то существенных вопросах, вроде посевных планов или назначения председателя, не подчинялся району. Например, в 1933 г. в Днепропетровске местный сельсовет ликвидировал колхоз «Красная Заря», очевидно, пытаясь таким способом взять под свой контроль колхозный скот. В 1937 г. в Курске несколько колхозов были распущены против воли своих членов, потому что соседний совхоз хотел получить их земли49.
Некоторые случаи ликвидации колхозов получили печальную известность в 1937 г., когда районные руководители, несшие за них ответственность, оказались на скамье подсудимых в показательных процессах по обвинению в контрреволюционном саботаже коллективизации. Главным мотивом для ликвидации этих колхозов служило желание наказать колхозников за неподчинение районным властям, но, без сомнения, и кое-что из конфискованного имущества осело в руках разных чиновников.
Ликвидация колхоза на деле означала ликвидацию всей экономики села и полное разорение отдельных колхозных дворов: колхозники «плакали», услышав эту новость. Когда в 1936 г. в Ярославской области был насильственно распущен колхоз «Новая жизнь», район захватил все его имущество, включая скот, распределил землю (в том числе и приусадебные участки) между соседними колхозами и обложил бывших колхозников чрезвычайным «единоличным» налогом. То же самое произошло в Кирилловском районе Ленинградской области, разве что там власти не додумались до «единоличного» налога, зато вместе с колхозным имуществом конфисковали самовары и другую личную собственность50.
СЪЕЗД И УСТАВ
К концу 1934 г. Центральный Комитет решил, что существующий Устав сельскохозяйственной артели, спешно принятый в марте 1930 г., устарел и его нужно заменить новым, соответствующим эволюции колхоза за прошедшие четыре с половиной года. С этой целью он созвал Второй съезд колхозников-ударников, который должен был послужить консультативным органом и помочь сформулировать новый Устав. Съезд проходил в Москве в феврале 1935 г.
В какой-то степени этот съезд представлял собой пример мнимого участия в решении политических вопросов, часть широкой картины «потемкинской деревни», о которой пойдет речь в сле-
135
дующей главе. Хотя делегатов выбирали из колхозников, лишь «передовые» колхозы, заранее намеченные районными властями, имели право провести такие выборы. На съезде должны были быть представлены «колхозники-ударники», это понятие обозначало скорее тех крестьян, которые были в хороших отношениях с существующей властью, чем тех, которые пользовались уважением в селе. Проект Устава подготовил сельскохозяйственный отдел ЦК без какого-либо официального участия со стороны крестьян, и делегаты, по-видимому, получили копии проекта лишь в день открытия съезда5*.
Тем не менее, Второй съезд не укладывается полностью в рубрику «потемкинство». В отличие от Первого съезда колхозников-ударников, жалкой пародии, состоявшейся в самый разгар голода в 1933 г., где звучали лживые рассказы делегатов о колхозных триумфах и не было никакого истинного обмена мнениями, Второй съезд стал трибуной настоящей дискуссии, в ходе которой делегаты предоставили партийным руководителям немало полезной информации и предложений, основанных на местном опыте. Предложения делегатов даже нашли некоторое отражение в окончательном тексте Устава, хотя на съезде и не было ничего похожего на формальный парламентский процесс предложения и голосования поправок. Впрочем, Второй съезд вовсе не следовал образцам западного парламентаризма. Лучше будет сравнить его с российской моделью консультаций государства с обществом в XVIII в. — с Законодательной комиссией, созывавшейся в 1760-е гг. Екатериной Великой. Эта комиссия не вырабатывала никакого законодательства и не посягала на власть императорского престола, но служила для передачи наверх информации и высказывания местных забот и претензий (в ограниченных пределах).
Колхозные активисты
Второй съезд был местом встречи лидеров Коммунистической партии и представителей ЦК, с одной стороны, и колхозных активистов — с другой. Сталин присутствовал на нем постоянно и принимал участие в работе редакционной комиссии съезда (готовившей окончательный текст Устава сельскохозяйственной артели), хотя и не выступал с официальной речью на пленарном заседании. Нарком земледелия М.Чернов возглавил редакционную комиссию и произнес заключительную речь. Но ключевой фигурой в выработке Устава 1935 г. и формулировании сельскохозяйственной политики в целом был, несомненно, Я.А.Яковлев, недавно оставивший пост наркома, чтобы возглавить сельскохозяйственный отдел ЦК. Яковлев в 20-е гг. стал подлинным знатоком крестьянских проблем, несмотря на свое городское, еврейское происхождение и дореволюционное прошлое студента-революционера и недоучившегося инженера из С.-Петербурга. Очевидно,
136
веря в совещательную политику и творчество масс сильнее, чем большинство большевиков его поколения, он долгое время был редактором «Крестьянской газеты», которой крестьяне чаще всего адресовали свои жалобы и ходатайства52.
Со стороны крестьян, около четверти из 1433 делегатов Второго съезда составляли председатели колхозов, чуть большую часть — 27% — бригадиры. 4% делегатов были трактористами и комбайнерами, остальные — рядовыми колхозниками, большинство которых несомненно являлись активистами, вступили в колхоз с самого начала и были ему безусловно преданы. При подготовке Второго съезда, так же как и Первого, в инструкциях, данных местным властям, особо подчеркивалась важность выбора делегатов, непосредственно занятых в колхозном производстве, — по-видимому, это условие было поставлено, чтобы предотвратить автоматическое избрание одних колхозных председателей53.
Докладывая о составе Второго съезда, представитель мандатной комиссии (Н.Ежов, в то время еще сравнительно незаметный секретарь ЦК) с одобрением отметил, что доля делегатов-коммунистов понизилась до 27% в сравнении с 40% на Первом съезде 1933 г. Причина положительного отношения Ежова к данному факту заключалась в желании партийного руководства сделать съезд выразителем мнения крестьян (разумеется, под своим контролем), а крестьяне, даже «прогрессивные», как было прекрасно известно, обычно не состояли в партии. По тем же соображениям Ежов одобрил то, что со «старым» колхозным движением Второй съезд связывали менее тесные узы, чем его предшественника. Четыре пятых делегатов Первого съезда вступили в колхозы до 1930 г. На Втором съезде соответствующая цифра составляла только 40%, и всего 6% делегатов были ветеранами колхозного движения со времен, предшествующих 1928 году54.
Съезд показал, однако, что между мнением колхозных активистов и простых крестьян лежит пропасть. Правда, несколько делегатов приехали с особыми наказами от своих односельчан-колхозников, и две женщины — председатели преимущественно женских коллективов — с несомненной искренностью выступали от лица «наших женщин»55. Но говорить от лица колхоза было вовсе не то же самое, что говорить от лица деревни. Во множестве сел всего несколько лет назад колхозники — люди, составлявшие ядро колхоза и не пытавшиеся выйти из него после статьи «Головокружение от успехов», — представляли собой обороняющееся меньшинство. Это совершенно отчетливо проявлялось в выступлениях делегатов Второго съезда. Многие из них, казалось, приходили в замешательство, когда партийные руководители пытались обращаться к ним как к представителям избирателей (коллективизированного села), а не борцам за дело колхоза, как было заведено на Первом съезде.
Невозможно представить себе другую такую неяркую группу, как колхозные активисты начала и середины 30-х гг. В первые
137
годы коллективизации местный сельский актив — т.е. крестьяне, искренне преданные делу Советов и колхоза, — полностью скрылся в тени чужаков, 25-тысячников и им подобных, приезжавших на село, чтобы организовывать колхозы и руководить ими. Судя по имеющимся скудным биографическим сведениям о делегатах Первого съезда, они, как правило, являлись бывшими бедняками и батраками, зачастую имели в прошлом опыт работы на производстве или воевали в рядах Красной Армии в гражданскую войну. К другим типам первых активистов, не так хорошо представленным на съезде, относились вдовы, которым пришлось встать во главе бедных хозяйств и которых нередко третировала община, и молодые крестьяне — члены или горячие почитатели комсомольской организации. Активистов-мужчин, в отличие от вдов, влек к себе широкий мир за пределами села, и в начале 30-х гг. у них было много возможностей вступить в этот мир56.
На Втором съезде мы встречаем гораздо большее разнообразие типов активистов. На одном конце широкого спектра находились активисты старой школы, крестьяне-ветераны в армейских шинелях, заканчивавшие свои выступления славословиями в адрес Красной Армии и ее командарма Ворошилова. Зачастую они были членами партии и рассказывали леденящие кровь истории о своей борьбе с местными кулаками. Хороший пример такого типа — Дмитрий Корчевский, сын бедняка, работавший на металлургическом заводе в Донбассе и служивший в царской армии, где он возглавлял революционный комитет, прежде чем вернуться в родное село и стать председателем сельсовета в 1924 г. и председателем колхоза — в 1931 г. По словам Корчевского, местные кулаки вступили в заговор, чтобы его убить, и спасло его только вмешательство ГПУ57.
На другом конце спектра были молодые крестьяне, в качестве трактористов нашедшие свою нишу в колхозе. Воинственная, революционная психология была для них нехарактерна или очень мало характерна. Некоторые из них получили сравнительно хорошее образование и, вероятно, происходили из семей крепких середняков, как, например, Алексей Солодов из Харьковской области, у которого один из братьев работал машинистом на железной дороге, а другой — сельским учителем. Другие раньше принадлежали к бедноте, подобно передовику-трактористу из Сталинграда Никифору Шестопалову, бывшему неграмотным, когда его выдвинули в первый раз, и вспоминавшему, как над ним насмехались другие крестьяне5**.
Писатель Всеволод Иванов для серии «литературных портретов» делегатов съезда, публиковавшейся в «Известиях», взял интервью у Трофима Кажакина из Московской области, рассказавшего историю своей трудной жизни — он «с пятнадцати лет кирпич бил, а это такая работа, что хуже ее нету, набьешь себе таких болезней, в особенности если ты стремился к сельскому хозяйству и склонен затосковать». Однако, с тех пор как Кажакин стал
138
председателем колхоза, жизнь его улучшилась; недавно он даже купил пальто за 100 рублей. Константин Паустовский, беседовавший с председателем из Казанской области Андреем Лазаревым, человеком средних лет, с трудом мог добиться, чтобы тот сказал что-то о себе как личности. Лазарев почти всю жизнь прожил в деревне, имел старика-отца, плетущего лапти и веревки, жену, до сих пор неграмотную, и четырех детей. Под нажимом интервьюера он неохотно признал, что воевал в гражданскую, но развивать эту тему отказался59.
Среди наиболее заметных делегатов были несколько женщин, явно избранных в качестве образцов для подражания. Одна из них — Паша Ангелина, бригадир женской тракторной бригады на Украине и будущая всесоюзная знаменитость. Еще одна — Екатерина Кульба, молодая доярка из Минского района, с большим чувством говорившая об угнетении женщин «помещиками и кулаками и даже своими мужьями», не дающими женщинам выступать на собраниях или принимать участие в общественной жизни. Подобно Корчевскому, Кульба относилась к типу борцов, и опыт борьбы с классовыми врагами наложил на ее речи неизгладимый отпечаток. В данном случае «классовый враг» для нее воплотился в одном работнике сельсовета; Кульба и ее товарищи-активисты в 1933 г. писали в «Правду», сигнализировали в политотдел МТС до тех пор, пока этот работник не был снят с должности и отдан под суд60.
Повестка дня
Среди главных вопросов, обсуждавшихся на Втором съезде, были: размеры приусадебного участка, льготы колхозницам-матерям, допуск кулаков в колхозы, правила приема в колхоз и исключения из колхоза. Партийное руководство по всем этим вопросам занимало демонстративно примирительную позицию, выказывая желание уйти от конфронтации, возникшей в связи с коллективизацией. Добрая половина колхозных активистов была настроена куда менее примирительно, чем партийные лидеры, мягко упрекавшие их за это. Повторялась, в смягченном варианте, тактика сталинского «Головокружения от успехов», когда режим внезапно отступил с максималистских позиций, поставив в трудное положение местных руководителей и коллективизаторов. В данном случае, однако, отступление совершалось гораздо более искусно. Некоторые делегаты были в замешательстве, но общего возмущения не последовало. Доступность личного общения с высшими руководителями во время съезда, огромное количество льстивых публикаций в печати, широко освещавшей это событие, и множество фотографий, для которых Сталин и другие партийные лидеры терпеливо позировали вместе с делегатами, производили в массе делегатов благоприятное впечатление.
139
Сталин и приусадебный участок
Приусадебный участок был одной из важнейших тем, обсуждавшихся на съезде. Это был также один из ключевых моментов для демонстрации примирительного настроя партийных лидеров по отношению к крестьянству. Делегатов заблаговременно не предупредили, и в результате, намеренно или нет, подобная демонстрация была проведена отчасти за их счет.
Проект Устава, очевидно, включал статью о праве колхозников на небольшие приусадебные участки, размеры которых должен был определять Наркомзем61. Хотя делегаты в общем не выступали открыто против приусадебных участков, они всячески выражали недовольство этой идеей, по причинам, как идеологическим (ведь они в прошлом так упорно боролись за принцип коллективной обработки земли), так и практическим (приусадебные участки будут отвлекать колхозников от работы на общественных полях). Большинство выступавших подчеркивали важность того, чтобы размеры приусадебных участков были минимальными и чтобы на них не разрешалось возделывать зерновые культуры62. Экономически нерационально тратить время на маленький приусадебный участок вместо большого колхозного поля, говорил делегат из Курска. Женщины и так слишком много времени работают на своем дворе; кроме того, крестьяне будут выращивать пищевые культуры, а не лен, который так нужен на местах и государству в целомбЗ.
Как признался Тимофей Власенко, делегат из Шишково, в вопросе о приусадебном участке он вынужден был примкнуть к мнению съезда. Однако, согласившись с этим мнением в принципе, он тут же попытался конкретизировать его по-своему, предложив дать «старым» колхозникам постоянное преимущество перед остальными сельчанами:
«ВЛАСЕНКО. Коснусь вопроса о приусадебных землях. До съезда я думал так: надо колхознику давать поменьше земли, но я оказался не прав... Мы на днях начнем разрабатывать свой колхозный устав по примерному уставу, выработанному на съезде, и тогда наши усадебные земли закрепим за колхозниками также навсегда.
ГОЛОСА. А как насчет единоличников?
ВЛАСЕНКО. Будет земля в самой деревне — дадим, не будет, придется занимать подальше, в поле. Лучшие куски земли получат колхозники...»64.
Дискуссия о приусадебных участках, начатая на общем собрании съезда, продолжалась на заседании редакционной комиссии, органа, включавшего 170 человек (в том числе Сталина и М.Чернова, преемника Яковлева на посту наркома земледелия), избранного съездом для выработки окончательной редакции Устава сельскохозяйственной артели. Протокол этого заседания не вошел в
140
отчет о работе съезда, но одна ленинградская делегатка, бывшая членом редакционной комиссии, рассказывала следующее:
«Особо много разговоров было по второму разделу устава — о земле. И любопытно вот что отметить. Тов. Чернов спросил: "Кто желает высказаться?" Рук поднялось столько, что не знали, кому дать слово первому... Большой спор зашел о размерах приусадебных участков. Одни предлагали дать под усадьбу 0,12 гектаров, другие 0,25 гектаров. Я лично предлагала 0,45 гектаров. Некоторые же высказывались за то, что приусадебные земли наделять по едокам. Наша делегатка Карютина... выступила против надела по едокам. "Едоки прибывают и убывают, так что каждый год придется переделывать усадьбу", сказала она.
Выслушав всех остальных, т. Сталин высказал и свое мнение. — Вы собрались, — сказал он, — и все люди передовые, и это очень хорошо, что вы больше думаете работать на колхозной земле, чем на своих участках. Но не надо забывать, что большинство колхозников хотят сад посадить, огород завести, пасеку поставить. Колхозники хотят культурно жить, а для всего этого 0,12 гектаров мало. Нужно дать от четверти до половины гектара и даже до одного гектара в отдельных районах»65.
Это выступление Сталина в защиту приусадебных участков из всех его высказываний на съезде приобрело наибольшую гласность. Докладывая съезду об итогах работы редакционной комиссии, Чернов широко цитировал замечания Сталина. Затем Яковлев передал их партийным организациям Москвы и Ленинграда. Наконец, 13 марта выступление Сталина на заседании редакционной комиссии было опубликовано в «Правде»66.
Делая свои замечания, Сталин явно пытался обозначить позицию сочувствия простым крестьянам и их стремлению к достойной жизни, дистанцируясь (как и в «Головокружении от успехов») от тех партийных руководителей низшего звена и активистов, которые проявляли нетерпимость по отношению к крестьянским чаяниям и склонность к перегибам. Если хотите, чтобы колхоз работал, сказал он, нужно принимать в расчет, что у крестьян есть не только общественные интересы, но и личные. Вы должны позволить им иметь приусадебные участки приемлемых размеров и некоторое количество домашнего скота. Беда ваша в том, не постеснялся заявить активистам Сталин, что «вообще вы хотите зажать колхозника. Это дело не выйдет. Это неправильно»67.
Сталин и женский вопрос
Еще раз Сталин активно вмешался в работу съезда, когда речь зашла о женщинах-крестьянках. Он выступал по этому вопросу на Первом съезде, объявив женщин «большой силой» в колхозе. Неясно, какие именно мотивы им двигали. Иногда Сталин и другие лидеры поднимали женщин на щит, чтобы заручиться их под-
141
держкой, потому что рассматривали их как угнетенный класс в деревне («суррогат пролетариата», по выражению Грегори Массе-ла). В других случаях руководство заходило с противоположной стороны и пыталось примириться с женщинами, считая, что коллективизация задела их сильнее, чем мужчин (в этом смысле Сталин упоминал на Первом съезде «маленькое недоразумение... о корове», временно испортившее отношения советской власти с крестьянками, пока вопрос не был окончательно прояснен в статье «Головокружение от успехов»)68.
На Втором съезде «женской» темой замечаний Сталина стали льготы колхозницам-матерям. Проект Устава, представленный съезду, включал положение о помощи беременным колхозницам, но никаких особых льгот им не обещал. Федотова, делегат из Ленинграда, участвовавшая в работе редакционной комиссии, рассказывала:
«Тов. Сталин очень заботливо, очень чутко относился к нам, женщинам-колхозницам. Он прислушивался ко всем нашим замечаниям и много говорил об облегчении труда колхозниц... Тов. Сталин не согласился с высказыванием отдельных колхозников о том, что женщин надо освобождать только за две недели до родов. Он сказал: — По моему мнению, нужно колхозницу освобождать за месяц до родов и на месяц после родов. И оплатой нельзя их обидеть. За эти два месяца надо платить в половинном размере от их средней выработки»6^.
Чернов по сути в своем докладе съезду рассказал то же самое, и это место в его выступлении было встречено «бурными аплодисментами» делегатов70, хотя не все из них выказывали такой же энтузиазм, делая замечания в ходе обсуждения. Вышеприведенное положение было включено в Устав. Впрочем, стоит заметить, что Сталин вовсе не проявил чрезмерной щедрости, предложив двухмесячный отпуск по беременности и родам: одна делегатка, председатель колхоза, состоящего преимущественно из женщин, предлагала, чтобы отпуск длился три месяца, и сообщила, что в ее колхозе это уже стало правилом71.
Вопрос о возвращении кулаков
Проект Устава содержал статью, позволявшую принимать в колхоз раскулаченных, доказавших своим поведением, что они исправились и не являются больше врагами советской власти. В своей речи на открытии съезда Яковлев остановился на этом вопросе несколько подробнее, указав на трудовой вклад бывших кулаков «на различных участках работы, в том числе в северных лесах, на Беломорском канале», и призывая не следовать политике «мести»72. Однако в этой речи была, безусловно намеренно, допущена неясность относительно того, какие категории раскулаченных имел в виду Яковлев, говоря о возможном приеме их в
142
колхоз. Шла ли речь о контингенте Гулага (кулаках «первой категории»), судя по словам о Беломорском канале? Или о сосланных кулаках («второй категории»), на которых вроде бы указывали несколько упоминаний о «ссылке»? И если так, то что именно предлагал Яковлев: принимать их в колхозы в местах нового поселения или разрешить им вернуться в родные села? А может быть, наконец, он имел в виду в первую очередь кулаков «третьей категории», раскулаченных, но не сосланных и не отправленных в Гулаг, а оставшихся в селе?
По мнению делегатов, задававшихся этими вопросами, они услышали в речи Яковлева по крайней мере намек на возможность того, что кулакам, насильственно удаленным из деревни в результате депортации или ареста, разрешат вернуться. Такая перспектива явно приводила делегатов в ужас, хотя ввиду позиции, занятой руководством, выражались они обиняками. Читая между строк, можно заметить, что местные активисты ничего, кроме смуты, междоусобицы и насилия в деревне, от такого поворота событий не ожидали. Они, разумеется, тоже говорили о недопустимости «мести» — однако думали при этом главным образом о возможной мести раскулаченных сельским активистам.
«Если советская власть будет говорить, что нужно принимать бывших кулаков, то мы будем принимать, — говорил один из выступавших, председатель колхоза с севера, после того как высказал свои сомнения, процитировав слова Сталина о необходимости постоянной бдительности в отношении классовых врагов, — но мы будем зорко смотреть, что представляет собой этот человек». Надо внимательно следить, чтобы эти бывшие кулаки в самом деле были «овцами», а не только «овечью шкуру носили», предупреждал другой колхозный председатель. Несколько выступавших заявили, что не возражают против того, чтобы сосланным кулакам, которые исправились, разрешили вступать в колхозы — но только не в их колхозы. Пусть становятся колхозниками там, в дальних краях, куда их сослали, а «обратно нам посылать не нужно». В особенности это касается Украины, добавил один обеспокоенный украинский председатель. Исправившиеся или нет, раскулаченные все равно «особо опасны» для пока еще шатких и (дальнейшее не было произнесено вслух, но подразумевалось) не оправившихся от последствий голода колхозов. «Я бы считал, что... пускать в слабые колхозы тех кулаков, которые высылались в Соловки, — от этого нужно было бы воздержаться»73.
В окончательной редакции Устава сохранилась весьма двусмысленная формулировка первоначального проекта. Таким образом, формально уступки встревоженным делегатам сделано не было, хотя позже Яковлев воспользовался некоторыми выражениями из их выступлений, когда объяснял партийным активам Москвы и Ленинграда, что «[исправившихся кулаков] с оглядкой и строгой проверкой, чтобы под видом исправившихся не пролез-
143
ли волки в овечьей шкуре, Примерный Устав разрешает принимать в состав членов артели...»74.
Вопросы членства в колхозе и исключения из колхоза
На Первом съезде, проходившем в тот год, когда массовое бегство из села перед лицом надвигающегося голода вызвало пугающе огромную нехватку рабочих рук во многих колхозах, правительство, как и делегаты, придерживалось весьма жесткой линии в вопросе об исключении из колхоза и о праве колхоза требовать возвращения отсутствующих или «лодырей». Однако в 1935 г. ситуация уже была иной. Нехватка рабочих рук больше не являлась для колхозов острой проблемой, гораздо более тревожным явлением стали произвольные исключения колхозников, и партийное руководство, наконец, сочло своевременным объявить, что настоящий приоритет имеет задача привлечения крестьян в колхоз, а не отталкивания их.
В проекте Устава предлагалось поэтому наделить правом исключения из членов колхоза только общее колхозное собрание (т.е. отобрать это право у председателей колхозов и сельсоветов, а также заезжих районных чиновников) и потребовать, чтобы исключение утверждалось только в том случае, если за него проголосуют две трети членов колхоза. Большинство делегатов высказались за это предложение и согласились, что ситуация с исключениями совершенно вышла из-под контроля, однако в их выступлениях явственно сквозила тревога по поводу того, как смогут колхозные руководители поддерживать дисциплину среди колхозников и заставлять их выходить в поле, если в их распоряжении не будет такой санкции, как исключение из колхоза7^. Как признался один делегат после съезда, старому колхозному активисту трудно было смириться с таким попустительством в отношении обязанностей членов колхоза7*>.
Вопрос о приеме в колхоз новых членов был на Втором съезде еще более щекотливой темой. В своей речи на открытии съезда Яковлев напомнил аудитории, что цель правительства — вовлечь в колхозы все крестьянство, а не сохранить существующее разделение села на колхозников и единоличников. Он отметил тенденцию некоторых колхозных активистов заставлять единоличников помаяться в отместку за прежнее враждебное отношение к колхозу, несмотря на то что теперь они хотят вступить в него. Многие колхозные руководители «выдерживают» единоличников, пока те, в конце концов, не махнут рукой и не уедут из деревни, сказал Яковлев. Когда единоличники подавали заявления о приеме, колхозы требовали от них немедленной уплаты вступительного взноса, эквивалентного полной стоимости скота или инвентаря, который единоличник продал за последние 4 — 5 лет, чтобы не ока-
144
заться в списке кулаков. Это, совершенно очевидно, было не под силу большинству единоличников, подававших заявления о приеме в колхоз скорее всего потому (хотя Яковлев и не сказал это вслух), что их разорили чрезвычайные налоги и хлебозаготовки. Новый Устав разрешал колхозам требовать компенсацию у желающих вступить в них, только если те в последние два года распродавали лошадей и семенное зерно. Если же вступающие не могли собрать такую сумму, их все равно следовало принимать в колхоз, позволяя выплачивать долг в течение шести лет77.
Это явилось для делегатов горькой пилюлей. В конце концов, они-то, вступая в колхоз, отдали в него своих лошадей и инвентарь. Почему же крестьянам, продавшим или забившим свой скот, теперь можно приходить с пустыми руками? Где справедливость, если вступающим позже всех — тем, кто годами насмехался над колхозами, — прием в колхоз обойдется дешевле, чем первым его членам, самой надежной его опоре? В ходе дискуссии, развернувшейся на съезде, целый ряд делегатов выражал это горестное недоумение и предлагал различные поправки с целью ужесточить правила приема новых членов колхоза78. «...В докладе товарища Яковлева насчет Устава многое нам непонятно, — заявил один председатель колхоза из Сибири. — Например, относительно того, что вступающий в колхоз единоличник как будто бы мелкий инвентарь не должен сдавать в колхоз, оставляя его в своем единоличном пользовании для огорода. Товарищи, к моему отъезду к нам должны были вступить 20 новых колхозников. Если у них останется в пользовании мелкий инвентарь, а мы мелким инвентарем считаем плуг и борону, тогда и старые колхозники будут просить отдать им для огородов плуги и бороны... А если это так, то... может нарушить дисциплину колхоза»7^.
В окончательной редакции Устава, выработанной редакционной комиссией, были учтены некоторые возражения делегатов: новые члены колхоза должны были выплачивать взнос «до шести лет» (а не просто «шесть лет»), что оставляло колхозу больше возможности припомнить им прошлые грехи. Кроме того, плуги и бороны были отнесены к категории крупного сельскохозяйственного инвентаря, т.е. подлежали обобществлению80.
Когда Тимофей Власенко, делегат от Ленинградской области, вернулся в свое село Шишково и делал доклад о работе съезда, этот вопрос все еще терзал его. Начал он с честного изложения новой официальной линии в отношении приема в колхоз, имевшей существенное значение для Шишково, где до сих пор было 30 дворов единоличников:
«Еще недавно можно было слышать такие разговоры: "На кой черт их принимать, когда у них ничего нет". По новому уставу мы их должны принимать и дать шестилетнюю рассрочку для того, чтобы они сумели снести всю плату за лошадь и семена, которые они разбазарили».
145
Сказав это, Власенко, однако, тут же свернул на привычные рельсы:
«Многие единоличники... рассуждали неверно: "Пусть колхозники строят, а мы поглядим, придет время, и мы сядем к накрытому столу". Нет, товарищи, это не выйдет. Поработали мы, потрудились, так будьте добры, верните ваше разбазаренное имущество»^ .
Примерный устав сельскохозяйственной артели был опубликован в качестве общего, но не обязательного руководства. Каждый колхоз должен был обсудить его, модифицировать применительно к местным условиям, утвердить голосованием и зарегистрировать в райзо. Демократический характер этого документа подчеркивался тем, что он был обнародован не как правительственное постановление, а как решение Второго съезда колхозников-ударников, просто утвержденное высшими органами партии и правительства82.
Демократичность и необязательность Устава во многом была обманом. Однако в том, что партийное руководство представляло его как результат компромисса с крестьянством, обмана не было. Второй съезд и Устав окончательно установили, что колхоз является организацией на основе села, сочетающей элементы общественного и личного сельского хозяйства, которая могла и должна была устроить всех крестьян (за исключением остававшихся в немилости кулаков), а не только меньшинство сельских активистов, и не пользовалась чрезмерной дисциплинарной властью над своими членами. Это было самое ободряющее заявление, какое слышала деревня за многие годы. Устав 1935 г. стал, как справедливо выразился один эмигрантский писатель, манифестом «колхозного нэпа», примирительной интерлюдией после политики конфронтации и принуждения, проводившейся в эпоху коллективизации83.
5. Второе крепостное право?
В представлении Сталина колхоз был крупным, современным, механизированным хозяйством, в экономическом и социальном отношении на годы опережающим отсталое, мелкое хозяйство российского крестьянина1. Именно такой образ колхоза пропагандировался советскими публицистами и запечатлелся в сознании множества сторонних наблюдателей. При чтении советской прессы 30-х гг. трудно за потемкинским фасадом разглядеть черты реальной российской деревни, и не только из-за беззастенчивых преувеличений и прямой лжи, ставших обычными для всех писавших о сельском хозяйстве в эпоху коллективизации, но и потому, что для описания крестьянского хозяйства в его колхозном обличье был изобретен целый новый язык.
Одним из следствий (если не целью) применения этого нового языка стало совершенное затемнение каких-либо преемственных связей с прошлым. Кто бы мог, опираясь на знание реалий крестьянского труда и быта до коллективизации, догадаться об истинном содержании понятий «трудодень», «ревизионная комиссия», «бригадир», «выполнение плана сева», «неделимый фонд», «механизатор», «ударник», «стахановец», «оргнабор», «единоличник», не говоря уже о таком неуклюжем акрониме, как «трудгуж-повинность»?
Крестьяне, по крайней мере часть их, постепенно привыкали пользоваться новым языком. В этой связи родился новый жанр деревенского юмора — люди начали, в целях достижения комического эффекта, пересыпать обычную, повседневную речь «советскими» словечками^. При всем том суть коллективизации они понимали совершенно иначе, нежели Сталин. Для них это был не рывок в будущее, а откат к прошлому.
Немедленно напрашивающейся исторической аналогией являлось крепостное право3. Использование подобной аналогии крестьянами, которых силой заставляли вступать в колхозы, было, пожалуй, неизбежно в любом случае, но в какой-то степени оно действительно соответствовало истинному положению дел, особенно проведение аналогии с барщиной. Подкрепляющие его аргументы заключались в следующем. В колхозе, как и в прежнем помещичьем имении, крестьяне обязывались по меньшей мере половину своего времени работать на чужих (т.е. колхозных) полях практически без оплаты. Жили они за счет продукции собственных маленьких участков, но за то, чтобы получить достаточно времени на их обработку, крестьянам постоянно приходилось бороться. Как во времена крепостничества, крестьяне не имели права уйти работать на сторону без разрешения. Это означало, что колхозни-
147
ки относились к особой категории граждан второго сорта, подобно крепостным. Они должны были нести трудовые повинности в пользу государства. Местные представители власти, председатели колхозов и бригадиры нередко играли роль помещиков и их управляющих, подвергая простых колхозников побоям и оскорблениям.
Ограничения свободы передвижения крестьян, введенные законом о паспортизации в 1932 г., трудовая повинность, размеры обязательных поставок и уровень цен на сельхозпродукцию, навязываемых государством колхозам в 30-е гг., придали немалый вес аналогии с крепостным правом. Пока государство забирало большую часть выращенного колхозом урожая, платя за нее до смешного мало, большинство колхозников за свою работу на колхозных полях наличными не получали почти ничего, а размеры натуральной оплаты колебались, падая порой ниже прожиточного минимума. Если это и не было барщиной в буквальном смысле слова, поскольку крепостным не полагалось никакой платы за работу на полях хозяина, то, во всяком случае, недалеко от нее ушло.
В отношении крестьян к работе в колхозе проявлялись многие черты, свойственные подневольному труду. Они работали мало и неохотно, поздно выходя в поле и стараясь ускользнуть оттуда как можно раньше. Работу начинали только по приказу бригадира и продолжали лишь до тех пор, пока бригадир за ними следил. Тащили из колхоза все, что могли, выказывая тем самым полное неприятие мысли, будто общественная собственность в какой-либо мере является их собственностью, а не государственной. Они избегали прямой конфронтации со своими хозяевами, но пускались на всевозможные хитрости и обман, демонстрировали нарочитую глупость, чтобы не выполнять распоряжений. Среди них часто проявлялись «иждивенческие настроения» (как называли это сбитые с толку представители власти), выражавшиеся в том, что крестьяне приступали к работе, только получив точные инструкции, и в трудные времена ожидали подачек от властей.
Судя по этой последней черте, память о крепостном праве претерпела в сознании крестьян более сложное преломление, нежели показывала их антиколхозная риторика, — и, вероятно, их отношение к колхозу отличалось такой же неоднозначностью. Ходатайства и жалобы крестьян, так же как и повседневная практика, свидетельствовали о существовании в селе-колхозе 30-х гг. нескольких расхожих представлений о «хорошей жизни».
Требования возврата лошадей, расширения приусадебных участков, усилия, предпринимавшиеся крестьянами, чтобы выиграть больше времени на обработку своих участков, а не колхозных полей, связаны с одним идеалом хорошей жизни — мелким малоприбыльным хозяйством такого типа, какое было у большинства крестьян в период нэпа. Однако существовали и рыночно-ориентированные крестьяне — в основном по России они состав-
148
ляли меньшинство, зато преобладали в конце 30-х гг. в Причерноморье и овощеводческих районах вокруг больших городов вроде Москвы и Ленинграда, — и их представления о хорошей жизни носили более отчетливый капиталистический оттенок. Эти крестьяне использовали приусадебные участки для производства продукции на рынок и расширяли их площадь путем нелегальной покупки и аренды земли4.
Согласно третьей концепции хорошей жизни государство должно было нести патриархальную или патрональную ответственность за колхозников, какую (по крайней мере в идеале) нес помещик за своих крепостных. Это подразумевалось во многих жалобах крестьян, где те выражали глубокое возмущение руководителями, не помогавшими колхозникам в беде (при неурожае, потере лошади, пожаре и прочих стихийных бедствиях) — т.е. поступавшими не так, как поступал добрый барин при крепостном праве. О том же самом свидетельствовали, пожалуй, еще более неожиданно, все учащавшиеся требования, чтобы государство предоставило и колхозникам такие льготы, как пенсии, нормированный рабочий день и гарантированный минимум зарплаты, бывшие достоянием городских рабочих и служащих5.
ОБЩЕСТВЕННОЕ И ЛИЧНОЕ
Термин «колхоз» означал коллективное хозяйство. Но что такое коллективное хозяйство? Какая часть земли, скота, сельскохозяйственного инвентаря и повседневной жизни крестьянина подлежала обобществлению? По этому вопросу велись дискуссии6, но окончательное решение дал лишь практический метод проб и ошибок в ходе коллективизации начала 30-х гг. В итоге крестьяне потеряли свои наделы общинной земли и лошадей (ставших собственностью колхоза), но сохранили коров, свиней, кур и приусадебные участки.
Приусадебный участок в 30-е гг. являлся одним из основных источников средств существования для крестьян, поскольку натуральные и денежные выплаты колхозникам были непредсказуемы и, как правило, очень малы. В 1935 г. Сталин открыто признал двойственную сущность колхозника, члена производственного коллектива во время работы на колхозном поле и единоличного хозяина во время работы на приусадебном участке. Признал он и то, что крестьяне часто вынуждены жить за счет своих приусадебных участков, потому что колхозы еще недостаточно сильны7.
Колхоз давал крестьянину существенную часть его рациона, однако это не были мясные и молочные продукты. Основным продуктом питания являлись крупы, и их крестьянин главным образом получал от колхоза. Далее следовал картофель: треть необходимого количества в середине 30-х гг. поставлял крестьянину
149
колхоз, две трети — приусадебный участок. Почти все мясные, молочные продукты и яйца, потребляемые крестьянами, обеспечивали им приусадебные участки. Согласно исследованиям бюджета колхозных дворов в 1937 г. многие продукты колхозники потребляли в меньшем количестве, чем в 1923 — 1924 гг. Уровень потребления молочных продуктов в 1937 г. составлял немногим более половины от уровня 1923—1924 гг., потребление круп и мяса тоже несколько снизилось. Взамен крестьяне ели больше картошки8.
Приусадебный участок имел для крестьян важное значение не только как источник продуктов питания, но и как источник товарной продукции. В 1932 г. крестьяне (колхозники, единоличники и колхозы в целом) получили право продавать излишки продукции на колхозном рынке9, — что во многих отношениях являлось аномалией в обществе, где любого рода торговля, производимая гражданами, за исключением колхозников и крестьян-единоличников, рассматривалась как «спекуляция», уголовное преступление. Однако, если бы крестьяне не могли торговать, государство лишилось бы возможности собирать с них весьма значительные налоги, установленные в 30-е гг.
Хотя колхоз, наряду с натуральной оплатой, должен был обеспечивать своим членам и денежный доход, менее 10% денежных доходов колхозных дворов поступали из этого источника. Более половины давали торговля и продажа государству по контракту продукции приусадебных участков. Доля торговли была скромной — бюджетные исследования в середине 30-х гг. показали, что крестьяне пускали в свободную продажу 17 — 22% мяса и сала и 6 — 7% молочных продуктов, произведенных в приусадебном хозяйстве (правда, эти цифры не дают полной картины легальной торговли и деятельности черного рынка), — но к концу 30-х гг. она, по-видимому, резко увеличилась. Отход также служил в 30-е гг. важным источником денежного дохода для колхозного двора. По подсчетам экономиста А.Бергсона, в 1937 г. советские колхозные дворы зарабатывали на стороне наличными почти столько же, сколько получали за работу в колхозе (включая, наряду с выплатами на трудодни, премии и оклады председателей колхозов)10.
Повинности
Крестьяне платили государству как деньгами (налоги), так и натурой (обязательные поставки). В каждом случае для колхоза существовал один пакет обязательств, для отдельного колхозного двора — другой11. Основными налогами в 30-е гг. являлись сельскохозяйственный налог, культурный налог (культжилсбор, введенный в 1931 г.) и местные налоги (самообложение). Налоговое бремя было значительно тяжелее, чем до коллективизации, в первую очередь в результате большого повышения налогов в годы
150
первой пятилетки. Если подсчитать в чистом виде (как вполне могли сделать российские крестьяне, даже не являясь экономистами), собранные с крестьян налоги за период 1929 — 1934 гг. увеличились более чем на 500% — с 405 млн руб. в 1929 — 1930 гг. (когда существовал один сельскохозяйственный налог) до 2197 млн руб. в 1934 г. (когда в придачу к сельхозналогу крестьянам пришлось платить новый культурный налог и «добровольно» покупать облигации государственного займа на еще более значительную сумму)12.
Разумеется, то был период сильной инфляции: даже по советским данным, индекс цен, если принять за 100% уровень 1928 г., к 1937 г. вырос до 536%, а американский экономист Дж.Чепмен считает, что он был значительно выше. Однако крестьян рост цен не затронул в такой степени, как городских работников. С их точки зрения, налоговое бремя следовало рассматривать не в контексте снижения покупательной способности рубля, а в контексте резкого сокращения денежных доходов крестьян, сопутствовавшего коллективизации. В середине 30-х гг. это бремя, по-видимому, несколько уменьшилось, но затем в 1939 г. последовало новое повышение налогов, причем сельхозналог стал взиматься не по единой, а по прогрессивной ставке, которая могла доходить до 15% от прибыли с приусадебного участка13.
Наряду с налогами и на колхозе, и на отдельном колхознике лежали обязательства по поставкам, — которые один американский экономист удачно назвал «натуральным налогом»14. Колхоз должен был сдавать государству определенное количество зерна, картофеля и другой продукции. Зернопоставки колхоза составляли значительно большую часть урожая, чем продали бы крестьяне до коллективизации, а цены, по которым расплачивалось за них государство, по словам советского историка, были «символическими», «в 10 — 12 раз ниже рыночных», а часто и ниже себестоимости продукции. После того как урожай был собран, в первую очередь производились обязательные поставки. Затем зерно ссыпалось в семенной фонд колхоза, и лишь после выполнения всех обязательств колхоз мог распределить остатки между своими членами в зависимости от того, как они работали в течение года15.
Колхозный двор должен был сдавать государству мясо, молочные продукты, яйца и другую продукцию со своего приусадебного участка — совсем как крепостной двор помещику в прежние времена. Согласно правилам проведения государственных заготовок, впервые вступившим в силу в 1934 г., каждый колхозный двор (и, конечно, каждое единоличное хозяйство) обязывался к сдаче определенного количества мяса и молока, даже если не имел ни свиней, ни овец, ни коров. Это вызывало сильнейшее возмущение и являлось темой многих жалоб крестьян16.
Тот факт, что государство устанавливало планы заготовок различной сельскохозяйственной продукции, сам по себе уже обязывал колхозы и отдельные колхозные дворы выращивать опреде-
151
ленные культуры в определенных количествах. Но государство не желало пускать это дело на самотек, опасаясь, что если не проконтролировать посевные работы, то к моменту уборки урожая крестьяне найдут массу оправданий и отговорок, объясняющих, почему они не могут предоставить требуемые продукты. Именно подобными соображениями были продиктованы печально известные «посевные планы», в которых райзо давал колхозам указания, какие культуры на какой площади возделывать.
Ежегодный «посевной план» района включал даже приусадебные участки. Впервые взявшись за эту задачу в 1935 г., Воронежский райзо дал колхозникам подробные инструкции, сколько выращивать на приусадебных участках зерна, льна, картофеля, капусты, огурцов, моркови, свеклы, гороха и помидоров. Это так возмутило колхозников, что они грозились отказаться от предлагаемых им по недавно принятому Уставу сельскохозяйственной артели приусадебных участков, не желая принимать их на столь тягостных условиях. Ретивые воронежские чиновники со своим планированием посадок капусты и огурцов действительно зашли слишком далеко, однако земельные отделы все же имели право и даже обязаны были составлять посевные планы для приусадебных участков по таким культурам, как, например, картофель, — культурам, включавшимся в планы государственных заготовок17.
Колхозники относились к посевным планам резко отрицательно, как потому, что работники земельных отделов часто ничего не понимали в сельском хозяйстве, так и потому, что предпочтения государства в отношении тех или иных культур не обязательно совпадали с предпочтениями крестьян. На этой почве вспыхивало множество конфликтов между районным руководством и колхозами, и во время Большого Террора, когда крестьян поощряли выступать с претензиями против местных представителей власти, такие конфликты служили одним из главных источников крестьянских жалоб. Вероятно, в ответ на них ЦК в конце 1939 г. сделал уступку колхозам, позволив им (хотя и в строго ограниченных пределах) самим решать, какие зерновые культуры сеять, и запретив району вмешиваться, пока колхоз способен выполнять планы обязательных поставок. Неясно, какой результат это дало на практике, в любом случае он оказался недолговечным. Вскоре после войны район снова получил право определять посевные планы колхозов18.
Помимо налогов и обязательств по поставкам, колхозники несли трудовые и гужевые повинности (трудгужповинность) в рамках системы трудовых повинностей, установленной в начале 30-х гг. Непосредственные истоки этой системы восходят к эпохе гражданской войны, но, если взглянуть шире, она представляла собой возрождение практики крепостничества. Нести трудовые повинности обязаны были все крестьяне, а не только колхозники (тогда как все наемные работники на жалованье от повинностей освобождались), однако поскольку колхозников было гораздо
152
легче мобилизовать, чем единоличников, то всей тяжестью это бремя падало на колхозы.
Трудгужповинность требовала от крестьян шесть дней в году участвовать в дорожных работах, приводя для этого собственных или (если речь шла о колхозниках) колхозных лошадей. Женщины обязаны были выполнять повинность в возрасте от 18 до 40 лет, мужчины — от 18 до 45. Когда трудовая повинность впервые была введена в 1929 г., предполагалось, что услуги крестьян будут оплачиваться, однако вопрос об оплате был снят дополнительными узаконениями 1931 и 1932 гг. Юристы порой все еще утверждали, что крестьяне должны получать плату, но, судя по материалам, обычно они не получали ничего. Из Белоруссии в 1932 г. сообщали, что не желающие исполнять трудовую повинность могли откупиться деньгами. Те, кто не выходил на работу, подлежали штрафу «в размере до 10-кратной стоимости работы» за каждый пропущенный день19.
В начале 1930 г. была введена еще одна трудовая повинность: крестьяне в лесных местностях обязывались зимой отправлять рабочие бригады и лошадей на лесоповал и лесосплав. В данном случае им платили за работу, но не за использование лошадей; мобилизованные отсутствовали дома неделями, а то и месяцами. Для колхозов эта повинность была весьма тягостной, и они нередко игнорировали указания послать колхозников на лесозаготовки или всячески уклонялись от их выполнения. Наконец, не следует забывать и о том, что у работников районных и сельских советов вошло в привычку рассматривать колхозную рабочую силу и колхозных лошадей как некие свободные ресурсы, которые они могут мобилизовать в любое время для каких угодно целей (см. гл. 8). Законодательно подобная практика никак не была закреплена, однако являлась существенным элементом материального и психологического бремени, лежавшего на плечах коллективизированного крестьянства в 30-е гг.20.
Приусадебный участок
Приусадебный участок по сути представлял собой усадьбу, т.е. землю вокруг жилого дома, включающую огород и, может быть, несколько плодовых деревьев. Крестьянские усадьбы, разумеется, различались по своим размерам, и, конечно, советская власть не могла не попытаться урегулировать этот вопрос и установить единообразие. На Втором съезде колхозников-ударников надлежащий размер приусадебного участка стал предметом самых оживленных дебатов, причем активисты проявляли меньшую щедрость, нежели Сталин. Окончательное решение, записанное в Уставе сельскохозяйственной артели 1935 г., гласило, что в большинстве регионов приусадебные участки колхозников должны иметь раз-
153
меры 0,25 — 0,5 га (около 1 акра), не считая площади, занятой крестьянской избой21.
Размеры приусадебных участков единоличников, а позднее — работников на постоянном окладе, живущих в деревне, также в конце концов были установлены официально: они должны были быть меньше приусадебных участков колхозников22.
Перед местными властями встала гигантская задача привести все сельские усадьбы в соответствие с узаконенными размерами. Дело это было хлопотное, повлекшее за собой множество конфликтов. Так как многие коммунисты считали, что колхозникам лучше не иметь приусадебных участков вообще, то районные и местные власти часто старались свести разрешенную норму до минимума. К примеру, на правом берегу Волги Саратовский обком партии установил размеры приусадебных участков всего лишь в 0,1 га (за что его в июле резко осудил Жданов). Колхозники же, со своей стороны, упорно и порой небезуспешно боролись за повышение размеров участков в своих районах23.
В Киевской области, так же как и на Северном Кавказе, возникли проблемы с крестьянскими усадьбами, включавшими плодовые сады и, следовательно, превышавшими установленную максимальную площадь. Местные власти задавались вопросом, не следует ли им заставить колхозников рубить плодовые деревья, пока их участки не сократятся до предписанных размеров? Начальник облзо посоветовал руководствоваться здравым смыслом и стараться не обижать крестьян без нужды: если не будет возможности включить отрезки садов в общий колхозный сад, предложил он, лучше оставить плодовые деревья в покое24. Однако не в характере местных представителей советской власти было прислушиваться к здравому смыслу, и топор несомненно погулял весной 1935 г. по многим вишневым садам.
Существование твердо установленных размеров приусадебного участка предполагало также, что некоторые колхозники имеют право требовать дополнительных земель, поскольку их участки слишком малы. Такие прирезки иногда делались за счет соседних усадеб, превышавших норму, а там, где это было невозможно, колхозники добивались выделения земли под приусадебный участок из колхозного поля. В результате, с точки зрения советской власти, понятие приусадебного участка становилось опасно растяжимым. Несмотря на весьма существенную разницу между приусадебным участком в 1 акр и наделом в 20 акров, бывшим нормой для Европейской России до революции25, партийные руководители постоянно беспокоились, как бы приусадебные участки колхозников не начали вгрызаться в колхозные поля, постепенно отхватывая все больше и больше, и не превратились в один прекрасный день снова в наделы, не оставляя места коллективному хозяйству.
В начале 1934 г. партийная организация Белоруссии подверглась суровому порицанию со стороны ЦК за то, что позволила
154
колхозникам занять под приусадебные участки добрую часть колхозных полей. «Доходили до того, что приусадебные участки фактически превращались в основные хозяйства». Та же озабоченность выражалась, правда без указания на конкретные местности, в постановлении 1939 г. о защите колхозных общественных земель от разбазаривания, вызвавшем, как уже отмечалось, новую кампанию по усечению участков. Повсеместно распространилась практика «всякого рода незаконных прирезок участков сверх предусмотренных», заявлялось в постановлении, в том числе «наделения» колхозников землей в колхозных полях. Если земля приусадебного участка расположена в поле, а не вокруг дома крестьянина, то приусадебный участок «теряет характер подсобного хозяйства» и становится предметом первоочередного внимания колхозного двора, члены которого порой могут жить исключительно за счет своего участка и практически прекращают трудиться в сфере общественного хозяйства26.
Вряд ли можно сомневаться в том, что таким путем крестьяне хотели осуществить фактическую деколлективизацию. Однако по имеющимся материалам невозможно с достаточной ясностью установить, удалось ли им в конце 30-х гг. сколько-нибудь значительно преуспеть в этом деле, и если да, то в каких частях страны. Интересно, однако, что, несмотря на энергично проведенное в 1939—1940 гг. усечение размеров приусадебных участков, точно такие же процессы, как осуждавшиеся в постановлении 1939 г., стали происходить в колхозах, когда они более или менее остались без надзора во время Второй мировой войны. Как показывают исследования Ю.В.Арутюняна, в годы войны приусадебные участки имели общую тенденцию к расширению, а колхозные поля — к сокращению. Иногда перемены совершались разительные, как, например, в одном колхозе на Нижней Волге, где председатель раздал колхозным дворам в придачу к имеющимся у них приусадебным участкам более чем по 30 акров колхозной земли. В то же время приусадебные участки все чаще стали засеваться зерновыми — что в 30-е гг. было в основном прерогативой общественного хозяйства и в личных хозяйствах не одобрялось, а то и прямо запрещалось. В 1945 г. 31% приусадебных участков колхозников был отведен под зерновые (ср. с 19% в 1940 г.)27.
Следует отметить еще некоторые последствия государственного регулирования вопроса о приусадебном участке. Участок не являлся личной собственностью и по закону не мог продаваться или сдаваться в аренду (хотя на деле очень часто становилось известно о такого рода сделках). Однако дом и другие строения, стоявшие на участке, были личной собственностью, и крестьяне вполне законно могли их продавать или сдавать. Это порождало множество сложностей. Сообщалось об одном случае, когда колхозник хотел продать и дом, и участок другому сельчанину, не являвшемуся членом колхоза. Колхоз воспротивился продаже и лишил колхозника права на участок, передав его другому колхознику.
155
Когда несостоявшийся продавец обратился в местный суд, последний подтвердил законность продажи как дома, так и участка. Но затем, в свою очередь, в судебные органы обратился колхоз, и суд высшей инстанции постановил, что законной являлась только продажа дома28.
Как правило, дом оставался в личной собственности, даже если его владелец уезжал из села. Правда, бывали и особые обстоятельства: если, например, село вначале коллективизировалось как коммуна, а не как артель, то дома тоже становились общественной собственностью. В конце 30-х гг. ярославский железнодорожник И.И.Березин ввиду плохого состояния здоровья и близкого выхода на пенсию попытался вернуть себе свой дом в деревне, оставленный им в 1930 г. вскоре после организации там колхоза-коммуны, членом которого он недолгое время был. С тех пор колхоз «Маяк» уже успел стать артелью. Березин утверждал, что, поскольку в колхозе-артели его дом с самого начала не подлежал бы обобществлению, он сохраняет право собственности на него; эти аргументы были отвергнуты на основании того, что Гражданский кодекс установил по таким делам четырехлетний срок исковой давности29.
Решение сделать двор единицей, наделяемой приусадебным участком, послужило для больших крестьянских дворов стимулом к разделению, чтобы новые дворы получили от колхоза собственные участки. Вероятно, это явилось одной из причин — хотя ни в коем случае не единственной причиной — исчезновения в 30-е гг. больших семей, состоящих из многих поколений (см. гл. 7). Но тут существовали возможности для мошенничества: как отмечалось в постановлении 1939 г., некоторые дворы симулировали разделение, чтобы получить право претендовать на дополнительный участок, однако на деле продолжали действовать как одна экономическая единица30.
ТРАКТОР И ЛОШАДЬ
Коллективизация якобы принесла в российское село трактор и комбайн, вытеснившие лошадь как основную тягловую силу. На деле происходило не совсем так. Во-первых, коллективизация и голод вызвали катастрофический падеж скота, особенно лошадей. В 1928 г. крестьяне Советского Союза владели 33 млн лошадей. Вступая в колхозы, они должны были отдавать лошадей туда. Однако в конце 1932 г., когда в колхозы вступили около 60% крестьянских дворов, в собственности всех колхозов Советского Союза находилось только 12 млн лошадей. С января 1929 г. по январь 1934 г. общее число лошадей в хозяйствах всех типов сократилось с 33 млн до 15 млн31.
156
Тракторы и комбайны пришли в деревню в начале 30-х гг., но их количество было недостаточно, чтобы компенсировать ужасные потери в живой тягловой силе — и более того, собственно до села они не дошли. На деле в начале 30-х гг. села потеряли даже те тракторы и комбайны, которые были у них во время коллективизации, в результате политики концентрации всех сложных сельскохозяйственных машин в машинно-тракторных станциях (МТС) и совхозах-**.
Сеть МТС, в июне 1930 г. еще минимальная, быстро разрослась, после того как в декабре того же года ЦК постановил, что МТС должны играть ведущую роль в механизации и оперативном управлении общественным сельским хозяйством. К концу 1932 г. в стране было уже 2446 МТС, насчитывавших почти 75000 тракторов и обслуживавших якобы 50% посевных площадей колхозов. Хотя к последнему утверждению следует относиться с известной долей скептицизма, нет сомнений в том, что МТС стали стержневыми организациями в деревне 30-х гг., в первую очередь как центры механизации сельского хозяйства, но наряду с этим и как центры политического контроля. В 1933 — 1934 гг. политотдел МТС даже узурпировал место района как главной административной единицы на селеЗЗ.
Смышленые парни из села приходили в МТС учиться работе на новых машинах, приобретая таким образом связи вне села и профессиональные навыки, которые зачастую через несколько лет уводили их на поиски своего счастья в город. Тракторы и комбайны появлялись в селе во время весеннего сева и уборки урожая — за эти услуги МТС получали от колхозов большую оплату натурой. По заявлениям МТС, в конце 1934 г. они обслуживали 64% всей посевной площади колхозов, а в конце десятилетия — 94%. В действительности же с МТС было много проблем. Особенно в Нечерноземье значительная часть работ в колхозе все еще производилась с помощью традиционного конного плуга. Даже в более плодородных местностях колхоз, обладавший достаточной тягловой силой, мог предпочитать обходиться без услуг МТС из-за высокой их стоимости34.
Таким образом, лошадь, а не трактор, являлась по-настоящему важным элементом сельской жизни. В сущности, можно утверждать, что лошадь в 30-е гг. стала в социоэкономическом отношении даже важнее, чем прежде. Лошади служили главным предметом споров. Обычно они были в деревне единственным доступным транспортным средством, а часто и единственной доступной тягловой силой для вспашки и прочих сельскохозяйственных работ. Колхозы отчаянно в них нуждались, как и отдельные колхозники. Кроме того, сельским представителям власти тоже нужны были колхозные лошади. Обобществление лошадей стало одним из немногих вопросов, по которому позиция государства оставалась непоколебимой. Несмотря на то что Устав сельскохозяйственной артели 1935 г. сделал крестьянам некоторые уступки, в
157
частности в том, что касалось приусадебных участков, возврат лошадей в собственность дворов даже не обсуждался. Когда колхозники Западной области по этой причине отвергли Устав и потребовали вернуть им лошадей, их требование было названо «контрреволюционным»^.
Крестьянскому двору лошадь была нужна для гужевой перевозки и торговли, для вспашки приусадебного участка и как личный транспорт, а также как средство заработать денег на стороне, скажем, трелевкой леса. Самой горькой пилюлей для колхозника оказалось то, что его лишили лошади и вообще права держать ее, в то время как единоличники по-прежнему имели лошадей. В течение нескольких лет некоторые дворы ухитрялись обходить этот камень преткновения: жена вступала в колхоз, а муж оставался единоличником и сохранял свою лошадь, но это решало проблему лишь на короткий срок. Большинству колхозников, когда им требовалась лошадь для чего-либо кроме работы на колхозных полях, приходилось нанимать ее. Если в селе жили единоличники с лошадьми, можно было нанять у них. Иначе крестьяне вынуждены были платить колхозу за использование тех самых лошадей, которыми они когда-то владели, — и даже в этом случае не было гарантии, что председатель не откажет. В конце концов, помимо рядовых колхозников в колхозных лошадях нуждались многие: например, председатели колхозов и сельсоветов, даже районные чиновники, бравшие лошадей для деловых поездок36.
Отказ дать лошадь колхознику, когда она ему была нужна, — одна из самых распространенных тем жалоб на колхозных председателей. Обычно в таких жалобах крестьяне всегда заявляли, будто лошадь понадобилась для поездки в больницу (что, пожалуй, создает чрезмерно радужную картину состояния здравоохранения в деревне), стараясь не приводить столь же возможные, но менее уважительные причины вроде поездки на рынок, в соседнее село в гости, вспашки приусадебного участка и т.д. Как возмущенно писал в «Крестьянскую газету», жалуясь на своего председателя, один колхозник из Калининской области, ему ни разу за три года членства в колхозе не дали лошади, чтобы съездить в больницу или за дровами: «Я лично и многие другие колхозники обращаются за лошадью к единоличнику. Это прямо позор». Другой крестьянин из Тамбовской области писал, что единственный способ получить лошадь в его колхозе — поставить бутылку председателю37.
Устав сельскохозяйственной артели 1935 г. гласил: «Из обобществленного рабочего скота правление артели в случае необходимости выделяет несколько лошадей для обслуживания за плату личных нужд членов артели». Согласно позднейшему разъяснению Наркомзема к «личным нуждам» относились поездки на рынок, в гости, работа на приусадебном участке. Если лошадь бралась для транспортировки дров или поездки в больницу, колхозник не должен был платить за нее38.
158
Статья о лошадях, как сообщала местная газета, вызвала в Ленинградской области горячие споры после публикации Устава. Практика использования лошадей там была весьма различна. Например, в колхозе «Страна Советов» Островского района правление за поездку в больницу на колхозной лошади взимало с колхозника 5 коп. за километр, за поездку в гости — 10 коп. Газета предупреждала: «Маловато считаете, товарищи колхозники... Это просто замаскированное нарушение примерного устава, попытка сохранить старый способ беспорядочного бесплатного пользования колхозной лошадью». С другой стороны, расценки 40 — 50 руб. в день, установленные в колхозах, находившихся возле самого Ленинграда (и, вероятно, обслуживавших ленинградские городские рынки), были, по мнению газеты, чересчур высоки. Правильная плата за пользование колхозной лошадью, заявлялось там, должна составлять несколько рублей в день в зависимости от района39.
Позиция властей заключалась в том, что владение лошадью в какой бы то ни было форме несовместимо со статусом колхозника. Если колхозники скидываются, чтобы купить лошадь в личное пользование, это плохо. («На этой лошади они выполняют всякие частные подряды, отказываясь от работы в колхозе».) Если колхозник владеет лошадью на паях с единоличниками — это тоже плохо40.
Тем не менее, обобществление лошадей, разумеется, далеко не всегда проводилось с такой строгостью, как хотелось бы руководству. Не все колхозы брали с колхозников деньги за пользование лошадьми, а некоторые даже позволяли бывшим владельцам продолжать ухаживать за собственными обобществленными животными. Из Западной области сообщали об одном случае, когда колхоз, включавший 35 дворов и имевший в общей сложности 27 рабочих лошадей, держал животных на колхозной конюшне, однако ответственность по уходу за конкретной лошадью возлагал на отдельный двор и оставлял в распоряжении двора упряжь данной лошади (седло, уздечку и т.д.). За пользование лошадьми никакой платы с колхозников ни взималось, и правление никак это пользование не ограничивало. В селе Вирятино Тамбовской обл. новый колхоз в самом начале потерял столько лошадей, что единственный выход видел в некоторой деколлективизации. «Чтобы спасти лошадей и рогатый скот, бывших владельцев каждого животного назначили ухаживать за ним. Каждый крестьянин, заботясь о "своей" лошади, не перетруждал ее и кормил из собственных запасов, если в колхозе не хватало кормов. Так продолжалось несколько лет, пока с коллективизацией не примирились»41.
ТРУД И ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА
Хотя колхоз теоретически являлся кооперативной организацией равных партнеров, расслоение в его внутренней структуре
159
произошло быстро. Такое расслоение, основанное на типе работ, выполнявшихся членом колхоза, в деревне было новостью. В самом деле, как это ни смешно, если вспомнить всю тревогу большевиков в 20-е гг. по поводу возможности экономической дифференциации крестьянства, наглядную картину подобной дифференциации представил лишь колхоз 30-х гг.
Часто высказывались предположения, будто исторический опыт общины развил у российских крестьян эгалитарные и кооперативные инстинкты. В отношениях и поведении колхозников после коллективизации можно найти некоторые свидетельства в пользу этой гипотезы. Особенно в начале 30-х гг. крестьяне часто стремились к тому, что в советском языке получило название «уравниловка», пытаясь делить доход колхоза поровну между дворами, принимая во внимание размеры семей, а не количество трудодней, заработанных каждым взрослым членом колхоза42. Но уже с середины 30-х гг. об уравниловке почти не слышно. Напротив, появилась заметная тенденция к усилению дифференциации платы за различные виды труда в колхозе, и со стороны колхозной верхушки и квалифицированных специалистов (например, трактористов) стали наблюдаться определенные старания улучшить положение высших слоев колхозного общества, добившись для них установленного ежемесячного оклада или гарантированного минимума денежного дохода.
В колхозе 30-Х'гг. возникли два привилегированных слоя. Первый — группа «белых воротничков»: председатель колхоза, члены правления, бухгалтер, бригадиры, завхоз и постоянно растущий список других должностей (завскладом, завклубом, заведующий избой-читальней, руководитель хора, заведующий хатой-лабораторией, почтальон и пр.), предоставлявшихся колхозной администрацией своим родственйикам и друзьям. По словам советского ученого, данная группа составляла около 5% всех членов колхоза, хотя это почти наверняка заниженная оценка, особенно для конца десятилетия, когда разрастание колхозной администрации стало главной причиной беспокойства в центре. Мужчины в 1937 г. составляли 75% группы служащих и зарабатывали 90% общего количества ее трудодней43.
Члены группы «белых воротничков» получали оплату по трудодням, как и остальные колхозники, несмотря на энергичные и порой успешные попытки председателей и бухгалтеров добиться ежемесячного оклада. Тем не менее председатели, члены правления и бригадиры обычно зарабатывали гораздо больше рядовых колхозников, не только потому, что их трудодни официально оценивались по высшей ставке, но и потому, что, как правило, считалось, будто они работают весь год семь дней в неделю. Хотя по результатам выборочных проверок, проводившихся правительственными статистиками в 1937 г., выработка служащих в среднем составляла лишь 1,2 трудодня за каждый рабочий день, но все же работникам колхозной администрации платили за 30 рабочих дней
160
в месяц, тогда как большинство колхозников в 1937 г. в среднем работали не больше 20 дней в месяц44.
Кроме того, члены группы служащих по обыкновению (хотя и не по закону, за исключением председателя) освобождались от работы в поле, а иногда ухитрялись освободить от нее и своих жен. Здесь можно провести параллель с описанным американским историком С.Хоком расслоением крепостной деревни, где «большаки» — мужчины пожилого возраста, главы дворов — составляли сравнительно привилегированную группу, из которой выходили все крепостные должностные лица, такие как управляющие и надсмотрщики, и члены которой были свободны от обязательных полевых работ45.
Второй слой представляли «голубые воротнички» — группа механизаторов, владевших как современными профессиями тракториста, комбайнера, шофера, так и традиционной профессией кузнеца. Из общего числа членов колхоза в конце 30-х гг. 7%, по подсчетам советского историка46, приходилось на долю квалифицированных рабочих, но в этой группе была большая текучесть кадров, поскольку большинство в этой категории составляли молодые мужчины и многие из них вскоре использовали свои технические навыки, чтобы получить работу в городской промышленности. Члены группы «голубых воротничков», а в некоторых случаях и их жены, также освобождались от работы в поле, и их трудодни рассчитывались по более высокой ставке, чем трудодни рядовых колхозников. Поскольку их квалификация пользовалась спросом в деревне, механизаторы зачастую выговаривали себе превосходные условия, в том числе оклад (нелегальный), выплачивавшийся из колхозных фондов: согласно одному сообщению из Татарской республики в 1938 г., колхозные шоферы получали наличными 150, 200 и 300 руб. в месяц, а также оплату натурой47. Кроме того, трактористы и комбайнеры обладали чрезвычайной привилегией, которой не было даже у председателей, — гарантированным государством минимумом денежного и натурального дохода (введенным для трактористов в 1933 г.) и заработной платой, выплачиваемой государством через МТС (введенной для комбайнеров в 1935 г.)4».
В отличие от «белых воротничков», постоянно занятых тем, чтобы расширить прерогативы колхозной администрации, и бывших первейшими участниками большинства деревенских междоусобиц и склок, механизаторы были ориентированы вовне. Для этих молодых людей центром жизни являлась местная МТС, а не колхоз, многие собирались через несколько лет покинуть село. Они, как правило, не оспаривали ни авторитета, ни прерогатив колхозного начальства, не играли заметной роли в деревенских раздорах и не писали жалоб. Советские средства массовой информации идеализировали колхозных механизаторов, но и без того ясно, что они действительно являлись надеждой колхоза — самыми завидными женихами для девушек, колхозниками с наилучши-
6-1682 1б1
ми жизненными перспективами и самыми «современными», советскими взглядами.
Третья группа колхозников — те, кто работал в поле косами и серпами или ухаживал за скотом, — представляла собой колхозный люмпен-пролетариат, не имевший ни квалификации, представлявшей какую-либо ценность за пределами хозяйства, ни доступа к благам конторской службы или руководящей должности. Летом, во время пика сельскохозяйственных работ, число женщин на полевых работах в 1937 г. несколько превышало число мужчин, хотя трудодней женщины вырабатывали меньше. Зимой, когда мужчины шли в отход, а женщины занимались домашними делами, число работающих мужчин превосходило число женщин почти вдвое, правда, общее число занятых в колхозе составляло лишь половину от того, что было летом49.
Работы, которыми обычно или чаще всего занимались женщины, — уход за скотом (кроме тяглового), работа в колхозных яслях — оплачивались плохо, особенно когда выполнялись именно женщинами. За день работы на скотном дворе мужчины в среднем вырабатывали 1,3 трудодня, женщины —1,1 трудодня. День работы в сфере культуры или ухода за детьми, бывших преимущественно женскими, приносил в среднем меньше 1 трудодня. Во всех видах работ в колхозе средняя выработка мужчины за день составляла в 1937 г. 1,4 трудодня, а женщины — 1,2 трудодня50.
В целях поощрения лучших работников из рядовых колхозников — ударников, как их называли в начале 30-х гг., или стахановцев, если воспользоваться словом, обозначавшим передовиков промышленного производства и заимствованным деревней в 1935 г., — выдавались премии. В данной группе преобладали молодые незамужние женщины. Это, безусловно, несколько восстанавливало баланс привилегий в колхозе, но положение простой колхозницы, ставшей стахановкой, было неоднозначным. Перевыполнение норм вызывало в колхозе, как и в большинстве других мест, острое недовольство, особенно когда дело касалось женщин; те, кто стремился работать дольше или производительнее в поле или на скотном дворе, нередко подвергались насмешкам и даже нападкам. Еще одна проблема заключалась в том, что почетное звание стахановки присваивалось колхозными руководителями-мужчинами (в частности, бригадирами) их подчиненным-женщинам, следовательно, фаворитизм и злобные сплетни являлись практически неотъемлемым элементом процедуры премирования.
Организация труда
Официально основной трудовой единицей на колхозных полях являлась бригада. В самом начале многие колхозы организовывали бригады-дворки, представлявшие в действительности группы дворов, которые работали совершенно так же, как до коллективи-
162
зации, — обрабатывали те же наделы, что и раньше, использовали прежний севооборот вместо установленного колхозом (или районом для данного колхоза), а порой даже тот же скот и инвентарь, который принадлежал им, пока не стал колхозным имуществом. Нужно сказать, что это считалось мнимой коллективизацией и осуждалось в передовице «Правды» от 16 февраля 1932 г. Работа крестьян дворами, заявляла «Правда», противоречила духу коллективизации51.
Бригада должна была отвечать за определенный участок на колхозном поле и быть постоянной, а не составляемой для конкретной цели, рабочей группой. Возглавлял ее бригадир, которого выбирало колхозное правление. Бригадир отвечал за выход бригады на работу, наблюдал за выполнением поставленных ей колхозной администрацией задач, вел учет работы, сделанной каждым колхозником, и причитающихся ему трудодней52.
Там, где бригадная система действительно функционировала, организация полевых работ представляется похожей на организацию труда в совхозе и, вероятно, в большом имении времен крепостного права. По свидетельству современника из крупного зер-нопроизводящего южного колхоза, крестьян будили звоном колокола в 5 ч. утра, через час они должны были собраться перед зданием правления, чтобы получить задания на день. Бригадиры каждый вечер собирались вместе с председателем и другими представителями администрации, составляли план работ на следующий день и выслушивали рапорты колхозных ударников. Как уже отмечалось ранее, колокол, созывавший колхозников на работу, зачастую был церковным колоколом, которому нашли новое применение после закрытия церквей в начале 30-х гг.53.
Дело не всегда шло гладко, особенно в первые годы. Колхозам потребовалось время, чтобы организовать бригады и приучить крестьян к новому стилю работы. Даже в середине 30-х гг. организация и разделение труда во многих колхозах существовали лишь в зачаточной форме. По словам летописца двух соседних деревень Воронежской области, в тамошних колхозах в 1930 и 1931 гг. не было ни настоящих бригад, ни системы учета: все выходили в поле и работали вместе, урожай распределялся между дворами традиционным способом, т.е. по едокам, а не по количеству затраченного труда. Лишь в 1932 г. производственные бригады и система оплаты по трудодням (см. ниже) стали неотъемлемой частью колхозной структуры54.
В мелких колхозах, в частности в Нечерноземье, бригадная система в середине 30-х гг., вероятно, носила оттенок некоей фикции. В среднем советском колхозе было только две-три бригады, и одна из них чаще всего являлась небольшой специализированной бригадой по уходу за колхозным скотом55. Более мелкая производственная единица, звено, стала появляться во второй половине 30-х гг. В 1939 г. XVIII съезд партии рекомендовал повсе-
6* 163
местное создание звеньев, но реальное значение они приобрели не раньше послевоенного периода56.
Многим колхозным руководителям приходилось побиться, чтобы выгнать крестьян в поле и заставить их работать. Порой бригадиры и председатели ходили утром по селу и стучали в двери. В колхозе «Красная елка» Ленинградской области в 1937 г., как правило, выходили 10—11 из 27 взрослых членов колхоза и не начинали работу до И часов утра. На крестьян, не выходивших или опаздывавших на работу, обильно сыпались штрафы и другие наказания. В колхозе «Гигант» на Средней Волге в 1934 — 1935 гг. за эти и другие прегрешения были оштрафованы 89 колхозников (61% всех членов колхоза). Иногда штрафы бывали весьма значительны: из годового заработка вычиталось от 10 до 15 трудодней57.
Нежелание колхозников трудиться на колхозных полях часто объясняли тем, что они предпочитают работать у себя на приусадебных участках, или какими-то другими экономическими причинами. Например, члены колхоза «Искра социализма» Краснодарского края в 1938 г., как сообщалось, не видели смысла работать на колхоз, потому что он платил им недостаточно и, в частности, оплачивал трудодни только натурой, а не деньгами. На работу выходили лишь несколько дюжин из 180 трудоспособных колхозников: «...Остальные болтаются с угла в угол, а некоторые совсем категорически отказываются от работы под разными предлогами, то больная, то своя работа, то нет сапог и жакетов...»5»
Председатель колхоза в Ярославской области обнаружил, что всю рабочую силу его хозяйства поразил тот же недуг, и написал в «Крестьянскую газету» отчаянное письмо, спрашивая, что ему делать:
«...В данный момент колхозники бросили колхозную работу, ушли на сторону или работают возле своих домов, у колхоза еще не выполнены гособязательства по зерну и картофелю. Скот к зимовке не подготовлен, дворы не ремонтируются, колхозники за трудодни не идут, бригадиры от своих обязанностей отказываются...»^
Крестьяне часто мотивировали плохую работу отсутствием моральных стимулов. В своих письмах в «Крестьянскую газету» в 1938 г. они нередко заявляли, будто оскорбительное поведение председателей и бригадиров, несправедливость и нечестность местных руководителей отбивают у них всякую охоту трудиться. Как писал один колхозник из Тамбовской области, раз жены председателя сельсовета и прочих представителей администрации в поле не выходят, то и другие крестьяне не видят смысла это делать60.
Пенсионер, проживавший в одном селе той же области, описал следующую картину:
«12 июля утром иду на колхозный луг, где должна происходить уборка сена, подходя к сидящим колхозницам, спрашиваю, почему сидите, отвечают, что не знаем, что делать, бригадиров ни
164
одного нет на лугу. Колхозница Богачкова Анна Васильевна и другие жалуются, что при таком руководстве и пьянке правления и бригадиров нет охоты ходить на работу»61.
Подоплекой жалоб на плохое руководство, лишающее крестьян желания работать, служили как злоба на колхозных активистов (поскольку постоянные жалобы такого рода могли навлечь на последних неприятности со стороны вышестоящих инстанций), так и обычное для крепостных или недовольного пролетариата стремление всячески уклоняться от работы. Сталин в 1933 г. обвинил крестьян в том, что они устроили «итальянку», и подобное поведение оставалось характерным для многих колхозников на протяжении всех 30-х гг. Лишь изредка они использовали как оружие более явную форму забастовки. В одном исключительном случае в 1938 г. колхозники, ожесточенно конфликтовавшие с районом по вопросу назначения председателя, по-видимому, открыто пригрозили забастовкой в своем письме в «Крестьянскую газету». Само письмо в архиве отсутствует (газета, скорее всего, переслала его в органы внутренних дел), однако в деле есть встревоженный ответ работника «Крестьянской газеты», выражавшего сочувствие требованиям крестьян, но настоятельно предостерегавшего их от такого способа протеста, как забастовка62.
Энергичные инициативы стахановцев поистине дисгармонировали с общей атмосферой апатии и недовольства. Неудивительно, что в колхозе «Красный партизан» Западной области разъяренные односельчане набросились на стахановца Д.Кравцова, предложившего остаться сверх рабочего дня, чтобы закончить косьбу. Стахановка из свекловодческого колхоза в Курской области столкнулась хоть и не с прямым насилием, но со столь же враждебной реакцией. Она со своей командой, стремясь получить высокий урожай, тщательно удобрила свой участок, внеся 10 ц золы и 9 ц куриного помета, а затем бригадир в последний момент перераспределил участки, так что им досталась неудобренная земля, поросшая сорняками, заявив при этом: «Вы, стахановки, мешаете всему колхозу»63.
Оплата трудодней
Поскольку колхоз являлся коллективным предприятием, его члены были партнерами, обязанными делить доход между собой. Доля каждого начислялась по трудодням — по сути это была система сдельщины, при которой крестьянину платили в зависимости от проработанного времени и уровня квалификации, требуемого для выполнения поставленных задач. Полевые работы оценивались по низшей ставке, далее на этой шкале располагались животноводы, трактористы, бригадиры и в самой высшей точке — председатели64.
165
Принцип оплаты по трудодням был непопулярен среди крестьян, вынашивавших идею уравнительного распределения, т.е. оплаты по дворам, дифференцированной лишь в зависимости от размеров двора. Большинство колхозов начинали в первые годы с уравнительного распределения, и переход на оплату по трудодням встретил весьма значительное сопротивление. Несмотря на четкие предписания Устава сельскохозяйственной артели, даже в 1936 и 1937 гг. еще были, судя по сообщениям, колхозы, распределявшие доход между дворами «по едокам». Кроме того, если заработки и начислялись по трудодням — т.е. в зависимости от работы, проделанной отдельным колхозником, — то выдавались обычно не отдельному человеку, а двору. В Центральной России писали об этом не только в 30-е, но и в 50-е гг.65.
В среднем член колхоза в 1937 г. заработал 197 трудодней, в пересчете на двор — 438 трудодней*56. Однако начисление трудодней различным колхозникам сильно варьировалось. 21% колхозников заработали в 1937 г. менее 51 трудодня, 15% — 51 — 100 трудодней, 25% - 101-200, 18% - 201-300, 11% - 301-400 и 9% — более 400 трудодней67.
Во-первых, различные работы оценивались по-разному: рабочий день председателя стоил больше рабочего дня среднего колхозника (1,75 — 2,00 против 1,3 трудодня); кроме того, считалось, что председатель работает все дни в году, тогда как полевым работникам платили только за те дни, когда они действительно выходили в поле. В 1937 г. средний колхозник (как мужчина, так и женщина) получал плату за 19 дней работы в январе и 20 дней — в июле, тогда как председатель — неизменно за 30 — 31 день в месяц68.
Во-вторых, различие в оплате зависело и от того факта, что сильно различалась степень участия колхозника в общем труде. Это служило предметом забот властей, делавших все от них зависевшее, чтобы справиться с двумя главными причинами малого участия в работе колхоза: отходничеством мужчин и занятостью женщин на приусадебном участке. Из общего числа колхозниц трудоспособного возраста, составлявшего в Советском Союзе в 1937 г. почти 20 млн чел., 7 млн вырабатывали меньше 50 трудодней. Причины такого минимального участия в работе на колхоз заключались в том, что женщины могли позволить себе сидеть дома или считали более выгодным трудиться на своих участках. Даже те из них, кто заработал значительное количество трудодней, трудились в колхозе только в самую горячую пору. Зимой, как отмечалось ранее, соотношение мужчин и женщин, работавших в колхозе, было 2:169.
Несмотря на все призывы к обратному, в крестьянской семье царил обычай, согласно которому, если и муж и жена были рядовыми колхозниками, муж больше времени проводил на колхозных полях, а жена — на приусадебном участке. В 1939 г. попытались вынудить женщин работать в колхозе, введя минимум трудодней.
166
Но, как писала с возмущением всесоюзная сельскохозяйственная газета, колхозники, например в Саратовской области, полагали, что «если муж работает хорошо, то жене можно совсем не работать, потому что он один выработает минимум трудодней и за себя и за жену. Поэтому здесь большинство жен трактористов, бригадиров и некоторых членов правления по-прежнему не работают в колхозе, а занимаются исключительно своим личным хозяйством...» Согласно другому сообщению колхозниц, впервые вышедших на работу, другие женщины насмешливо называли «трусливыми воронами, напугавшимися постановления»70.
В 30-е гг. трудодни оплачивались в основном натурой (зерном, картофелем и другими продуктами питания), хотя теоретически колхозы должны были производить как натуральные, так и денежные выплаты. Строго воспрещалось выдавать колхозникам плату натурой («аванс») после урожая, пока не выполнены задания по государственным поставкам. Поскольку эти задания были велики, в неурожайный год у колхоза оставалось мало зерна для раздачи.
Размеры натуральных выплат на трудодень в течение 30-х гг. повышались. В 1932 г. средний советский колхоз выдавал на трудодень 2,3 кг зерна, а в 1937 г. (самом урожайном за десятилетие) — почти 4 кг, не считая картофеля, гороха и других продуктов, тоже распределявшихся по трудодням. Таким образом, в 1937 г. колхозный двор в среднем получил на трудодни 1636 кг зерна, или примерно по килограмму в день на каждого члена семьи. Проблема заключалась в том, что в оплате трудодней могла существовать чудовищная разница в зависимости от плодородности региона, урожайности, величины обязательных поставок и производительности колхоза. Так, колхоз «Пугачев» в Башкирии выдал в 1937 г. 8 кг зерна на трудодень. Однако за год до того, когда во многих регионах был неурожай, колхозы Ленинградской области вьщавали на трудодень менее трети килограмма зерна71.
Что касается выплат наличными, по официальным данным, средний колхозник получил в целом за год 108 руб. в 1932 г. и 376 руб. в 1937 г. Но и здесь были огромные различия по регионам и колхозам. Многие колхозы вообще не выдавали на трудодни наличных денег, и не только в случае временного экономического кризиса, как, например, в Нечерноземье в 1936 г. Подобное происходило и в некоторых колхозах плодородных сельскохозяйственных регионов после обильного урожая 1937 г. В 1940 г. 12% всех советских колхозов не выдали на трудодни наличных. В Тамбовской области эта цифра составляла 26%, в Рязанской — 41%72.
Денежные выплаты колхозникам были столь малы, потому что председатели и правления колхозов сплошь и рядом находили доходам колхоза иное применение. Неделимый фонд колхоза, предназначавшийся в основном для финансирования колхозного стро-
167
ительства и закупки скота и сельскохозяйственной техники, предоставлял массу возможностей, для многих председателей куда более привлекательных, чем законная оплата трудодней колхозников. К примеру, его можно было использовать для выплаты окладов председателю и бухгалтеру (см. гл. 7), а можно — для найма рабочей силы, либо в случае действительной нехватки рук, либо чтобы освободить членов колхоза для других занятий.
Согласно Уставу сельскохозяйственной артели ежегодные взносы в неделимый фонд колхоза должны были составлять 10 — 20% его денежного дохода. Признав, что на практике эта цифра часто превышалась и средства для наличных выплат колхозникам на трудодни оставлялись совершенно недостаточные, правительство прибегло к новой тактике: постановление 1938 г. «О неправильном распределении доходов в колхозах» требовало, чтобы как минимум 60% всего денежного дохода колхоза использовалось для оплаты трудодней колхозников, и повторяло прежние инструкции, согласно которым не более 2% могло идти на «административные и внутренние расходы» (главным образом плату наличными колхозной администрации). Тем не менее, понятно, что данное предписание, так же как и предшествующие, часто игнорировалось73.
По мере того как колхозы преуспевали, в особенности на юге, к концу 30-х гг. стали множиться сообщения об их попытках вырваться из рамок кооперативной структуры и перейти к своего рода сельскому капиталистическому рынку труда.
Помимо колхозных председателей, предпринимавших непрестанные усилия, чтобы добиться для себя ежемесячного оклада, все прочие представители администрации и должностные лица так же стали требовать от колхоза регулярной заработной платы вместо непредсказуемых натуральных и денежных выдач на трудодни, основанных на пропорциональном распределении продукции и прибылей хозяйства. Среди тех, кто, по сообщениям, получал в колхозах Куйбышевской области в 1938 г. регулярную заработную плату, назывались бригадиры, бухгалтеры, конюхи, шоферы и сторожа. Писали о таком же требовании, выдвинутом рядовыми колхозниками в Ленинградской области. Колхозники пытались также, не доверяя учету трудодней, заключать с колхозом контракты на выполнение конкретных работ. В одном колхозе Ленинградской области колхозники, работавшие на конюшне, требовали платить им по 5 руб. за каждую привезенную бочку воды. В зажиточном колхозе на Средней Волге один колхозник купил пару быков и предложил предоставить их для работ в колхозе, если ему будут платить наличными по той же ставке, как единоличникам74.
Несмотря на запрещение колхозам нанимать работников на стороне, такая практика существовала повсеместно, особенно в тех районах, где близость к городским рынкам давала колхозникам много возможностей для извлечения значительных дополни-
168
тельных доходов. Один колхоз в Ленинградской области потратил в 1936 г. 4500 руб., нанимая посторонних для работы в поле. Другой колхоз нанимал работников за 6 руб. в день, не считая приличных выплат натурой, тогда как собственные его члены получали всего 60 коп. на трудодень. В колхозе «Пятилетка» Калининской области, где особенно часто прибегали к найму рабочей силы, половина колхозников трудилась на местных кирпичном и стекольном заводах, а для полевых работ колхоз нанимал единоличников. Впрочем, если верить официальной статистике, подобные случаи являлись исключением. В большинстве мест колхоз в среднем нанимал в течение года меньше 10 чел. на 3 — 4 дня работы75.
Наконец, и отдельные колхозники, случалось, нанимали «заместителей», работавших за них в колхозе. Так, например, в колхозе «Сталин», находившемся в 3 км от областного центра Орджоникидзе, жена колхозника Николая Пискачева посылала в поле вместо себя свою домработницу, а сама торговала на черном рынке в городе. В колхозе «Буденный» Киевской области колхозник С.Лымарь нанял работать вместо себя в поле единоличника. Лымарь рассчитывался с единоличником наличными, а колхоз оплачивал Лымарю трудодни76.
ПРЕТЕНЗИИ КРЕСТЬЯН
Многие претензии крестьян к колхозу, подоплекой которых служила жажда перемен, звучали в их замечаниях и предложениях в ходе всесоюзного обсуждения новой советской Конституции в 1936 г.77. В своих письмах некоторые крестьяне — мы не можем судить, какова была их доля от общего числа, так как письма в архивах несомненно в какой-то степени подбирались специально, — выражали крайне негативное отношение к колхозам, описывая условия в них как эксплуататорские, сродни крепостническим. К примеру, колхозник из Московской области, недавно не получивший разрешения уйти из колхоза на производство, разразился следующей инвективой:
«...Колхозы остаются как государственные рабы? За что с нас берут дань? Колхоз платит сено, рожь, пшеницу, овес, картошку и другие продукты. И его считают великим достижением, победой. С членов колхоза берут и картошку, налог, самообложение, культналог, шесть дней отработкой гужповинности, молокопоставки, мясопоставки, хотя и не имеешь коровы.
Мы все со слезами отдали в колхоз: лошадь, телегу, борону и весь инвентарь. Получаем по трудодням.
Пролетариат имеет дом, корову, кур, огород и проч. А мы за что же платим? За то, что мы колхозники?.. Могу я себя чувствовать свободным, когда я считаюсь, как барский?»78
169
Крестьянин из Башкирии писал в том же духе:
«Но всем тем и всеми теми правами, которыми пользовались кулаки, помещики и спекулянты, теперь пользуется наше правительство. Например, хлеб принимается в государство зерно 6 коп. кгр., а продается 75 коп. печеный и т.д. Все это разве не спекуляция, разве не эксплуатация?»79
Мнения, выражаемые открыто на публичных обсуждениях в колхозах, обычно звучали умереннее, нежели приведенные выше цитаты, но бывали исключения, о которых тут же сообщалось в НКВД, — как правило, короткие ироничные реплики вроде предложения воронежской крестьянки переделать статью Конституции, гласившую: «Кто не работает, тот не ест», в положительное утверждение: «Кто работает, тот ест»80.
Сильное недовольство вызывали обязательные поставки молока, мяса и других продуктов с приусадебных участков отдельных колхозных дворов. Крестьяне постоянно указывали на несправедливость того факта, что рабочие и служащие, живущие в деревне и тоже имеющие участки, не должны были сдавать эти поставки, и требовали упразднить или по крайней мере сократить мясо- и молокопоставки с дворов, потому что, по их словам, под таким бременем «трудно выжить в колхозе, не то что на заводе или в совхозе». С другой стороны, рабочих и служащих, имеющих участки, считали крестьяне, тоже следовало бы обязать сдавать государственные поставки81. «Нужно отменить мясо- и молокопоставки, как был крестьянин рабом, так и остается. Довольно уж мякины наелись»82.
Вероятно, настоятельность именно этого требования была связана с тем, что 1936 год во многих частях страны выдался засушливым и неурожайным. Официальные лица, анализировавшие дискуссии среди крестьян Западной области, отмечали, что часто проявлявшиеся там «нездоровые настроения» (т.е. антиправительственные высказывания) несомненно вызваны страхом голода. Об этом ярко свидетельствовали слова одной колхозницы, что «скоро крах, молодежь вся почернела, замучилась от работы, а на полях ничего нет, и все мы будем голодные, а единоличник будет есть пшеничный хлеб»83.
В письмах постоянно звучала мысль, что коллективизированное крестьянство является в советском обществе эксплуатируемым и лишенным всех привилегий классом. Обычно проводилось сравнение положения крестьян и городских рабочих и выдвигалось требование равных прав — власти считали подобные заявления «типично антисоветскими». Особую сферу дискриминации, о которой чаще всего говорили крестьяне, представляли собой пенсии и прочие государственные льготы, доступные городским работникам на постоянном окладе, но недоступные колхозникам. В письмах по поводу Конституции (от представителей всех социальных групп), приводимых А.Гетти, самую обширную категорию составляют письма с предложениями гарантировать крестьянам такие же
170
государственные льготы, в особенности пенсии, какие имеют городские рабочие84.
«Чем мы, колхозники, хуже рабочих? Но если мы станем инвалидами, новая Конституция говорит, что государство не даст нам никакой помощи. Эта Конституция хороша только для рабочих. А что до нас, крестьян, то нас снова погоняют кнутом, только вдвое сильнее, чем в прошлые годы»85.
Огромное большинство писавших на эту тему считало само собой разумеющимся, что государство должно обеспечить гражданам, в том числе (или особенно) колхозникам, пенсии по старости или инвалидности. Лишь немногие придерживались более традиционного для крестьян взгляда, предлагая заботу о престарелых и немощных родителях возложить на их детей, которых государство должно заставить платить, если они уехали работать в город («хотя одну треть жалования, а две трети оставлять», — предложил один колхозник)86.
«Когда будут стерты грани между городом и деревней?» — спрашивали крестьяне Западной области, по крайней мере так это звучало в пересказе должностных лиц, докладывавших об обсуждении Конституции. Но эта фраза, являвшаяся на первый взгляд лишь отзвуком оживленных теоретических дебатов, шедших в среде марксистской интеллигенции несколькими годами раньше, в устах крестьян приобретала вполне конкретный смысл: «коллективизированное население», по их мнению, должно было пользоваться теми же преимуществами, что и работники на постоянном окладе. «Почему в колхозе не введут 8-часовой рабочий день?» — интересовались многие крестьяне (еще один «типично антисоветский» вопрос). Многие крестьянские письма содержали предложение дать колхозникам, помимо пенсий по старости и инвалидности и 8-часового рабочего дня, один выходной день в неделю, как у рабочих, и ежегодный оплачиваемый отпуск. Двойная оплата за сверхурочную работу — тоже неплохая мысль, считал один из тех, кто выступал за 8-часовой рабочий день: почему рабочие пользуются этой привилегией, а колхозники должны работать «12 часов в день, а иногда и 27 [sic!] часов»? Если бы у колхозников было больше свободного времени, писал один корреспондент, они могли бы принять более активное участие в обсуждении новой Конституции87.
Крестьяне, отстаивавшие подобные идеи, совершенно упускали из виду тот факт, что, будучи членами кооператива, они получают плату за свой труд по совершенно иному принципу, нежели наемные работники. Большинство из них писали так, словно колхозники находились на своего рода государственном пособии, и требовали превратить его в заработную плату. «Как ни говорят, что колхознику хорошо живется, а труд колхозника все равно самый дешевый». Доход колхозника должен быть поднят до уровня дохода городских рабочих и служащих, считали авторы писем88.
171
Те немногие, кто обращал внимание на формальную сторону вопроса, полагали, что следует отказаться от кооперативной структуры колхоза и сделать колхозников государственными служащими. Если колхозники будут регулярно получать зарплату, они не будут подвергаться риску из-за плохого урожая, писал один колхозник. Это звучало как предложение превратить колхозы в совхозы, однако вовсе не того хотели крестьяне в середине 30-х гг., когда условия в совхозах были плохими, а совхозным рабочим не разрешалось держать скот и иметь приусадебный участок. Подчеркивая данный момент, один из выступавших за назначение колхозникам оклада государством придумал новое название для предлагаемой им организации — «государственные хозяйства» (госхозы)89.
У многих колхозников не было никаких сомнений в том, что государство обязано обеспечить благосостояние своих крестьян, неважно, каким путем это может быть достигнуто. «Нужно, чтобы государство кормило и одевало», — как лаконично выразился один крестьянин90.
6. На обочине
Хотя колхозники, работавшие преимущественно в сфере сельского хозяйства, занимали в деревне центральное место, они все же не были единственными ее обитателями. Во-первых, там жили единоличники, не вступившие в колхоз. Существование их, с исторической точки зрения, было недолгим, однако, пока оно длилось, единоличники составляли альтернативное крестьянское «сословие» с правами и обязанностями, отличными от прав и обязанностей колхозников. Это давало колхозникам основу для сравнения с собственным положением и предоставляло широкий спектр возможностей для того, чтобы манипулировать колхозными правилами и обходить их, особенно в тех случаях, когда один двор объединял и колхозников, и единоличников. Главной отличительной чертой положения единоличника было то, что он, в отличие от колхозника, имел право держать лошадь.
Во-вторых, были такие колхозники, которые занимались главным образом не сельским хозяйством, а различными кустарными промыслами. Как правило, экономическая структура колхоза не благоприятствовала кустарям, и многие традиционные сельские промыслы в 30-е гг. исчезли. Сельских мельников обычно высылали как кулаков; сельские кузнецы чаще всего уезжали работать в город, а оставшиеся находились с колхозом в весьма сложных, зачастую натянутых отношениях.
Еще одну маргинальную группу составляли хуторяне, которые формально могли быть членами колхоза, принимая самое минимальное участие в коллективизированном земледелии. Их изолированное от села положение затрудняло установление каких-либо тесных связей с колхозной жизнью. Только в конце 30-х гг. были предприняты серьезные попытки ликвидировать это слабое место в колхозной структуре, и местные власти получили распоряжение организовать переселение хуторян и обеспечить их жильем в деревне.
В селе 30-х гг. проживало множество крестьян, все свое время или часть его проводивших на заработках. Являясь нередко членами колхоза, с колхозным земледелием они сохраняли лишь минимальную связь. Наемных работников можно разделить на две группы: тех, кто постоянно жил в деревне, работая в соседнем совхозе или на каком-то другом местном предприятии, и отходников, живших и работавших за пределами деревни на протяжении различных периодов времени.
Отходники играли важную роль по двум причинам. Во-первых, их заработок для многих колхозных дворов представлял существенный дополнительный источник дохода. Во-вторых, эти
173
крестьяне стояли одной ногой в двух мирах, будучи жителями и деревни, и города. Именно они поставляли большую часть информации, на основе которой формировался взгляд других колхозников на внешний мир. Несомненно, глядя, главным образом, их глазами, колхозники обретали способность к сравнению, приходя к столь частому и столь горькому выводу о том, что после коллективизации крестьяне стали гражданами второго сорта.
ЕДИНОЛИЧНИКИ
В 1932 г. 39% крестьян в Советском Союзе еще не были коллективизированы. К 1937 г. таких осталось всего 7%, общее число единоличников сократилось до 7,5 млн работников и иждивенцев (работники делились на мужчин и женщин почти поровну, в отличие от занимавшихся сельским хозяйством колхозников, среди которых женщины составляли 63%)1. Таким образом, речь шла об исчезающем под давлением чрезвычайного налогообложения и прочих форм официальной дискриминации виде. На протяжении всего десятилетия семьи единоличников непрерывным потоком покидали деревню, вливались в колхозы и совхозы. После того как в 1938 г. новый закон заставил единоличников отказаться от лошадей, вне колхоза оставались лишь отдельные старики либо эксцентричные личности. Тем не менее, еще в 1935 — 1936 гг. единоличники представляли собой реальный фактор социально-экономической жизни села.
Как мы знаем, главным преимуществом единоличника перед колхозником было право иметь лошадь. Поэтому единоличники становились сельскими возчиками, перевозя продукцию на рынок, сдавая колхозникам подводу с лошадью для поездки на рынок или по делам в райцентр, лошадь для вспашки приусадебного участка и пр.2. Подобная предпринимательская, рыночно ориентированная деятельность не могла не вызывать неприязни у правоверных коммунистов, впрочем, последние не одобряли самого существования единоличников, невзирая на их род занятий. Ведь в эту группу входили кулаки! Эта группа выступала против колхозов и отравляла умы колхозников! Тем не менее, единоличники со своими лошадьми и подводами выполняли в деревне весьма полезную функцию. Когда они в конце концов ушли со сцены, даже у правоверных коммунистов были кое-какие причины прагматического характера, чтобы пожалеть о них.
В начале 30-х гг. большинство единоличников, несомненно, занимались земледелием. Однако из всех сельских занятий земледелие меньше всего давало им возможность выжить, и к 1938 г. лишь незначительная часть сохранившихся единоличников обрабатывала землю. Причина заключалась в том, что земледельцы, так же как колхозы и колхозники, должны были выполнять спус-
174
каемые райзо посевные планы и обязательства по государственным поставкам.
Среди единоличников в начале 30-х гг. была группа так называемых «твердозаданцев», сравнительно зажиточных хлеборобов, которым давались большие посевные планы и задания по госпоставкам и особое уничижительное название которых постоянно напоминало об опасной близости к категории кулаков. Такие крестьяне либо стремились уехать из села, либо пытались обрести убежище в колхозе, избавившись от злосчастной клички, и после 1933 г. о них уже не приходится слышать.
Единоличники печально прославились как «отказывающиеся сеять». Это странное обвинение означало, что они предпочитали оставлять свои наделы необработанными и жить за счет извоза и торговли на черном рынке, чтобы не быть охваченными системой обязательных государственных поставок. В одном селе Западной области в 1936 или 1937 г. лишь 5 из 22 единоличных дворов занимались сельским хозяйством, а когда местные власти попытались отвести им землю, больше половины отказались от нее из-за госпоставок3.
В Омской области, где единоличники составляли около 5% крестьянского населения, почти все они весной 1935 г., не желая принимать посевные планы, впервые спущенные районом единоличникам, отказались сеять, заявив, что у них нет семян. Одни пошли работать в совхоз. Другие поспешно вступили в колхоз. Несколько семей погрузили вещи на подводы и отбыли из села в поисках нового места жительства, где нет посевных планов. Кроме того, большое число мужчин внезапно исчезало из деревень:
«Наиболее распространенным методом саботажа в ряде районов был уход мужчин "без оставления адреса". Перед самым севом, продавая лошадь, глава семейства "уходил неизвестно куда". В одной деревне в Иконненском районе все 17 единоличников продали к моменту сева своих лошадей и ушли, оставив на месте жен и детей. Жены ссылались на то, что они не знают, куда уехали мужья, и что они сеять не могут — лошади нет (взамен лошадей были куплены мужьями коровы)»4.
Поскольку государство ставило перед собой цель «выжимать» единоличников до тех пор, пока с них уже нечего будет взять, им часто давали заведомо нереальные планы и задания по госпоставкам. Не выполнявших эти планы постигала суровая кара. Так, например, в Ярославской области в 1936 г. народный суд оштрафовал единоличницу Анну Авдеевну Базанову за невыполнение посевного плана на 400 руб., а затем «[передал решение] судебному исполнителю, который на сумму 400 р. продал с торгов имущество гр. Базановой». Впрочем, Базанова отделалась сравнительно легко: в подобных обстоятельствах единоличников зачастую просто «раскулачивали» (т.е. местные власти конфисковали все имущество) и/или бросали в тюрьму. В Сибири в 1936 г. были заведены уголовные дела на семерых единоличников, не сдавших
175
980 ц зерна в счет госпоставок. Шестеро из семи «кулаков-антисоветчиков», как назвали их в газетном репортаже, получили от 3 до 10 лет лишения свободы, седьмой был приговорен к высшей мере наказания5.
Впрочем, могло быть и так, что земельные отделы в силу чрезвычайной занятости или небрежности не составляли посевных планов для единоличных дворов и не давали им заданий по госпоставкам. Колхозники часто на это жаловались, особенно когда дело касалось мясо- и молокопоставок с приусадебных участков, одинаково обязательных как для единоличных, так и для колхозных дворов. В 1938 г. из Плюсского района Ленинградской области сообщали:
«Из 500 единоличных хозяйств, насчитывающихся в районе, к выполнению различных государственных обязательств привлечено только 244 хозяйства. Десяти единоличным хозяйствам до сих пор не вручены государственные обязательства на поставки картофеля, мяса и молока. Из 66 хозяйств, привлеченных к молокопоставкам, продукцию сдают лишь 46 хозяйств, а остальные 20 уклоняются... Из 244 хозяйств, получивших обязательства, зерно сдают только 4 хозяйства...»6
Самым тяжким бременем для единоличников являлись налоги. Они были обязаны платить те же налоги, что и колхозники (см. выше, с. 150), но для колхозников ставка налога была единой, а для единоличников теоретически рассчитывалась по скользящей шкале, а на практике чаще всего определялась местными властями совершенно произвольно и с заметным карательным уклоном. Сверх того, единоличники в 1932, 1933 и 1934 гг. облагались чрезвычайным единовременным налогом. Налог этот в 1932 и 1933 гг. составил в целом 166—170 млн руб., а о карательной сущности его говорит тот факт, что реально собранная в 1933 г. с единоличников сумма (не считая 548 млн руб., уплаченных ими в счет обычного сельхозналога) более чем в пять раз превышала запланированную в годовом бюджете. В 1934 г. единовременный налог составил 331 млн руб. — 60% от суммы, собранной в счет сельхозналога со всех крестьян (и единоличников, и колхозников)7.
Встречались порой жалобы на то, что единоличники в отдельных регионах (например, в Западной Сибири в 1933 г.) платят меньше, чем колхозники, и, учитывая произвольные принципы налогообложения единоличников, подобное было вполне возможно. Однако в целом на типичное единоличное хозяйство в начале 30-х гг. каждый год обрушивался сокрушительный, невообразимый налог. Около года хозяйство могло платить, выбиваясь из сил, продавая лошадь, корову, другое имущество, в надежде, что проявляемая таким образом воля к сотрудничеству отведет от него гнев государства. Но в конце концов становилось ясно, что налоги всегда будут сокрушительными и невообразимыми, и единоличники сдавались, либо вступая в колхозы (понятно поэтому, почему
176
те, кто вступал в колхоз в числе последних, приходили с пустыми руками), либо покидая деревню**.
Отношения единоличников с колхозниками и колхозом по необходимости были многоплановыми. Дома и дворы колхозников и единоличников часто соседствовали, обе группы связывала сложная сеть родственных уз. Кроме того, в середине 30-х гг. один двор нередко включал в себя и члена колхоза, и единоличника, последним обычно был муж. Если единоличник обрабатывал земельный надел, тот, как правило, выделялся из земель колхоза (села) и по прошествии времени должен был быть возвращен колхозу (единоличникам земля «в бессрочное пользование» не предоставлялась). Если колхозник исключался из колхоза и оставался в селе, он автоматически становился единоличником.
В начале 30-х гг., когда колхозники и единоличники составляли в селе противоборствующие лагеря, более или менее равные по величине, группы эти обычно враждовали между собой. Об этом вспоминает один эмигрант из крестьянской семьи, описавший первые годы существования колхоза в своем селе. Единоличников, по его словам, «раздражало то, что колхозникам давались определенные привилегии, и они высмеивали их при любой возможности. Они старались воспользоваться любой неудачей молодого колхоза. Колхозники не оставались в долгу, обыкновенно предостерегая: "Хорошо смеется тот, кто смеется последним! Вас задушат налогами, и вы все равно к нам придете — вот тогда и поплаче-те!"»9.
В этом конкретном селе колхоз первоначально не вызывал никакого энтузиазма, разве что у детей; основная группа колхозных дворов вступила туда не по убеждению, а из страха перед раскулачиванием. Тем не менее, вступив в колхоз и оказавшись объектами злобных насмешек единоличников, новоиспеченные колхозники начали ощущать нечто вроде колхозного патриотизма. «Успех в делах колхоза стал вопросом чести и самоуважения каждого его члена», — пишет мемуарист10. (Следует отметить, что то же самое повторяли советские историки, но их легко заподозрить в тенденциозности.)
Недоверие, враждебность и, прежде всего, чувство отчужденности демонстрирует спор между колхозниками и единоличниками в одной деревне в Нечерноземье, о котором рассказал в 1930 г. посетивший деревню журналист. Газета послала фотографа сделать снимки колхозных активистов. Однако в данном колхозе активисты представляли собой мрачную группу пожилых солдатских вдов, с ног до головы в черном, и фотограф, чтобы оживить картину, пригласил сняться несколько молодых крестьянок из семей единоличников. Но председатель колхоза, тоже вдова, и слышать об этом не захотела:
«— Нет, так мы не согласны. Кто не записался в колхоз или кто записался, а потом выписался, с теми мы сниматься не желаем. Снимайте их отдельно, если хотите.
177
И все ее старые активистки, ликбезовки, как их называли в деревне, дружно поддержали свою председательницу:
— Не согласны. Не желаем. Пусть отдельно фотографируются. А тут и единоличницы надвинулись и зашумели.
— Ах, какие барышни стали, как в колхоз вступили! К ним из города в тарантасе приезжают, на карточку их снимают — к ним близко не подходи теперь! — разъярились они и по здешнему обычаю стали громко плеваться».
В результате возмущенные активистки гордо удалились, тем съемки и закончились11.
Нежелание принимать в колхоз новых членов, приходивших с пустыми руками, о котором много писали в середине 30-х гг., наряду с очевидными экономическими мотивами, отчасти было вызвано тем же духом колхозного самосознания и патриотизма. Дети, конечно, в особенности принимали его близко к сердцу, и некоторые «Павлики Морозовы» 30-х гг. — подростки, доносившие на своих родителей (см. гл. 9), — были детьми единоличников, ставшими патриотами колхоза под влиянием своих школьных сверстников. Например, в 1935 г. семиклассник Сережа Фадеев пришел к директору школы и сообщил, что его отец и еще один единоличник дважды пробирались ночью в поле и спрятали там 80 пудов картошки. Юного Фадеева явно удручал тот факт, что лишь его семья и еще один двор во всей деревне до сих пор не вступили в колхоз12.
По мере того как уменьшалось число единоличников, все реже встречались сообщения о вражде между двумя лагерями и все чаще — о сложной сети экономических взаимоотношений между единоличниками и колхозниками, порожденных различиями в правах и обязанностях этих групп. Многие отношения такого рода были связаны с лошадью единоличника, которую колхозник нанимал для поездки на рынок или вспашки приусадебного участка, другие — с наймом рабочей силы. Когда колхозы нанимали работников на стороне, а во второй половине 30-х гг. это случалось постоянно, чаще всего таковыми становились единоличники13.
В 1938 г. несколько колхозников жаловались в «Крестьянскую газету», что единоличники из их села договорились скосить луг соседнему колхозу в обмен на часть сена. Это несправедливо, считали колхозники, в первую очередь потому, что единоличники «наши», а не их. Кроме того, многие из тех единоличников женаты на колхозницах и по закону являются членами колхозных дворов, следовательно, их обязательства по мясо- и молокопоставкам ниже, чем должны быть у единоличников. Неправильно облегчать им госпоставки и разрешать наниматься косить сено в другом колхозе, что колхозникам запрещалось. («Крестьянская газета» не стала разрешать сложный вопрос о справедливости. Она лишь проинформировала колхозников, что наниматься на работу за долю от урожая — незаконно14.)
178
В последние годы десятилетия число единоличников в большинстве регионов стало крайне незначительным. В основном дворы их были маленькими и бедными и состояли главным образом из пожилых семейных пар, чьи дети уехали в город. В отношении к ним местных властей былые карательные наклонности сменились презрением. В Обояньском районе Курской области, где в 1938 г. оставалось более тысячи единоличных хозяйств, районные власти пренебрежительно называли единоличников «неисправимыми» и «закоренелыми» и дали им кличку «индусы». («Коммунист Шатохин, работник Обояньского финансового отдела, называет единоличников индусами даже в официальных документах»15.)
Положение единоличника стало проявлением эксцентричности, вызывающим насмешки в деревне и возмущение собственных детей. Писатель М.Алексеев рассказывает историю, похожую на историю Сережи Фадеева, случившуюся в его родном селе в Саратовском крае. Спиридона Подифоровича Соловья, последнего единоличника села, другие крестьяне прозвали «музейным экспонатом» за его упорное нежелание вступать в колхоз, несмотря на угрозы, уговоры, чрезвычайное налогообложение и, наконец, конфискацию лошади в 1938 г. Оба его сына ссорились с ним из-за этого. Старший уехал из деревни. Младшего, Ваньку, настолько мучило и ожесточало упрямство отца, что в 1945 г. он в отчаянии поджег родительский дом. Признавшись в содеянном, Ванька отправился в колонию для несовершеннолетних, а его отец, совершенно сломленный, на следующий же день покинул село навсегда16.
Для большинства единоличников (хотя и не для Спиридона Подифоровича) последним ударом стал изданный летом 1938 г. закон, облагавший единоличных крестьян особым налогом на лошадь в размере от 275 до 500 руб. Единственным способом избежать уплаты налога — или конфискации лошади за неуплату — было вступить в колхоз и отдать лошадь17. Большинство остававшихся еще единоличников так и сделали, и на этом их короткая глава в истории страны закончилась.
КУСТАРИ
Коллективизация крайне отрицательно повлияла на кустарное производство в деревне. Кустари всякого рода — мельники, плотники, гончары, портные, сапожники, кузнецы — автоматически становились кандидатами на раскулачивание. Они производили продукцию на продажу или оказывали платные услуги; в некоторых случаях у них были связи с предприимчивыми посредниками, распространявшими их продукцию. Многие очевидцы изумлялись тому, как быстро и повсеместно сошла на нет практика сель-
179
ских промыслов. Коллективизация уничтожила многие деревни, издавна специализировавшиеся в определенных отраслях, например, плетении кружев или изготовлении обуви. Кустари чаще всего покидали деревню и вступали в городские ремесленные артели: как писал в 1930 г. один эмигрантский журнал, «все, связанные с городом и имеющие кое-какие ремесленные навыки (плотники, кузнецы, бондари, шорники и проч.), старались перебраться в город...»18.
Другие крестьяне просто прекращали заниматься ремеслами, либо потому, что не могли достать сырья, либо потому, что в первую очередь должны были заботиться о своем участке, чтобы прокормиться. Как мы увидим в последующей главе, они перестали даже изготавливать одежду и другие вещи для себя.
Даже после того, как первый сокрушительный удар остался позади, промыслы оставались в жалком состоянии, поскольку колхозная структура создавала множество помех для их развития. Колхозникам не запрещали прямо продавать на колхозном рынке предметы собственного производства, но это явно не одобрялось. Кроме того, занятие ремеслом не давало им трудодней. Если же ремеслами занимались единоличники, это лишь укрепляло мнение властей, что все они по натуре спекулянты. В одном селе Ленинградской области единоличников обвиняли в том, что они, «саботируя государственные задания», делали свечи, выручая за них 12 — 15 руб. в день (вместо того чтобы выращивать хлеб и сдавать его государству)19.
В 1933 г. председатель сельсовета и председатель колхоза из Вологодской области, издавна славившейся своими промыслами, написали правительству письмо, в котором порицали сложившуюся ситуацию и прослеживали ее динамику. Деревне нужны такие товары, как, например, бочки для засолки огурцов, отмечали они, но их негде взять, потому что крестьяне больше их не делают. Плетение веревок раньше было специальностью двух сел. Но вот они прекратили этим заниматься, и теперь во всей области не найдешь веревки. Знаменитый промысел вологодских кружевниц еще жив, но зависит от доброй воли колхозных председателей, освобождающих кружевниц от полевых работ. А ведь порой, по словам авторов письма, хорошая кружевница, которая могла бы производить товар на экспорт, принося государству доход в валюте, все время проводит в поле или на скотном дворе. Почему умерли промыслы? Потому что колхозы рассматривают их как побочные занятия и не платят за них по трудодням.
«;В... деревне Пестово — теперь это колхоз "Правда Севера" — там есть такие мастера-войлочники, что диву дадитесь. Пойдет такой мастер в поле — заработает трудодень, а то и полтора. Трудодень ныне хорошо весит — тут тебе и хлеб, и картошка, и мясо. Ну, а пойдет подхомутник делать — нет ему такой выгоды»20.
180
Без двух видов ремесел нелегко было обойтись деревне — ремесла кузнеца и мельника. И те, и другие в 30-е гг. являлись фигурами неоднозначными, и тех, и других не хватало. После вполне понятного процветания в 20-е гг. большинство из них было раскулачено или покинуло деревню, боясь раскулачивания. (Кузнецы, по-видимому, чаще уходили работать на производство, мельников раскулачивали.) Оставшиеся занимали особое положение: они были полезны, а то и просто необходимы, в силу своей квалификации, но притом социально подозрительны (особенно мельники), часто находились в сложных отношениях с колхозом и все еще имели возможность, невзирая на все правила и ограничения, окружавшие их деятельность, жить лучше остальных крестьян.
Фигура кузнеца была особенно одиозна. Традиционно внушавший страх как человек, якобы сведущий в черной магии, кузнец по-прежнему связывался в сознании людей с некими злыми силами. В одном районе Западной области среди И «оппозиционеров» (бывших эсеров, религиозных деятелей и сочувствующих партийной оппозиции), над которыми был в 1936 г. установлен надзор, находились три кузнеца и один плотник21. Часто заявлялось, будто сельские (колхозные) кузнецы — бывшие кулаки22.
Собственно по вопросу о том, в каких отношениях к колхозу должны находиться кузнецы после коллективизации, не было никакой ясности. В Уставе сельскохозяйственной артели 1930 г. не рекомендовалось обобществлять кузницы, но не говорилось там и обратного. Единственным официальным руководством могло служить распоряжение Наркомзема от 3 июля 1934 г., гласившее, что если кузнец вступает в колхоз, то его кузница может быть обобществлена — только с его согласия и по желанию колхоза. Но вряд ли это было нормой в первой половине 30-х гг. Скорее, более типична для этого времени ситуация, в какой оказался кузнец М.П.Степанов, обратившийся в 1935 г. за советом в «Крестьянскую газету». Степанов вступил в 1931 г. в колхоз, но кузница и орудия труда остались его собственностью. Колхоз отвечал за снабжение его сырьем и, очевидно, платил ему по трудодням за работу. Теперь же колхоз пожелал обобществить кузницу и оборудование, и Степанов хотел знать, имеет ли он на это право23.
«Крестьянская газета» не могла дать ответа — только что опубликованный Устав сельскохозяйственной артели 1935 г. вновь не прояснил вопроса о кузнецах — и обратилась за указаниями в Наркомзем. Но и наркомат пришел в замешательство. Заместитель наркома А.И.Муралов составил инструкцию, в которой говорилось, что кузницы не должны обобществляться; если колхоз хочет владеть сельской кузницей, он должен купить ее у кузнеца. Однако сам нарком, М.Чернов, с этим не согласился. Он написал свою инструкцию, согласно которой при вступлении кузнеца в колхоз кузница и оборудование (кроме мелкого инструмен-
181
та) должны были обобществляться, и представил ее на утверждение в ЦК Я.А.Яковлеву24.
Неясно, как официально была разрешена эта проблема, хотя в одном сообщении 1938 г. из Ленинградской области говорилось, что кузнецы не хотят вступать в колхоз, потому что это означает обобществление их кузниц и оборудования. Насколько известно, кузнецы продолжали работать по разного рода соглашениям с колхозами, и колхозы, имевшие свою кузницу, — в 1936 г. таких было меньше 40% — считали, что им повезло. Кузнецы — «самые забытые, самые бесконтрольные люди в колхозе», замечал один автор, писавший о проблемах сельского хозяйства, в 1938 г., добавляя, что вопросы о том, как должны строиться их отношения с колхозом и как им платить, обычно остаются для районных властей неразрешимой загадкой25.
Если кузнец являлся членом колхоза, что, по-видимому, к концу десятилетия было в порядке вещей, ему следовало платить по трудодням за работу, которую он делал для колхоза. А за работу для отдельных колхозников? Это была основная деятельность кузнеца, и за нее он брал наличными. «...Чинит лопаты, лудит самовары, делает ножи... превратив колхозную кузницу в частную лавочку». Колхозники часто жаловались, что кузнецы наживаются, требуя высокую плату за свои услуги26.
Что касается работы кузнецов на колхоз, то здесь во второй половине 30-х гг. встала та же проблема, что и с председателями, бухгалтерами и прочими лицами, имеющими особую специальность: кузнецы хотели оплаты по фиксированной ставке и добивались ежемесячного оклада вместо выдач на трудодни. Много было сообщений о кузнецах, полностью перешедших на оклад (250 руб. в месяц, по словам одного корреспондента из Новосибирска) или работавших за трудодни плюс дополнительное денежное жалованье27.
Жалобы на «алчность» кузнецов, требующих высокую плату у колхоза или отдельных колхозников, сопровождались жалобами такого же рода и на других кустарей. К примеру, плотник Зайцев, чья работа, по-видимому, пользовалась большим спросом в Рыбинском районе, запросил у одного колхоза 4930 руб. (т.е. оплаты 1000 трудодней по ставке 4,93 руб.) за постройку овощного склада, занявшую всего лишь 100 дней, и в конце концов согласился на 3235 руб. Затем он начал строить для колхоза интернат, но, проработав несколько дней, разорвал контракт, уехал и взял какой-то частный подряд. Зайцев относился к колхозникам неуважительно: он называл их бездельниками, которые «напрасно получают трудодни»28.
Мельники представляли собой еще более подозрительную группу, чем кузнецы и плотники, — настолько подозрительную, что на протяжении всех 30-х гг. существовала острая нехватка квалифицированных и благонадежных лиц для управления мельницами. Как сообщал в начале 1935 г. представитель Центрально-
182
го комитета Союза мельников, на маленьких мельницах вроде тех, что работали на колхозы, все еще было много классовых врагов. Например, в крымском колхозе «Красный Перекоп» мельником был человек, имевший раньше собственную мельницу (очевидно, в другом селе) и раскулаченный. Множество сел во время коллективизации лишились своих мельниц из-за раскулачивания мельников. Инспекция колхозов в 1936 г. выявила, что лишь 25% из них имеют действующие мельницы2^.
Таким образом, понятно, что в 30-е гг. очень трудно было найти опытного нераскулаченного мельника. По-видимому, это одна из причин, почему колхозные мельники, как правило, нанимались со стороны, а не являлись членами колхоза. В деревне Набелье Ленинградской области колхоз нанял для работы на мельнице бывшего ее арендатора, когда он снова появился в тех краях в 1934 г.: он был раскулачен и затем, по-видимому, провел какое-то время в тюрьме или в лагере. Когда спустя несколько лет его арестовали по обвинению в мошенничестве, колхоз нанял на мельницу другого бывшего кулака30.
В Козельском районе Западной области райком послал некоего Барышева починить плюсскую турбинную мельницу, бывшую собственностью Западного мельничного треста и дававшую электричество в 4 соседних колхоза. Барышев добился, чтобы мельница опять заработала, и трест назначил его управлять ею. Но затем райком получил информацию, что Барышев являлся «кулаком, якобы даже раскулаченным», и утвердил назначение лишь на время проведения дальнейшего расследования. Оказалось, что Барышев — сын бывшего управляющего поместьем, сам бывший владелец мельницы и «во всяком случае... классово-чуждый человек». Райком решил уволить его, несмотря на то что в районе не было другого «мельника-специалиста» и 4 колхоза в результате могли остаться без электричества3*.
В 30-е гг. нехватка мельников и действующих мельниц, как мелких, так и крупных, стала критической. Крестьяне постоянно жаловались на огромные очереди на немногих работающих мельницах (не говоря уже о взятках, которые приходилось давать мельнику, чтобы оказаться в числе первых), а газеты то и дело неодобрительно писали, что в таком-то и таком-то районе в самый разгар уборочной страды не действует ни одна мельница32.
Во второй половине 30-х гг. на страницах газет все чаще стали появляться заметки, выражающие сожаление по поводу гибели ремесел, в особенности «народных промыслов», обладающих экспортным потенциалом. Приметой времени стал показ традиционных произведений орловских кружевниц, вышивальщиц и стеклодувов в орловском павильоне на широко разрекламированной Всесоюзной сельскохозяйственной выставке в Москве в конце десятилетия33.
Прежние промысловые села, переименованные в «промысловые колхозы» (промколхозы), стали возрождаться после периода
183
распада и рассеяния начала 30-х гг.34. В конце 1936 г. московская газета хвасталась, что некоторые из них уже принесли миллион рублей чистого дохода. Среди названных ею предприятий в Московской области был гончарный промколхоз «Путь к социализму» в Раменках, принесший доход в сумме 630000 руб.35. Правда, к подобным заявлениям следует относиться достаточно скептически. В действительности промколхозы (за исключением занятых в добывающих отраслях промышленности, рыбной, горной, лесной, пушной), по всей видимости, оставались явлением второстепен-нымЗб.
Примерно в то же время (1936 г.) газеты с большим энтузиазмом писали о колхозных цехах как возможном источнике дохода. Ряд колхозов в Московской области делали гитары, балалайки, мандолины и другие музыкальные инструменты; один из них за
7 месяцев работы выручил 4500 руб. Снова занялись своим делом кружевницы, зарабатывая теперь деньги для колхоза (не преми нули отметить публицисты), а не для капиталистов-посредников.
8 колхозе «Новый путь» в 1936 г. 100 колхозниц производили 6—8 м кружева в день, зарабатывая до 10 руб. Как заработки кружевниц делились между самими кружевницами и колхозом, не сообщалось. Однако в рассказе о плотницком цехе в колхозе «Правда» Верейского района Московской области говорилось, что колхоз вносил 80% чистой прибыли в свой неделимый фонд, а 20% распределял между плотниками — соотношение, которому мог бы позавидовать прежний капиталист-посредник3?.
Разумеется, были проблемы с распространением продукции. Не зря такое множество процветавших промколхозов находились в Московской области, в непосредственной близости от самого крупного торгового центра страны. Чтобы предприятие такого рода работало, нужно было найти государственное или кооперативное учреждение, желавшее покупать его изделия для собственного потребления или распространения. Даже в Москве это представляло серьезную проблему, а уж в провинции отыскать легального распространителя было поистине невозможно. Когда колхозники из села Усадище захотели возродить старинный промысел по изготовлению лопат для местных рынков Пскова, Острова и Порхова, они так и не нашли оптового покупателя на свой товаров.
Конечно, нельзя не вспомнить о возможностях, предоставлявшихся черным рынком. Например, в старинном селе бондарей Ду-бовка на Верхней Волге в 1933 г. работал промколхоз, однако, как отмечал один критик, его продукцию редко можно было найти на дубовском колхозном рынке: «чуть не ежедневно спекулянты отгружают товар для отправки его в Саратов или Сталинград»39. Несомненно, и колхозы Московской области часто занимались подобными делами. В последние годы десятилетия порой складывалось впечатление, будто обеспечение прикрытия для производства на черный рьшок стало чуть ли не смыслом существо-
184
вания московских колхозов. Подобную тенденцию заметили и органы правосудия: прошел целый ряд процессов по делам колхозов, свернувших с честного пути и завязавших деловые сношения с городскими «жуликами». В одном случае такого рода колхоз Московской области разрешил городскому предпринимателю, человеку совершенно постороннему, организовать в своих помещениях цех по производству карт и других школьных принадлежностей. Другой колхоз, в Раменках, к югу от Москвы, использовался как ширма для нелегального производства галантерейных товаров40.
ХУТОРЯНЕ
Хутора, отдельные, изолированные от села хозяйства, создание которых поощрялось дореволюционными столыпинскими реформами, по-прежнему были довольно широко распространены в определенных регионах Советского Союза, например, на западе (Западная область России, Белоруссия, некоторые районы Украины) и в Сибири. Иногда хуторяне номинально являлись членами колхоза, иногда — нет. В начале 1939 г. общее число хуторов (коллективизированных и неколлективизированных) почти достигало миллиона41.
На западе и северо-западе большинство хуторов были «коллективизированы» в первой половине 30-х гг., а некоторые колхозы даже состояли главным образом из хуторов. Неясно, как это выглядело на практике, но, по-видимому, в подобных случаях колхоз чаще всего служил ширмой для индивидуального хозяйствования. Один партийный работник из Ленинградской области, где было много коллективизированных хуторов, в 1934 г. нерешительно заметил, что «нам придется это дело исправить», чтобы в колхозах, созданных на базе хуторов, на первый план вышла именно коллективная форма землепользования.
В постановлении ЦК по Нечерноземью, принятом в конце 1935 г., отмечалось, что хуторская форма землепользования по сути лишает коллективизацию всякого смысла, и предлагалось местным властям оказывать материальную поддержку тем хуторянам, которые захотят переехать в село. Однако, поскольку данная рекомендация была высказана весьма мягко и не сопровождалась ни угрозами, ни обещаниями специальных ассигнований из бюджета, которые обычно подхлестывали активность на местах, дело шло вяло. Один район Ленинградской области рапортовал, что вопрос о переселении хуторян поставлен «на повестку дня», — в действительности это означало, что один (всего лишь) тамошний колхоз на базе хуторов приступил к строительству села и переселению туда семей из отдаленных усадеб42.
185
В постановлении по Нечерноземью содержалось также распоряжение укрупнять колхозы, созданные на базе крайне малых поселений (от 5 до 10 дворов), часто состоявших из хуторов. Стараясь выполнить это указание, власти в Западной области порой заходили слишком далеко, сливая в один колхоз большое количество мелких поселков. Позднее подобная практика подверглась критике как новое проявление гигантомании, и большинство таких колхозов снова были разукрупнены. Этот урок заставил местных руководителей в Западной области отказаться от дальнейших попыток решить проблему хуторов43.
В Сибири большинство хуторов оставались неколлективизиро-ванными вплоть до середины 30-х гг. и даже дольше. Лишь 14% хуторов Западной Сибири входили в состав колхозов в 1934 г., а в восточносибирской тайге, по сообщениям того же года, существовали преимущественно хуторские районы, почти совершенно не затронутые коллективизацией. Говорили, что мелкие, разбросанные далеко друг от друга хутора давали убежище множеству «кулаков, единоличников, не желавших вступать в колхозы и сбежавшихся сюда из других районов»44.
В начале 1937 г. Политбюро решило приступить к переселению хуторян Калининской (бывшей Тверской) и Ленинградской областей, а также Белоруссии, в села. Воплощению в жизнь программы переселения, рассчитанной на 26000 дворов, по всей видимости, помешал Большой Террор4^.
Реальное наступление на хутора началось только после мая 1939 г., когда ЦК решил, что в рамках колхозной системы хутор больше не имеет права на существование и все «коллективизированные» хуторяне в северных и западных районах страны должны быть переселены в деревни к 1 сентября 1940 г. Данное решение касалось 666000 хуторских хозяйств, главным образом на Украине, в Белоруссии и Смоленской области. Был разработан план создания или радикальной перестройки 5500 колхозных сел для размещения бывших хуторян. Разразившаяся война прервала эту крупномасштабную и дорогостоящую операцию, однако к лету 1941 г., по-видимому, большинство хуторян-колхозников и некоторые ^коллективизированные хуторские хозяйства переехали в села46.
ОТХОДНИКИ И ДРУГИЕ НАЕМНЫЕ РАБОТНИКИ
В первые годы коллективизации работа за пределами колхоза часто служила предметом споров, поскольку колхоз считал себя вправе претендовать на часть заработков своих членов. При обсуждении этого вопроса в центральных правительственных органах, ведавших вопросами труда, в январе 1930 г. выступавшие
186
рассказывали, что между отходниками и остальными сельчанами идет «форменная драка»: «Крестьяне говорят, если входишь в колхоз, дай 50 — 75% от заработка». Колхозцентр предлагал более умеренные отчисления в размере 30 — 40%, и даже работники ведомства труда и занятости считали, что колхоз может забирать себе 15 — 20% от заработков своих членов, полученных на стороне. Однако решением правительства в 1931 г. колхозу запрещалось взимать какую-либо часть дополнительных заработков его членов, остававшихся полностью в собственности отходников на протяжении всех 30-х гг.47. Спорили в первые годы и о том, нужно ли колхозникам разрешение колхоза, чтобы уйти в отход или устроиться на какую-либо работу на стороне. Правительственное постановление в марте 1933 г. разрешило этот вопрос в пользу колхоза. С тех пор была установлена формальная процедура, согласно которой колхозники должны были получать справку с разрешением на отъезд из колхоза и затем, подобно единоличникам, обращаться за паспортом в сельсовет. Паспорт выдавался только на три месяца, но его можно было продлевать по месту работы без повторных обращений в колхоз и сельсовет48.
Как мы уже видели, в 30-е гг. колхозникам почти всегда уйти в отход или даже уехать насовсем было гораздо легче, чем это предусматривалось постановлением 1933 г., потому что практически при любых обстоятельствах власти отдавали предпочтение нуждам промышленности — в том числе обеспечению свободного притока рабочей силы — перед нуждами сельского хозяйства. Хотя постановление 1931 г. об отходничестве представляло собой попытку взять под контроль государства крестьянскую рабочую силу с помощью системы контрактов между промышленными предприятиями и колхозами, система эта, называемая оргнабором, работала плохо и нисколько не исключала возможности индивидуального отходничества. Во-первых, обычно не составляло труда (за плату) получить справку в колхозе и паспорт в сельсовете. Во-вторых, колхозники могли, в конце концов, уехать даже без справки и паспорта. Несмотря на законы, грозившие предприятиям строгими взысканиями, если те будут нанимать колхозников у проходной, без справок и паспортов, предприятия систематически нарушали эти правила49.
Колхозники — наемные работники (отходники в этой группе составляли две трети) занимались самой разнообразной деятельностью: работали в городах и на промышленных стройках, в совхозах и МТС, нанимались по контракту на лесоповал и шахты, были служащими в сельсоветах и в районе и т.д. Одни (зарегистрированные отходники) отсутствовали в колхозе с его разрешения. Другие работали по контракту оргнабора, заключенному колхозом с промышленным предприятием или трестом. Значительное число людей подрабатывали тут же поблизости, на что официального разрешения колхоза не требовалось. Бывали периоды остро-
187
го экономического кризиса, когда практически все трудоспособное население колхоза уходило, чтобы где-нибудь заработать денег.
В большинстве своем колхозники, отправлявшиеся на заработки, считали, что выгоднее всего для них работать на стороне, не отказываясь при этом от своего членства в колхозе. Такая работа давала им твердый доход наличными, а также (тем, кто находил постоянное место работы и вступал в профсоюз) возможность получить пенсию и другие льготы. Членство в колхозе обеспечивало семью хлебом и картофелем (если жена зарабатывала трудодни), а также приусадебным участком больших размеров, чем у дворов, в колхозе не состоящих.
Это «стремление к наибольшей выгоде» отчетливо видно в реакции некоторых отходников на ужесточение правительством правил членства в колхозе и введение минимума трудодней в 1939 г.:
«Из города Тбилиси срочно выехал член артели им. Стальско-го. Он благополучно прибыл в селение Тохчар... Дагестанской республики, явился в правление колхоза им. Стальского и заявил, что "приехал отработать полагающийся минимум" — 60 трудодней — после этого возвратится на прежнюю работу. Правление пошло гостю навстречу. "Договорились", чтобы он отремонтировал мельницу, за что ему запишут в трудовую книжку 60 трудодней. На второй день этот "кустарь" нанимает 5 чел. и через 2 дня заканчивает ремонт мельницы»5".
В Центральном промышленном районе большинство отходников работали на государственных предприятиях, как правило, промышленных. На юге, более коммерчески ориентированном, на первый план выступали отходники с предпринимательской жилкой. В Лакском районе Дагестана-, по-видимому, сложились для них особенно благоприятные условия, судя по газетному сообщению 1939 г.:
«В городе Сталинабаде проживает свыше 50 колхозников из Лакского района Дагестанской АССР. Все они имеют справки о том, что являются членами колхоза. Каждый из них имеет кустарную мастерскую и имеет десятки тысяч дохода, а сельскохозяйственный налог платят больше всего лишь на 20—40 рублей, чем колхозники-односельчане, работающие только в колхозе»51.
Чаще всего колхозник, ушедший на заработки, был членом колхозного двора, обрабатывавшего свой приусадебный участок; жена такого колхозника обычно работала и на колхозном поле. Но так бывало не всегда. Порой отходник забирал всю семью в город. По закону он имел право сдать свой дом, но не участок (даже если под «участком» подразумевался двор возле дома). Тем не менее, как говорилось в правительственном постановлении 1939 г., нередко имели место случаи, «когда приусадебный участок колхозника превращается на деле в частную собственность колхозного двора, которой распоряжается не колхоз, а колхозник по своему усмотрению: сдает его в аренду, сохраняет приусадебный участок в своем пользовании несмотря на то, что не работает в колхозе»52.
188
Из всех крестьян наемные работники, особенно отходники, больше всего заботились об отстаивании своих прав. В целом из-за их двойственного статуса вопрос об их правах и обязанностях был сложным. Колхозы и местное руководство нередко игнорировали или неверно толковали закон, да и сами законы далеко не всегда были четко сформулированы и свободны от противоречий. Поэтому колхозники — наемные работники постоянно писали жалобы, обращались в «Крестьянскую газету» за разрешением запутанных проблем и, по-видимому, даже подавали иски в суд. В своих жалобах, написанных лучше, чем большинство крестьянских писем, они изображали себя законопослушными гражданами общества, живущего по писаным законам. К принципам естественной справедливости или обычного права если и прибегали, то редко.
Большинство их проблем было связано с налогами и обязательствами по поставкам. Колхозник из Ярославской области, работавший на должности служащего, жена которого трудилась в колхозе, спрашивал «Крестьянскую газету», правильно ли местные власти считают, что его семья должна платить сельхозналог и выполнять задания по госпоставкам. По его мнению, это было неправильно, поскольку глава семьи является работником на постоянном окладе. Такой же вопрос задавал секретарь сельсовета из Татарской республики, у которого жена продолжала работать в колхозе. (Консультанты «Крестьянской газеты» дали два различных толкования закона на этот счет: жителю Ярославской области ответили, что обязанности по налогам и поставкам определяются занятием главы семьи, а автору письма из Татарской республики сообщили, что семья должна платить сельхозналог, пока хотя бы один член ее занят в сельском хозяйстве53.)
Конечно, в действительности интерес колхозников, работающих по найму, к закону и различным формальностям скрывал под собой желание понять, как можно ими манипулировать. Колхозник из Воронежской области в своем письме в «Крестьянскую газету» рассказал такую историю. Двое членов его колхоза обратились за справкой, чтобы уйти в отход — работать на сахарозаводе. Колхоз не хотел давать справку, но вмешался секретарь райкома, по-видимому, потому, что на сахарозаводе не хватало рабочих, и эти двое получили и справки, и паспорта. Однако всего через несколько недель оба вернулись в родной колхоз и поступили на работу в местную МТС. По мнению автора письма, вся история с сахарозаводом были ими затеяна «из-за паспортов и справок», чтобы обрести свободу передвижения54.
Отношения между колхозом и его ушедшими на заработки членами чаще всего нельзя было назвать сердечными. Других колхозников возмущало, что отсутствующие и их семьи пользуются всеми преимуществами членства в колхозе, не внося надлежащего вклада в его работу. Иногда колхоз отказывал своим членам в праве на отходничество, пытался заставить отсутствующих вернуться или наказывал отходников, исключая их жен и престаре-
189
лых родителей. Подобные действия почти всегда предпринимались в результате местной инициативы, а не распоряжений сверху, и сильно напоминали такие же меры против отходников в дореволюционной деревне55. Часто исключенных отходников, после их успешных жалоб в район, приходилось восстанавливать. В общем и целом отнюдь не власти, а сами колхозы стремились держать в узде и контролировать своих уходящих на заработки членов.
Наиболее отрицательно колхоз относился к отъезду колхозников в тех случаях, когда весь доход от работы на стороне шел в карман отдельного лица, а колхозу ничего не доставалось. Но у колхоза было много способов превратить отъезд его членов в доходную статью. Если говорить об индивидуальном отходничестве, взятки председателю, а возможно, и членам правления, за необходимую справку стали обычным явлением.
«Нужно получить паспорт, а на получение паспорта нужно получить документы и за эти документы нужно сделать запой и свадьбу, как привыкли называть колхозники, вернее, у этого колхозника вечера 3 — 4 пьянствуют правленцы и работники сельсовета».
«Если попросит бедняк справку в отходничество, — жаловалась в 1938 г. группа колхозников-«бедняков», как они себя назвали, из Курской области, — [председатель] не даст потому, что с него взять нечего »5^.
Контракты по набору рабочей силы из колхоза на промышленное предприятие (оргнабор) могли принести даже большую выгоду.
«Вербовщик приезжает... вербовать плотников... Управление Колхоза говорит, дайте 12 рублей, дадим плотников, вербовщик начинает торговаться, и тогда колхоз просит 7 рублей в день, а когда вербовщик указывает на договор, он совершенно уезжает без людей».
Председатель колхоза мог заработать и на соперничестве между вербовщиками, принимая «авансы» одновременно от нескольких организаций57.
Впрочем, на практике право колхоза отказать в справке обладало, по-видимому, весьма ограниченным действием. Правда, колхоз мог не давать разрешения на отъезд, по крайней мере временно, если там не хватало рабочих рук, и колхозники формально не вправе были покидать колхоз по собственной инициативе, без разрешения. Но как же тогда множество случаев отъезда без всяких справок? Главный вопрос заключался в том, есть ли у колхоза право воспользоваться единственной доступной ему санкцией — исключением. Разбирая бесчисленные дела об исключениях из колхоза на подобном основании, вышестоящие инстанции в середине 30-х гг. почти всегда выносили решение не в пользу колхоза. Как постановил по одному такому делу заведующий Переслав-ским райзо в 1938 г., «отход на сторону ни в коем случае не может служить причиной исключения из членов, тем более семья остается членами колхоза»58.
190
В то же время исключения такого рода были широко распространены. Типичен пример отходника из Калининской области, исключенного, после того как отказался повиноваться распоряжению колхоза уволиться с завода и вернуться. Его жену и родителей постоянно стали изводить члены колхозной администрации. Исключенный написал письмо с жалобой на то, как обращаются с ним и его семьей5^.
Председатели и другие представители колхозной администрации часто объясняли свое стремление установить контроль над отходничеством экономическими причинами — насущной потребностью в рабочей силе и тем, что обязательства колхоза по госпоставкам, трудовым повинностям и пр. определяются исходя из числа его членов, зарегистрированных официально, а не находящихся на месте в данный момент. Жалоба, написанная в 1939 г., по-видимому, колхозным председателем, достаточно веско обосновывает такую позицию. Из колхоза, где проживал автор письма, столько народу ушло в отход, что колхоз не смог выполнить трудовую повинность на дорожных работах: в результате он был оштрафован на 2400 руб., которых, естественно, не мог заплатить. По мнению писавшего, несправедливо разрешать отходникам оставаться на стороне, сколько им будет угодно, тем самым увеличивая финансовое бремя, лежащее на колхозе, и лишаясь их участия в платежах. Вот пример:
«Колхозник нашего колхоза Харламов Г.И. и его жена в 1937 г. подали заявление правлению колхоза о разрешении уйти на побочные заработки. Общее собрание разрешило временно Харламову уйти на посторонние заработки до 1 мая 1938 г. Но Харламов после этого не вернулся в колхоз работать и забрал даже свою жену для работы на льнозаводе. Такая же практика имеет место и в других колхозах. Все это делается с целью уклониться от платежей по обязательным поставкам и налогам. Старики родители у него остались в колхозе. Хозяйство облагается налогом и поставками как хозяйство колхозника. Живет он у родителей и ходит работать на льнозавод...»60
Бухгалтер из колхоза «Красный Перекоп» тревожился о том же. Он спрашивал «Крестьянскую газету», что делать с отходниками, которые ушли из колхоза на длительный период времени, работают на заводах, шахтах и железных дорогах и не хотят возвращаться. «По нашему колхозу есть таковых 62 чел., из которых большинство в колхозе не работают 4 — 5 лет. Поэтому по книге учета членов колхоза и их семей числится колхозников очень много, а фактически работает очень мало». Администрация колхоза хотела исключить отходников, но боялась, что по закону это не положено6!.
Колхозная администрация часто вымещала зло на остававшихся в деревне членах семей отходников. У колхозницы Бересневой «за то, что муж Бересневой является отходником и не возвращается в колхоз, — были отобраны 7 пудов проса и свинья», пред-
191
седатель забрал даже пальто ее дочери, из-за чего девочка пять дней не ходила в школу. После того как колхозник Казаков из колхоза «Красное знамя» Западной области ушел работать на завод, его сына и дочь исключили из колхоза, в результате сын «в отчаянии бросился под поезд». Из другого колхоза той же области исключили шестидесятилетнюю женщину, выработавшую 92 трудодня, потому что две ее дочери без разрешения ушли работать на льнозавод. Колхоз «Красная долина» исключил из своих членов жену и брата колхозника Андрея Маслова, работавшего на железной дороге, после того как тот проигнорировал приказ председателя вернуться62.
Не одна только колхозная администрация считала, что отходники обязаны подчиняться колхозной дисциплине. Многие, если не большинство, рядовые колхозники придерживались того же мнения. Когда крестьян Западной области в 1935 г. знакомили с примерным Уставом сельскохозяйственной артели и спрашивали их замечания и предложения, по словам должностных лиц, докладывавших о проведении обсуждения, наблюдалось «большое стремление что-нибудь записать в устав, ограничивающее отход». Сообщали они и о том, что ввиду острой нехватки рабочих рук в колхозах области на общих собраниях колхозов был принят ряд резолюций, приказывающих отходникам вернуться на летние полевые работы под угрозой исключения их семей из колхоза63.
Так же как в крепостном и пореформенном селе, в колхозе ощутимо чувствовалось бремя коллективной ответственности по налогам и обязательствам — знаменитой круговой поруки. Сознание того, что отходники — дезертиры из колхоза, добивающиеся жизненных благ нечестным путем, превосходно выражено в письме крестьянина из Краснодара, сравнивающего собственное безупречное поведение с эгоистичным поведением отходников:
«Я, Скворцов, с 1930 г. в колхозе и не был летуном, переносил все невзгоды, лишения и не позволял делать отходничество и гоняться за длинными рублями, показывая собой примерного строителя колхозной жизни»64.
Такие же претензии к отходникам, продолжающим пользоваться привилегиями колхозников, выражались в письме из колхоза «Красный труженик» Свердловской области, где спрашивалось, может ли колхоз исключить 15 дворов. Члены этих дворов, по словам авторов письма, все свое время работают на лесозаготовках, однако по-прежнему пользуются правом пасти своих коров в колхозе, «что является очень неприятным для добросовестных членов артели»65.
Группа колхозников из колхоза «Ленин» Курской области написала донос на отходников, без разрешения бросивших колхоз и устроившихся на работу в районе.
«Председатель мер никаких не принимает. Но мы начали сигнализировать в район, не дожидаясь председателя и колхоза66, и
192
подан был список в райком о тех лицах, которые самовольно ушли»67.
Из колхоза «Пушкин» Воронежской области (называвшегося раньше «Смерть капиталу») тоже жаловались на несанкционированное отходничество: сначала один колхозник без разрешения стал работать служащим в местной МТС, а теперь пятеро или шестеро собираются сделать то же самое. На общем собрании колхозники проголосовали за то, чтобы запретить самовольный уход и потребовать от всех организаций, принимающих ушедших на работу, прекращения подобной практики. Резолюцию собрания правление послало в организации, о которых шла речь, и просило секретаря райкома поговорить с их директорами. Однако пока результатов это не принесло. Колхоз, подчеркивалось в письме, действительно остро нуждается в некоторых из этих людей, потому что они умеют чинить сельскохозяйственный инвентарь, необходимый для уборочной. Если они не вернутся, все в колхозе потеряют в заработке за год68.
Исключение отходника из колхоза с карательными целями могло иметь и другую подоплеку. Некоторые из жаловавшихся утверждали, что их исключили из-за давней вражды с кликой, заправляющей в колхозе. Именно такую причину своего исключения из колхоза «Красный пахарь» Калининской области в 1938 г. называл отходник А.Кукушкин. Член партии с 20-х гг., Кукушкин до коллективизации был рабочим, хотя продолжал жить в родной деревне и обрабатывать земельный надел с помощью своей семьи. Он стал одним из первых активистов колхоза и в этом качестве нес ответственность за внесение 8 зажиточных дворов деревни в список «твердозаданцев». Потом эти дворы вступили в колхоз, фактически стали там верховодить и принялись мстить прежним врагам. Не удовлетворившись исключением Кукушкина, его немедленно обложили налогом как единоличника, заявив, что он торговал на базаре мясом. (Это было правдой, по признанию самого Кукушкина, хотя продал он не так много, как говорили.) Налог с него требовали дважды, в первый раз 384 руб., потом 107 руб. «Если уплатить весь этот налог, то нарушить надо хозяйство, продать корову и дом, только это я имею»69.
Впрочем, колхозы не всегда так плохо обходились с отходниками-коммунистами. Некоторые их весьма ценили как посредников между селом и внешним миром, которые могли помочь односельчанам найти работу в городе, дать характеристику, пустить жалобу по инстанциям или представлять интересы колхоза в конфликтах с другими организациями. Когда колхозы спорили с районом, желавшим назначить неугодного им председателя, что случалось постоянно с середины и до конца 30-х гг., они иногда пытались разрешить проблему, выдвигая кандидатуры «своих» коммунистов, которые работали за пределами села, но семьи которых состояли в колхозе. Например, в 1936 г. один колхоз Западной области, сильно пострадавший материально от некомпетентности
193
председателя, выбрал нового — местного коммуниста Семена Митрошина, работавшего на цементном заводе. В сходной ситуации в Ярославской области колхоз «Женский труд» попросил В.Е.Сысоева, коммуниста из той же деревни, работавшего служащим в районе на хорошей должности, вернуться и занять пост председателя. Стратегическая цель была ясна — заставить район снять свою (неприемлемую) кандидатуру председателя, предлагая альтернативный вариант, который устроил бы и село, и район70.
Подведем итоги: если сравнить уровень отходничества в конце 30-х гг., в 20-е гг. и в начале 1900-х гг., мы увидим, что в 30-е гг. он был выше, чем в 20-е, несмотря на отток более 10 млн крестьян в начале десятилетия, по всем расчетам, почти исчерпавший избыток сельского населения. Однако число отходников в конце 30-х гг. не достигло показателя предвоенных лет, хотя отчасти это можно объяснить ростом количества рабочих мест для проживающих в селе колхозников поблизости от дома. Во второй половине 30-х гг. примерно в каждом четвертом колхозном дворе в Советском Союзе был отходник и в каждом третьем — наемный работник71.
Тем не менее, уровень отходничества к концу 30-х гг. довольно сильно понизился по сравнению с предреволюционным десятилетием. Возможная гипотеза, которая еще ждет подтверждения со стороны специалистов по истории экономики, такова, что финансовое бремя, лежавшее на плечах крестьян, в конце 30-х стало меньше, чем 20 — 25 лет назад. Если и так, оно все же оставалось весьма существенным. Выплаты наличными в колхозе были малы и ненадежны, и заработки на стороне представляли важнейшее подспорье для любого крестьянского хозяйства, неспособного продать на рынке достаточно продукции с приусадебного участка, чтобы уплатить налоги, — т.е. для значительной части хозяйств. Даже в урожайном 1937 году весь денежный доход советских колхозников, полученный в колхозе, вряд ли превышал доход от побочных заработков на стороне72.
Крестьяне так же неприязненно относились к отходникам, как и при крепостничестве и в пореформенную эпоху, считая, что те увиливают от своей доли общинных (колхозных) повинностей. Это одно из самых ярких свидетельств того, что колхоз действительно выполнял функции преемника сельского мира с его принципом разделенной ответственности, причем карательная сторона этого принципа и вызываемая им взаимная зависть, возможно, как всегда, проявлялись сильнее, чем взаимная поддержка, которая, по идее, должна была быть его естественным следствием.
Стоит отметить поразительно большое число колхозников, мало или совсем не работавших в колхозе. Из 36 млн колхозников и колхозниц трудоспособного возраста (16 — 59 лет), согласно исследованиям, проведенным Госпланом в 1937 г., более 13 млн чел. — 37% — являлись по сути пассивными членами колхоза, вырабатывающими меньше 51 трудодня (т.е. работающими в колхозе не
194
более 45 дней в году), и почти 5 млн чел. из этого числа не вырабатывали трудодней вообще. Примерно половину пассивных колхозников составляли отходники (4 млн чел.) и колхозники, жившие в деревне, но работавшие на стороне (2,3 млн чел.), остальные — женщины, трудившиеся на приусадебных участках. Используя замалчивавшиеся данные переписи 1937 г., можно подсчитать, что группа пассивных членов колхоза включала 42% всех женщин трудоспособного возраста и 30% мужчин73.
Выборочная проверка колхозов в 10 областях, проведенная в том же году, подтвердила впечатление, что значительное число колхозников занимались чем угодно, только не работали в колхозе. В зимние месяцы, по данным проверки, в среднем колхозном дворе (размеры его не указаны) работал только один его член, принадлежащий к возрастной группе 16 — 59 лет. Лишь на несколько месяцев летом средний двор давал двух работающих. Более того, в отдельных регионах степень участия в работе колхоза была гораздо ниже. Например, в Киевской и Воронежской областях средний двор — мужчины, женщины и дети — отрабатывал в колхозе всего около 260 дней в год74.
В мае 1939 г. высшее партийное руководство, встревоженное ростом числа сообщений о нехватке людей в колхозах и о том, как колхозы тратят все свои наличные средства, нанимая работников со стороны, провело в ЦК несколько встреч с секретарями обкомов и райкомов, чтобы выяснить, в чем дело. Один за другим выступавшие говорили о том, как велико число колхозников — во многих местах треть и больше, — которые вместо колхозных трудодней находят иные источники средств существования. На юге они неплохо зарабатывают на жизнь, торгуя продукцией своих приусадебных участков, в Центральном промышленном районе, как правило, становятся рабочими, оставляя семьи в деревне, а в некоторых случаях, как докладывал секретарь Московского обкома, в придачу к заработной плате извлекают дополнительный доход, сдавая свои приусадебные участки другим колхозникам и единоличникам75.
Результатом вышеописанных встреч стало введение постановлением майского пленума 1939 г. минимума трудодней — первая серьезная попытка ограничить для колхозников возможности подрабатывать на стороне после установления паспортной системы и ограничения отходничества в начале 1933 г.76. Вскоре началась война, и потому трудно судить, насколько действенной оказалась эта мера. Пока наличная оплата труда колхозника оставалась крайне низкой, у него был сильнейший стимул, чтобы искать источник дохода на стороне. Положение существенно не менялось вплоть до резкого повышения денежных выплат колхозникам во времена Хрущева, которое, по-видимому, и стало причиной того, что широко распространенная практика отходничества отошла в прошлое.
7. Власть
Советская власть осуществлялась в деревне насильственными, произвольными, зачастую жестокими мерами. Но, как исторически сложилось в России, представители власти были рассеяны в небольшом количестве на обширной территории, поэтому, по мнению крестьян, забывать о них было для советской власти столь же характерно, как и терроризировать их, и первое подчас вызывало не меньшее возмущение, чем второе. В начале 30-х гг. в деревню хлынул поток горожан, проводивших коллективизацию, затем в 1933 г. последовал уже менее мощный наплыв коммунистических кадров для политотделов МТС, которые должны были справиться с волнениями, вызванными голодом. Однако подавляющее большинство людей со стороны через несколько лет вернулись в город. В обычные времена присутствие коммунистов в деревне было подвержено сезонным колебаниям. Множество их приезжало с различными официальными миссиями осенью, на время проведения государственных заготовок, несколько меньшее число являлось весной на посевную, но зиму с крестьянами проводили очень немногие1.
В среднем сельском районе СССР с населением 40 — 50 тыс. чел. в середине 30-х гг. имелось 100 оплачиваемых административных работников, 40 из них работали в райцентре, 60 — в сельсоветах2. В иерархии районной администрации главным человеком был первый секретарь райкома партии, председатель исполкома районного совета (РИКа) занимал второе место. Для крестьян еще одной ключевой фигурой являлся заведующий земельным отделом райисполкома (райзо). К земельным отделам, организованным в конце 1934 г., перешли многие дисциплинарные и контрольные функции, выполнявшиеся раньше политотделами МТС. В сферу их полномочий входило утверждение и смещение колхозных председателей, а также составление посевных планов для отдельных колхозов.
В деревне то и дело звучало слово «район» («район приказал», «вы за это ответите перед районом»), и районные руководители во время редких визитов в колхозы держались как важные шишки. Крестьяне всячески домогались привилегии быть посланными в район, скажем, на курсы животноводов, а получить работу в районе означало огромное жизненное достижение. Но во всех прочих отношениях «район» не слишком заслуживал названия культурного центра. Печальным примером может служить город Грязовец (население 8400 чел.), центр Грязовецкого района (население 90000 чел.) Вологодской области, который в 1932 г. мог похвастаться железнодорожной станцией, водопроводом в 21 доме,
196
гостиницей на 30 мест, аптекой и пожарной командой, разъезжавшей на трех телегахЗ.
В середине 30-х гг. районная администрация в Советском Союзе имела телефонную связь с областью в четырех случаях из пяти и могла дозвониться лишь до двух третей своих сельсоветов — если телефоны работали, что в то время случалось далеко не всегда. В очень немногих колхозах в 30-е гг. был телефон: если район хотел связаться с колхозом, ему приходилось вызывать председателя в райцентр или посылать в колхоз своего представителя (обычно в двуколке или верхом)4.
Сельский совет в середине 30-х гг. являлся административной единицей, на территории которой проживали около 2000 чел. В его юрисдикцию входили от 3 до 10 колхозов в зависимости от местности, в среднем районе насчитывалось примерно 20 сельсоветов. «Село» исторически означало сельское поселение со своей церковью (в отличие от «деревни», не имевшей церкви), но в 30-е гг. село лишилось церкви, мало что получив от советской власти взамен. Сельсовет по сути был организацией, собирающей налоги, вплоть до 1937 г., когда функция сбора государственных налогов (кроме местного «самообложения») перешла к району. По словам очевидца, работа его «сводилась к тому, что председатель сельсовета пробегал по деревне, собирая налог, собирал самообложение, заставлял ехать за дровами, следил за выполнением обязательного постановления о трудгужевой повинности». Начиная с 1933 г. сельсовет также выдавал паспорта крестьянам, уезжающим на заработки5.
Сельсовет середины 30-х гг. состоял из председателя на окладе и секретаря и располагал скромным бюджетом (в размере до половины месячного оклада председателя), который председатель мог использовать для найма дополнительного персонала, как правило, сельского участкового, не имевшего специального образования, и сельского исполнителя. В 30-е гг. председатель сельсовета получал 100 — 200 руб. в месяц, в зависимости от величины района, а секретарь — 80—160 руб. Этого хватало на жизнь, в отличие от жалких 20 руб. в месяц, выплачивавшихся в 1926— 1927 гг., и, конечно, сам факт постоянного ежемесячного оклада повышал статус должности. Тем не менее, должность председателя сельсовета, по-видимому, не слишком отличалась по своему статусу от должности председателя колхоза, судя по частым сообщениям о перемещениях кадров с одного из этих постов на другой. Как и колхозный председатель, председатель сельсовета обычно был выходцем из местных крестьян — зачастую из колхоза, находящегося в юрисдикции данного сельсовета, и семья его продолжала работать в колхозе6.
Одна из самых примечательных особенностей советской власти в деревне середины 30-х гг. — слабое присутствие коммунистической партии. После первых лет коллективизации коммунистов в
197
сельской местности было немного, и число их на протяжении почти всего десятилетия неуклонно понижалось7.
Пик роста членства в партии на селе пришелся на 1932 г., явившийся кульминацией четырехлетнего периода беспрецедентного набора в партию среди сельского населения, более чем удвоившего число коммунистов, входивших в первичные сельские партийные организации. На 1 января 1933 г. в деревне насчитывалось почти 900000 членов партии (что составляло чуть меньше четверти от общего числа по стране), две трети из них состояли в партийных организациях колхозов8.
Однако после 1933 г. эта цифра стала быстро уменьшаться. Сельские парторганизации особенно пострадали от партийных чисток в 1933 г. Многие из них потеряли тогда от четверти до трети своих членов, что, должно быть, находилось в непосредственной связи с повальными арестами в тот же период сельских должностных лиц за «либерализм» по отношению к крестьянству. На Северном Кавказе, разоренном голодом и казачьими бунтами, 26000 чел. были исключены из партии в ходе официально объявленной партийной чистки и еще 13000 чел. — за отдельные проступки, в том числе дезертирство со своего поста и бегство из района, — в целом исключенные составили приблизительно половину всех членов региональной партийной организации. По стране почти каждый четвертый председатель колхоза или сельсовета, состоявший в партии, был исключен в 1933 г., а ряды коммунистов — простых колхозников поредели еще сильнее. Новая полоса чисток в 1934 г. нанесла даже больший урон, лишив все сельские парторганизации в целом трети оставшихся членов, а колхозные ячейки — почти 40%. Чистки 1935 — 1936 гг. повлекли за собой дальнейшие потери, хотя уже не в таких масштабах, как за два предыдущих года. В результате установленного в 1933 г. моратория на прием в партию на место исключенных почти до самого конца десятилетия не приходили новые члены партии9.
К началу 1937 г. сельские парторганизации насчитывали меньше 400000 коммунистов, в том числе колхозные ячейки — меньше 200000. Коммунисты, занимавшиеся крестьянским трудом, составляли меньшую часть от общего числа членов партии, чем в 1927 г. (соответственно 11% и 14%), и даже в абсолютном выражении эта цифра была ненамного больше (205000 чел. в 1937 г.)10. В Вельском районе Западной области, согласно одному источнику, в 1937 г. насчитывалось всего 239 членов и кандидатов в члены партии1!.
Оскудение партийных рядов влекло за собой несколько последствий. Во-первых, не находилось достаточно коммунистов для замещения высших руководящих должностей в райцентре, не говоря уже о сельсоветах и колхозах. В 1938 г. в Советском Союзе коммунистом был лишь каждый пятый председатель колхоза, тогда как в начале 30-х гг. — каждый второй, а в начале 1936 г. — еще почти каждый третий. Сельсоветы демонстрировали еще более печальную
198
картину: в январе 1936 г. коммунисты среди их председателей составляли меньше пятой части12.
Во-вторых, в деревне второй половины 30-х гг., вероятно, больше было бывших коммунистов. В колхозе, не имеющем в своем составе членов партии, вполне мог жить хоть один бывший ее член, нередко удрученный своим исключением и связанной с этим потерей жизненных благ. По-видимому, этим отчасти объясняются неожиданно чуткое внимание к политике на селе (см. гл. 11) и «оппозиционные настроения» (крайне редко связанные с какой-либо организованной партийной оппозицией), постоянно отмечаемые в деревне.
В отличие от 20-х гг., в 30-е и комсомол не перехватил инициативу. За исключением нетипичного периода первой пятилетки, комсомольцы не играли сколько-нибудь заметной роли в сельской властной структуре. Почти не было комсомольцев среди председателей колхозов (4 — 5% в 1936 г.), так же как среди директоров МТС и их заместителей. Причина этого, несомненно, заключалась в том, что молодые крестьяне, серьезно приверженные комсомольскому движению, столь же серьезно были настроены покинуть село. Хотя комсомол в 1935 г. официально стал массовой молодежной организацией, что должно было повысить его влияние в среде непролетарской молодежи, на деревне это почти никак не отразилось: общее число сельских комсомольцев в 1938 г. лишь на 36% превосходило показатель 1927 г., когда комсомол был еще элитарной организацией для избранных1^.
СЕЛЬСКАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ
С точки зрения крестьян, весь государственный административный аппарат, громоздившийся над колхозом, был создан, чтобы наживаться за их счет. «Сельсоветчики и комсомольцы только и знали — это ходить по деревням и "выкачивать" налоги», — жаловались крестьяне из Западной области в 1935 г.14. Ощущение эксплуатации со стороны властей усугублялось тем, что новые «хозяева» — от района до сельсовета — часто пользовались своей властью самым произвольным и жестоким образом и, казалось, рассматривали колхозную собственность как свою. «Произвол» в сочетании с «неуважением» к крестьянам, как на словах, так и на деле, служили главной темой крестьянских жалоб и претензий.
Сельская администрация печально прославилась своим пренебрежением к законным формальностям. У большинства должностных лиц напрочь отсутствовало понимание важности соблюдения правовых форм и процедур, а политика партии в 30-е гг. вряд ли могла пробудить в них это понимание. Правовая и судебная система была разрушена и скомпрометирована в результате использо-
199
вания ее в политических целях. Местные руководящие кадры выступали при этом и в роли преследователей, и в роли жертв.
Путаница в вопросе о правах собственности обостряла проблемы, стоящие перед правовой системой. Являлась ли «общественная собственность» на самом деле государственной, как о том вроде бы свидетельствовали жесткие санкции против ее расхищения, установленные законом от 7 августа 1932 г., или это была собственность колхоза, т.е. отдельной общности колхозников? Экспроприация кулаков создала зловещий прецедент, память о котором сохранялась в течение всего десятилетия. Когда представитель власти отбирал у крестьянской семьи все имущество (что нередко выглядело не столько как карательная санкция, сколько как грабеж), он обычно называл это «раскулачиванием» даже спустя годы после того, как кампания вроде бы закончилась.
Сами руководящие работники, часто бывшие самодурами и вымогателями, подвергались такому же произволу со стороны вышестоящего начальства. Положение всех должностных лиц в деревне на протяжении десятилетия оставалось весьма ненадежным. Среди них царила чрезвычайно высокая текучесть кадров, а те, кого увольняли за невыполнение («саботаж») планов государственных заготовок или другие подобные прегрешения, рисковали лишиться партбилета и попасть под суд. Хуже всего, по-видимому, дела обстояли в 1932 — 1933 гг., во время голода. За этот период столько представителей сельской администрации — особенно председателей колхозов — было арестовано за «саботаж хлебозаготовок», что в 1935 г. правительство пошло на чрезвычайную меру, объявив отмену приговоров и амнистию заключенным по делам такого рода на том основании, что «совершенные указанными выше должностными лицами преступления не были связаны с какими-либо корыстными мотивами и являлись в подавляющем большинстве случаев результатом неправильного понимания осужденными своих служебных обязанностей...»15.
Руководителей более высокого уровня (районных) данная мера, по-видимому, не затронула, поскольку они реже привлекались к уголовной ответственности за невыполнение планов хлебозаготовок. Тем не менее, их тоже частенько снимали с должности или внезапно переводили в другое место. По сообщению из Ленинградской области, там в первой половине 1936 г. были смещены с занимаемых должностей треть всех инструкторов райкомов и более одной пятой всех председателей сельсоветов. В одном районе увольнению и переводу подверглись две трети председателей сельсоветов16.
Вымогательство
Часто встречались жалобы на то, что средства, собранные с крестьян в виде налогов или подписки на государственные займы,
200
оседают в карманах чиновников. Председатели колхозов порой считали себя обязанными делать подношения районному начальству, «чтобы иметь защиту в районе». Главной темой жалоб крестьян на председателей сельсоветов служила произвольная конфискация скота и другого имущества под предлогом неуплаты налогов: до апреля 1937 г. это практически не являлось незаконным, отражая свободу нравов сельской администрации непосредственно после коллективизации и раскулачивания. Выдача паспортов стала еще одним прибыльным видом деятельности для работников сельсоветов, поскольку, как правило, сопровождалась взяткой, по крайней мере в виде бутылки водки. Один председатель сельсовета в Саратовской области конфисковал гармонь, которой премировали бригаду трактористов-стахановцев (с тех пор, писала газета, он «целыми днями сидит дома и играет на этой гармони»)17.
Даже в рамках закона новые хозяева обладали некоторой властью, позволявшей им распоряжаться крестьянским трудом. Согласно законам о трудовых повинностях, изданным в начале 30-х гг., колхозы и единоличные хозяйства обязаны были бесплатно отрабатывать на государство определенное число дней в году, используя собственных лошадей. На практике эти трудовые повинности толковались гораздо шире, нежели предусматривал закон. Местные власти рассматривали колхозы как своих вассалов, нисколько не уважая их автономии и прав собственности. «Дергают крестьян, кому не лень и когда вздумается»18.
Местное руководство часто пользовалось колхозами как удобным резервом рабочей силы для самых различных нужд и кампаний. Если району или сельсовету нужны были рабочие для какого-либо строительного или восстановительного проекта, в ближайший колхоз поступало распоряжение выделить их — зачастую бесплатно. Столь же сомнительных воззрений сельская администрация придерживалась относительно колхозной собственности, считая ее собственностью государственной, находящейся в распоряжении руководства, когда бы это ни потребовалось. Чаще всего это касалось лошадей, но распространялось и на любое другое колхозное имущество — от телег до свободных изб в деревне. «Приказывают колхозу, не спрашивая у него, отправить туда-то и туда-то столько-то лошадей и машин. Отбирают у колхоза лошадь для разъездов районного начальства, дом, бричку. Заставляют колхозы брать на свою оплату людей, не работающих в колхозе, не имеющих прямого отношения к колхозному производству»19.
Подобное поведение не только противоречило закону и вызы-валдо возмущение колхозников, но и создавало колхозу немалые трудности:
«Наш колхоз небольшой, состоит всего из 20 хозяйств, тягловой силы имеет 14 голов, причем организован недавно — осенью 1934 г. Через день (это в лучшем случае), а чаще ежедневно предсельсовета т. Крупкин отрывает из колхоза как тягловую
201
силу, так и лошадей на постройку школы, на свои личные разъезды и даже на разъезды кооператоров...»20
Банковский счет колхоза представлял еще один удобный резерв для районных ведомств, истощивших свои фонды, а порой и с колхозной землей обращались так же вольно. Бежицкий горсовет однажды решил полностью ликвидировать соседний колхоз и передать его земли заводу «Красный Профинтерн». В результате колхозники лишились всего колхозного имущества, включая 400 пудов пшеницы, лошадей и инвентарь стоимостью 37000 руб., а новые владельцы устроили в городе банкет, обошедшийся в 2300 руб.21.
Помимо эксплуатации колхозов сельская администрация практиковала также вымогательство у отдельных хозяйств или лиц. Без всякого сомнения взяточничество, традиционно характерное для низшего чиновничества в России, никуда не делось и в 30-е гг. Некоторые его формы были освящены традицией, например, подношение водки и продуктов сельского хозяйства при посещении должностного лица («только заколешь теленка или свинью, [председатель сельсовета] тут же явится и заберет бесплатно 4 —5 кг мяса»). Другие, такие как конфискация имущества крестьянина, восходят непосредственно к практике раскулачивания в начале 30-х гг., обращаемого в прямую выгоду себе лицом, проводящим конфискацию (как в случае с председателем сельсовета, отобравшим у крестьян, не выполнивших обязательства по госпоставкам, 22 лошади, которого видели потом разъезжающим по району на одной из них)22.
Паспорта и разрешения на отходничество продавались (т.е. выдавались за взятку) почти на регулярной основе, то же можно сказать и о справках о социальном положении («А. происходит из семьи бедняков, темных пятен в биографии не имеет», «Б. [на самом деле дочь священника] происходит из трудящейся семьи середняков»). В одном донесении органов внутренних дел из Западной области говорится, что кулак Петр Щербаков подкупил председателя местного сельсовета Игнатова швейной машинкой, чтобы получить документы и уехать работать на Украину, и Игнатов любезно аттестовал его как середняка23.
Воспитательные меры и санкции
В распоряжении начальства был следующий набор мер в отношении провинившихся крестьян: побои, штрафы, арест, конфискация скота или другого имущества, экспроприация и, наконец, исключение из колхоза. В случаях коллективного неподчинения руководители могли ликвидировать целый колхоз, что означало коллективную экспроприацию, порой сопровождавшуюся насильственным включением бывшего колхоза в совхоз и мгновенным превращением колхозников в безземельных сельскохозяйственных
202
рабочих. Большинство этих методов были с точки зрения закона весьма сомнительны, а то и откровенно противозаконны24.
Аресты и штрафы повсеместно практиковались в чрезвычайных масштабах; отсюда постоянный поток инструкций из Москвы, вновь и вновь повторяющих, что право производить арест принадлежит только органам милиции и НКВД (хотя в действительности все руководители пользовались этой мерой против крестьян), запрещение «налагать произвольные и незаконные штрафы» и отмена в 1935 г. многих приговоров, вынесенных колхозникам в начале 30-х гг., так же как это было сделано в отношении сельских должностных лиц25. Сталин и Молотов указывали в секретной инструкции в мае 1933 г.:
«Имеются сведения, из которых видно, что массовые беспорядочные аресты в деревне все еще продолжают существовать в практике наших работников. Арестовывают председатели колхозов и члены правлений колхозов. Арестовывают председатели сельсоветов и секретари ячеек. Арестовывают районные и краевые уполномоченные. Арестовывают все, кому не лень и кто, собственно говоря, не имеет никакого права арестовывать...»26
Москва также постоянно предостерегала против увлечения исключением из колхоза (поскольку в результате коллективизированные крестьяне снова превращались в единоличников), а еще хуже относилась к ликвидации колхозов или насильственному включению их в совхозы. Тем не менее, местное руководство, по всей видимости, нередко пользовалось в качестве дисциплинарной меры угрозой ликвидировать провинившийся колхоз2?.
МУЖЧИНЫ, ЖЕНЩИНЫ И РУКОВОДЯЩИЙ ПОСТ
Сельские руководители на уровне районных и сельских советов были, как правило, мужского пола, крестьянского происхождения и малограмотны. Они часто приходили на административную работу после службы в Красной Армии (по крайней мере отслужив обязательные два года). Руководители районного уровня обычно состояли в партии, в сельсоветах дело обстояло наоборот. Так или иначе, в их биографиях, как правило, имелись темные пятна. Члены партии получали партийные взыскания, временно исключались и даже приговаривались к лишению свободы по различным обвинениям, от «саботажа государственных заготовок» до растраты казенных средств, беспартийные еще чаще в прошлом отбывали срок в тюрьме, нередко раньше состояли в партии, но были исключены.
Возьмем, к примеру, группу руководителей из Красногорского района Западной области в 1937 г., состоявшую из секретаря райкома, председателя райисполкома, трех заведующих отделами
203
райисполкома и одного председателя сельсовета. Все они, кроме одного, родились между 1899 и 1901 гг., в деревнях, находившихся либо в Западной области, либо вблизи от ее границ, по национальности были русскими. Происходили из довольно зажиточных семей (заведующий райзо, например, был сыном бывшего «твер-дозаданца») и окончили три-четыре класса сельской школы. Председатель сельсовета за предыдущее десятилетие три раза был под судом за должностные преступления и хулиганство и дважды отбывал короткие сроки заключения. Один из районных руководителей тоже чуть не попал в тюрьму за невыполнение плана хлебозаготовок. Исключением в этой группе являлся самый старший по должности, секретарь райкома, еврей из одного из городов области. Он окончил высшую партийную школу (т.е. имел нечто вроде среднего образования), был, по-видимому, мобилизован в деревню в начале 30-х гг., да так там и остался28.
В том, что женщины в сельской администрации любого уровня были представлены слабо, не было вины центральной власти, неуклонно и решительно поддерживавшей выдвижение женщин на руководящие должности в деревне. Сталин расточал крестьянским женщинам множество авансов, начав со сделанного в 1933 г. заявления, что женщины в колхозе «большая сила» и нужно поощрять занятие ими ответственных постов, а затем вмешавшись в обсуждение вопроса об отпусках по беременности и родам для колхозниц на Втором съезде колхозников-ударников в 1935 г. (где почти треть делегатов составляли женщины, что, безусловно, отражало политическую тенденцию, а не реальное положение вещей). Сталин также снова и снова подчеркивал важность освобождения крестьянской женщины от гнета патриархальной семьи и много раз показывался на публике в обществе стахановок, таких как ударница-свекловод Мария Демченко и трактористка Паша Ангелина29. Председатель ВЦИК М.И.Калинин, наиболее тесно связанный с крестьянскими проблемами член партийного руководства, неустанно выступал за выдвижение женщинЗО.
Можно даже сказать, что советская власть в 30-е гг., если речь заходила о деревне, питала предубеждение против мужчин в пользу женщин, поскольку отрицательные образы, например кулака, всегда были мужскими, а положительные, например крестьянина-стахановца, — как правило, женскими. Это понятно, если рассмотреть центр тяжести власти в деревне: мужчины обладали властью, следовательно, от них исходила большая угроза; женщины были бесправны, следовательно, не представляли угрозы и их даже можно было привлечь к сотрудничеству как эксплуатируемую группу. Существовали и практические соображения. В резолюции ЦК 1935 г. указывалось, что, поскольку женщины составляют большинство в колхозах значительной части Нечерноземной полосы, необходимо проводить в этом регионе активную политику выдвижения женщин на руководящие постыЗ!.
204
Все же, как известно, женщине трудно было занять на селе руководящую должность. Главная причина состояла в том, что крестьяне, как мужчины, так и женщины, относились к этому неодобрительно, а местные власти, как правило, разделяли их мнение. Стоило женщине стать председателем колхоза или сельсовета, как тут же появлялись злобные сплетни и слухи по поводу ее личной жизни и покровительства, якобы оказываемого ею родственникам мужского пола32. Более того, представительство женщин на оплачиваемых сельских административных должностях в течение десятилетия не увеличивалось, как следовало бы ожидать, принимая во внимание высокую степень заинтересованности в этом правительства, а, напротив, уменьшалось — еще один признак ослабления влияния центральной власти в деревне. Мария Шабурова, деятельница всесоюзного масштаба, занимавшаяся женским вопросом и ставшая впоследствии наркомом социального обеспечения, выражала в 1934 г. досаду и разочарование по поводу проявляющейся на селе тенденции к отказу от выдвижения женщин. Многие женщины были назначены на руководящие посты в начале 30-х гг., говорила она, однако теперь все эти достижения перечеркнуты. В Западной области, к примеру, число женщин — председателей сельсоветов упало с 206 до 58. В Грузии и Армении в 1931 г. эту должность занимали 50 женщин, теперь же осталось только четыре. В 1936 г. лишь 7% председателей сельсоветов и менее 3% председателей колхозов были женщинами33.
О том же писала в 1937 г. группа женщин из Островского района Псковской области, жаловавшаяся в местную газету, что в районе нет ни одной женщины — председателя сельсовета и только две женщины являются председателями колхозов. Правда, в райисполкоме было несколько женщин, но они играли там чисто декоративную роль, им не давали никакого реального дела и «для приличия» приглашали «лишь на пленумы райисполкома». Авторы письма обвиняли бывших районных руководителей (жертв Большого Террора, над которыми только что был проведен показательный процесс) в том, что они «всеми способами старались оттереть женщин от руководящей работы, держать их под спудом», требовали отныне более энергично вьщвигать на ответственные должности женщин и даже называли некоторые кандидатуры34.
Многие женщины, занимавшие руководящие посты в начале 30-х гг., были бедными вдовами, часто батрачившими некогда в 20-е гг. на кулаков. Например, Агриппина Городничева жила в деревне в Московской области, пока ее муж не умер в начале 20-х гг. Не в силах справиться с хозяйством одна, она уехала в Москву и 7 лет работала домработницей. Когда ей было уже под пятьдесят, началась коллективизация; она вернулась в деревню и стала активной сторонницей колхоза. В 1933 г. она была председателем ревизионной комиссии колхоза и заместителем председателя сель-
205
совета. «Тетка Варя», главная героиня рассказа советского журналиста о коллективизации в Спасе-на-Песках, маленькой деревушке в Нечерноземье, осталась вдовой в Первую мировую войну, была активисткой комитета бедноты в гражданскую и стала первым председателем колхоза в начале 30-х гг. Однако в середине десятилетия руководство в колхозе захватили мужчины, и тетка Варя была отстранена35.
СТИЛЬ РУКОВОДСТВА
В пределах своего района в глазах местных крестьян районные руководители являлись фигурами первейшего масштаба. Неудивительно, что некоторые из них проникались преувеличенным сознанием собственной значимости и даже поощряли установление местного «культа личности». В этом они, без сомнения, были не только верными последователями Сталина, но и прямыми потомками тех тупых, невежественных, чванливых российских провинциальных чиновников, которых в XIX в. высмеял Салтыков-Щедрин в своей «Истории одного города» — летописи некоего города Глупова. Районные руководители такого сорта требовали от подчиненных особого почтения и заискивания:
«Секретаря райкома партии Поварова и председателя рика Горшкова неизменно величали "Васильичем" и "Ефимычем": "Ура Ефимычу!" — под этим знаком прошло не одно собрание, руководимое Горшковым...»
Они были также подвержены вспышкам дурного нрава, наводившим страх на подчиненных:
«Председатель одного из сельсоветов рассказывал: "На совещаниях председателей сельсоветов Горшков, когда расходился, стучал так кулаком по столу, что телефонная трубка на пол летела. Мы воспринимали этот пример и переносили его в сельсоветы... Худо быть в контрах с Горшковым: за критику, как курицу, потом общиплет тебя: семена получишь позже других сельсоветов, уполномоченного пришлет тебе малограмотного..."»36
Запугивание — не тот административный стиль, который вызвал бы осуждение в 30-е гг. Решительность и твердая рука высоко ценились. Сами коммунисты считали примером для себя «командную» модель времен гражданской войны; руководящие кадры на селе зачастую носили с собой оружие. Они жили в суровом враждебном мире, где бандиты — чаще всего раскулаченные, скрывавшиеся в лесах, — стреляли в представителей власти из-за угла, а угрюмые крестьяне смотрели в сторону. Зачастую руководители действовали по законам военного времени, бросая провинившихся крестьян в тюрьму без всякого соблюдения формальностей. Но и сами они подвергались со стороны вышестоящего начальства суровым карам, вплоть до заключения в тюрьму
206
или лагерь, если не выполняли посевные планы или обязательства по заготовкам.
В общении с вышестоящим начальником для руководителя главным было продемонстрировать свою твердость, умение отдавать приказы и добиваться их исполнения:
«2 августа на поселок колхоза приехал председатель сельсовета Соколов и председатель рик'а Кубышкин. Председатель Патрикеев, чтобы показать свою дисциплину, — в этот момент на улице встречает колхозницу Костину Ольгу и начинает ее всячески материть, почему не идешь на работу. А у Костиной двое детишек, один из них грудной и второй 2-х лет»37.
Учитывая давление, которое оказывалось на руководителей, мы вряд ли должны удивляться, встречая случаи, когда стиль запугивания переходил почти в клиническую картину истерии. Возьмем дело Белоусова, секретаря райкома из Западной области, чье поведение вызывало столько жалоб, что из области послали инструктора с заданием провести расследование. Он сообщил следующее:
«Белоусов страшно груб, особенно с председателями сельсоветов, ругается матом как совершенно обезумевший человек, особенно по утрам (трещит голова после пьянки), кричит, ругается матом и зло срывает на телефоне, разбивает вдребезги, каждую пятидневку монтеры чинят его. У населения сложилось мнение, что это психопат, с большой опаской обращаются к нему, предпочитая лучше уйти ни с чем, чем слушать его матерщину. Достаточно привести еще один факт. В прошлом году во время сева, в колхозе им. Буденного, Пустошкинского сельсовета, в пьяном виде набросился на председателя этого колхоза и, прицелившись в него из нагана, заорал: "Застрелю, мать... и т.д." Последний после этого болел».
Получив этот отчет, непосредственный начальник Белоусова признал, что Белоусов склонен к грубости, но ссылался на смягчающие обстоятельства. По его словам, тот вел себя подобным образом не из-за пьянства; всему виной была «психо-неврастения», от которой Белоусов лечился два года назад38.
Крестьяне без конца писали жалобы на местных руководителей, задиравших, оскорблявших их, угрожавших им или постоянно пьянствовавших. Получая возможность высказать подобные обвинения публично, например на показательных процессах 1937 г., они делали это весьма пространно и с пафосом3**. И все же такого рода жалобы на оскорбительное поведение и запугивание носили несколько формальный характер; крайне редко можно уловить в них подлинное негодование, столь часто присущее рассказам о воровстве или произвольной конфискации имущества администрацией. Если представители власти напивались, сквернословили, колотили крестьян, это давало последним подходящий повод, чтобы пожаловаться в высшие инстанции, — в особенности если у них имелись и другие претензии к руководителям, о кото-
207
рых шла речь. Однако создавалось некое впечатление, будто на самом деле все негласно признавали, что дело руководителя — буйствовать, так же как дело крестьян — жаловаться.
В свете обычаев, принятых при взаимоотношениях российских крестьян и чиновников, не было ничего невозможного (а по всей вероятности, это было даже желательно или обязательно) в том, чтобы после какой-либо возмутительной выходки со стороны начальства немедленно следовало шумное гулянье, в котором участвовали и представители власти, и крестьяне. Естественно, ни те, ни другие не могли сообщить о чем-то подобном в вышестоящие инстанции, так что свидетельства такого рода трудно отыскать. Мы можем уловить лишь намек на это в поразительном сообщении областной газеты о странном поведении одного заготовительного отряда, перемежавшего свирепые и безжалостные допросы провинившихся крестьян «бешеной пляской» под гармошку40.
Более ясное представление о происходившем можно получить, читая воспоминания Арво Туоминена, финского коммуниста, сопровождавшего в 1934 г. заготовительный отряд, получивший задание собрать в одном районе Тульской области 8000 т зерна сверх плана. В каждом колхозе пятеро членов отряда с «болтающимися у пояса маузерами» созывали общее собрание и всячески запугивали колхозников, пока те не проголосуют за принятие встречного плана. Один колхоз проявил особое упорство; в конце концов, отряд арестовал председателя и других «вожаков», их посадили в грузовик и пригрозили обвинить в «спекуляции хлебом». Колхозники все еще отказывались голосовать за встречный план.
«Наконец, после полуночи один старик сказал: "Ничего хорошего из этого не выйдет. Они придут и завтра, и послезавтра, до тех пор пока никого не останется".
Маслов [начальник заготовительного отряда] тут же снова приказал поднять руки и на этот раз добился большинства, незначительного, но вполне достаточного. В память мне врезался горький возглас старика, когда [при свече] писали протокол собрания: "Вы бы хоть привезли с собой керосина, чтобы мы могли видеть, где подписать это грабительское постановление!"
...Затем последовала самая изумительная сцена. Когда грабительское постановление было подписано, заправлявший грабежом спросил, нет ли у кого гармони, чтобы можно было сплясать. И подумать только! Гармонь нашлась, неарестованные колхозники встали в круг, один начал играть, другие хлопали в ладоши в такт, а в центре круга несколько колхозников, политрук и люди из ГПУ плясали гопака...»41
ПРЕДКОЛХОЗА
Для успеха колхозного дела председатель был важнейшей фигурой. В его задачу входило руководить работой, управлять кол-
208
лективом и служить посредником между колхозниками и районом. Однако о должности председателя, невзирая на всю ее значимость, даже не упоминалось в первом Уставе сельскохозяйственной артели, поспешно составленном в марте 1930 г. В этом Уставе говорилось только о правлении, избираемом собранием членов колхоза. Тут, возможно, проявился некий идеологический заскок сталинского руководства — мнение, очевидно, проводимое Сталиным и Молотовым в конце 20-х, что колхозы не должны чересчур зависеть от харизматического лидерства активной центральной фигуры, председателя. С другой стороны, это могло отражать обеспокоенность тем фактом, что на тот момент многие колхозы организовывали и возглавляли городские чужаки, напоминавшие, так сказать, своим административным подходом прежних помещичьих управляющих. Так или иначе, в новом варианте Устава сельскохозяйственной артели в 1935 г. уже было четко установлено, что правление колхоза возглавляется председателем, избираемым на общем собрании колхозников42.
Председатель колхоза занимал промежуточное положение между колхозниками и сельской властной структурой. С одной стороны, он (или, гораздо реже, она) мог командовать крестьянами и эксплуатировать их экономически почти так же, как делали его вышестоящие начальники. Разница между ним и начальниками из района заключалась в том, что последние получали должностной оклад, а ему платили по трудодням, т.е. рассматривали его как колхозника (хотя и высокооплачиваемого). Кроме того, существовали некоторые различия в зависимости от того, был председатель чужим или местным. Если в данной деревне или даже в данной местности он являлся чужаком, «присланным из района», то по своему положению был ближе к председателю сельсовета, получавшему должностной оклад, а если местным, членом сельской общины, — то к остальным крестьянам, напоминая по своему статусу и функциям прежнего сельского старосту.
В высказываниях крестьян мы можем найти свидетельства обеих трактовок фигуры председателя — как одного «из них» и как одного «из наших». Например, на одном показательном процессе в 1937 г. крестьяне-свидетели резко критиковали председателя колхоза вместе с директором МТС за то, что те навязали колхозу неправильный севооборот. Тот председатель явно считался одним «из них». Но вот другой председатель — женщина (одна из сравнительно немногих, занимавших этот пост), свидетельствовавшая на процессе и гневно говорившая о невыполнимых посевных планах, спущенных «ими» из района, выступала в роли одной «из нашихИЗ.
Чужие и местные
В первые годы коллективизации председателями колхозов чаще становились чужаки — рабочие-25-тысячники, коммунисты,
209
присланные из города, чем члены сельской общины. В особенности характерно это было для основных зернопроизводящих районов: на Северном Кавказе, к примеру, в 1930 г. две пятых председателей составляли 25-тысячники. Но уже к середине 30-х гг. пришельцы из города стали редкостью, и подавляющее большинство колхозных председателей были местными крестьянами44. «Чужие» председатели не имели непосредственных предшественников в историческом опыте деревни, а вот «местные» продолжали долгую традицию назначаемых или выборных деревенских руководителей — управляющих и надсмотрщиков, волостных и общинных старост, — которые не только выполняли функции управления и поддержания дисциплины, но и должны были действовать как посредники между деревней и внешней властью.
Разумеется, существовали различия в зависимости от местности. На совещании председателей колхозов в начале 1935 г. один выступавший сообщал, что в Курском районе, относящемся к Центральному земледельческому району РСФСР, более 90% председателей — местные, тогда как другой выражал сожаление по поводу того, что в Киевском районе, все еще с трудом оправлявшемся от сокрушительных последствий голода, «среди председателей колхозов практически нет местных». Три года спустя инспекция Мелитопольского района на юге Украины показала, что 76% лиц, являвшихся на тот момент председателями колхозов, происходили из того же села, а еще 7% — из других сел в той же местности45.
Неопубликованные материалы неофициальной встречи председателей колхозов, состоявшейся в апреле 1935 г. в Наркомземе, дают нам редкую возможность бросить взгляд на личность «чужого» председателя переходного периода. Из двадцати с лишним участников встречи, вызванных из различных регионов страны, почти все были «чужими» председателями — верными и испытанными коммунистическими кадрами, последние пять лет беспрерывно занятыми ликвидацией узких мест, бросаемыми из одного разваливающегося колхоза в другой и испытавшими все тяготы жизни в деревне в эпоху коллективизации и голода.
Типичен для всей этой группы послужной список председателя колхоза «Киров» Винницкой области на Украине Французова:
«Я работаю сам 2 года в этом колхозе, я сам рабочий, работал на производстве и в 1930 г. только прибыл в Антониевский район, откуда меня в 1931 г. послали в колхоз того же района, отсталый колхоз, я там проработал 8 месяцев, колхоз поднялся... После этого меня снимают опять на районную работу, и в 1933 г. я ухожу в колхоз "Большие Тузы", где все правление было снято за вредительскую работу в колхозе...»46
Другие выступавшие также описывали работу «чужого» председателя как странствующего профессионального ликвидатора прорывов и узких мест. Лишь в последние два года, говорил один из них, председатель со стороны стал задерживаться в одном колхозе на более или менее продолжительное время: «А до этого
210
года, если не объедет за год председатель 5 колхозов, то что он за председатель, мякиш какой-то»4?.
Некоторые выступавшие проводили четкую границу между собой и «местными» председателями. Сами являясь чужаками, они в принципе не высказывали возражений против местных кандидатур в председатели. По их мнению, положение местного председателя отличалось известными преимуществами: он держал собственный скот, имел приусадебный участок и, следовательно, мог себя прокормить. Один выступавший, переживший голод в Киевской области в качестве «чужого» председателя, резко подчеркнул этот момент:
«Условия председателя, в особенности того, который приезжает в район — не свой человек, очень трудные. Взять 1933 год, когда я приехал в колхоз, — целый год я буквально голодал, хотел взять денег, ничего не было. Хлеба нет, авансирования нет. Сейчас хорошо, что я получил на трудодни, имею хлеб, — если меня перебросят в другой колхоз, я имею базу. Но представьте себе, что взяли председателя из Москвы и послали его на место. Он должен ждать нового урожая...»48
На местах считали само собой разумеющимся, что чужой председатель, являясь на новое место работы, вынужден был присваивать кое-какой колхозный скот, чтобы выжить. Хотя об этом не принято было говорить вслух, даже неофициально, киевского председателя спровоцировали наивные вопросы чиновника из наркомата, по-видимому, думавшего, что коровы растут на деревьях или, по крайней мере, появляются волшебным образом в результате постановлений из Москвы:
«ВОПРОС. Корову имеете?
ОТВЕТ. Нет, своей не имею, взял одного поросенка.
ВОПРОС. Почему не имеете коровы?
ОТВЕТ. Вы также, вероятно, не имеете.
ВОПРОС. Вы председатель колхоза.
ОТВЕТ. На это нужно иметь не меньше 1000—1500 рубликов... Когда я пришел в колхоз, там была одна корова и один бык. Так что, если бы я и хотел взять, я не мог бы взять, а теперь мы имеем 66 шт. рогатого скота, попробуйте взять телку.
ВОПРОС. Значит, не собираетесь долго сидеть...»49
Чужой председатель редко задерживался на своем посту надолго. Но и местный тоже. Центральное руководство постоянно осуждало исключительно высокую текучесть кадров среди колхозных председателей, однако без всякого толку. На январь 1936 г. 37% всех председателей колхозов и их заместителей в Советском Союзе работали на своей должности меньше года, и лишь 18% занимали ее 3 года или дольше. И это еще был сравнительно мирный период в деревне: в бурную эпоху начала 30-х гг. или во время Большого Террора 1937 — 1938 гг. текучесть была куда выше50.
Тому было много причин. Одна из них заключалась в том, что председателей делали козлами отпущения, если колхоз не выпол-
211
нял свои обязательства по госпоставкам. В середине 30-х гг. за 14 месяцев 73% председателей колхозов в Кировской (Вятской) области были сняты с должности и вдобавок отданы под суд за «экономический саботаж» (две трети из них были осуждены). Председатель-коммунист из Вельского района Западной области, которому грозило обвинение в растрате 4000 руб., с горечью заметил, что он в этом колхозе седьмой председатель и, по-видимому, будет седьмым, попавшим в тюрьму, — «выходит, что все председатели колхоза плуты и воры, и я тоже». Впрочем, в иных случаях увольнение не представлялось большим злом: «Я здесь в Белом работаю с 1932 г., — говорил директор местной МТС, — и каждый год меня снимают с работы, и каждый год восстанавливают»^.
По словам Я.А.Яковлева, партийного руководителя, отвечавшего за сельское хозяйство, таков был один из способов, с помощью которого районное начальство пыталось уйти от ответственности:
«Для иного районного руководителя снять с работы председателя колхоза — это вроде того, что получить удостоверение на звание хорошего администратора. Если спросят такого "администратора", почему у него дело плохо с посевом, или с уборочной, или с хлебозаготовками, — у него всегда наготове доказательство своей энергичной деятельности: мы свое дело сделали, мы сняли столько-то председателей»52.
Кроме того, когда около середины 30-х гг. развернулось движение за «колхозную демократию», снятию с должности председателей колхозов — теперь уже по большей части местных — стали способствовать сами колхозники. На председателей писали и доносы — испытанный метод, широко и успешно применявшийся крестьянами, желающими избавиться от неугодного председателя.
Если мы пристальнее вглядимся в отчет партийного работника, расследовавшего один из таких доносов, то найдем еще одну причину высокой текучести кадров среди председателей — трудность подыскания подходящей кандидатуры. Жертва доноса Васильков — бывший коммунист и районный работник, исключенный из партии и смещенный со своей должности в результате скандала (по-видимому, его поймали на воровстве). Несомненно, его друзья в районе сочли, что ему лучше отсидеться в родной деревне, и назначили его туда председателем колхоза. Однако эта кандидатура не представлялась идеальной: Васильков должен был платить алименты первой жене, жившей в деревне, усугублял положение и его отец, проживавший там же и отказывавшийся вступать в колхоз. Два местных коммуниста, которые могли бы стать альтернативными кандидатами на руководящий пост, тоже оказались не на высоте: один грамотный, но неподходящий по социальному происхождению, другой из бедняков, как полагается, но «мягкотел, не инициативен». Что касается трех колхозных бригадиров, возглавивших антивасильковскую кампанию, то и они не
212
вызывали доверия: один был когда-то осужден за скупку краденого, другого недавно осудили за словесное оскорбление и угрозу физическим насилием, третий пил. Колхозники уже выбрали нового председателя, докладывал партийный следователь, и он подходит по всем статьям, за исключением того, что работает не в колхозе, а на местной фабрике53.
Как уже отмечалось, женщины во второй половине 30-х гг. редко занимали должность председателя колхоза. На Втором съезде колхозников-ударников в 1935 г. было несколько впечатляющих фигур ярко выступавших женщин-председателей: например, Маремьяна Карютина, уверенная в себе, несгибаемая пятидесятишестилетняя делегатка, председатель колхоза в Ленинградской области с 1929 г.; Александра Левченкова, молодая женщина с коротко стрижеными волосами и решительными взглядами, председатель колхоза в Воронежской области. (В обоих случаях коллективы колхозов, возглавляемых ими, были в основном женскими, потому что все мужчины ушли в отход или стали городскими рабочими.) Но эти женщины представляли собой исключение: женщина — председатель колхоза являлась даже большей редкостью, чем женщина — председатель сельсовета. По всей стране в начале 1935 г. их было 7000 чел., и, по-видимому, это был наивысший показатель на протяжении десятилетия54.
Более типичной представительницей этой группы, чем Карютина и Левченкова, была, вероятно, Апполонова, председатель колхоза в Западной области, чье дело стало предметом расследования областного инспектора в 1936 г. Главная проблема Апполо-новой состояла в том, что под нее подкапывался молодой колхозник, недавно вернувшийся в деревню после окончания совпартшколы и явно считавший, что он лучше подходит на должность председателя. Партийный следователь нашел, что Апполонова на посту председателя делает все, что может, и не оказывает незаконного покровительства (в чем обвинял ее противник) своему брату и его семье, однако очень плохо образована: «Энергичная женщина... вдова, имеет 4 детей, крепко борется за работу, но всю работу разлагает»55.
Сравнительно немногие женщины, попадавшие в колхозное руководство, обычно занимали должности ниже председательской (заведующие животноводческой фермой, бригадиры животноводов, звеньевые). Тетка Варя, первый председатель колхоза в Спасе-на-Песках, отстраненная в середине 30-х гг., стала скромной звеньевой, и нет ничего невозможного в том, что Апполонову ждала такая же судьба56.
Заработок и привилегии председателя
Согласно правилам, председатель колхоза являлся членом колхоза, которому следовало платить, как и остальным колхозникам, по принципу трудодней — т.е. выдавать долю колхозного
213
дохода, пропорциональную количеству выработанных трудодней. Выплата ежемесячного оклада какому-либо члену колхоза противоречила бы принципу кооперации, и колхозу действительно запрещалось платить кому-либо оклад или заработную плату (исключение делалось для агрономов и других технических специалистов, нанимаемых колхозом)57.
Хотя председатели колхозов должны были получать плату по трудодням, это вовсе не значило, что им платили так же, как простым колхозникам. В трудоднях выражается не только отработанное время, но и стоимость проделанной работы. Работа председателя в крупных колхозах оценивалась в 2 трудодня за рабочий день, в более мелких — в 1,75 трудодня. А главное — председателю каждый день года засчитывался как рабочий. Простой колхозник мог считать себя счастливцем, если у него получалась хотя бы треть председательских 50 — 60 трудодней в месяц58.
Правила обязательного членства в колхозе и оплаты по трудодням трудно было применить к «чужим» председателям. В особенности первые из них, 25-тысячники, не подчинялись требованию, чтобы председатель был членом колхоза, и не зависели всецело от трудодней, а получали оклад наличными. Позднее «чужим» председателям не создавали особых условий официально, но им зачастую удавалось добиться их на практике. Председатель со стороны, по словам одного из таких председателей, по сути являлся «в колхозе наемным работником», немедленно по вступлении .в должность «устанавливавшим для себя месячный оклад и хлебный паек» и склонным обходить формальное требование о вступлении в колхоз. («На предложение колхозников о вступлении в колхоз Иванов равнодушно отвечает: — Я у вас временно, вступать незачем»5^.)
Большинство чужих председателей все же вступали в колхоз, хоть это и было чистой формальностью, однако большинство же при этом получало оклад или, по крайней мере, некоторую сумму наличными ежемесячно в придачу к натуральным и денежным выплатам на трудодни. В разных регионах страны в середине 30-х гг. складывалось по-разному, но общим везде было то, что правила устанавливал местный обком или крайком и колхоз вьщавал наличные. Местным председателям, по-видимому, платили по трудодням, как остальным колхозникам60.
На встрече председателей колхозов в 1935 г. М.Чернов, преемник Яковлева на посту наркома земледелия, решительно высказался в поддержку принципа оплаты по трудодням, приводя тот довод, что председатель должен чувствовать, что его материальное благополучие неотделимо от материального благополучия колхоза. Он отверг идею гарантированного минимума для председателей, какого уже добились трактористы, однако ему пришлось смириться с реальностью и согласиться на выплату председателям дополнительно 50—150 руб. в месяц наряду с обычными выплатами на трудодни61.
214
В течение нескольких лет после этого число чужих председателей уменьшалось, а число местных, которым удавалось добиться для себя оклада, — росло. Местным председателям колхозов — не говоря о других представителях администрации, таких как бухгалтеры и бригадиры, — куда больше хотелось бы получать оклад (хотя бы и выплачиваемый из средств колхоза), чем оплату по трудодням, потому что постоянный оклад защищал бы их в неурожайные годы. Кроме того, это был вопрос статуса: оплата по трудодням означала принадлежность к «сословию» колхозников, оклад же переводил их в более высокое «сословие» административных кадров.
Вопрос об установлении оклада колхозной администрации в 1936—1937 гг. несколько раз поднимался в печати. Сторонники этого предложения утверждали, во-первых, что к председателям колхозов следует относиться так же, как к другим руководителям (имеющим ежемесячный оклад, выходные дни, ежегодный оплачиваемый отпуск и т.д.), а во-вторых, что выплата им оклада или чего-то подобного и так уже стала общей практикой, невзирая на закон62.
Осенью 1937 г. администрация нескольких областей по собственному почину приняла резолюции, санкционирующие постоянную выплату колхозным председателям наличных в размере до 250 руб. в месяц наряду с оплатой трудодней. Это вызвало гневную реакцию Москвы. В начале 1938 г. вмешались ЦК партии «и лично товарищ Сталин», указав руководству одной из заблудших областей, что оно проводит «политически неверную линию», и заставив его отменить прежнее решениебЗ.
Следующие несколько лет царила путаница. В Калининской области, одной из тех, которые получили нагоняй от Сталина за то, что установили плату председателям наличными, работники земельного отдела одобряли лишь непосредственную оплату трудодней и ничего больше. В Свердловской области среди руководства появилось мнение, будто недавно правительство санкционировало денежную плату колхозным председателям в некоем секретном постановлении. За подтверждением обратились в «Крестьянскую газету», но та смогла ответить лишь, что, «насколько нам известно», такого постановления не существует64.
Вопрос был разрешен только в 1940 — 1941 гг., и то окольным путем, с помощью ряда постановлений по различным регионам страны, санкционировавшим ежемесячную выплату денежных сумм председателям колхозов. Эти суммы, в размере от 25 до 400 руб. в месяц в зависимости от денежного дохода колхоза, должны были стать доплатой к натуральному заработку председателя по трудодням. Такое решение, хотя и оставлявшее простор для двусмысленных толкований (а что, если доход колхоза будет от года к году подвержен сильным колебаниям?), по-видимому, послужило в дальнейшем основой для послевоенной системы, при которой председатели стали получать оклад наряду с оплатой трудодней65.
215
Вне зависимости от того, получал ли председатель колхоза регулярную доплату, он, разумеется, пользовался привилегией доступа к денежным доходам колхоза. Как отмечалось ранее, простые колхозники многих регионов страны в 30-е гг. получали очень мало денег за свою работу; почти все платежи им выдавались натурой. Тем не менее, у колхоза были деньги от продажи сельскохозяйственной продукции государству и на рынке. Большая часть их шла в неделимый фонд колхоза, предназначенный для строительства, закупки сельскохозяйственного инвентаря и на прочие общественные нужды. Согласно Уставу сельскохозяйственной артели до 2% из него можно было пустить на «административно-хозяйственные расходы» (в основном на оплату услуг агрономов и землемеров, для найма кустарей или дополнительной рабочей силы на уборку урожая и т.д.). Ловкие председатели частенько находили способы воспользоваться для личных нужд как неделимым фондом, так и 2 процентами, ассигнуемыми на административные расходы.
Именно эти «2 процента» (а на практике зачастую и больше) повсеместно шли на денежную доплату председателю, а иногда и другим работникам правления колхоза. Из неделимого фонда чаще всего, по-видимому, председатели заимствовали деньги на постройку себе новых домов. М.Алексеев описал подобную практику, существовавшую в его родной саратовской деревне, где столько председателей выстроили себе дома, что целый конец деревни получил название Председателевка. Рассказчик-крестьянин у Алексеева говорит:
«Их, председателей то есть, меняют через каждые два-три года, бывает, что и через год меняют. Этого времени, понятно, маловато, чтоб колхозные дела поправить, но зато вполне хватает, чтоб своим собственным хозяйством обзавестись — домишко по-красивше наших спроворить, гусей-утей расплодить, сад заложить, корову-симменталку, овечек, пару кабанчиков... Сымут с должности, а ему, председателю то есть, и горюшка мало... Во-о-на сколько их накопилось с тридцатых годов — не счесть! А работники из этих бывших, прости, дорогой товарищ, как из хреновины тяж. Пойти, скажем, рядовым на поле либо на трактор сесть — прежнее председательское звание не дозволяет»66.
Освобождение от полевых работ являлось еще одной важной привилегией должности председателя. Согласно правилам председатель, находящийся в должности, мог быть освобожден от работы в поле, если только колхоз не слишком мал67, однако данная привилегия официально вовсе не распространялась на бывших председателей. Тем не менее, в российской деревне существовала давняя традиция освобождать от полевых работ большаков общины, и многие бывшие председатели явно ее возродили. Кроме того, привилегию освобождения от выхода в поле часто распространяли на семью председателя, а также на других представителей колхозной администрации — бухгалтеров, бригадиров — и
216
членов их семей. Как жаловался крестьянин из Восточной Сибири, наличие этой «массы неработающего народа: председателей, бухгалтеров, бригадиров и т.д.» представляет собой одну из худших черт колхоза по сравнению с селом до коллективизации. Претензии со стороны колхозников, работающих в поле, в особенности вызывало распространение названной привилегии на жен и дочерей председателей колхоза и сельсовета, а также других представителей администрации68.
Председатели, ведущие себя как «колхозные царьки», именовали себя «хозяевами» и смотрели на колхоз как на свою вотчину. Они распоряжались колхозным имуществом, как им заблагорассудится, и нередко становились мишенью жалоб и обвинений со стороны остальных крестьян. Чаще всего звучали обвинения в продаже на рынке колхозных продукции и имущества и присвоении выручки; расширении собственного приусадебного участка; захвате в единоличное пользование колхозных лошадей и грузовиков; покровительстве родственникам, которые освобождались от полевых работ, посылались на курсы в район и пр.69.
Большое негодование вызвали председатели, подчеркивавшие свое превосходство над рядовыми колхозниками. Крестьяне одного краснодарского колхоза были глубоко возмущены своим председателем, который, «разъезжая на автомашине, обгоняя идущих колхозников, не приказывал шоферу остановиться и запрещал брать на машину...»70. Когда председатель и другие члены правления колхоза «Политотдел» Западной области вместе с женами устроили отдельное от других колхозников и гораздо более пышное празднование годовщины Октябрьской революции, между обеими группами произошла жестокая пьяная драка71. Крестьяне одного сталинградского колхоза считали поведение председателя — чужака, «присланного райкомом партии», — недопустимым не только потому, что он ворует, но и потому, что «совершенно не разговаривает» с колхозниками и «явно пренебрегает ими»72.
Тамбовский колхозник так писал в «Крестьянскую газету», жалуясь на поведение председателя:
«Имеется ряд безобразий, на что колхозники волнуются и говорят, что мы не хозяева, а батраки. Наше, говорят, дело — только работай, а распоряжается колхозным добром один председатель колхоза тов. Авидов».
Из-за Авидова колхозники потеряли всякий интерес к труду, заявлял автор письма. Любимая присказка Авидова: «Я — хозяин». Но, по мнению автора, это неверно: «А устав сельскохозяйственной артели говорит — колхозники хозяева»73.
* Колхозная демократия*
Крестьяне далеко не всегда домогались должности предколхо-за. Они, возможно, считали ее, как и должность главы прежней
217
общины, скорее бременем, чем привилегией'''*. Кроме того, в первые годы многие надеялись, что колхозы окажутся явлением недолговечным. Однако с течением лет крепкие хозяева на селе все больше связывали свою жизнь с колхозом и становились заинтересованы в том, чтобы управлять им. Нагляднее проявлялись возможности для достижения индивидуального или семейного материального благополучия, предоставляемые руководящим постом (в большей степени, чем в прежней общине). Крестьяне начали зариться на должность соседа в колхозе, доказательством чему явилось множество своекорыстных доносов на работников администрации.
Все же, без сомнения, в положении колхозного председателя были свои недостатки. Он подвергался гораздо большему риску, чем рядовые колхозники, попасть под суд за «саботаж хлебозаготовок» и получить значительный тюремный срок. Даже в конце 30-х гг., когда риск стал меньше, а материальная выгода — больше, порой встречаются признаки негативного отношения к этой должности: иногда это своего рода упрямое нежелание сотрудничать («вам, коммунистам, этот колхоз был нужен, вы им и руководите»); иногда сознание огромной тяжести работы председателя и задачи выполнения непомерных требований государства. Пришлите нам «твердого и стойкого партийца», умоляли летом 1937 г. в своем ходатайстве в Западный облзо колхозники из Вельского района, задавленные экономическими проблемами своего колхоза75.
Одна из главных функций предколхоза заключалась в посредничестве между селом и районными властями. Чтобы успешно играть эту роль, председатель должен был быть принят обеими сторонами: если его «выбирало» село, требовалось утверждение кандидатуры районом; если «назначал» район — утверждение селом. Подобное положение не слишком отличалось от порядков в имении князя Гагарина Мануйлово в прошлом веке: там управляющий (бурмистр) «выбирался местными крестьянами и из местных крестьян и утверждался Гагариным»76.
Первым вариантом Устава сельскохозяйственной артели (1930 г.) предусматривались выборы правления колхоза (не председателя, поскольку эта должность в первом Уставе не упоминалась) общим собранием его членов. Правительственное постановление от 25 июня 1932 г. «О революционной законности» содержало напоминание о важности соблюдения «принципа выборности» колхозных правлений77.
В пересмотренном Уставе сельскохозяйственной артели 1935 г. впервые говорится о председателе колхоза и устанавливается правило, согласно которому председатель, так же как и члены правления, должен избираться общим собранием колхозников. Означало ли это прекращение практики фактического назначения колхозных председателей? Я.А.Яковлев, обращаясь ко Второму съезду колхозников-ударников (значительную часть делегатов которо-
218
го составляли председатели, несомненно, получившие свою должность в результате фактического назначения, а не подлинных выборов), так далеко заходить не стал. Колхозы достигли такого этапа, сказал он, когда им необходимы «постоянные руководящие кадры», председатели, которые должны «знать по-настоящему свои поля», а не заезжие пожарники. Кроме того, важно, чтобы у председателя вошло в обыкновение проводить настоящие колхозные собрания, где присутствовали бы не горсточка активистов, а большинство колхозников. Яковлев явно рекомендовал ввести в практику колхозного руководства большую дозу демократии. Однако он не предлагал отнять у районных властей полномочия по выбору председателей или поощрять колхозников оспаривать выбор района7^.
Вопрос о «колхозной демократии» (хотя тогда это еще так не называлось), подразумевавшей более активное участие колхозников в процедуре выбора и смещения председателей, был поднят в 1935 г. и в течение нескольких последующих лет приобретал все большую остроту. Постановка его безусловно отражала наличие конфликтов по этому поводу на местном уровне, но примечательный факт, что некоторые советские газеты с самого начала ухватились за данную тему и неутомимо развивали ее, заставляет подозревать также существование неких закулисных политических интриг79. С наступлением эпохи Большого Террора в 1937 г. дело «колхозной демократии» — всегда предоставлявшее повод для критики нарушающих ее руководителей, особенно районных, — много выиграло вследствие общей установки режима в то время на заигрывание с народом под лозунгом «Долой начальников».
В газетах за 1936 г., так же как и в материалах Смоленского архива того же периода, можно найти частые и повсеместные сообщения о конфликтах по поводу выбора и смещения председателей колхозов. В газетных репортажах все больше просматривается тенденция отдавать предпочтение колхозникам (которым «не дают осуществлять их демократические права») перед районным руководством («нарушающим Устав сельскохозяйственной артели» тем, что назначает и снимает председателей колхозов, не советуясь с колхозниками). В одном сообщении говорится, что «председателем колхоза колхозники выбрали своего колхозника», но район не утвердил их кандидата. Районное руководство настояло на кандидатуре чужака, «который не был избран общим собранием колхозников, а поставлен на эту работу в административном порядке», что спровоцировало колхозников на отказ выходить в поле. Газета обвиняет в этом не крестьян, а негибкость района. В другом случае районные руководители, заставившие один колхоз принять, одного за другим, двух неугодных председателей, не создавая даже видимости совещания с колхозниками, заслужили суровый выговор от правительственной комиссии80.
Судя по материалам Смоленского архива, партийные инструкторы, расследовавшие подобные конфликты в Западной области,
219
определяя, кто виноват, район или колхозники, проявляли известную объективность. Они критиковали районные власти, если те игнорировали жалобы крестьян на непопулярного председателя, не обсуждали с колхозниками заранее кандидатуры в правление либо навязывали кандидата, оказывавшегося некомпетентным или нечистым на руку, тем самым как бы признавая за колхозниками некое право вето в отношении назначений из района. С другой стороны, партийные следователи поддерживали район, если колхозники (или какая-то их группа) выдвигали кандидата, представлявшегося нежелательным, например, как случалось не однажды, только что вышедшего из тюрьмы81.
Термин «колхозная демократия», неизбежно привносящий в оценку любого конфликта некий антирайонный и проколхозный оттенок, появился в 1937 г. Это было, по-видимому, скорее результатом недавнего публичного обсуждения новой Конституции, чем каких-либо особых политических установок в отношении председателей колхозов. Один крестьянин, написавший в «Известия», жалуясь на председателя своего колхоза, некоего Федосова, принять которого колхозников заставила местная МТС, ссылался на Конституцию и ее статью о тайном голосовании:
«[Его] прислали с таким расчетом, что надо обязательно провести, т.е. избрать его председателем, мотивируя, что политотдел лучше знает, значит, надо обязательно избрать. Ну, конечно, избрали. А что получается от таких выборов? А если бы избирали т. Федосова тайным голосованием, то наверняка колхозники не избрали бы т. Федосова потому, что никто не знал, что он за человек, хозяин, как он может руководить таким большим хозяйством...»82
В апреле 1937 г. одна местная газета опубликовала подборку писем колхозников на тему нарушения колхозной демократии районными руководителями. В некоторых из описанных случаев причиной конфликта становилась нежелательная инициатива района:
«Когда на ежегодном собрании колхоза "Привет Октябрю" колхозники стали обсуждать кандидатов в председатели, заведующий райзо Бойко, присутствовавший на собрании, предложил некоего Никитенко. Колхозники пытались возражать; говорили, что не знают Никитенко, что он даже не член колхоза. Тогда Бойко повысил голос: "Я — заведующий райзо, колхозы подчиняются мне, и вы должны меня слушать. А что Никитенко не член вашего колхоза, так это мелочи — мы его сделаем колхозником в две секунды"».
В других случаях инициативу проявляли колхозники — например, голосуя за смещение прежнего председателя «за разбазаривание колхозных средств и грубое обращение с колхозниками» и выбирая нового, — но район отказывался утвердить их решение83.
220
На показательных процессах, проходивших осенью 1937 г., крестьяне-свидетели рассказывали множество историй о том, как местные руководители пренебрегали желаниями колхозников при выборе и снятии председателей, и газетные отчеты о процессах передают их негодующие речи:
«Спросите любого колхозника колхоза "Красный битюг", почему вы выбрали Заздравных председателем, и вам ответят: "Да мы его не выбирали, его нам Кордин назначил. Мы протестовали, не хотели брать, а его насильно навязали"»84.
«Крестьянская газета» в 1938 г. с большим сочувствием откликалась на жалобы такого рода в своей (неопубликованной) переписке с крестьянами и часто, основываясь на сообщавшейся в жалобах информации, направляла районным руководителям письма с резкими упреками. Например, в письме секретарю Краснодарского крайкома партии сотрудник «Крестьянской газеты» писал:
«Мы считаем, что заведующий райзо нарушил принцип колхозной демократии и дал возможность негодным руководителям разваливать колхоз, вопреки сигналам колхозников»85.
Крестьянские корреспонденты газеты тоже стали агрессивнее заявлять свои претензии. Когда район попытался заставить колхоз «Молотов» в Ворошиловградском крае принять своего кандидата на пост председателя, колхозники стали выражать (как они написали в «Крестьянскую газету») справедливое возмущение. «Кто выбирает правление — вы или мы? — кричали они представителям района. — Кто в-колхозе хозяин?»86
Конечно, все это происходило в период Большого Террора, когда к «сигналам снизу» о злоупотреблениях на районном и областном уровнях относились со всей серьезностью. Тогда, несомненно, влияние крестьян на назначение и смещение председателей колхозов достигло своего пика, однако «колхозная демократия» оказалась всего лишь временным лозунгом, а не коренным пересмотром отношений между районом и колхозом87. Но все же, пока этот лозунг действовал, по крайней мере, некоторые колхозники смогли извлечь из него всю возможную пользу. Семь председателей недавно были сняты «самими колхозниками», раздраженно жаловался районный прокурор на закрытом партийном собрании в марте 1937 г.; формально может показаться, что это происходило надлежащим образом, по инициативе района, добавил он, однако на самом деле все, что оставалось делать представителю района, — это «написать протокол» так, как сказали ему колхозники88.
ПОСЛЕДСТВИЯ БОЛЬШОГО ТЕРРОРА
В деревне, так же как и в Москве, Большой Террор нашел свое наглядное воплощение в инсценировке показательных про-
221
цессов. Но процессы, прошедшие в 1937 г. в сельских райцентрах, по своей подоплеке отличались от московских. И те, и другие проводились над контрреволюционными «врагами народа», бывшими партийными руководителями, однако на сельских показательных процессах «враги народа» — значило «враги крестьянства». На скамье подсудимых там сидели бывшие районные начальники вместе с группой лиц, занимавших более низкие должности, таких как председатели сельсоветов и колхозов, которых обвиняли в плохом обращении с крестьянами, нарушении прав колхозников, определенных Уставом сельскохозяйственной артели, и делали ответственными за катастрофические провалы колхозного земледелия89.
Эти «враги» не являлись плодом фантазии. Они представляли собой повседневных врагов крестьян в реальной жизни (по крайней мере, их сценический образ) — тех самых районных «царьков», вымогателей — председателей сельсоветов и садистов — председателей колхозов, описанных выше в настоящей главе и столь часто фигурировавших в крестьянских жалобах в высшие инстанции.
Конечно, показательные процессы не были точным отражением реальности Большого Террора в деревне. В жизни начальники действительно становились жертвами репрессий, но не обязательно плохие и не только начальники. Простые колхозники тоже рисковали стать ими, хотя и в гораздо меньшей степени, чем руководящие кадры и коммунисты. Под угрозой (как всегда) находились бывшие кулаки и их родственники, по-видимому, проводился принцип облавы на всех обычных подозрительных лиц. Деревенские жертвы террора всех категорий — социальные отщепенцы с криминальным прошлым, незаконно вернувшиеся ссыльные, подпольные религиозные деятели — во время Большого Террора были выметены подчистую и во многих случаях казнены без большой огласки.
Несмотря на все это, Большой Террор 1937 — 1938 гг. в деревне явился меньшим событием, чем в городе. «Кого там было арестовывать? Бедных женщин, занимавшихся ткачеством? Все было спокойно», — так А.Н.Яковлев, идеолог перестройки, вспоминает о времени Большого Террора в маленькой волжской деревушке, где он вырос. Однако, как он замечает чуть ниже, его отец (по-видимому, занимавший в деревне какую-то руководящую должность) «избежал в 1937 г. ареста только потому, что армейский приятель предупредил, что за ним должны прийти». Не то чтобы в 1937 — 1938 гг. в деревне не было террора, скорее — не было особого террора. Деревня с начала коллективизации пережила много вспышек репрессий, порой гораздо более опасных для простых крестьян. Может быть, отцу Яковлева арест грозил уже не первый раз. Во всяком случае он знал, что делать: «спрятался и переждал, пока не схлынула волна арестов», и через несколько дней опасность миновала^О.
222
Руководство под ударом
Волны репрессий распространялись по бюрократической лестнице, пугая и деморализуя кадры на всех уровнях. Обкомы, подвергшиеся чистке, в свою очередь проводили чистку в подчиненных им райкомах, райкомы действовали так же по отношению к подчиненным им кадрам на селе (председателям сельсоветов и колхозов). Так описываются процессы Большого Террора в меморандуме ЦК для внутреннего пользования, написанном во второй половине 1938 г., когда импульс террора уже затухал. Сельские кадры в панике, сообщалось в меморандуме. Число членов сельских партийных организаций (включая райцентры) с 1 января 1937 г. по 1 июля 1938 г. сократилось на 62000 чел. (12%). В Новосибирской области, где на 5000 колхозов не осталось ни одного коммуниста, председатели колхозов «считаются обреченными попасть на скамью подсудимых, а затем в тюрьму». Председатель одного колхоза «предложил своей жене готовить сухари для того, чтобы взять их с собой в тюрьму»92.
Такому же риску, хотя и в несколько меньшей степени, подвергались и те председатели колхозов, которые не были членами партии. Увеличившаяся в 1937 — 1938 гг. текучесть кадров среди председателей и других работников правления показывает, что репрессии и здесь оказали значительное влияние. В конце 1937 г. 40 — 50% председателей колхозов, бригадиров и заведующих колхозными фермами, а также 35% бухгалтеров и счетоводов работали на своем месте меньше года. В 1938 г. 54% председателей занимали эту должность меньше года, тогда как в 1934 г. таких было 30%92. Конечно, эти показатели текучести кадров нельзя механически приписывать арестам и приговорам к тюремному заключению. Арест вовсе не обязательно сопутствовал снятию с должности и далеко не всегда являлся прелюдией к длительному заключению. Скорее всего, лишь небольшая часть сельских должностных лиц, потерявших работу в 1937 — 1938 гг., попала в Гулаг.
Порой председатели сельсоветов и колхозов становились жертвами Большого Террора из-за ареста своих патронов в районном руководстве. Так, в одном районе Курской области заведующий райзо был арестован как враг народа. Этот чиновник недавно снял с работы председателя колхоза «Красная Заря» по жалобе нескольких колхозников, которые считались его протеже. Его арест дискредитировал колхозников, жаловавшихся на поведение председателя, и двое из них также были арестованы (один по обвинению в контрреволюционной агитации, другой — как «социально-вредный элемент» )93.
Процесс втягивания низших руководящих кадров в жернова Большого Террора с падением их начальников иллюстрируют показательные процессы, состоявшиеся осенью 1937 г. во многих районах. На этих процессах фигурировала группа районных руко-
223
водителей — почти неизменно включавшая секретаря райкома и председателя райисполкома вместе с еще несколькими высшими должностными лицами, например заведующими отделами райисполкома, — обвиняемых в плохом обращении с колхозниками и вредительстве в сельском хозяйстве. К ним присоединялось некоторое число руководителей низшего звена, председателей сельсоветов и колхозов, объявляемых в обвинительном заключении орудиями врагов народа из районного руководства. Эти низшие административные кадры, как правило, отделывались более легкими приговорами, а иногда осуждались за обычные, не «контрреволюционные» преступления94.
Низшие руководящие кадры (колхозные председатели, бухгалтеры, председатели сельсоветов) могли стать жертвами террора и в том случае, если были связаны с какими-либо экономическими провалами, например, полным развалом колхоза или вопиющим отставанием от плана хлебозаготовок. Репортаж из Сибири, опубликованный осенью 1938 г., описывает следующий инцидент:
«В конце июля заведующий Солтонским райземотделом Кош-каров держал напутственную речь перед выезжающей в колхозы группой счетных работников. — На вашу долю падает задача не только глубоко обследовать колхоз... но и всемерно выявлять врагов народа. По тому, кто и сколько из вас выявит врагов народа в колхозах, будем судить о качестве проделанной вами работы. Кто-то задал оратору вопрос: — Как же нам искать врагов? Кош-каров не замедлил с ответом: — Вы, счетные работники, ищите с карандашом в руках путем подсчетов. Если, скажем, в колхозе недосев или недобор зерна против плана, недобор от падежа скота, переведите все на рыночную стоимость и, если цифра большая, ищите врага!»95
Представители сельской администрации могли подвергнуться репрессиям в результате доноса снизу. Из сел потоком хлынули жалобы на руководителей и должностных лиц, особенно председателей колхозов и сельсоветов. «Крестьянская газета» в 1938 г. получала столько доносов на местное руководство, что собирала такие письма под особой рубрикой «Злоупотребление властью и вредительство». Трудно сказать наверняка, предшествовала ли эта лавина жалоб сигналу из центра, узаконивающему и поощряющему жалобы на начальство, или последовала за ним. Еще в апреле 1937 г. заведующий отделом писем «Крестьянской газеты» информировал Западный обком партии о потоке полученных от колхозников жалоб на злоупотребления и правонарушения должностных лиц в области96.
По заведенному порядку подобные жалобы и доносы расследовались; в 1937 — 1938 гг., как видно из архивных документов, расследования зачастую приводили к снятию с должности, а порой к аресту и уголовному преследованию9?. Такие доносы — или обвинения, на них построенные, — легли в основу районных показательных процессов, шедших осенью 1937 г.
224
Отзвуки в колхозе
В ситуации, когда сельские должностные лица находились под угрозой и сознавали необходимость демонстрировать повышенную бдительность, проникновение атмосферы Большого Террора в колхоз было неизбежно. Критика рядовыми колхозниками руководства в то время воспринималась особенно остро; критикуемые в ответ разражались гневными инвективами, используя, к изумлению своих жертв, лексику Большого Террора. Один краснодарский колхозник в 1938 г. жаловался в «Крестьянскую газету»:
«[Председатель] начал глушить критику, обвинил всех выступавших, а мне сказал, что ты поддерживаешь контрреволюционную группировку... Прошу, помогите мне, почему меня называют, что я контрреволюционную группировку поддерживаю, какой я контрреволюционер?. >98
Другой колхозник тоже писал, что председатель ответил на его критику в стенгазете ожесточенными нападками, тоже в стенгазете, ругая его «нехорошими клеветническими словами»: «палач, фашист, троцкист, отщепенец»99.
В одном письме 1938 г. в «Крестьянскую газету» рассказывалось о колхозном председателе, который всегда был пьяницей, самодуром, злоупотреблял своей властью, а в обстановке усиленной подозрительности по отношению к «вредителям», «саботажникам» и «террористам» окончательно перешел все границы:
«Не пройдет ни единого дня, кого бы из колхозников не материл председатель Патрикеев, и каждого называет "вредитель", из колхоза выгоню и посажу в тюрьму... Однажды Патрикеев приезжает в поле и набрасывается с руганью на члена правления, он же бригадир колхоза: "Ты, еврейская порода, вредитель, я тебя сейчас исключу из колхоза, посажу в тюрьму"... [После этого он] набрасывается на колхозников, которые возили с поля зерно на склад колхоза, Андриевского Николая, члена правления колхоза, Шашкина Дмитрия и др. Называл вредителями, от них пошел в квартиру председателя ревизионной комиссии колхоза Лежепеко-ва Якова, требуя от Лежепекова вина, и начинает дебоширничать: "Все равно я вас посажу, вредители"...»100
Попадались сообщения и о том, что руководители, демонстрируя свою бдительность, арестовывали невиновных колхозников по надуманным обвинениям в «контрреволюционных преступлениях»101. Но, по-видимому, рядовым колхозникам, которых коснулся Большой Террор, как правило, грозило скорее исключение из колхоза, чем арест. Согласно одному сообщению, только в Алтайском крае за первую половину 1938 г. были исключены из колхоза почти 2000 хозяйств. Конечно, исключения постоянно практиковались в колхозах, однако в данном случае мы, очевидно, имеем дело с настоящими «чистками» колхозов по образцу 1933 г., когда многие коллективные хозяйства очищались от «кулацких элементов» под руководством новых политотделов МТС.
8 — 1682
В 1937 — 1938 гг. в качестве основания для исключения приводились как «связь с врагами [народа]», так и «связь с кулаками». В одном колхозе 14 семей были исключены (в присутствии представителя района) как «чуждые и кулацкие элементы». В другом исключили одновременно 4 семьи на том основании, что они «опасные люди», две семьи были особо отнесены к «врагам народа» Ю2.
В апреле 1938 г. ЦК осудил «неосновательные исключения» из колхозов, указав, что некоторые местные руководители поощряют колхозы исключать «социально чуждых», и запретил «под каким бы то ни было предлогом» проводить чистки в колхозах103.
Каждый, у кого был свой скелет в шкафу, будь то должностное лицо или простой колхозник, находился в группе риска в такие периоды высокой политической напряженности, как время Большого Террора. Например, крестьянин, имевший раньше неприятности из-за голословных утверждений, будто у него тетка из дворянской семьи, а ее сын — бывший эсер, обнаружил, что ему снова придется держать ответ за это в 1937 г. Коммунист — председатель колхоза, в свое время не предоставивший лошадь по распоряжению местного военкома, тоже обвинялся в сокрытии своего социального происхождения, общении с классовыми врагами и был исключен из партии. В ряде случаев сообщалось о крестьянских семьях, уже потерявших одного или нескольких членов, высланных в начале 30-х гг., и теперь терявших еще кого-то. Например, в Смоленской области в 1938 г. один человек, находясь под следствием, показал: «Два брата... в 1930 г. были раскулачены и высланы. Третий брат арестован в 1937 г. органами НКВД по ст. 58 п. 10 УК» Ю4.
Облава на маргиналов
Экстраординарный и малоизвестный аспект Большого Террора в деревне и в городе представляла собой операция по захвату и ликвидации десятков тысяч отщепенцев общества, проводившаяся во второй половине 1937 г. Сталин подписал секретный приказ об этой операции 2 июля 1937 г., распорядившись, чтобы все местные партийные организации устроили облаву на «бывших кулаков и уголовников, высланных одно время из разных областей в северные и сибирские районы, а потом по истечении срока высылки вернувшихся в свои области». Эти люди, говорилось в приказе, «являются главными зачинщиками всякого рода антисоветских и диверсионных преступлений, как в колхозах и совхозах, так и на транспорте и в некоторых отраслях промышленности». Самых опасных следовало арестовывать и немедленно расстреливать. Остальных — арестовывать и высылать или отправлять в Гулаг1°5.
Нам мало что известно об обстановке, в которой появился этот приказ, лишь недавно обнаруженный в секретных архивах бывше-
226
го Советского Союза. Он отражает обычный для Советов параноидальный страх перед кулаками, однако есть в нем нечто, более присущее германскому нацизму, нежели советскому коммунизму, в частности, идея о том, что социальных улучшений можно добиться, избавив общество от «нечистых», отклоняющихся от нормы, маргинальных его членов.
В распоряжениях Ежова, изданных во исполнение вышеназванного приказа 30 июля, намечены плановые цифры по количеству подлежащих казни и ссылке для всех областей и краев, рассчитанные на основе полученных с мест сведений о наличии соответствующего контингента. В целом по Советскому Союзу предусматривались немедленный расстрел без суда 70000 чел. и ссылка 186500 чел. Первая цифра включала также 10000 заключенных, уже находившихся в Гулаге, которые должны были быть расстреляны. Ежов сделал все возможное, чтобы четко очертить социальные категории, ставшие мишенью проводимой операции, но все же в его пояснениях заметна некоторая нотка замешательства, как будто он был не совсем уверен, чего, собственно, хотел Сталин. Категории Ежов назвал следующие:
«бывшие кулаки, ранее репрессированные, скрывшиеся от репрессий, бежавшие из лагерей, ссылки и трудпоселков»;
«в прошлом репрессированные церковники и сектанты»;
лица, участвовавшие в вооруженных восстаниях против советской власти или бывшие членами антибольшевистских политических партий;
уголовные преступники, отбывшие срок заключения, рецидивисты, принадлежащие к преступному миру («скотоконокрады, воры-рецидивисты, грабители и др.»).
Пока у нас слишком мало сведений о том, как выполнялись эти распоряжения. Их влияние на контингент Гулага, вероятно, выразилось в резком увеличении с января 1937 г. по январь 1939 г. в советских лагерях числа заключенных, охарактеризованных как «социально вредные и социально опасные элементы» (со 106 до 286 тыс. чел.). В отчете о «кулацкой операции» в Оренбургской области говорится, что были арестованы 3290 чел. и на 16 сентября 1937 г. 1650 чел. уже приговорены к расстрелу. По-видимому, речь идет о той самой операции, объявленной Сталиным и Ежовым в июле, поскольку к расстрелу приговаривали особые тройки и число приговоренных приблизительно соответствует плановой цифре для Оренбурга — 1500 чел. Вне засекреченных архивов встречаются лишь разрозненные сведения об этом эпизоде. Например, сюда, вероятно, можно отнести запутанный случай, рассказ о котором содержится в архиве «Крестьянской газеты»: жалоба крестьянина на председателя колхоза подтвердилась, и председатель подвергся уголовному преследованию, однако в отчете следователя указано, что жалобщик, оказавшийся квартирным вором с криминальным прошлым, был «в 1937 г. взят НКВД как социально вредный элемент»106.
227
Если оставить в стороне «кулацкую операцию», мы не можем с достаточной достоверностью количественно оценить последствия Большого Террора для колхозной администрации и рядовых колхозников. Даже если бы имелись полные данные об арестах, осуждениях, увольнениях и исключениях из колхоза на селе, возможность определить, какие из них следует отнести к «обычным», а какие — к «вызванным Большим Террором», оставалась бы весьма спорной. В деревне подобное случалось постоянно, и еще с начала коллективизации граница между уголовными и политическими преступлениями совершенно стерлась.
Для городского населения, во всяком случае части его, Большой Террор стал выдающимся катаклизмом, оставившим неизгладимый след в памяти, но для населения сельского все было иначе. Если говорить об ударах, нанесенных крестьянству, террор 1937 — 1938 гг. бледнеет в сравнении с коллективизацией и раскулачиванием в начале 30-х гг. Если говорить о страданиях крестьян, куда более страшен был для них голод в 1932 — 1933 и даже в 1936—1937 гг., а богатый урожай 1937 г., наверное, некоторым образом компенсировал впечатление от волн репрессий, прокатившихся в деревне в 1937 — 1938 гг. Имеющиеся источники не содержат никаких свидетельств того, что словосочетание «1937 год» когда-либо звучало для крестьян столь же зловеще, как и для городского, образованного населения. В их памяти события того периода отложились как совершенно незначительные по сравнению с коллективизацией, голодом и Второй мировой войной.
8. Культура
РЕЛИГИЯ
Сопровождавшее коллективизацию наступление на религию в деревне нанесло ей тяжкий урон. По крайней мере половина церквей, действовавших в конце 1929 г., по оценкам одного западного наблюдателя, к 1933 г. были закрыты. Число священников и других служителей культа в СССР, судя по переписи, сократилось с 79 тыс. чел. в 1926 г. до 31 тыс. чел. в 1937 г. Разумеется, за этими цифрами скрываются значительные расхождения по регионам, о которых у нас пока мало информации. Согласно одному источнику, в Сталинградской области в начале 1936 г. функционировали только 300 православных церквей, тогда как в 1929 г. — 2000. А вот в Западной области в 1937 г. действовали 852 храма, включая католические костелы и синагоги1.
Как это отражалось на религиозных верованиях крестьян и даже на соблюдении ими обрядов, конечно, другой вопрос. Достоверную информацию на этот счет отыскать трудно. Перепись 1937 г., в отличие от переписей 1926 и 1939 гг., включала вопрос о вероисповедании. Он крайне волновал население, и некоторые верующие решили не афишировать своих убеждений. Тем не менее внушительное число — 57% населения в возрасте от 16 лет и старше (56 млн чел., в том числе 42 млн православных) объявили себя верующими. Как и следовало ожидать, верующие, как правило, принадлежали к людям старшего поколения и были менее грамотны, чем неверующие. Лишь 45% возрастной группы от 20 до 30 лет назвали себя верующими, тогда как в группе от 50 до 60 лет такое заявление сделали 78%2.
Повсеместное закрытие церквей и исчезновение священников крайне затрудняли крестьянам отправление религиозных обрядов. На венчание, крестины, похороны приходилось привозить священника из какого-нибудь дальнего села. Обычно для этого еще требовалось найти лошадь — задача нелегкая в 30-е гг., когда подавляющее большинство лошадей принадлежало колхозам. Неудивительно, что появлялось множество сообщений о резком сокращении проведения религиозных обрядов в деревне в 30-е гг. Проверка колхозников Центрально-Черноземной области в 1934 г. показала, что в возрастной группе 25 — 39 лет 38% женщин и 10% мужчин все еще соблюдали религиозные обряды, однако в группе 16 — 24 лет так поступали лишь 12% женщин и 1% мужчин. В одном селе Тверской области в 30-е гг. только 35% свадеб было
229
отпраздновано с соблюдением ритуала венчания — в сравнении с 88% в 20-е гг.З.
Лишившись священников и действующих церквей, верующие зачастую поневоле вынуждены были изменить свою религиозную практику, если не отказаться от нее совсем. Это произошло даже с православными, несмотря на жесткую приверженность данной церкви к установленным ритуалам на протяжении всей ее истории. Все больше и больше верующих обходятся без священника, потому что у них нет выбора, сообщал один корреспондент Союза безбожников. Православные-миряне становятся «самосвятыми» священниками, проводят службы и отправляют обряды. В селе Павловка Днепропетровской области, где церковь закрыли и священника не было, бывший член церковного совета служил молебны и совершал обряды у себя дома. По воспоминаниям писателя М.Алексеева, за неимением церкви в его родной деревне в Среднем Поволжье, его тетка Агафья и другие пожилые крестьянки собирались по воскресеньям для проведения служб в избе Агафьи. В одном селе Киевской области литургию и молебны служила крестьянка, «облачившись в поповские ризы»4.
Неудивительно, что в подобных обстоятельствах разногласия между православными и старообрядцами кое-где потеряли свое былое значение. По мнению некоторых наблюдателей, секты сильно выиграли за счет православия. Делегаты Второго съезда воинствующих безбожников докладывали о расцвете сектантских организаций, порой возглавлявшихся бывшими православными священниками, чьи церкви недавно закрыли, и рассказывали, что в колхозах «говорят, что попы плохи, а сектанты хороши», — и выдвигают «сектантские лозунги» вместо коммунистических5.
Ф.Путинцев, видный специалист по сектам в Союзе безбожников, в 1937 г. писал, что крестьяне, остававшиеся верующими, поворачивались от православия к сектам, поскольку те не подвергались в начале 30-х гг. таким преследованиям, будучи менее заметными и в меньшей степени институционализированными. По словам Путинцева, сектантам нередко удавалось обращать политику государства себе на пользу. К примеру:
«[Сектанты] охотно агитировали за закрытие церквей и давали подписи под заявлением о закрытии церквей, но вместо одной закрытой церкви старались открыть один или несколько молитвенных сектантских "клубов" на дому. Сейчас эти сектантские "клубы", существующие во многих селах и городах, стараются объединиться и перейти на положение официально зарегистрированных сектантских общин и групп»6.
По свидетельству переписи 1937 г., несомненной популярностью пользовались протестантские и другие секты. Все христианские секты в совокупности имели почти миллион приверженцев — не намного меньше числа их членов в конце 20-х гг., по имевшимся данным. Протестантские секты, насчитывавшие в 1937 г. более
230
450000 членов, особенно выделялись, как и в прошлом, среди прочих конфессий высокой грамотностью и большим количеством приверженцев среди молодежи7.
Впрочем, и менее просвещенные православные секты имели преданных последователей. В сообщении из Западной области в 1936 г. отмечалось наличие там 10 различных религиозных сект, объединяющих более 6000 верующих. Имеющиеся сведения разрозненны и отрывочны, поскольку секты обычно старались скрывать свою деятельность от глаз возможных правительственных осведомителей (и историков). Но в те редкие моменты, когда они выходили на свет, как во время внезапного всплеска религиозной активности в связи с принятием новой Конституции, городских наблюдателей поражало богатое разнообразие сектантских верований в деревне: «"Трясуны", "прыгуны", евангелисты, всевозможные "святые"», — с ноткой растерянности писал ярославский журналист8.
Хотя перепись 1939 г., в отличие от переписи 1937 г., не содержала вопроса о вероисповедании, она, тем не менее, предоставила государственным уполномоченным еще одну возможность «выявить» практикующих верующих. На этот раз ряд сект решили отказаться отвечать на любые вопросы счетчиков, очевидно, в знак общего неприятия государственной власти. Такие отказы были зафиксированы в самых разных регионах и последовали от столь разнородных групп, как, например, федоровцы в Воронеже и баптисты в Поволжье. Согласно одному отчету из архивов бюро переписи, две сестры-староверки в селе Климово Московской области «сообщили о себе только фамилию, а на вопрос о главе семьи ответили, что для них главой семьи является бог»^.
Религиозные праздники
Коммунисты полагали и надеялись, что крестьяне, с повышением их культурного уровня в ходе коллективизации, перестанут праздновать религиозные праздники, но эта надежда рухнула в 30-е гг. Старые праздники по-прежнему отмечались в деревне наряду с несколькими новыми, революционными. В большинстве своем, однако, эти «старые» праздники были по сути скорее языческими, нежели христианскими, хотя советские комментаторы редко проводили между ними разницу. Особенно стойкой приверженностью крестьян, по-видимому, пользовались такие дохристианские праздники, как Параскева Пятница (связанная с языческим культом плодородия) и день Ивана Купалы. Это может служить подтверждением гипотезы этнографов Стивена и Этель Данн (основанной на послевоенных исследованиях Центральной России), что длительное воздействие советского натиска на веру сорвало большую часть православного покрова с дохристианской ре-
231
лигии российского крестьянства, не затронув основных народных ритуалов и верований10.
У некоторых наблюдателей сложилось впечатление, будто на деле колхозники стали праздновать больше религиозных праздников, чем крестьяне в прошлом. «Сейчас "воскрешают" даже и такие "праздники", о существовании которых и в лучшие для церкви времена мало кто помнил, — писал корреспондент ленинградской газеты в 1938 г. — В некоторых наших районах таких "праздников" насчитывают до 180 в год...»11 Поскольку суть праздника заключалась в невыходе на работу, подобное внимание к соблюдению ритуалов скорее представляло собой форму сопротивления, нежели свидетельствовало о набожности.
Больше всего докучали советским властям праздники, имевшие место в летние месяцы, когда, по логике сельскохозяйственного календаря, крестьяне должны были интенсивно трудиться. Вместо этого колхозники устраивали себе выходные, напиваясь на местных ярмарках. Череда религиозных праздников в июле, включавшая день Ивана Купалы (дохристианский) 7 июля и Петров день 12 июля, вызывала наибольшие опасения, поскольку проходила в пору сенокоса. Петров день, по сообщениям из разных областей, праздновали «в большинстве колхозов», невзирая на задержку сенокоса. В одном сельсовете Ленинградской области в 1938 г. «в разгаре сеноуборки колхозники прогуляли из-за религиозных праздников 288 человеко-дней»; в Свердловской области крестьяне одного колхоза «не работали несколько дней, пьянствовали в связи с праздником Петра и Павла, когда надо было каждый день использовать для уборки сена»12.
«Три дня подряд десятки колхозников праздновали "пятницу"13. А в это время подкошенное сено лежало неубранным. Затем два дня подряд шел дождь. А еще через день подошли "Иваны". И снова десятки колхозников Скрыповского, Косоно-говского, Славковского, Солинского и других сельсоветов гуляли на ярмарках... Многие колхозы за это время немало погноили сена.
Колхозам предстоит убрать богатый урожай. А впереди — длинная цепь праздников и сопровождающих их ярмарок. В Славковском районе устраивается 85 ярмарок, и почти все ярмарки приходятся на летнее время»14.
Впрочем, не все коммунисты и советские работники готовы были воевать с крестьянами из-за ярмарок. «Что ярмарки! — заявил будто бы один районный руководитель. — Да это же здесь обычное явление!» По праздничным и базарным дням прекращали работу не только крестьяне, сельские «советские» учреждения — колхозное правление и клуб — закрывались тоже, судя по одному сообщению. Сельские коммунисты наверняка сами отправлялись на ярмарку:
«Муж и жена Лебедевы — члены партии. Оба клянутся, что в бога не верят. Но на "троицын день" и "Параскеву пятницу", а
232
также на "Иванов день", они одеваются в лучшие платья и идут на ярмарку, ничем не отличаясь от отсталых колхозников»^.
Из областей, где колхозы должны были зимой давать людей на лесозаготовки, поступали жалобы на празднование зимних праздников, в частности Крещения. Например, в одном колхозе Северного края в 1936 г. председатель и бухгалтер «организовали пьянку в честь "крещения"», вместо того чтобы обеспечить выполнение колхозниками заданий по лесозаготовкам. Более того, председатель колхоза, «узнав, что в колхозе готовятся к "празднику", 14 января с лесозаготовок дезертировал...» В одном колхозе Ленинградской области в праздновании Крещения был усмотрен особенно дерзкий антиправительственный оттенок, поскольку главное развлечение там состояло в катании на санях с использованием колхозных лошадей. Один бригадир «взял племенную кобылу и в пьяном виде ухарски катался по деревне... сажал в сани своих родственников-раскулаченных»16.
Сильнейшее пьянство, составлявшее неотъемлемую часть сельского праздника, служило поводом и оправданием для разного рода антиобщественных и антисоветских выходок. Например, колхоз «Третий Интернационал» в Омской области, по сообщениям, потратил в 1939 г. 30000 руб. на выпивку в ходе трехдневной пирушки, отмечая религиозный праздник. Драки и пожары были обычным явлением во время подобных праздников, в придачу к этому пьяные часто распевали издевательские частушки про коммунистов, нередко случались нападения на непопулярных представителей «советской» группировки в деревне, стахановцев и селькоров, и даже убийства их. В одном районе Московской области за год в дни религиозных праздников были убиты 7 трактористов, премированных доярок и прочих активистов, а в другом районе в такие дни произошло 22 пожара в течение года17.
Календарь религиозных праздников мог предоставить еще один способ уколоть существующую власть, оправдывая сопротивление вызывавшим столь глубокое возмущение распоряжениям района относительно времени сева, сенокоса, уборки урожая и т.д. Колхозники призывали на помощь целый набор народных примет на этот счет: так, скот следовало выгонять на пастбище не раньше Егорьева дня, 6 мая, косить сено только начиная с Петрова дня, 12 июля, сеять озимые после Аленина дня, 3 июля, и т.д. В 1938 г. крестьяне в некоторых местностях все еще настаивали на том, чтобы начинать пахать в день Еремея-Запрягалыцика, сеять лен на «Алену — сей лен», а гречиху на Акулину-Гречиш-ницу18. Трудно определить, действительно ли это соответствовало старинным традициям или представляло собой плод недавнего изобретения. Однако в любом случае можно предположить, что древние обычаи приобретали особую силу в глазах крестьян, когда последние получали непрошеные указания из районного земельного отдела.
233
Портреты деревенских верующих
Редкую возможность увидеть отношение отдельных крестьян к религии предоставляет нам агитатор Союза безбожников Г. Сор-нов, ездивший от газеты «Безбожник» с лекциями по селам Тульской, Рязанской и Московской областей и проводивший диспуты на религиозную тему*9. Сорнов, уроженец тульского села, работал в Москве; атеистическую пропаганду вел, очевидно, на общественных началах. Как пропагандист он разительно отличался своей открытостью и доступностью: во время посещений деревни любил проводить часы досуга в обществе «местных охотников, рыбаков, сказочников» наряду с колхозными активистами и бывал счастлив, если верующие и даже церковные деятели приходили на проводимые им собрания.
Вот он описывает одну из фанатично приверженных церкви крестьянок — Е.И.Моросанову из колхоза «Максим Горький»:
«Активная поборница поповских интересов, бегает по селам за подписями верующих по поводу разных поповских ходатайств. Убедившись в полнейшей безопасности участия в читках, она и здесь выступает как ярая церковница. Читаются, например, статьи, разоблачающие роль попов в империалистическую войну; Моросанова становится на дыбы в защиту попов; попы-де молились не за победу своих правительств, а за смирение сердец правителей, дабы они прекратили кровопролитие...»
В противоположность Моросановой Григорий Колосков, глава приходского совета в Рязанской области, «посещал только "избранные" лекции, где собирались 5 — 7 человек и твердые верующие были в большинстве». Выступал он лишь по некоторым темам, обычно отвечая на сорновские «разоблачения» чудес и отдельных верований. Так, например, он сказал:
«Не прав "Безбожник", утверждающий, что нет святости в крещенской воде, что нет чертей; вот Ф.Колоскова видела в святой воде богородицу, а безбожник М.Титов встретился с дьяволом, теперь верует, спокаялся...»
Односельчанин Сорнова А.Федин был глубоко верующим человеком в течение 50 из 53 лет своей жизни — местный священник всегда приводил его в пример как образец благочестия, и, по словам Федина, «его тошнило от слов "неверие в бога"». Теперь, однако, он поколебался в своей вере, у него появилось много сомнений и вопросов, которые ему хотелось бы обсудить. Например: «Бога нет — откуда же тогда мир? Кто сотворил человека? Откуда на земле жизнь?»
Семидесятитрехлетний М.Г.Ходаков из колхоза «Пролетарский путь», наблюдая человеческие горести и упадок нравов, давно в душе пришел к убеждению, что Бога нет. Его особенно интересовала история успешной эксплуатации церковью человеческих страданий, а о преступлениях и пороках отдельных священников — главный козырь советской антирелигиозной пропа-
234
ганды — он слушал без всякого интереса. Т.Ф.Андреев из колхоза «Первое августа», напротив, был «готов слушать сутки напролет о жадных, корыстных, обанкротившихся попах». Это являлось результатом печального личного опыта:
«При плате за венчание Андреев недодал попу рубль — дедовский долг. Поп Митрофан за это заставил Андреева ожидать венчания 7 часов (!). Отпустил лишь в глухую зимнюю ночь, в буран. Свадебный поезд заблудился и заночевал в овраге, все по-обмерзли. Сорок лет этому делу, а Тарас Федорович не может забыть поповское издевательство...»
И.В.Жаров представлял собой крестьянского «богоискателя» — он примыкал к различным религиозным группам, включая баптистов и евангелистов, чтобы посмотреть, какая вера лучше. Теперь он считал себя атеистом; особый интерес у него вызывали лекции о сектантах и научное опровержение библейских преданий. Но его критика религии была избирательной. Например, он неизменно возражал против того аргумента, что наука доказала несостоятельность библейского утверждения, будто мир существует 7000 лет, следовательно, Библию нельзя принимать на веру буквально. По словам Жарова, этот довод основывался на неверном прочтении Библии (время в первые дни творения текло не так, как сейчас), и, когда на сорновских лекциях затрагивалась данная тема, он всегда выдвигал это возражение.
Сосуществование
Представители государства в деревне, по идее, должны были быть заклятыми врагами религиозных предрассудков. Однако эти представители были немногочисленны, малограмотны и зачастую по своему культурному уровню не слишком отличались от остального крестьянства. Сельским коммунистам (этой осаждаемой со всех сторон группе) постоянно приходилось объяснять партийным комиссиям по чистке, почему священника видели входящим к ним в дом, почему их тещ хоронили с соблюдением религиозного обряда и почему они пили со всей деревней в день местного святого. (Обычно вину сваливали на женщин, даже в советской семье как бы имевших патент на предрассудки и невежество20.)
В течение ряда лет после неистовой атаки на религию в 1929 — 1930 гг. и внезапной ее остановки государство проводило в отношении сельских священников и верующих политику сравнительной терпимости. Уже закрытые церкви снова открывать не стали, однако дальнейшее их закрытие и издевательство над верующими не поощрялись. В 1936 г., когда молодые комсомольские лидеры включили в свою политическую программу привычный воинственный пункт о «борьбе с религией», Сталин заставил принять более мягкую его редакцию, согласно которой комсомол должен был «терпеливо разъяснять молодежи вред суеверия и религиозных
235
предрассудков». В духе времени один секретарь обкома наказывал своим подчиненным «не оскорблять чувства верующих» и «решительно не допускать никаких выходок по отношению к верующим». Для Союза воинствующих безбожников наступили трудные дни, и его глава Емельян Ярославский в 1937 г. жаловался Центральному Комитету партии, что люди перестали работать и «на меня... за последнее время часть товарищей смотрит как на какого-то чудака, еще занимающегося работой, которую все давным-давно забросили»21.
Разумеется, некоторых сельских коммунистов по-прежнему раздражала церковь, в особенности ее потенциал как источника антиколхозной агитации. Так, например, корреспондент из Горь-ковской области жаловался в «Антирелигиозник» на подрывную деятельность местного священника и агрессивной верующей «матушки Марии» в колхозе «Красные холмы»:
«"Матушка" проводит среди женщин религиозные беседы... В селе много единоличников. Из-за "страха божьего" они не идут в колхоз. Клуб "матушка" называет "чертовым домом". Наслушавшись ее россказней, три девушки — Надя Тюмина, Таня Шумил-кина и Варя Петрунина — перестали гулять с остальной молодежью и объявили себя "монахинями"...»22
Но было и множество сообщений о местных должностных лицах и председателях колхозов, нашедших приемлемый способ сосуществования с верующими, терпящих, к примеру, колхозниц, ревностно «бегающих по селам за подписями верующих по поводу разных поповских ходатайств». В Московской области один колхозный председатель «дьякону Комарову... выдал справку о том, что он общественный работник и организовал из молодежи "хоровой кружок". В действительности "хоровой кружок" был использован для пения в церкви...»23
Священники не имели права вступать в колхозы даже после того, как по новой Конституции 1936 г. их восстановили в гражданских правах; даже их детей, по-видимому, не принимали в колхозы до самого конца 30-х гг. Но в некоторых колхозах — неясно, скольких именно — этот запрет игнорировали и рассматривали священника как полноправного члена сельской общины. По словам Ярославского (который, возможно, преувеличивал), «большое число» председателей колхозов одновременно занимали должность церковного старосты. Бывали случаи, когда председатели отряжали колхозников для бесплатного ремонта церкви или предоставляли колхозных лошадей в распоряжение местного священника, чтобы тот мог объехать свой приход. Однажды председатель сельсовета привлек священника на помощь, собирая подписку на государственный заем, и затем, в знак признания его заслуг, «поместил имя попа... на красную доску!»24
Председатель Сухомлинского райсовета Свердловской области якобы зашел так далеко, что назначил нового священника, когда в его районе образовалась вакансия, послав епископу вежливое
236
уведомление о своей акции. Из татарских сел Верхнего Поволжья сообщали, что колхозники не только зарабатывали трудодни на заготовке дров для мечетей, но и пытались взять мулл на содержание колхоза и платить им по трудодням. Во время обсуждения новой Конституции в 1936 г. из Свердловска поступило предложение в том же духе: «Церковь взять в управление колхоза; колхоз будет получать все церковные и священческие доходы, а священник будет зарабатывать по своей профессии в колхозе трудодни»25.
Священники оказывали ответные услуги местным властям. Порой они ссужали им деньги на покрытие платежных ведомостей. В селе Колодезь Западной области у священника была лошадь, и он всегда охотно одалживал ее колхозникам или местному учителю для поездок в город. Он находился в самых теплых дружеских отношениях с советскими активистами села — народным судьей, доктором, учителем, председателем колхоза и бригадирами. «Можно ли после этого удивляться тому, что некоторые колодезские коммунисты... принимали попа на Пасху?» — горестно вопрошала местная газета26.
Надежды и страхи
Во второй половине 30-х гг. при обращении к религиозному вопросу страх у крестьян мешался с надеждой. С одной стороны, они надеялись, что государство окончательно откажется от гонений на церковь (как это и произошло несколько лет спустя, когда началась Вторая мировая война). Данную надежду питало в первую очередь провозглашение свободы вероисповедания в новой Конституции 1936 г. С другой стороны, существовала боязнь нового витка преследований, вызванная как Большим Террором, так и общим тревожным настроением в связи с угрозой войны, и нашедшая выражение в очередной лавине апокалиптических слухов.
В 1936—1937 гг. советская печать повсеместно отмечала признаки «оживления церковников и верующих» в деревне. Толчок ему дали, по всей видимости, два внешних фактора: принятие новой Конституции Советского Союза, бывшей предметом всенародного обсуждения в 1936 г., и проведение в январе 1937 г. переписи населения. Главным образом, вдохновляющую роль для верующих сыграла Конституция, гарантировавшая свободу вероисповедания и восстанавливавшая священников в их гражданских правах. При проведении переписи вызывал волнение вопрос о вероисповедании, послуживший для некоторых крестьян знаком кардинального сдвига в позиции режима27.
Крестьяне были хорошо осведомлены о новой Конституции, поскольку принимали участие в организованном властями публичном ее обсуждении. Многие посчитали, что статья о свободе веро-
237
исповедания дает зеленый свет ходатайствам об открытии сельских церквей:
«В селе Краснополье поп развернул кампанию среди части отсталых колхозников за то, чтобы его вернуть в это село "на службу". В селе Таромском группа баптистов начала собирать подписи под требованием предоставить им специальное помещение для собраний»28.
В Москву или областной центр отправлялись ходоки с крестьянскими просьбами об открытии церквей. На одном таком ходатайстве стояло 700 подписей. Крестьяне писали в газеты и правительственные органы, требуя открыть церкви и ссылаясь при этом на новую Конституцию29.
В деревне кое-где ходили слухи, дававшие весьма оптимистическую редакцию статьи Конституции о свободе вероисповедания. Один колхозник, вернувшись с военных сборов, впервые с 1917 г. обнаружил у себя в доме иконы. Когда он потребовал у своего сына объяснений, тот сказал: «По новой Конституции, обязательно в каждом доме должны быть иконы, об этом говорят ребята по селу» 30
Священнослужители и верующие поторопились объявить, что своей Конституцией государство санкционировало религию и больше нет нужды стыдиться быть верующим. Подкрепляя слова действием, один пастор «открыл в молитвенном доме нечто похожее на клуб. Он организовал для молодежи небольшую библиотеку, а для любителей пения — хоровой кружок». Много было сообщений о том, что священники начали принимать более заметное и весомое участие в сельских делах:
«Во многих местах попы стали ходить на собрания (родительские, колхозные и проч.), стали частыми посетителями изб-читален, библиотек, бесед и докладов. В селе Хватовке, Арзамасского района, поп потребовал от сельсовета, чтобы его пригласили на заседание сельсовета».
Чаще всего в сообщениях такого рода говорилось о священниках, вызывавшихся работать на ниве культуры, возглавлять колхозные клубы и библиотеки. «Ввиду того, что я по Сталинской Конституции сейчас равноправный, прошу дать мне работу в качестве заведующего клубом», — писал районным властям один из
То был период, когда движение за «колхозную демократию» достигло наибольшего размаха и многие колхозы переизбирали свою администрацию. Несмотря на то что, как уже указывалось, священники формально не имели права вступать в колхоз, некоторые из них это сделали и даже были выбраны колхозниками на руководящие должности. Сообщалось об избрании священников и псаломщиков колхозными председателями, заместителями председателей, председателями колхозных ревизионных комиссий (правда, районные власти тут же отменяли результаты таких выборов)32.
238
В самой церкви тоже бывали выборы. Так, в одном уральском сельсовете в 1937 г. церковный совет решил провести собственные выборы на основе тайного голосования. В Горьковском крае районный совет получил 11 просьб санкционировать церковные выборы (старост и церковных советов). Вероятно, таким образом верующие, будучи столь много наслышаны о советских выборах и колхозной демократии, просто следовали веяниям времени, однако коммунисты пришли в замешательство и преисполнились подозрений, задаваясь вопросом, что затевают церковники. Это явно какая-то уловка с их стороны, замечала одна провинциальная газета, цели которой пока не раскрыты33.
Когда оживление в сфере религии коснулось политики, как случилось во время выборов 1937 г. в Верховный Совет3**, немедленно последовал вполне ожидаемый финал. Наряду с массовыми арестами деятелей церкви и сектантов поднялась волна истерии по поводу антисоветских заговоров под религиозной маской. Одна ленинградская газета, к примеру, рассказывала о шпионе, который перешел границу, нацепив фальшивую бороду и изображая нищенствующего монаха. Его схватили, после того как кто-то догадался, что борода фальшивая, и сорвал ее35.
Большой Террор вызвал страхи разного рода. Коммунисты боялись религиозного заговора с целью свержения существующего строя. Верующие, как всегда в моменты возрастания социальной напряженности, думали, что не за горами конец света. В ежедневных сообщениях советских газет о нарастающей угрозе войны и разоблачении все новых и новых предателей, шпионов, актов саботажа и заговоров крестьяне видели обещание еще больших мытарств и беспорядков в будущем.
«Слух шел от избы к избе. Две юркие старухи быстро проскальзывали в дом, таинственно оглядывались и как бы нехотя присаживались на лавку. Затем они испускали тяжелые вздохи и в ответ на расспросы говорили: "Беда, бабыньки, висит над нами! Близок день кары божией. Началась война, голод... Молитесь".
И, перекрестившись, спешили дальше...
Этот пример вражеской деятельности церковников не единичен в Мгинском районе... Церковники все чаще стали заходить в избы колхозников и вести там антисоветские разговоры, угрожая при этом "страшным судом" тем, кто не ходит в церковь»36.
Ширились пророчества о голоде, слухи о скорой войне и прочие неуточненные «антисоветские» слухи (по-видимому, предсказания падения советской власти). Странствующие богомольцы и богомолки распространяли таинственные «письма из Царствия Небесного» и «письма из Иерусалима», предрекающие грядущий конец света. В Псковской области, пограничной зоне, где паспорта выдавались всем гражданам, включая колхозников, крестьяне несколько месяцев кряду отказывались получать паспорта и подписывать какие-либо официальные документы. По их словам, странствующие монахи и «блаженные» говорили им, что скоро
239
конец света и пришествие Антихриста, и советовали прервать все контакты с государством37.
Как часто бывало в России, религиозный язык в деревне отличался заметной антиправительственной окраской38. Антихрист и государство оставались неразрывно связанными в представлении российского крестьянина, как и двумя столетиями раньше, после великого раскола. Стремление коммунистического режима приписывать политическое значение любому проявлению религиозных чувств в народе являлось не только результатом навязчивых идей, свойственных партии, но и отражало некоторые черты реальности, характерные для российской деревни.
БЫТ
Несмотря на отсталость российской деревни в последовавшее за коллективизацией десятилетие, некоторые основные приметы быта, в том числе крестьянская одежда, в 30-е гг. претерпели разительную трансформацию от традиции к современности. Дело тут, пожалуй, было не столько в том, что крестьяне перешли некий психологический Рубикон, сколько в том, что в ходе коллективизации исчезли промыслы, от которых зависел традиционный уклад крестьянской жизни.
Две основные причины вызвали внезапный развал сельских промыслов в начале 30-х гг. Во-первых, раскулачивание: сельские кустари, зачастую принадлежавшие к зажиточной прослойке в деревне, подвергались особому риску получить ярлык кулака. Помимо тех из них, кто был раскулачен и выслан, множество остальных в 1929—1930 гг. покинули деревню, стремясь избежать подобной участи. Вторая причина заключалась в неблагоприятном климате для кустарного производства на селе, сложившемся после коллективизации. Колхозник не вырабатывал трудодней, занимаясь ремеслом, и оно не давало ему такой возможности прокормиться, какую давала обработка приусадебного участка. Такие культуры, как лен и конопля, служившие сырьем для многих промыслов, нередко переставали выращиваться: колхозы ставили во главу угла производство зерна, а колхозники не могли выделить для льна и конопли место на собственных маленьких участках. Приусадебный участок чаще всего полностью отводился под пищевые культуры. Единоличник же, продолжавший заниматься ремеслом, рисковал быть обвиненным в капиталистическом уклоне (поскольку торговал) или саботаже государственных заготовок (поскольку не посвящал себя целиком земледелию) и подвергнуться чрезвычайному налогообложению на доходы от промыс-ла39.
«Кроме меня нет пчеловода, и прекратится производство валенок», — писал Иван Макаров, крестьянин из Московской облас-
240
ти, в Наркомзем в феврале 1933 г., ходатайствуя о пересмотре решения колхоза исключить его как кулака40. Наркомат не ответил, и Макаров, несомненно, уехал искать работу в Москву, а колхозники остались без меда и новых валенок. Возможно, они стали покупать сахар и резиновые сапоги в местном кооперативе, если, конечно, там можно было найти эти товары. Невзирая на статистические данные об увеличении поставок промышленных товаров в деревню, с гордостью приводившиеся советскими историками, очевидно, что снабжение сельской торговой сети было крайне нерегулярным. Дефицит оставался нормой, шла ли речь о традиционной кустарной или современной фабричной продукции.
Разумеется, некоторый элемент свободного выбора при замене сельской материальной культуры городской можно предположить. Это могло означать (как неустанно твердили советские историки в эпоху, предшествовавшую гласности), что крестьяне усваивали современные, «советские» ценности. Но могло быть и так, что данный процесс отражал упадок духа и нравов, столь очевидный при рассмотрении многих аспектов жизни коллективизированного села, — ослабление веры в традиции, вызванное ощущением гнета, заброшенности и принадлежности к гражданам второго сорта в советском обществе.
Материальная культура
Во многих областях России крестьянки в конце 20-х гг. еще пряли и ткали сами, а лапти служили на селе привычной обувью. Например, в Рязанской области, как отмечали этнографы, повсеместно носили лапти и было распространено домашнее ткачество. До начала 30-х гг. верхнюю одежду, как правило, изготавливали из домотканой материи, и шили ее либо местные (из деревень, специализировавшихся на портняжном промысле), либо бродячие портные. Разумеется, молодое поколение и в 20-е гг. проявляло интерес к городской одежде и модам, в особенности в нечерноземных областях, как, например, Тверская, где было много городских отходников. Но это, как и прочие городские нововведения вроде развода, употребления губной помады, членства в комсомоле и атеизма, воспринималось большинством сельчан как нарочитое отрицание общепринятых норм, признак падения нравов в послевоенный и советский периоды41.
После коллективизации обстановка мгновенно изменилась. Резко сократилось домашнее ткачество. Деревни, специализировавшиеся на портняжном, как и на всех прочих промыслах, например знаменитое село сапожников Кимры, исчезли. Бродячие портные и другие кустари и торговцы попали под подозрение как потенциальные разносчики слухов, настраивающие крестьян против колхозов, и нередко арестовывались или изгонялись местными властями42.
241
На Рязанщине молодые женщины сменили традиционные домотканые поневы на свитера и юбки, как в городе. Многие отказались и от прежних кос, спрятанных под платком, стали ходить простоволосыми; самые смелые — трактористки-стахановки и иже с ними — коротко стриглись. Лапти во многих регионах вышли из употребления (хотя в Тамбовской области еще и в 50-е гг. крестьяне носили их во время жатвы). Пожилые деревенские женщины оставались приверженными традиционной одежде, зато мужчины всех возрастов почти совершенно отказались от прежнего крестьянского костюма в пользу городского пиджака и кепки. Старая «грязная» одежда — лапти, домотканый зипун, грубая дерюга — исчезла, говорил в 1935 г. колхозник из Курской области, «сейчас мы носим одежду фабричную»43.
Одним из промыслов, которое коллективизация привела к сокрушительному падению, являлось самогоноварение. В 20-е гг. это была развитая отрасль сельской промышленности, но она, разумеется, требовала наличия у крестьян излишков зерна или картофеля и возможности доставать сахар. При колхозной системе и больших планах государственных поставок в 30-е гг. гнать самогон в домашних условиях стало значительно труднее. По всей видимости, самогоноварение почти полностью сошло на нет, судя по редким упоминаниям о нем как в архивных, так и в опубликованных источниках. Крестьяне, должно быть, «разучились» гнать самогон, высказывал предположение один наблюдатель44.
Если они пили (что наверняка происходило реже, чем им бы хотелось), то обычно им приходилось пить водку государственного производства, покупаемую в местном кооперативе. Государство, отказавшись от курса на трезвость, которого придерживалось в 20-е гг., охотно снабжало крестьян водкой в 30-е, поскольку она представляла собой немаловажный источник дохода, однако водки все равно не хватало, и абсолютное потребление ее, безусловно, резко снизилось по сравнению с концом 20-х гг. Кроме того, в деревне стало меньше мест, где можно было бы выпить вне собственной избы, так как большинство кабаков, являвшихся частными предприятиями, были закрыты45.
В 30-е гг. на селе начали появляться некоторые крупные изделия современного промышленного производства. Первыми туда пришли трактора и комбайны, квинтэссенция индустриальной продукции, связанной с коллективизацией, правда, в небольшом количестве. К тому же в течение нескольких лет вся эта техника была отнята у колхозов и передана районным МТС, хотя работали на ней колхозники и использовалась она на колхозных полях.
Согласно принятой нами схеме можно сказать, что трактор являлся фабричным заменителем исчезающего домашнего тяглового средства — лошади, наиболее пострадавшего в эпоху коллективизации и голода. Таким же заменителем лошади, остававшейся дефицитным товаром на протяжении всех 30-х гг., служили грузовики, которые наиболее крупные и зажиточные колхозы стали
242
приобретать во второй половине десятилетия. Еще в 1935 г., когда в Московской области колхозы одного сельсовета сложились на покупку 1,5-тонного грузовика, отремонтировали дорогу и назначили человека на должность водителя, это было чем-то новеньким, однако уже в 1937 г. колхозам были проданы сотни грузовиков, особенно в таких процветающих сельскохозяйственных районах, как Краснодарский край, Днепропетровская область и Крым46.
Трудно найти достоверные данные для сравнения уровня жизни на селе в 30-е и 20-е гг. В основном со всей очевидностью можно заключить, что еды и питья в деревне после коллективизации стало меньше. Зияющую брешь в привычном укладе бытия пробили бегство и высылка людей наряду с закрытием освященных традицией заведений, от церквей до кабаков и мельниц.
В сфере здравоохранения и медицинского обслуживания картина была мрачной. Несмотря на постоянные упоминания о «поездках в больницу» в крестьянских жалобах («лошадь была нужна мне, чтобы отвезти жену в больницу»), вряд ли такие поездки часто могли иметь место, потому что медицинские учреждения на селе были редкостью. В 1932 г. в сельской местности одна больничная койка приходилась примерно на тысячу человек, правда, в 1937 г. это соотношение несколько выросло — до 1,6 койки на тысячу человек. Согласно переписи, в 1937 г. 110 млн чел. сельского населения обслуживали менее 12000 врачей, 54000 фельдшеров и акушерок и менее 7000 фармацевтов. Все усилия советской власти убедить обучавшихся в городе врачей практиковать в сельской местности или хотя бы в райцентрах пропадали втуне, а двойственное ее отношение к фельдшерам, по-видимому, препятствовало расширению фельдшерской сети в предвоенный период. Нива сельской медицины в 30-е гг. в значительной степени была отдана на откуп традиционным знахаркам, заключает один историк российского общественного здравоохранения47.
Порой утверждают, будто крестьяне враждебно относились к современной медицине и больше доверяли знахаркам, но, тем не менее, они жаловались в своих письмах по поводу Конституции 1936 г. на неудовлетворительность медицинского обслуживания на селе. Главной темой жалоб служило то, что и в этом случае городское население находилось в привилегированном положении по сравнению с крестьянами, говорилось также о дороговизне выписанных лекарств и медицинских услуг. Многие письма патетически описывали тяжелое положение вдов и детей, лишенных медицинского ухода, поскольку они не могут себе этого позволить. «Раньше, в прошлые годы, пойдем в больницу бесплатно. Сейчас платишь за какую-нибудь разведенную хиной воду 50 к. или 70 к., а если мази, то рубль берут»48.
Во многих селах коллективизация на деле вызвала экономический и технический регресс вследствие оттока людских ресур-
243
сов. Уроженец глухой деревеньки Вятской области, посетив в середине 30-х гг. родные места, обнаружил, что из-за нехватки керосина крестьяне там вернулись к освещению лучинами. Саратовская деревня, где вырос писатель М.Алексеев, несколько лет пользовалась электричеством в 20-е гг., когда была проведена линия электропередачи, а ток давала турбина местной водяной мельницы. Подача электричества прекратилась после раскулачивания мельника в 1929 г. и не возобновлялась до конца 50-х гг. Вообще такое благо современной цивилизации, как электричество, в большинство сел Советского Союза пришло только в хрущевскую эпоху. Накануне Второй мировой войны электрифицирован был лишь каждый двадцать пятый колхоз, и даже в 1950 г. — не больше чем каждый шестой49.
РАСПАВШИЕСЯ СЕМЬИ
После коллективизации нравы в деревне упали. Тому были как демографические, так и политические причины. Сильнейший отток населения уносил самых молодых и честолюбивых, и во многих регионах преимущественно мужчин. Согласно переписи 1937 г., количество женщин среди самодеятельного населения колхозов Советского Союза превышало количество мужчин почти в пропорции 2:1 (18 млн женщин на 10 млн мужчин)50.
«Сколько таких бобылок, брошенных своими мужиками еще в начале тридцатых годов, встречал я уже в деревнях, — писал Е.Герасимов, летописец истории деревни под названием Спас-на-Песках в российском Нечерноземье. — С кучей полуосиротевших детей тянули на своем горбу колхозы»51.
Тетка Варя, одна из центральных фигур в документальной повести Герасимова, была в Спасе-на-Песках первым колхозным председателем. Она осталась вдовой в Первую мировую войну. Вместе с группой женщин, находившихся в таком же положении (так и прозванных «вдовы»), возглавила колхозный актив в начале 30-х гг. У тетки Вари был взрослый сын, однако в 1929 г. он с женой уехал работать на завод в город и практически полностью исчез из ее жизни. Десять лет тетка Варя растила их сынишку вместе с осиротевшей племянницей и двумя внучатыми племянницами52.
Еще один персонаж герасимовского повествования — бабка Маня, которую он мельком видел в 1930 г., когда она отчаянно сопротивлялась обобществлению своей коровы, в то время как ее муж Филя молча наблюдал за происходящим. Филя уехал из деревни в том же году, и о нем ничего не было слышно (кроме одного раза, когда односельчанин случайно встретил его в Средней Азии) в течение тридцати пяти лет. Затем, после полной при-
244
ключений жизни, долгих странствий и двух других браков, он вернулся в деревню и снова стал жить с бабкой Маней53.
Третью историю рассказал Герасимову человек, которого он встретил на рыбалке, на речке вблизи Спаса-на-Песках. Этот человек был местным уроженцем, но, как и многие другие, уехал в 1930 г. и стал теперь москвичом. Он оставался в браке со своей деревенской женой, но после коллективизации жил отдельно от жены и детей 17 лет.
«У всех тогда семейная жизнь пошла кувырком. Ну куда возьмешь семью, когда на стройплощадке одни котлованы, а вокруг дикая тайга? Потом можно было взять, обещали мне на Кузнецкстрое комнату в семейном бараке, но к тому времени в колхозе жизнь стала налаживаться, жена снова корову купила. А меня почетной грамотой наградили и путевку дали в Москву на курсы десятников — ну как отказаться? Проучился год в Москве и там же остался на работе. Приезжаю в деревню, зову жену. "В столице будем жить, комнату дают". — "А с хозяйством как?" — спрашивает. "Да плюнь ты на него, — говорю, — какое у тебя хозяйство — одна корова". — "А изба?" — "Все продадим". — "Нет, — говорит, — знаю, как в городе люди живут. Тут картошка своя, молоко свое, а там же все за деньги". Так до войны и не уговорил...»54.
Раз в деревне было много распавшихся и неполных семей, стало быть, много было и сирот — детей, лишившихся одного или обоих родителей и брошенных на произвол судьбы. Их так же называли беспризорными, как и тех, гораздо более известных, бездомных детей 20-х гг., которые сбивались в банды в городах и бродяжничали на железных дорогах. Но это было второе поколение беспризорных — детища коллективизации, миграции, раскулачивания и голода.
Особую категорию в начале 30-х гг. составляли сироты из семей кулаков, оставленные сосланными или бежавшими родителями. Для деревни они представляли огромную проблему, не только в материальном, но и в моральном отношении.
«Бывает так: у малыша арестованы родители, ходит он по улице и плачет, все жалеют его — и женщины, и мужчины, но усыновить, взять в дом не решаются. "Сын кулака все же, да еще активиста, как бы чего не вышло"».
Автор этой смелой статьи о тяжелом положении кулацких детей — Н.Крупская, вдова Ленина, в 1929 г. занимавшая высокий пост в системе народного образования. Ее наблюдения подтверждались сведениями из первых рук. Один советский писатель в автобиографической повести, опубликованной в 60-е гг., описывал, как его родители — крестьяне — ссорились по этому поводу: отец, коммунист и председатель колхоза, говорил, что с кулацкими детьми надо обходиться как с классовыми врагами, а его жена никак не могла с этим согласиться55.
245
Как указывала Крупская, официально поощряемое враждебное отношение к «кулацким детям» было тем более возмутительно и бессмысленно, что на деле многие из них являлись детьми приемными или воспитанниками, взятыми в семью батрачить — в качестве пастухов и нянек. Преимущество труда приемного ребенка заключалось не только в его дешевизне, но и в том, что он не влек за собой опасной отметки об использовании наемных работников — не членов семьи (главный признак кулацкого хозяйства). По иронии судьбы, государство во второй половине 20-х гг. активно поощряло усыновление детей крестьянами и мастеровыми, чтобы разгрузить детские дома56.
Порой деревне многие годы приходилось иметь дело с различными сторонами проблемы кулацких детей. В одно село Брянского района вернулись после смерти обоих родителей четверо детей кулака, сосланные со своей семьей на Урал. Колхоз принял сирот, старший был крепким молодым человеком, двое подростков, шестнадцати и тринадцати лет, тоже годились для работы в колхозе. Но затем дети стали просить вернуть им отцовскую избу, бывшую теперь собственностью колхозного председателя. Эту просьбу местные власти решительно и неоднократно отклоняли, даже после того, как представитель Западного обкома отреагировал на ходатайство троих младших детей и вступился за них5?.
Говорят, в прежние времена сельская община признавала свою обязанность заботиться о сиротах, оставшихся без крова, хотя крестьянский обычай гласил, что в первую очередь обязанность эта лежит на многочисленной родне. Если в 1933 г. в районах, охваченных голодом, колхозы, бьющиеся изо всех сил, чтобы выжить, не могли поступать таким образом и города Украины и Северного Кавказа пережили наплыв «бездомных, больных и истощенных детей» из деревни58, это удивлять не должно. Пожалуй, гораздо более примечательно (поскольку означает продолжение деморализации и распада общины) то, что и несколько лет спустя села по-прежнему систематически отказывались нести какую-либо ответственность за своих сирот.
«Одним из главных "поставщиков" беспризорных детей является деревня. Ребенка, у которого умерли родители, сельсовет немедленно направляет в город или в ближайший детдом. Абсолютно ничего не делается для того, чтобы каким-то образом помочь ребенку на месте силами колхозной общественности...» По словам заведующего Ленинградским отделом народного образования, 70% сирот в подведомственных ему учреждениях были из деревни59.
В 1935 г. новый закон о бездомных детях возложил ответственность за назначение опеки над сиротами и размещение их на председателей сельсоветов, предупреждая, что те не должны позволять сиротам бродяжничать. Тот же закон обязал колхозы сделать приоритетным направлением помощь сиротам и временно нуждающимся детям, установив возмещение из центрального бюд-
246
жета в размере 30 руб. на каждые 100 руб., потраченные на сирот60.
Несмотря на все эти распоряжения, год спустя Западному обкому пришлось напоминать районной и сельской администрации о том, что она не выполняет своих обязанностей по отношению к сиротам и детям остро нуждающихся колхозников, в том числе одиноких матерей. По словам обкома, такие дети вынужденно бродяжничают и опускаются. Сельсоветы и колхозы должны взять на себя ответственность за них, а не «отказываться от заботы о детях-сиротах... под явно неправильными, несоветскими мотивами: "Они приезжие, дети чуждых"». Обком предупреждал, что все обнаруженные бродяги и беспризорники будут возвращаться на первоначальное место жительства, а сельские должностные лица, ответственные за их бездомность и бродяжничество, — преследоваться в судебном порядке61.
Брак и развод
Уже ясно, что крестьянская семья в 30-е гг. переживала трудные времена. Поскольку от колхозов не требовали представлять подробные сведения о составе семей, а этнографов и социологов после коллективизации с успехом изгнали из российской деревни более чем на 20 лет, надежные данные весьма скудны. Тем не менее, очевидно, что размеры средней семьи значительно уменьшились. В конце 20-х гг. средняя крестьянская семья состояла примерно из 5 человек. Десятилетием позже, по подсчетам советских историков, ее размеры колебались от 3,9 до 4,4 чел. По мнению советских этнографов, это означало, что нуклеарная семья полностью и окончательно заменила собой прежнюю большую семью62. Безусловно, колхозная система способствовала разделению больших разветвленных семей посредством норм выделения приусадебных участков. И все же делать вывод, что российская деревенская семья в 30-е гг. непременно была нуклеарной, лишь на основании ее малых размеров не представляется разумным, так как свидетельства очевидцев говорят об обратном. Собравшаяся с бору по сосенке семья тетки Вари — вдова с внуком и племянницей (у которой со временем появились две дочери без мужа) — отнюдь не являлась чем-то необычным.
Согласно данным советской статистики, рождаемость на селе в 30-е гг. резко сократилась. В 1913 г. показатель рождаемости в деревне, 49 новорожденных на 1000 чел., значительно превышал городской показатель (30 новорожденных на 1000 чел.). В 20-е гг. он несколько уменьшился, а затем в 30-е стремительно пошел вниз. К 1935 г. рождаемость на селе упала до 32 новорожденных на 1000 чел. и оставалась приблизительно на этом уровне всю вторую половину десятилетия. В 1940 г. уже не было существенной разни-
247
цы между рождаемостью в деревне (32 новорожденных на 1000 чел.) и в городе (31 новорожденный на 1000 чел.)63.
Статистика плодовитости обнаруживает ту же закономерность, хотя в данном случае временные рамки более эластичны. Что касается населения Европейской России, заметное снижение плодовитости, связываемое западными демографами с модернизацией, было выявлено в нескольких губерниях еще при переписи 1897 г., более чем в половине губерний ко времени переписи 1926 г. и во всех областях в 1940 г.64.
Хотя о разводах в деревне 30-х гг. надежной статистики нет, очевидно, что среди молодых крестьян разводы не были редкостью, особенно в местностях, находившихся неподалеку от больших городов. «В наших селах молодые люди все еще часто напиваются и все еще часто женятся и разводятся», — неодобрительно замечал молодой крестьянин-стахановец в середине 30-х гг.65. Вот пример подобного поведения:
«16 мая колхозник М.С.Матюхин, подобрав несколько парней из своей бригады, во главе с бригадиром Смолкиным, подхватив гармошку, пошел сватать Пекарникову Пашу.
На столе в доме Паши появилось вино, закуска. Зазвенели стаканы. Все перепились. Опьяневшая молодежь разошлась по домам, а скороспелый жених Матюхин остался ночевать в доме Паши. Ушел он рано утром и больше не являлся»66.
Во многих рассказах о сватовстве и свадьбах нехватка в деревне молодых мужчин неизменно признается решающим фактором действительности. Яркий пример представляет сообщение из колхоза «Молотов» Рыбновского района, расположенного вблизи границы между Московской и Рязанской областями. В этих местах семья жениха по традиции платила выкуп за невесту (кладку), компенсируя семье невесты потерю рабочих рук и приобретая права на ее производительные возможности. Давать за невестой приданое в Центральной России не было принято, но там, где этот обычай существовал, приданое оставалось неотчуждаемой собственностью жены и не являлось платой семье жениха. Судя по вышеупомянутому сообщению, родители молодых девушек, наперекор всем традициям, стали платить значительное денежное «приданое» — по сути выкуп за жениха, — чтобы добыть мужей своим дочерям67.
«Молодой колхозник Кирюшин Кузьма возомнил, что он из всех женихов лучший жених, и приданого взял с родителей своей невесты Марфы Катоминой 1000 руб. Родители Марфы пытались протестовать. Долго торговались с родителями Кирюшина Кузьмы. Кирюшин Кузьма поставил "ультиматум": "Или 1000 приданого, или на вашей дочери жениться не буду"».
В довершение всех бед в некоторых случаях женихи, забрав деньги, не выполняли своих обязательств:
«В нынешнем году женился молодой колхозник Облезов Василий на Ромашкиной Нюре. Приданого взял 700 руб., и кроме
248
этого родители Нюры одарили подарками всех родных жениха... Поженили Нюру с Василием, пожила Нюра 2 месяца замужем и пришла обратно домой к родителям. Прогнал ее Облезов. Жизнь Нюры оказалась разбитой. А Облезов Василий, набивший себе высокую цену, думает жениться снова и без труда заработать еще 700 руб.».
•«Колхозник Гусев Кузьма женился на колхознице Морозовой Нюре. Взял приданого 700 руб. Пожил с ней полгода, прогнал Нюру и снова женился на другой девушке, и снова взял приданого 500 руб.».
Хотя общественность, естественно, осуждала вымогательство такого рода, преобладающее «советское» отношение к разводам в деревнях не было огульно критическим. Несмотря на то что 30-е гг. действительно являлись периодом «великого отступления» от революционных ценностей в вопросах семьи и брака, по утверждению Н.Тимашева, этот феномен скорее был характерен для города. Крестьянок по-прежнему поощряли освобождаться от тирании мужей и отцов, и они отстаивали свой статус независимых колхозных работниц, равных мужчинам. Даже развод не казался слишком высокой платой за это. На ритуализованных в высшей степени всесоюзных собраниях стахановцев крестьянки часто рассказывали истории своей борьбы с непросвещенными мужьями, порой оканчивавшейся повышением сознательности последних, порой — разводом, и присутствовавшие при этом партийные руководители аплодировали им. Повествование 28-летней колхозницы из Московской области типично для «передовой» советской крестьянки 30-х гг.:
«Пошла я наперекор мужу и стала работать членом сельского совета и, как только колхозы объявились, сразу же пошла в колхоз... Муж стал совсем как зверь. Не стало мне с ним житья, пришлось через совет действовать и разводиться»68.
Однако такие разводы в деревне 30-х гг. все же случались реже, чем разводы по инициативе мужей — точнее, бегство мужей. Как бабка Маня в повести Герасимова, многие крестьянки оказывались в двусмысленном положении: фактически не замужем, но официально не разведенные, с мужем, который работал где-то в городе или на промышленной стройке и мог в какой-то момент вернуться, а мог и не вернуться. Эти женщины (в отличие от своих мужей) не могли снова выйти замуж, но, несомненно, некоторые из них вступали во внебрачные связи. Судя по разрозненным и отрывочным сведениям о сексуальной жизни деревни 30-х гг., можно почти с уверенностью сказать, что крестьянская община уже не в состоянии была применять суровые санкции за добрачные и внебрачные связи, как раньше. Отметим, к примеру, письмо колхозницы из Западной области, осуждающей тот факт, что «в деревнях девушки с юных лет нарушают свою честность» с парнями, которые потом исчезают, «отчего происходит в советской деревне уменьшение законных браков»69.
249
Матери-одиночки составляли в колхозе достаточно важную категорию, чтобы быть упомянутыми в законе о бездомных детях. Одна такая молодая женщина — по-видимому, нетипично уверенная в себе и образованная — вспоминала, как вернулась в 1930 г. из большого города и вступила в колхоз незамужней, беременной в 18 лет; деревенские женщины «смотрели на меня косо, никуда на работу не брали». Однако 5 лет спустя она стала колхозным бухгалтером и кандидатом в члены партии, «теперь со мной считаются»'0.
Протоколы обсуждения в одной деревне проекта закона 1936 г. об абортах, опубликованные в ленинградской газете как часть материалов о всесоюзном обсуждении предложения правительства объявить аборты вне закона и ограничить разводы, дают любопытную картину позиции крестьянских женщин по этим вопросам71. В целом женщины колхоза «Великий путь» Ленинградской области выступали против абортов, бывших, по их мнению, в основном приметой городской жизни. Они считали аборты опасными («человек помирает от абортов»), полагали, будто аборты способствуют стремлению мужчин к случайным связям («у кого нет ребят, тот и хватает сегодня одну, завтра другую»), а кроме всего прочего, были твердо уверены, что и другие должны испытать то, что испытали они: «Наши матери рожали, мы рожали, и вы, молодые, должны рожать». «Я родила девять человек и хоть бы что. Пускай и другие не уступают мне».
Правда, звучали и отдельные возражения, очевидно, со стороны молодых:
«ВОПРОС ИЗ УГЛА. А как учиться с ребятами? ОТВЕТ СОСЕДКИ: Надо, голубушка, на это время попри-гладить хвостик...
ЖЕНЩИНА В КРАСНОЙ КОСЫНКЕ. А я только хотела сделать аборт.
ПОЯСНЕНИЕ СОСЕДКИ: Нет, теперь колхозника принесешь. (Смех.)»
Многие крестьянки решительно стояли на том, что сделавшие аборт должны понести наказание. В первую очередь это касалось городских женщин, о которых говорили с презрением, как о безнравственных личностях, и со злобой, как о потенциальных соблазнительницах деревенских мужчин.
«АЛЕКСАНДРА ЮДИНА [пожилая колхозница, председатель собрания]: Какое наказание за аборты, говорите мне по этому пункту.
ГОЛОСА: Общественное порицание мало за незаконный аборт.
АНУФРИЕВА ОЛЬГА: За первый раз надо больше давать. 600 рублей штрафу им.
ЕЛИЗАРОВА ТАТЬЯНА: Городских надо на высидку отправлять, а деревенских штрафовать на 300 рублей: тогда не будут за мужиками бегать!
250
ЮДИНА: Значит, за первый раз штрафовать? ГОЛОСА: Да, да! В деревне мало делают абортов».
Женщины пылали злобой против мужчин, в особенности неверных или отсутствующих мужей. Выдвинутые в проекте закона предложения штрафовать мужчин, много раз вступающих в брак, и наказывать тех, кто уклоняется от уплаты алиментов, были встречены с энтузиазмом. В довершение всего, женщины хотели отмены «свободных» (незарегистрированных) браков, поскольку те лишь поощряли мужскую безответственность:
«ЗАЙЦЕВА. За регистрацию развода платить должен муж. Брак надо обязательно регистрировать, фактических не признавать. Распутников надо сажать в тюрьму. Мой муж агроном. Кроме моих детей платит алименты еще одной и сейчас опять завел третью. Для таких, кроме тюрьмы, ничего не придумаешь».
Конечно, с точки зрения этой группы, проект закона шел недостаточно далеко в деле наказания заблудших мужчин. Там предлагалось брать плату в размере 50 руб. за регистрацию первого развода, 150 руб. — за регистрацию второго и 300 руб. — за регистрацию третьего. Но женщины из колхоза «Великий путь» проголосовали за повышение платы до 200, 500 и 600 руб. соответственно72.
ОБРАЗОВАНИЕ
30-е гг. — период распространения на селе образования, оплачиваемого крестьянами посредством особого культурного налога и местного «самообложения». Всеобщее начальное образование (с 1 по 4 класс) стало в Советском Союзе обязательным как в городе, так и в сельской местности с 1930/31 учебного года. В сельских школах обязательный для всех учащихся 5-й класс был введен с 1937/38 учебного года, б-й класс — со следующего года, 7-й — с 1939/40 года. Таким образом, в принципе все крестьянские дети в конце 30-х гг. получали по меньшей мере семилетнее образование, а не четырехлетнее, как в начале десятилетия73.
На практике ситуация была сложнее, но, несомненно, число деревенских детей, обучающихся в начальной и средней школе, в 30-е гг. значительно выросло. Количество учеников сельской начальной школы между 1928/29 и 1932/33 гг. увеличилось с 8 до 14 млн чел. и до самой войны оставалось в пределах 14 — 16 млн чел. Количество учеников сельской средней школы (с 5 по 7 класс) за период с 1932/33 по 1940/41 г. более чем утроилось, достигнув почти 7 млн чел. Соотношение числа учеников начальной и средней школы, которое в 1932/33 г. было 5:1, к 1940/41 г. стало меньше чем 2:1. Помимо того, в 1940/41 г. в деревне был почти миллион учеников 8—10 классов, что означало десятикратный прирост за
десятилетие74.
251
Разумеется, картина доступа к образованию в российской деревне по-прежнему, как и в 20-е гг., искажалась в результате преобладания в начальных классах учеников-переростков. Практически крестьянские дети и поступали в школу, и заканчивали ее поздно. Например, возрастная группа 12 — 14 лет должна была обучаться в 5 —7 классах. Но на деле в сельских школах 1937 г. 53% 12 —14-летних все еще учились в начальных классах75.
Впечатляющее распространение начального и среднего образования в деревне за период 30-х гг., по-видимому, означает, что крестьяне все больше убеждались в преимуществах образования. Это, безусловно, было связано с осознанием ими того факта, что образование дает молодому поколению возможность покинуть колхоз.
Тем не менее, многие крестьяне поначалу неприязненно отнеслись к законам, вводившим обязательное начальное, а затем среднее образование. В годы наивысшего сопротивления, 1930 и 1931, обязательное начальное образование воспринималось как элемент той же системы государственного принуждения, результатом которой стала коллективизация. Одни и те же слухи ходили о школе и о колхозе: ученики будут заклеймены печатью Антихриста, девочек, весящих 64 кг, пошлют в Китай, косы у них отрежут и сдадут в утиль76.
Со временем возмущение крестьян по поводу обязательного образования сосредоточилось главным образом на его стоимости. Распространение образования на селе в значительной степени финансировалось за счет нового налога — культурного (культжил-сбор), введенного в 1931 г. и легшего на крестьянство тяжким бременем (он составлял от 15 до 80 руб. с двора, причем средний крестьянский двор платил в счет культурного налога почти столько же, сколько в счет сельхозналога). Сверх того, крестьянам приходилось оплачивать ремонт школы и прочие связанные с ее содержанием расходы путем «самообложения»: эта форма местного .налогообложения крестьянства в 30-е гг. не сохранила даже видимости добровольности, присущей ей в 20-е, и была крайне непопулярна. Колхозные дворы в 1934 г. платили по самообложению от 5 до 20 руб. Наконец, крестьяне оплачивали из своего кармана учебники и письменные принадлежности для своих детей и должны были обеспечивать их одеждой и обувью, чтобы они могли ходить в школу77.
Грамотность среди взрослого сельского населения в 30-е гг. тоже повысилась, хотя вовсе не так разительно, как заявляли советские пропагандисты. Согласно данным переписей, грамотность сельского населения в возрастной группе от 9 до 49 лет выросла с 51% в 1926 г. до 84% в 1939 г. Для деревенских мужчин в данной возрастной группе это означало рост числа грамотных с 67% в 1926 г. до 92% в 1939 г.; для женщин - с 35% до 77%. Теперь, когда вышли на свет замалчивавшиеся цифры по 1937 году, данные 1939 г. выглядят несколько завышенными, и, вероятно, от
252
них следует отнять 7 — 8%. Даже в этом случае всеобщий рост грамотности впечатляет — или впечатлял бы, если бы власти не объявляли о 90%-ной грамотности среди взрослого населения Советского Союза с 1932 г.78.
Проблемы сельской школы
Благосостояние сельской школы в значительной степени зависело от отношения председателя сельсовета. Роль районного отдела народного образования, контролировавшего назначение учителей и определявшего приоритеты в деле школьного строительства, также была важна. Но именно сельсовет отвечал за сбор и расходование средств, полученных по «самообложению», выделение жилья и подсобного участка учителям, отопление школьных помещений и общую сохранность школьных зданий. Сельсовет же платил учителям зарплату до 1936 г., когда эта обязанность перешла к районному отделу народного образования7^.
Местные колхозы (и их председатели) также могли сыграть большую роль, облегчая или затрудняя дело развития образования на селе. Если председатель колхоза не желал помогать с транспортом, чтобы добраться до школы, находившейся на значительном расстоянии от села, дети из этого колхоза не могли регулярно посещать занятия. Если детям полагалось горячее питание в школе, обеспечить школу всем необходимым для этого должен был местный колхоз (или колхозы). Если школу следовало отремонтировать, как правило, это означало, что туда посылали колхозного плотника и засчитывали ему трудодни. Наконец, если председатель колхоза отправлял всех подростков 12 — 14 лет работать в поле, как порой случалось, им было не до того, чтобы сидеть на уроках80.
У председателей сельсоветов школы большим вниманием не пользовались: их главными обязанностями были сбор налогов и выполнение заданий по поставкам. «Моя работа — хлебопоставки. Школа ко мне никакого отношения не имеет», — раздраженно заявил один председатель. Такую позицию можно было понять. По словам другого председателя сельсовета, «как ни напирай со штурмом о всеобуче и ликбезе, все-таки за слабость на этом фронте не посадят в тюрьму». Общесоюзная газета союза учителей «За коммунистическое просвещение» не часто удостаивала председателей сельсоветов доброго слова. Но иногда обнаруживался подходящий герой: «Председатель сельсовета т. Баранов — подлинный борец за советскую школу. Он приходит сюда проверять температуру, он заботится о дровах, о завтраках для детей»81.
В другом случае газета сообщала о председателе сельсовета из Новгородского района, возглавившем борьбу общественности за постройку средней школы, чтобы местные дети не ходили за 30 км в 5 — 7 классы. Район отказался санкционировать ассигнова-
253
ния на строительство новой школы. Но крестьяне семи мелких колхозов, расположенных в той местности, под началом председателя сельсовета приступили к делу на свой страх и риск. Дерево и рабочую силу они обеспечили самостоятельно, а за гвоздями, оконным стеклом и другими промышленными товарами обратились к своим шефам — новгородской фабрике, администрация и рабочие которой, как сообщалось, помогли крестьянам этого села и советом, и делом82.
Больше всего крестьян раздражало, что, несмотря на их весьма существенный вынужденный вклад в развитие образования в виде культурного налога и самообложения, им приходилось нести еще много расходов на школу, требовавшую дальнейшего индивидуального и коллективного финансирования. Крестьяне жаловались, что не могут послать детей в школу, потому что не в состоянии купить книги и письменные принадлежности, не говоря уже о необходимой одежде и обуви83.
Почти все рассказы газет об успехах школьного дела включают упоминание о сборе денег среди крестьян, часто на сумму порядка тысяч рублей84. Это еще больше разжигало возмущение при сравнении долей участия крестьян и государства в расходах на образование в деревне. Во время выборов 1934 г. в местные советы один колхозник по фамилии Павлов, незадолго перед тем уволенный с должности бригадира, явился на собрание избирателей и устроил скандал при обсуждении вопроса о школьном финансировании. Его колхозу, по-видимому, уже сделавшему значительный добровольный взнос на содержание школы, предложили взять на себя повышенные обязательства в честь выборов, и это переполнило чашу терпения Павлова. Он стал нападать на правительство, перекладывающее все школьные расходы на местное население, и сравнивать политику советской власти и царизма не в пользу первой. Несмотря на его выступление, колхозники все же проголосовали за выделение дополнительных средств8^.
Учителя
Учителя вели в деревне жизнь трудную, без всякой уверенности в завтрашнем дне, как это было все время после революции и даже до нее. В отношении многих предметов первой необходимости они зависели от сельской администрации и сельчан. Ими помыкали районные отделы народного образования, то и дело внезапно переводившие их из одной школы в другую, заставляя бросать хоть какую-то, с трудом созданную, хрупкую материальную базу — скромную избу, маленький огород. Создается впечатление (хотя точных данных на этот счет нет), что среди учителей меньшая часть, чем в 20-е гг., были уроженцами той деревни, в которой они преподавали, меньше было состоящих в браке с крестьянами или крестьянками или имеющих в деревне близких родст-
254
венников, которые могли бы помочь им в трудные времена. Товары по карточкам, которые, по идее, должны были иметься в магазинах, то и дело исчезали. Зарплату платили нерегулярно, часто с запозданием. Когда после присоединения старших классов к существующей начальной школе нагрузка учителя возрастала, невозможно было добиться санкции района на соответствующее повышение зарплаты86.
Иллюстрацией к тому, как много значили враждебность или равнодушие местных властей, служит рассказ молодого учителя, впервые приступившего к работе в начальных классах в одной деревне Курской области:
«...В первые же дни я встретил большие препятствия со стороны правления колхоза и совхоза. Уже зима, а в школе нет дров. Ребята занимаются в шубах. Ни правление, ни сельсовет, несмотря на просьбы, школе не помогли. Так же безответственно относится правление колхоза к ремонту школы»87.
Женщины — составлявшие среди сельских учителей почти половину88 — становились объектами вполне предсказуемых домогательств, особенно юные выпускницы педагогических институтов. Один такой эпизод имел место в Кинешемском районе Ивановской области с молодой учительницей, воспитанницей детдома, посланной им на учебу в пединститут и приехавшей, по-видимому, на свое первое место работы после окончания учебы. Председатель сельсовета и секретари партийной и комсомольской ячеек деревни делали ей известного рода предложения и были отвергнуты. В результате предсельсовета уволил ее как «морально неустойчивого человека»89.
Сообщалось и о других затруднениях. Одна сельская школа располагалась в бывшем доме священника, где священник сохранил за собой комнату, отделенную от классной комнаты лишь тонкой перегородкой. Он завел обыкновение срывать уроки, громким голосом читая молитвы; кроме того, «во время уроков поп заходил в класс, беседовал с учениками на "божеские" темы и добивался того, чтобы ученики при его входе в класс вставали». В довершение всего, священник этот был подписчиком «Правды», тогда как школьные учителя не имели возможности подписаться ни на «Правду», ни на «Известия»90.
Жилье учителям часто выделяли совершенно неподходящее. Например, сельский учитель из Харьковской области жаловался в газету, что он и его жена, тоже учительница, живут в хате, соломенная крыша которой прогнила и в дождь пропускает воду, что у них нет ни места, где держать корову, ни уборной. Директор школы жил в таких же условиях, а четвертая учительница «всю зиму жила в кухне директора, а теперь переселилась в кухню школы». Председатель сельсовета не только сложил с себя всякую ответственность за содержание этих строений, но и грозил оштрафовать учителей, если те их не отремонтируют91.
255
Писатель Ф.Гладков в 1934 г. совершил поездку в свою родную деревню в Куйбышевской (бывшей Самарской) области и рассказал об ужасающем состоянии школ в тех местах92. Куда бы он ни попал, писал Гладков, везде видел ветхие, полуразрушенные школьные здания. Некоторые из них использовались во время заготовок под склады зерна. Колхоз в Чернявке, родной деревне писателя, был зажиточный, однако его руководство совершенно не интересовалось школой, которая в прежние (дореволюционные) времена процветала.
«В Чернявке школьное здание было когда-то неплохим. Один из заведующих школой с любовью богато озеленил школьный участок. Рядом — учительский дом. Весь обширный участок был обнесен оградой. А теперь забор изуродован бродячим скотом, зеленые насаждения одичали, сор, грязь, бурьян вокруг здания. Ступеньки крылечек сгнили. И когда пришлось обратить внимание колхозных руководителей на это разрушение, они равнодушно отвечали:
— Некогда об этом думать: у нас сейчас хлебопоставки, молотьба. Плотников нет. Да и не наше это дело — это сельсовет должен заботиться о школах».
В школе не хватало тетрадей, карандашей, карт, пока Гладков не купил их сам. Учителя пали духом. «У них нет напора, воли к борьбе, нет власти, чтобы бороться за школу». Они были отданы на милость местных начальников, любой из которых считал себя вправе устроить им разнос.
«Ведь это же преступление, когда... председатель колхоза, да еще в пьяном виде, врывается в школу во время занятий и распоряжается в классе, как самодур! Не один учитель жаловался мне на свое уязвимое положение: у них начальников "выше головы", начиная от райсовета и райнаробраза и заканчивая председателем колхоза и председателем сельсовета, и каждый первым делом раздает приказы...»
Исторически сельские учителя всегда были жертвами произвола местных властей. В то же время их, как группу, отдельную от крестьянской общины, традиционно воспринимали как агентов или, по крайней мере, союзников государства. После революции подобная двойственность сохранилась. В 20-е гг. коммунисты относились к сельским учителям с подозрением, поскольку многие из них были эсерами и происходили из семей зажиточных крестьян или священников; во время Культурной Революции их часто травили, а порой и по-настоящему «раскулачивали». При всем том в конце 20-х гг. учитель принимал самое непосредственное участие в делах государства в сфере образования (введение обязательного начального обучения, кампания по ликвидации неграмотности) и зачастую выступал с разъяснением, если не прямой защитой колхозной политики. В результате учителя наряду с советскими работниками и коллективизаторами нередко в тот период становились жертвами нападений озлобленных крестьян93.
256
Когда первый угар коллективизации прошел, сельские учителя вновь оказались в двусмысленном положении, особенно часто терпя плохое обращение со стороны местных чиновников, но оставаясь при этом представителями советской власти. Учитель играл центральную роль в распространении новой «советской» культуры на селе, начиная с организации культурной программы революционных праздников и заканчивая пропагандой чистки зубов и ведением курсов ликбеза. Многие учителя избирались членами сельских советов94 — должность, по большей части чисто символическая, демонстрировавшая связь фигуры учителя с системой советских ценностей.
Распространение образования на селе в 30-е гг. повлекло за собой значительное увеличение количества сельских учителей, более чем удвоившегося с 1930 по 1940 г.95. Многие из этих новоиспеченных педагогов едва ли были грамотнее своих учеников.
8 начале 1934 г. 60000 учителей имели за плечами меньше семи классов общеобразовательной школы. Даже два года спустя, когда ситуация несколько улучшилась, лишь около трети учите лей закончили педагогические институты или специальные курсы. С повсеместным открытием в деревне 5 — 7 классов средней школы преподавать в них пришлось многим учителям начальных классов, не обладающим соответствующей квалификацией96.
В середине 30-х гг. в печати начали превозносить старое поколение учителей (больше всего пострадавшее от подозрений в том, что оно социально или политически «чуждо» советской власти) и ставить его в пример новобранцам на педагогическом поприще. Некоторые газеты помещали на своих страницах рассказы о преданных своему делу учительницах, преподававших в одной и той же сельской школе тридцать лет, умевших поддерживать порядок среди учеников и давать им основы знаний. А.Бубнов, нарком просвещения РСФСР, затронул эту тему в 1936 г., подчеркнув роль дореволюционной учительской когорты (составлявшей в Сибири около пятой части всех учителей) как примера для молодых педагогов. В 1939 г. Президиум Верховного Совета наградил 4000 сельских учителей почетными орденами и медалями — хотя, как говорят, профессия учителя была лишь одной из целого ряда профессий, отмеченных таким образом, и далеко не самой первой9'.
Отношение крестьян к образованию
И в 20-е, и в 30-е гг. крестьяне, писавшие властям по поводу образования, часто просили построить в их районе новую школу или оказать финансовую поддержку, чтобы их дети могли учиться, то есть обеспечить их бесплатными завтраками, письменными принадлежностями, учебниками, помочь с одеждой. Подобные просьбы звучали стандартно, и трудно как следует провести срав-
257
9 — 1682
нительный анализ, чтобы выяснить, насколько широко такое отношение было распространено в деревне и насколько твердо его придерживались98.
Признаком того, что крестьяне после коллективизации стали ценить образование выше, чем раньше, может служить быстрое развитие сельской школьной системы. Правда, правительство в начале 30-х гг. сделало начальную школу обязательной и провозгласило курс на всеобщее начальное, а затем всеобщее семилетнее обучение. Но одних планов государства редко бывает достаточно, чтобы добиться таких перемен, особенно если большую часть расходов на образование несут сами крестьяне. Следует предположить, что школы каким-то образом удовлетворяли нужды крестьян в большей степени, чем до коллективизации".
Одна возможная причина этого заключается в том, что в начале 30-х гг. власть отказалась от прежней поддержки прогрессивных педагогических методов — предмета особой ненависти родителей-крестьян, постоянно требовавших, чтобы их детей учили основным навыкам чтения, письма и счета. Педагогические реформы начала 30-х гг., решительный отказ от педагогических экспериментов 20-х гг. положили конец столь частым в предыдущий период жалобам крестьян на несоответствие школьной программы их нуждам. Эти реформы восстановили в правах не только традиционные методы обучения, но и по большей части традиционную школьную программу: в 1934 г. ЦК даже предостерегал школы, чтобы они не перегружали учащихся идеологическими предметами (теория марксизма-ленинизма, материалы партийных съездов), которые недоступны их пониманию и вызывают скуку100.
Однако более важной причиной перемен в отношении к образованию являлось то, что образование стало приносить особую практическую пользу деревенским родителям и их детям. Раньше только меньшинство ориентированных на город крестьян видело в образовании способ улучшить свою жизнь. В 30-е гг. вследствие сопутствовавшего коллективизации обесценивания деревенского образа жизни и ограничения свободы передвижения крестьян посредством паспортной системы, по-видимому, практически все крестьяне усвоили подобный взгляд. Образование давало билет для отъезда из колхоза. Оно служило средством вступить в ряды городского рабочего класса, в глазах крестьян — привилегированной группы, занимающей в советском обществе положение выше, чем их собственное.
Естественно, некоторые родители, придерживаясь узких своекорыстных интересов, утверждали, что если они оставят ребенка в школе после 4 класса, то он потом «уйдет и забудет нас», а, имея лишь 4 класса образования, «будет работать в колхозе и зарабатывать себе на хлеб и будет кормить меня». Однако большинство родителей либо ставили благополучие детей выше собственного, либо рассчитывали, что дети, ставшие работниками с твердым окладом, даже если не будут жить в деревне, лучше смогут
258
позаботиться о них в старости. Сами дети особенно четко прослеживали связь между образованием и жизненным успехом. Например, все учащиеся 5 — 7 кл. одной сельской школы в Серпуховском районе Московской области хотели продолжить обучение101.
Поскольку уехать из деревни для продолжения учебы было так важно, значительная часть крестьянских жалоб на тему образования касается помех, чинимых их отъезду, или труднодоступ-ности для них высшего образования. Архивы полны ходатайств о продолжении учебы от молодых колхозников и жалоб на тех, кто отказывает им в этой возможности. По мнению одного автора ходатайства, новая советская Конституция должна была запретить колхозам мешать отъезду молодых крестьян на учебу, невзирая на нужду в рабочей силе10*.
Еще одной распространенной темой писем было предложение сделать городские техникумы и училища более доступными для крестьян либо посредством введения специальных квот по приему (как те, что в 20-е гг. существовали для пролетариев и их детей), либо с помощью более щедрого выделения стипендий. Государство должно ввести льготы, чтобы дети колхозников были представлены в вузах в той же степени, как и выходцы из других социальных групп, писал один крестьянин во время обсуждения Конституции. В противном случае «выходит, что учиться смогут в высших учебных заведениях только дети учителей, докторов, инженеров, профессоров и т.п.»103.
Польза образования для коллективизированного села заключалась не только в облегчении отъезда. Образование способствовало и продвижению в сельской среде. Колхоз ввел систему поощрений для колхозников, основанную на предоставлении возможности приобрести особые навыки или какую-либо официальную специальность, подобного в деревне никогда еще не существовало. Если колхозника посылали в райцентр на шестинедельные курсы счетоводов или птицеводов, это открывало ему путь к выдвижению из рядовых полевых работников на более высокую и лучше оплачиваемую должность колхозного счетовода или заведующего птицефермой. Поэтому среди колхозников велось соревнование за право попасть на такие курсы (отбор достойных обычно был прерогативой председателя). От крестьян приходило множество писем с жалобами на то, что их не послали на курсы водителей, или бухгалтеров, или животноводов. Протестовали они и в тех случаях, когда по окончании курсов не получали надлежащего признания и работы по специальности в колхозе или МТС104.
Письма крестьян 30-х гг. отражали их твердое убеждение, что образование — их право. В свою поддержку они цитировали новую Конституцию.
«Считаю, что каждый гражданин, в том числе и колхозник, имеет право на образование, это же говорится в проекте новой конституции», — писал молодой колхозник из Ленинградской области, возмущенный тем, что правление колхоза не дало ему воз-
9. 259
можности уехать учиться. «Золотыми буквами написано в Сталинской Конституции: каждый гражданин Советского Союза имеет право учиться», — заявлял разгневанный колхозник из Воронежской области, которому не разрешили пойти на курсы, чтобы приобрести квалификацию тракториста или шофера105.
То было решительное утверждение ценностей определенно «советских», не являющихся частью традиционной крестьянской ценностной системы, редкий в 30-е гг. пример, когда большинство взрослых крестьян всем сердцем приняли ключевой компонент советской идеологии — провозглашение центральной роли образования как средства индивидуального продвижения и улучшения жизни общества.
9. Злоба
Злобы, ненависти и ожесточения в десятилетие, последовавшее за коллективизацией, хватало в деревне с избытком. Государство начало коллективизацию и проводило ее в принудительном порядке, против воли крестьян, и нет сомнений в том, что именно государство и его уполномоченные служили главными мишенями для их негодования. Но не единственными — значительная доля крестьянской злости оказалась направлена на собратьев. Хотя коллективизация нанесла удар крестьянству в целом, это вовсе не значит, что она способствовала солидаризации деревни. Напротив, российское село (колхоз) 30-х гг. кажется местом, где вовсю процветали склоки и разброд, а взаимная поддержка и солидарность среди крестьян встречались редко. Разумеется, государство вряд ли могло приветствовать проявления подлинного духа солидарности в новых колхозах, поскольку это открывало бы возможность активного коллективного сопротивления и, вероятно, возрождало бы общинные традиции, которые государство предпочитало похоронить. Но не видно и никаких признаков того, что сами крестьяне стремились к единству и гармонии в деревне, которые пролили бы бальзам на раны, нанесенные коллективизацией. Наоборот, на протяжении всех 30-х гг. в российском селе, как кажется, царил дух неудержимой злобы.
Ряд обстоятельств вызывали или усиливали разлад в деревне. Во-первых, насилие и общее беззаконие, порожденные коллективизацией и в первой половине десятилетия главным образом находившие выражение в бандитизме, нападениях на советских работников и селькоров, стычках между коллективизированными и не-коллективизированными крестьянами, а во второй половине — в нападениях на стахановцев. Во-вторых, — неопределенный статус бывших кулаков и раскулаченных, постоянно создававший проблемы на протяжении всего довоенного периода. В-третьих, — сильнейшие внутрисельские раздоры, часто связанные с обидами и претензиями, возникшими в ходе коллективизации и раскулачивания, но подпитывавшиеся и стремлением соперничающих деревенских группировок захватить в свои руки контроль над ключевыми постами в колхозе. В-четвертых, — распространенная среди крестьян практика доносов и жалоб властям. Этот обычай имел некоторую историческую традицию, а вдобавок еще и поощрялся советским режимом.
ПРЕСТУПНОСТЬ И НАСИЛИЕ
Бандитизм, пышным цветом расцветший во время гражданской войны, но в 20-е гг. умерший, в результате коллективизации
261
возродился с новыми силами. Раскулаченные кулаки часто возглавляли банды, которые, как говорят, были меньше тех, что действовали в гражданскую, и насчитывали, как правило, от 2 до 5 человек. Согласно донесению органов внутренних дел Западной области в 1934 г., они были вооружены револьверами, обрезами и охотничьими винтовками, однако в среднем на каждую банду в данном регионе приходилось всего 1 — 2 единицы огнестрельного оружия. Колхозы и колхозные активисты служили главной мишенью их преступной деятельности, включавшей «зверские убийства» колхозных руководителей, физическую расправу с колхозниками, поджоги и прочие формы уничтожения колхозного имущества. Сводка 1931 г. по Сибири, где бандитов было особенно много, показывает, что от их налетов пострадало более 40% колхозов. В целом по Союзу, согласно колхозной переписи, проведенной весной 1931 г., каждый шестой колхоз подвергался бандитским нападениям1.
Хотя бандитизм, как негативное социальное явление, не слишком широко освещался в советской печати, время от времени в ленинградской газете «Крестьянская правда» появлялись яркие, живые рассказы на эту тему. Так, в одной деревне Порховского района (Ленинградская область) бандиты убили колхозного председателя и тяжело ранили районного милиционера. Председатель, коммунист-двадцатипятитысячник, услышал о том, что в доме одного из колхозников скрываются подозрительные личности. Придя туда с милиционером, он встретил двух вооруженных головорезов: М.Е.Орехова по кличке «Черт», не имеющего постоянных занятий и места жительства, и Филарета Дружинина по кличке «Поп», сына бывшего архиерея этого района. Орехов имел 5 уголовных судимостей, а Дружинин бежал из тюрьмы, куда попал за воровство в колхозе. При появлении председателя и милиционера двое бандитов открыли огонь из винтовок и затем скрылись. Орехова схватили почти сразу же, однако Дружинина задержали не раньше чем через несколько месяцев, на квартире его отца в Ленинграде, где милиция обнаружила 5 револьверов и большое количество боеприпасов2.
Месяц спустя та же газета рассказывала еще об одном случае бандитизма, на этот раз в Крестецком районе. Здесь бандитами были Алексей Столбнев, лицо без постоянных занятий и места жительства, и Васильев-Лаврентьев, названный «твердозадан-цем», т.е. в глазах советской власти почти кулак. Оба сидели в тюрьме, вероятно, за какие-то прегрешения, связанные с коллективизацией, но бежали и нашли укрытие у родственников Столб-нева, Петра и Марии Столбневых, подделав удостоверения личности на официальных бланках, которыми их снабдил бывший председатель сельсовета. Получив револьверы и обрез от Петра Столбнева, тоже имевшего в прошлом судимости за поджог и хулиганство, и боеприпасы от другого твердозаданца, они начали терроризировать местные колхозные кадры:
262
«С некоторых пор активистам-колхозникам Кушневеровского сельсовета Крестецкого района стало опасно выходить вечером на улицу и особенно проходить мимо леса. Из леса стреляли. Стреляли по тем людям, которые разоблачали классовых врагов, очищали деревню от хулиганов. Нападению подвергся коммунист Наумов, дважды стреляли в заведующего школой Бюнгера, случайно спаслись от смерти секретарь сельсовета Гаврилов и ветеринарный техник Ульянов...»3
Столбнев и Васильев-Лаврентьев одними из первых получили смертный приговор за бандитизм, введенный в РСФСР в марте 1935 г. и широко применявшийся, по крайней мере вначале. В Московской области 63% осужденных за бандитизм в течение месяца после принятия соответствующего постановления были приговорены к смерти. Применение смертного приговора за бандитизм, по-видимому, смущало юристов, однако, по всем признакам, пользовалось большой популярностью среди населения — центральный юридический журнал даже рекомендовал судьям не слишком идти в этом вопросе на поводу у настроений общественности4.
В 1937 г. органы внутренних дел Горьковского края рапортовали о ликвидации действовавшей долгое время банды Романова, прославившейся не только вооруженными грабежами в Воскресенском районе, но также поджогами и убийствами сельских активистов. По словам чекистов, банда возглавлялась кулаками и состояла из молодых уголовников, родители которых были «социально чуждыми» (по-видимому, кулаками, священниками, нэпманами и т.п. — все они занимали положение отщепенцев в советском обществе). Это одно из последних сообщений о бандитизме такого типа, с участием экспроприированных кулаков, мстящих колхозам, охватившем страну в первые годы после коллективизации. Впоследствии бандитизм еще продолжал мучить деревню, но принял более традиционную форму налетов и грабежей крестьянских селений, совершаемых разбойниками, скрывающимися в лесах^.
После коллективизации в деревне пышным цветом расцвело также «хулиганство». Это была новая форма антиобщественного поведения, разительно отличавшаяся от хвастливого иконоборчества, попрания родительской власти хулиганами-подростками в 20-е гг. Новое деревенское хулиганство имело мрачную, мстительную, антисоветскую окраску, и взрослые оказывались повинны в нем столь же часто, как и подростки. Как говорил в середине 30-х гг. один советский правовед, данный тип хулиганства, как правило, имел связь с протестом против хлебозаготовок или государственных посевных планов, в число его проявлений входили срыв колхозных собраний и физическая расправа с должностными лицами6. Крестьяне часто совершали хулиганские действия в состоянии опьянения, придававшем им смелость и позволявшем впоследствии отрицать наличие антисоветского умысла. В отличие от прежнего
263
деревенского хулиганства, представлявшего по сути вызов традиционным крестьянским ценностям и связывавшегося в сознании окружающих с комсомолом и просоветской ориентацией, новое хулиганство, по всей видимости, стало формой сопротивления крестьян государству, порожденной возмущением против коллективизации.
Угрозы колхозным руководителям, вспышки неповиновения при проведении хлебозаготовок, избиение активистов, срыв собраний — вот характерные проступки, преследовавшиеся в то время по закону как хулиганство. Юридический журнал приводит в пример случай в одном сельсовете, где администрация созвала собрание, чтобы организовать среди крестьян «добровольную» подписку на государственный заем. «Группа хулиганов», узнав об этом, «...ворвались на заседание, подняли дебош, разбили лампу и всех разогнали»; затем принялись громить здание правления. В другом случае хулиганские действия были совершены во время проведения хлебозаготовок: пьяный колхозник ворвался в амбар, где молотили зерно, «открыл стрельбу в колхозников, работавших на молотьбе, двоих ранил и сорвал молотьбу»7.
Особенно ярким примером хулиганства в знак неповиновения может служить поведение одного колхозника по фамилии Щед-ров, «...во время заготовок явившегося на работу пьяным»:
«Проезжая пьяным верхом на лошади, Щедров увидел комиссию по заготовкам картофеля, стал оскорблять ее и хулиганить, уселся на лошади лицом к хвосту и, проезжая по деревне, дергал лошадь за хвост, крича: "Вот как надо сдавать заготовки"»8.
Страдала деревня и от обычных форм хулиганства, являвшихся показателем упадка нравов среди населения. В деревне Арши-ница Западной области 14-летний мальчик, сын твердозаданца, не вступившего в колхоз, застрелил 15-летнюю девочку во внезапном приступе злобы, без всякого определенного мотива. Расследование, проведенное обкомом, показало, что Аршиница и соседняя деревня печально прославились многочисленными случаями хулиганства. По словам 60-летней женщины из аршиницкого колхоза, «с наступлением вечера мы уже привыкли закрывать двери и окна. На огородах нельзя ничего садить. Нельзя слова сказать против хулиганов...»9.
Как ни странно, по-видимому, в 30-е гг., как и в 20-е, в деревнях не было регулярной милиции (или отделов НКВД), и немногочисленная районная милиция выбивалась из сил, пытаясь поддерживать порядок в окружающей сельской местности10. Неудивительно, что крестьяне то и дело жаловались: «Преступления у нас... остаются безнаказанными», — и предлагали различные способы, чтобы исправить положение дел, например, говорили, что самосуд, старую форму сельского народного правосудия, «нужно просто разрешить законом». В ходе обсуждения новой Конституции 1936 г. некоторые предлагали также дать работникам сельсоветов право арестовывать хулиганов и воров на месте, «а иначе они скроются и их больше не поймаешь»11. На практи-
264
ке, как явствует из многочисленных донесений и замечаний, администрация колхоза и сельсовета зачастую присваивала себе это право без всякой легальной санкции. Одним из последствий недостаточного внимания властей к поддержанию правопорядка в деревне было то, что каждому административному работнику приходилось исполнять обязанности милиционера.
В первой половине 30-х гг. вражда между колхозниками и единоличниками, не вступившими в колхоз, нередко вела к насилию и беспорядкам. Поступали сообщения о деревнях, где единоличники наклеивали колхозникам на окна листовки с угрозами убить их всех. В некоторых местах колхозники, вернувшись с поля, обнаруживали, что их личное имущество украдено, причем это были не обыкновенные кражи, а «более демонстративного порядка хищения, когда неподалеку находят похищенные предметы уничтоженными» *2.
Обычным делом в начале 30-х гг. были акты насилия в отношении колхозных руководителей и активистов. Особенно часто подвергались им председатели колхозов и сельсоветов, но учителя и прочие представители местной «интеллигенции» тоже рисковали. В одном уральском селе «группа пьяных колхозников с криками "кровопийцы" ворвались в Правление и пытались избить счетовода», а один разъяренный колхозник, явившись к председателю и не найдя его дома, в отместку избил его жену. В Кировской области в 1934 г. учительница была серьезно ранена, когда взорвали ее дом, якобы чтобы покарать ее как советскую активистку13.
Селькоры — внештатные корреспонденты газет, чьи разоблачения местных правонарушений вызывали сильное раздражение в деревне, — в начале 30-х гг. часто становились жертвами насилия. Приобретшее широкую известность дело такого рода — убийство Стригунова, колхозного бригадира и селькора из Воронежской области, находившегося в затяжном конфликте с верховодившей в деревне группировкой, пришедшей к власти и в колхозе. Безуспешные покушения на его жизнь имели место и зимой 1931 г., и осенью 1932 г. (тогда в него выстрелили через окно и промахнулись), наконец, летом 1933 г. он был убит. После этого газеты и органы правосудия развернули широкую кампанию по защите селькоров и ужесточению наказаний для тех, кто нападал на них. В 1932 г. в судах РСФСР рассматривались 462 таких дела; в 1933 г. только в первой его половине их было зарегистрировано 31314.
Во второй половине 30-х гг. колхозные стахановцы стали постоянными жертвами нападений со стороны остальных крестьян, завидовавших их привилегиям или возмущенных их сотрудничеством с советской властью. Стахановское движение, начавшееся в 1935 г. в промышленности и быстро распространившееся на сельское хозяйство, объединяло отдельных рабочих или колхозников, добровольно перевыполнявших нормы и повышавших производи-
265
тельность своего труда, и участники его публично прославлялись и вознаграждались государством. По идее, повышение производительности труда должно было достигаться с помощью усовершенствования или рационализации методов производства, но в колхозе это зачастую означало просто выполнение большего количества работы. Стахановцы-мужчины в сельском хозяйстве обычно были трактористами или комбайнерами, а женщины — игравшие в сельском стахановском движении куда большую роль, нежели в городском, — часто работали доярками или скотницами.
Стахановцев везде не любили, как штрейкбрехеров и виновников повышения норм, но в деревне подобное отношение проявлялось чаще и принимало более насильственные формы. Односельчане часто избивали и угрожали смертью известным стахановцам, когда те возвращались с областных или всесоюзных совещаний, где отмечались их достижения. На одного стахановца, не названного по имени, другой колхозник набросился «за то, что он в конце рабочего дня предложил докосить оставшиеся 2 га семенников клевера». Женщины-стахановки нередко подвергались поношению и прямым нападениям как со стороны других женщин, так и со стороны мужчин. В Сычевском районе Западной области летом 1937 г. были отмечены 19 криминальных инцидентов, связанных со стахановским движением в сельском хозяйстве. Типичные преступления против стахановцев — побои, оскорбления, всевозможные издевательства, порча льна, выращенного стахановскими отрядами. Жертвами главным образом становились женщины, нападавшими были мужчины!5.
Во время Большого Террора на селе появилась особая категория преступлений — преступления против жертв НКВД и членов их семей либо преступления, совершаемые лицами, заявляющими о своих связях с НКВД. Примером может служить попытка изнасилования колхозницы из Краснодарского края Елены Сусловой, муж которой незадолго до того был арестован как «враг народа». Как описывается в полуграмотном письме в «Крестьянскую газету», насильник, бывший председатель станичного совета Пантелей Павленко, «напился пьяный, часов в 8 вечера пришел на квартиру к Сусловой Елене и говорит: "Иди в стан, совет, вызывает тебя НКВД". Женщина испугалась, спрашивает зачем. Он отвечает, оттуда не вернешься, а на пути, говорит, все в моих руках, могу спасти тебя. Суслова стала просить его, он набрасывается на нее и начинает безобразничать. Суслова стала защищаться и стала просить его. Если ты упираешься, говорит Павленко, то будет хуже, посадим. Ты знаешь, сейчас сажают ни за что»16.
В другом случае, тоже описанном в жалобе, направленной в «Крестьянскую газету», банда молодых крестьян — по крайней мере один из них имел уголовное прошлое — в 1937 — 1938 гг. терроризировала деревню Малиновка Саратовской области более года, заявляя, что им ничего не будет, потому что у них связи в
266
районном отделе НКВД. Однажды они при свете дня вломились к колхознику Арсентию By ко лову, требуя у него водку и закуску. «"В противном случае, — говорили они Вуколову, — мы дадим на вас материал, по которому вас выселят из Саратовской области". Причем Конюхов, Сапрыженков и Мельников говорили, что они в почете у руководителей района, особенно у одного работника следственного органа Аркадакского района»17.
ТЕНЬ КУЛАКА
Хотя кулаков в российской деревне экспроприировали и в большинстве случаев сослали или отправили в Гулаг, на том дело не кончилось. Их тень все 30-е гг. нависала над деревней. Раскулачивание оставило за собой кучу ходатайств, судебных дел, имущественных споров, рассмотрение которых затянулось на годы. Родственники сосланных и арестованных кулаков, заклейменные как пособники, прилагали все усилия, чтобы смыть с себя пятно. Некоторая часть кулаков, раскулаченных, но не арестованных и не сосланных, по каким-либо причинам решившая не следовать примеру большинства и не бежать в город, искала способ выжить в деревне. «Разоблачение» бывших кулаков, пытающихся скрыть свое истинное лицо, стало привычным ритуалом как в колхозах и совхозах, так и на городских предприятиях. Крестьяне, занятые внутренними склоками, поняли, что ни один аргумент не производит на советскую власть такого впечатления, как обвинение противника (неважно, обоснованное или нет) в «связях с кулаками».
Раз кулаки (реальные или воображаемые) сошли со сцены, их место заняла новая опасная категория: раскулаченные. Существование бывших кулаков порождало бесконечные правовые и административные проблемы. Надо ли разрешать им вступать в колхоз, если их поведение доказывает их внутреннее перерождение? Надо ли разрешать им возвращаться в свои деревни, если раньше они были сосланы? Могут ли они быть реинтегрированы в общество, и если да, то как и где? Несмотря на запрет на возвращение сосланных кулаков в родные деревни, кое-кто из них вернулся и был готов в любой момент, как только представится возможность, предъявить претензии на дом, конфискованный под колхозное правление, или самовар, ставший собственностью колхозника, а другие, поселившиеся в близлежащих городах, периодически наезжали в деревню, напоминая односельчанам о потенциальной возможности таких претензий. Некоторые бывшие кулаки во второй половине десятилетия вступали в колхозы, и, вероятно, на законных основаниях, хотя — следуя причудливо извращенной советской административной логике — законность их держалась в секрете. Кое-кто из них даже становился председателем колхоза, что не противоречило закону, но встречало глубокое неодобрение.
267
Партийное руководство проявляло неуверенность, и, по-видимому, мнения по вопросу о том, как быть с бывшими кулаками, разделились. Крестьяне же, со своей стороны, относились к потенциальному и фактическому возвращению раскулаченных очень настороженно. Объяснялось это не столько застарелой ненавистью к кулакам, сколько опасением, что с возвращением выселенных начнется новый виток взаимных обвинений, мести и встанут всевозможные щекотливые вопросы насчет проданного имущества, конфискованного у кулаков.
Политика в отношении бывших кулаков
Политика партии и государства в отношении кулаков в 30-е гг. (после окончания последней из кампаний по раскулачиванию в 1932 — 1933 г.) была заметно непоследовательной, а порой противоречивой. На повестке дня стояли два главных вопроса: можно ли полностью восстановить сосланных кулаков и их детей в гражданских правах, включая право на возвращение, и достойны ли бывшие кулаки и их дети стать членами колхоза.
Сосланные кулаки были по закону восстановлены в гражданских правах в мае 1934 г. — однако, как разъясняло дополнительное постановление в январе 1935 г., это не означало для них права покинуть место поселения. Таким образом, формальная уступка становилась по сути бессмысленной. Ссыльные не могли вернуться домой, и этот запрет оставался в силе до конца 40-х — начала 50-х гг. (хотя дети ссыльных получили свободу передвижения в 1938 г.)18.
Кажется, все-таки был момент, когда партийное руководство (или хотя бы часть его) подумывало о том, чтобы разрешить ссыльным кулакам вернуться в свои деревни. Яковлев, зав. сельскохозяйственным отделом ЦК, явно намекал на такую возможность в своей речи на Втором съезде колхозников-ударников, посвященной проекту Устава сельскохозяйственной артели. Однако делегаты встретили подобное предложение без всякого энтузиазма, и публично оно больше не выдвигалось19.
Что касается вопроса о праве бывших кулаков на членство в колхозе, то Устав сельскохозяйственной артели, утвержденный Вторым съездом в марте 1935 г., попытался его прояснить, но в результате только еще больше запутал. Яковлев, по всей видимости, и тут занимал «мягкую» позицию, предлагая принимать в колхоз бывших кулаков, которые действительно исправились. Именно такое прочтение соответствующего пункта Устава он дал позднее партийным активистам, но на самом деле в этом пункте говорилось несколько иное. Устав позволял вступать в колхоз детям кулаков, а также разрешал ссыльным кулакам и членам их семей вступать в существующие колхозы или создавать новые в местах
268
их поселения. О том, могут ли не сосланные кулаки вступать в колхоз в своей родной деревне, умалчивалось20.
В декабре 1935 г. какие-то подводные течения в политике партийных верхов вызвали новую попытку уточнить и разрешить кулацкий вопрос. По словам одного советского историка, ЦК решил снять запрет на прием бывших кулаков в колхоз в ходе дискуссий, приведших к принятию постановления о коллективизированном сельском хозяйстве в Нечерноземной полосе. Должно быть, ЦК вдобавок принял решение сохранить этот пункт в тайне от всех, кроме узкого круга коммунистического руководства: его нет в опубликованном тексте постановления, как нет и ссылок на него в тогдашней печати21.
Почти в то же время Сталин и Яковлев совместно поставили маленький спектакль на тему исправившихся кулацких детей на съезде стахановцев-комбайнеров. Один из делегатов, А.Г.Тильба из Башкирии, рассказал, что он, сын сосланного кулака, сам пробился в жизни, начав с работы на стройке, и стал комбайнером-рекордсменом в совхозе. Однако из-за его кулацкого происхождения местное руководство не хотело посылать его на всесоюзный съезд стахановцев, невзирая на все его достижения, и понадобилось вмешательство Яковлева, чтобы он получил приглашение22.
Когда Тильба закончил свой рассказ, Сталин ободряюще отозвался со своего места: «Сын за отца не отвечает». Это замечание было помещено в газетах наряду с отчетом о съезде, и слова Сталина быстро вошли в советский фольклор. Однако, что совершенно нетипично, советская печать не подхватила и не развила эту тему; встречались даже выражения несогласия с политикой ослабления бдительности по отношению к детям классовых врагов2-*.
Политика примирения с бывшими классовыми врагами все еще оставалась неизменной к моменту торжественного обнародования новой сталинской Конституции в 1936 г., несмотря на разлад и неуверенность, царившие за кулисами в течение двух лет ее составления. Конституция гарантировала избирательные и прочие гражданские права всем гражданам, включая бывших кулаков. Более раннее законодательство отчасти предвосхищало эту статью, но именно в ее появлении и коммунисты, и кулаки усмотрели некий поворотный момент. В Сычевском районе Западной области секретарь райкома собрал председателей сельсоветов и велел им уничтожить все списки кулаков, лишенцев и твердоза-данцев, которые остались в районе с начала 30-х гг. Официально принимать бывших кулаков в колхоз еще не разрешили, однако к 1937 г. подобная практика уже была широко распространена. Некоторые из них восприняли новую Конституцию как знак того, что пришло время ходатайствовать о возвращении конфискованных земли и имущества24.
Многие крестьяне, участвовавшие в организованном сверху всенародном обсуждении новой Конституции, выражали сомнения по поводу политики примирения с бывшими кулаками. Кулаки
269
злорадствуют, писал колхозник из Горьковского края, потому что видят в такой политике начало восстановления старого порядка. Они выжидают момента, чтобы отомстить всем, кто принимал участие в раскулачиваниях 1930 г. или получил от них какую-либо выгоду. Поэтому будет очень плохо, если бывшим кулакам станут доступны административные посты, даже позволять им голосовать и вьщвигать свои кандидатуры на советских выборах — преждевременно. Только дети кулаков, «та молодежь[, которая] уже впитала наши ценности и не разделяет взглядов своих отцов», готовы к этому. Нехорошо давать бывшему кулаку право избирать и быть избранным, писал другой крестьянин, потому что, даже если он кажется примирившимся с советской властью, внутри он «полон злобы и вражды... Он, несомненно, по старой привычке станет сбивать своим медным хвостом бывший трудящийся пролетариат, который не в редких случаях и сейчас еще не вполне стал зажиточным и среди которого есть много неграмотных и малограмотных»25.
Эти неутихающие подозрения вырвались наружу во время Большого Террора, как на местах, так и в центре. Как мы уже видели, в июле 1937 г. Сталин негласно распорядился выловить и расстрелять десятки тысяч вернувшихся из ссылки бывших кулаков и других «закоренелых преступников». Несколько месяцев спустя руководство Сычевского района, пытавшееся следовать политике классового примирения, было обвинено на местном показательном процессе в «создании хорошей обстановки» кулакам. Повсеместно поднялась новая волна террора против лиц, имеющих связи с кулаками или кулацкое прошлое, и унесла многих бывших «классовых врагов», ставших теперь «врагами народа»26.
Стратегии выживания
Большинство раскулаченных, но не сосланных и не посаженных в тюрьму кулаков бежали из деревни в город. Тем не менее, довольно много их осталось и в деревне, ведя существование отщепенцев (хотя порой и процветая). Одни остались в своих родных селах, другие перебрались к родственникам, живущим по соседству. Так как скот и инвентарь у них отобрали, в вступать в колхозы им в первые годы после коллективизации не разрешали, то снова завести хозяйство было трудно. Формальное положение о кулаках «3-й категории», обязывающее переселять их на бросовые земли в пределах района, на практике, по-видимому, мало что значило. В действительности бывших кулаков бросали на произвол судьбы. Они сами должны были искать не только способ поддерживать свое существование, но и жилье (поскольку их дома при раскулачивании отходили колхозу).
Что им было делать? Чтобы выжить, бывшие кулаки просто обязаны были так или иначе нарушать советские законы, и, разу-
270
меется, регулярно их нарушали. Кто-то приобретал участок земли, нелегально или окольными путями, и обрабатывал его. Часто для этого нужно было дать взятку председателю колхоза или сельсовета, поскольку колхозы вели весьма активный (хотя и совершенно незаконный) бизнес, сдавая в аренду участки отсутствующих. Практиковался и самовольный захват государственных земель. По сообщениям из Донецкой области в 1935 г., среди тех, кто незаконно завладевал участком государственной земли, строил на нем избу и амбар из ворованного государственного леса и начинал его возделывать, были местные «кулаки» (т.е., скорее всего, раскулаченные). Как отмечалось в одном негодующем письме, эти крестьяне, пока их не поймали с поличным, находились в наивыгоднейшем положении, не платя налогов и не получая ни посевных планов, ни заданий по госпоставкам27.
Некоторые бывшие кулаки переселялись в другую деревню и зарабатывали на жизнь промыслами, торговлей на черном рынке или (как сообщалось в одном случае) тренировкой лошадей; другие, используя личные связи, перебирались на новое место и вступали в колхоз. Ради того, чтобы купить дом в деревне — не говоря уже о приусадебном участке, — вершились всякого рода темные дела. Так, например, один бывший «кулак», по-видимому, деревенский сапожник, изгнанный из родного села, поселился в соседнем районе, где получил должность служащего с помощью своего покровителя-коммуниста, возглавлявшего местный отдел путей сообщения. Он завел также частную сапожную мастерскую, наняв двоих подмастерьев, торговал сапогами, семенами клевера с черного рынка (по 250 руб. за пуд), а иногда и водкой. На новом месте жительства колхоз дал ему участок земли, конфискованный у местного крестьянина (вероятно, после взятки колхозному председателю), вдобавок сельсовет дал добро на приобретение им фруктового сада28.
Конечно, многие раскулаченные уехали в город. Но это не значит, что они там затерялись. Город часто был близко, и переселившиеся туда кулаки периодически наезжали в родную деревню, в основном, с точки зрения властей, чтобы нервировать колхозников и строить всякие козни. М.Алексеев в своей автобиографической повести вспоминает о постоянных визитах в его саратовскую деревушку группы раскулаченных, которые жили теперь на окраине Саратова и успешно занимались торговлей на черном рынке. В газетной статье 1937 г., где речь идет об одной деревне Симферопольской области, отмечается, что «кулаки, высланные из деревни Стиля в период раскулачивания, часто наезжают в деревню» и что бывший деревенский мулла тоже побывал там и всячески поносил советскую власть в разговорах с сельчанами. Из деревни Моховатка Воронежской области все кулаки во время коллективизации уехали работать в Воронеж и другие города, но несколько лет спустя одна группа тайно вернулась ночью и избила до полусмерти одного из организаторов колхоза2^.
271
Раскулачивание начала 30-х гг. породило массу правовых, имущественных и семейных сложностей, дававших о себе знать на протяжении всего десятилетия. Некоторые раскулаченные фиктивно разводились, чтобы оставить имущество своим женам, хотя власти скептически взирали на подобные уловки. На Урале, к примеру, жена раскулаченного подала иск о возвращении ей конфискованного имущества мужа, мотивируя это тем, что сама она не крестьянка, а принадлежит к рабочему классу. (Иск был отклонен на том основании, что в последние 5 лет до раскулачивания она жила и работала как крестьянка и кулацкая жена30.)
Внимание центрального юридического журнала привлек один случай, когда жена кулака, подавшая иск о возвращении половины конфискованного имущества, воспользовалась лозунгом освобождения женщины: признавая, что муж ее в самом деле кулак, она заявляла, что в течение 20 лет совместной жизни была у него батрачкой, а не партнером-эксплуататором. Другая жена крестьянина, исключенная вместе с мужем из колхоза на том основании, что ее покойный свекор был торговцем, тоже, составляя ходатайство в Наркомзем, призвала на помощь квази-феминистскую фразеологию. Колхоз, утверждала она, не должен относиться к ней просто как к придатку своего мужа, их дела следует рассматривать отдельно. Какое бы ни было вынесено суждение о социальном положении мужа, писала женщина, сама она из семьи бедняков, свекра (умершего в 1922 г.) никогда не знала и поэтому «не могла заразиться его идеологией»31.
Сосланным кулакам возвращаться в свои деревни было запрещено. Но это не значит, что никто из них не возвращался. Многие тут же бежали из мест поселения, куда их отправляли как ссыльных или осужденных, правда, если они появлялись в родной деревне, их чаще всего ловили и высылали обратно. Такими неудачливыми беглецами были несколько братьев поэта А.Т.Твардовского. Ссыльные могли также покинуть место поселения, дав взятку председателю сельсовета, чтобы тот санкционировал их отъезд под предлогом отходничества. (Согласно недавним исследованиям, как раз в такого рода преступлении Павлик Морозов, знаменитый юный доносчик, обвинял своего отца, председателя сельсовета3^.)
Как ни парадоксально, официальный запрет на возвращение в свою деревню действовал только в отношении сосланных кулаков («второй категории») и не касался кулаков «первой категории», считавшихся столь опасными, что их отправляли в тюрьму или в лагерь. По крайней мере некоторые из них, отбыв 3—5 лет в заключении, возвращались домой и становились источником множества неприятностей и конфликтов33.
Вернувшимся, несомненно, безопаснее было жить не в своей деревне, где они были известны властям, а где-нибудь в другом месте. Такой путь избрал Пилюгин, крестьянин из Донецкой области, возвратившийся туда в 1934 г., после того как был выслан
272
ОГПУ несколькими годами раньше за агитацию против колхоза. Хотя семья Пилюгина не хотела расстаться с приусадебным участком в деревне, сам он решил, что благоразумнее будет куда-нибудь уехать. Пилюгин продал дом и участок односельчанину (совершив незаконную сделку) и подался в другой район области, где незаконно поселился на государственной земле и построил себе дом. (Будучи человеком с предпринимательской жилкой, он позднее продал и эти дом и землю еще кому-то за 400 руб., а затем начал все сначала***.)
Другие вернувшиеся кулаки показывались в деревне, только чтобы выправить документы, необходимые для новой жизни в городе. Например, в село Любыш Западной области возвратился в 1935 г. после 5 лет ссылки Василий Кузин, «известный кулак не только в Любыше, но во всем Дятьковском районе», бывший крупным торговцем и сдававший землю в аренду. Дочь его, по-видимому, была колхозной активисткой, а сын — членом партии. Кузин уговорил председателя сельсовета восстановить его с женой в списке граждан, имеющих право голоса, затем успешно выхлопотал себе паспорт и отбыл в ближайший город36.
Положение бывших кулаков улучшилось после того, как ЦК негласным постановлением в конце 1935 г. разрешил перековавшимся кулакам вступать в колхоз. Но данное постановление, разумеется, создало новые проблемы, и одна из наиболее досадных касалась бывшего жилья кулаков. Эти дома, конфискованные во время коллективизации, как правило, были лучшими в деревне. Они становились законной собственностью колхоза (хотя порой на них зарилось и захватывало их вышестоящее начальство), нередко отдавались под колхозное правление, клубы, школы, ясли и другие общественные учреждения. Кроме того, дома (но не участки, на которых они стояли) могли быть более или менее законно проданы. Когда же бывших кулаков принимали в колхоз, многие из них в первую очередь пытались вернуть себе прежнее жилище.
В 1936 г. в печати регулярно стали появляться сообщения о возвращении домов бывшим кулакам. Например, в Борисовском районе Курской области в 1936 г. и первой половине 1937 г. по меньшей мере 75 домов вернули кулакам, их бывшим владельцам, невзирая на протесты остальных сельчан; подобные же случаи, по словам газет, происходили повсюду в области36. Вероятно, чаще всего в действительности имела место продажа колхозом домов бывшим владельцам, хотя об этом редко говорилось открыто, но бывало и так, что раскулаченные (и те, кто по-прежнему жил в деревне, и те, кто не жил) воспринимали новую политику по отношению к кулакам как позволение ходатайствовать о безвозмездном возвращении имущества, неправомерно конфискованного у них во время коллективизации3?.
Передача домов редко обходилась без вражды и стычек, поскольку возвращение дома бывшему владельцу означало выселе-
273
ние нынешних его обитателей. Свое негодование по поводу возврата домов кулакам выражали крестьяне-свидетели на некоторых районных показательных процессах 1937 г. Так, например, на процессе в Курском районе местных руководителей обвиняли в потворстве бывшим кулакам, вернувшимся из ссылки и лагерей, заключавшемся в том, что последним позволили вступить в колхоз и в ряде случаев получить обратно свои дома; двое из облагодетельствованных таким образом кулаков проходили на этом процессе вместе с районным руководством. В Смоленской области во время такого же процесса крестьяне свидетельствовали об «огромном ущербе», нанесенном колхозам района бывшими кулаками, сделавшимися колхозными председателями38.
Крестьянин из Курской области написал гневное письмо в том же духе в «Крестьянскую газету», рассказав, как один предприимчивый колхозный председатель выкрутился во время неурожая 1936 — 1937 гг., приведшего колхоз на грань экономического краха и заставившего 20 семей бежать из области в поисках пищи и заработка. Этот председатель «начал вербовать кулаков в колхоз, говорить кулакам: "Выплачивайте за дома деньги и живите и ходите работать в колхоз"». Таким образом он продал бывшим кулакам 8 домов с прилегающими участками, обеспечив себе (будем милосерднее и скажем — колхозу), пожалуй, единственный существенный доход за весь год39.
Раз бывших кулаков принимали в колхоз, существовала возможность, что эти люди, многие из которых, должно быть, заправляли в деревне до коллективизации, снова займут руководящие должности. Разумеется, советская власть никак не могла приветствовать такое развитие событий. Приветствовали ли его крестьяне — другой вопрос, на который не так-то легко ответить. Поворот к расширению «колхозной демократии» в середине 30-х гг., придавший больше веса слову крестьян при выборах колхозного председателя, наверняка делал возможным переход власти к прежней деревенской верхушке. Насколько можно судить по имеющимся сведениям, кое-где так и было. Однако бдительность властей — а возможно, и неоднозначное отношение самих крестьян к возвращению кулаков — препятствовали широкому распространению этого явления.
Анализировать свидетельства о бывших кулаках в колхозном руководстве сложно, потому что крестьяне, когда писали доносы и жалобы на своего председателя (эта тема подробнее рассматривается ниже в данной главе), почти неизменно называли его «кулаком» , невзирая на его действительный социальный статус в прошлом, ибо это был хороший способ опорочить его в глазах властей. Тем не менее, зачастую можно выяснить, является ли такое обвинение более или менее справедливым или более или менее ложным, и, следовательно, сделать некоторые выводы о реальном положении дел.
274
Представляется в высшей степени невероятным, чтобы 100%-ный кулак — из тех, кто, как глава хозяйства, был раскулачен по 1 или 2 категории и сослан или заключен в тюрьму, — во второй половине 30-х гг., вернувшись в деревню, стал председателем колхоза40. Но был целый ряд сообщений о сыновьях сосланных кулаков на председательском посту и о колхозах, где председатель, не будучи сам кулаком, якобы являлся марионеткой «кулацкой клики». Помимо того, как мы увидим ниже, некоторые крестьяне жаловались на то, что и в колхозе остаются бедняками, а зажиточные хозяева, всегда заправлявшие в деревне, по-прежнему их третируют.
В одном колхозе Ленинградской области, к примеру, в 1935 г. один сын местного кулака был председателем, другой — бригадиром, а их отец, тоже колхозник, работал в колхозе свинопасом и получил в качестве премии (от сына-председателя) двух свиней. В другом колхозе, на этот раз в Западной области, председателем был сын бывшего старосты, недавно вернувшегося в деревню из тюрьмы, где отсидел срок за противодействие коллективизации. В Тамбовской области ряд руководящих постов, включая пост председателя колхоза, занимал в 30-е гг. сын зажиточного мельника и владельца сыроварни, благоразумно распродавшего имущество накануне коллективизации41.
В 30-е гг. нередко считалось, что человек, занимавший до коллективизации руководящую должность на селе — волостного старшины или сельского старосты, — все равно что кулак, и порой это служило основанием для раскулачивания. «Кто сидит заместителем председателя РИК'а? Давыдов Виктор — сын старшины», — писал один селькор, подводя итог своим рассуждениям, что в районном руководстве полно кулаков-вредителей. По меньшей мере в одном случае стихийные перевыборы председателя колхоза, проходившие в 1936—1938 гг. во многих селах, повели к замене непопулярного районного назначенца кандидатурой по выбору колхозников — бывшим старшиной^.
ДЕРЕВЕНСКИЕ РАСПРИ
Деревенское общество 30-х гг. было раздроблено, в нем кипели распри. Некоторые из них, несомненно, носили характер семейного или этнического соперничества, разделявшего деревню из поколения в поколение. Но многие склоки и взаимные претензии возникли в результате конфликтов, порожденных крупными общественными событиями. В первую очередь речь идет о коллективизации и раскулачивании, по самой своей природе вызывающих раскол, во время которых одни крестьяне улучшили свое положение, а многие другие были глубоко задеты. Важную роль играло и ожесточение эпохи гражданской войны, даже зависть и претензии времен довоенных столыпинских реформ не забывались.
275
Целью множества деревенских усобиц второй половины 30-х гг. была руководящая должность в колхозе и, следовательно, контроль над колхозным имуществом и распределением льгот. Раньше, во времена общины, руководящий пост не был связан с такими привилегиями, и обычно его не слишком домогались. Впрочем, при новом порядке у высокого поста имелись и свои недостатки — повышенный риск ареста. Если, как кажется, в 30-е гг. произошел настоящий взрыв распрей и фракционной борьбы на селе, то это, скорее всего, явилось результатом как распада традиционных общинных структур, способствовавших солидарности и единству деревни, так и того, что коллективизированная деревня получила в свои руки новое оружие (исключение из колхоза, доносы о кулацком происхождении или связях с врагами народа).
Сведение счетов
«К.Р.Бердников, помнишь, каким паразитом ты был до революции, как ты эксплуатировал деревню своей паровой мельницей... Помнишь, как твои закрома лопались от зерна, когда деревня пухла с голоду... Помнишь, как в годы гражданской войны ты брал у остальных ценные вещи за ведро картошки и выменивал целую упряжь за тарелку супа. Помнишь, как ты врывался в сельсовет, и сколько бедняков сажал в погреб и бил по морде... Можешь ли ты сосчитать, сколько батраков гнули на тебя спины?..
К.Ф.Петрин, не рядись в лохмотья бедняка. Они пропитались кровью коммунистов, которых ты предал в 1919 году... В 1919-м у тебя жили двое красноармейцев-коммунаров... Пришли казаки из банды Шкуро и Мамонтова, и ты свистел им и махал рукой... и показал, где прятались коммунары... Ты думал, люди об этом забыли. Нет, все это знают. Знают, что ты готов любого колхозника выдать белой сволочи...»43
Эти страстные обвинения были вывешены на стене в колхозе «Красный Октябрь» (бывшее село Ново-Животинное) Воронежской области в 1931 г., по-видимому, в связи с раскулачиванием Бердникова и Петрина. С помощью подобных упражнений в риторике какой-то местный мастер пера воспользовался случаем показать, что умеет выразить воинственное классовое сознание не хуже любого журналиста «Правды». Как бы то ни было, в Ново-Животинном, конечно, существовало ожесточение, восходящее ко временам гражданской войны. Порой это ожесточение имело еще более давнюю историю. В конце 30-х гг. один крестьянин в своем доносе на клику, заправляющую в его колхозе «Вал революции», припомнил не только то, что бухгалтер отступал вместе с армией Деникина, но и то, что председатель «до революции имел столыпинский участок 13 гектаров»44.
Затяжная вражда между С.Ф.Русановым и Федором Письменным в крымском колхозе «Красная Армия» была представлена
276
(по крайней мере сторонниками Русанова) как продолжение противоборства сторон в гражданскую войну. Русанов, бедняк, стоял за красных и был членом ревкома. Письменный происходил из зажиточной семьи, поддерживавшей белых; его брат, по словам авторов письма, командир карательного отряда Белой армии, был расстрелян коммунистами в 1921 г. В 20-е гг. Русанов, ведущий советский активист в селе, постоянно конфликтовал с местными кулаками, в том числе П.Л.Котовым, по поводу сдачи земли в аренду и эксплуатации бедняков. Когда началась коллективизация, Русанов вступил в колхоз и стал его председателем. Но и Письменный вступил в колхоз, так же как Котов и другие враги Русанова. У Письменного, «тонкого и хитрого человека», были друзья в сельсовете, и он сумел даже перетянуть на свою сторону некоторых бедняков. Когда в 1932 г. колхоз столкнулся с большими экономическими трудностями, Письменному удалось сместить Русанова с поста председателя. Русановский лагерь в ответ предал огласке историю распри в «Красной Армии» — изложенную выше — с явным намерением дискредитировать Письменного как кулака45.
Коллективизация породила новые претензии и поводы для вражды. Вступившие в колхоз первыми порой противостояли пришедшим позднее; родственники раскулаченных — тем, кто участвовал в этой операции или что-то выиграл от нее; а стукачи, особенно селькоры, доносившие на других крестьян, объявляя их кулаками, вызывали особую ненависть.
В первые дни существования колхоза «Красный кооператор» в Западной области молодой крестьянин по фамилии Борздов, комсомолец, участвовал в конфискации имущества зажиточного крестьянина Меркалова. Сын Меркалова, в середине 30-х все еще не вступивший в колхоз, затаил на него зло за это. Его вражда к Борздову все усиливалась из-за явных успехов последнего на поприще колхозного тракториста. В 1934 г. на годовщину Октябрьской революции Меркалов устроил попойку, пригласив Борздова и еще одного колхозника, Бандурина, уже проявлявшего раньше склонность к насилию и отсидевшего в тюрьме за нападение и оскорбление действием. В итоге Борздов был так жестоко избит Меркаловым и Бандуриным, что скончался от побоев46.
Подобных сообщений об актах мести за обиды, нанесенные во время коллективизации и раскулачивания, совершаемых порой спустя годы, было много. Например, партийный работник, расследовавший донос колхозника Кабанкова на председателя колхоза, пришел к выводу, что обвинения Кабанкова не обоснованы, а мотивом их послужило желание отомстить председателю за раскулачивание и высылку всех его дедов и бабок. Такой же мотив — «мстит за раскулаченного брата» — приписывался другому колхознику, постоянно жаловавшемуся на руководство своего колхоза47.
Коллективизация не только поставила одну семью против другой по разные стороны баррикад, пропасть пролегла и внутри
277
семей. Крестьяне — родители писателя Н.Воронова постоянно ссорились и в конце концов развелись из-за того, что отец ратовал за колхоз, а мать — нет. А вот более вопиющий случай — крестьянка, принадлежавшая к секте евангелистов и решительно выступавшая против колхоза, зарубила своего спящего мужа топором, по слухам, за то, что он был колхозным активистом. Павлик Морозов, знаменитый юный доносчик, о котором будет рассказано ниже в этой главе, был убит своими родными за донос на отца. Убийства в семьях, расколотых коллективизацией, распространились достаточно широко, чтобы заставить юристов спорить о том, должны или нет подобные случаи преследоваться как политические преступления48.
В Сибири разногласия по поводу коллективизации привели к братоубийству. Крестьянин-активист И.К.Коваль был одним из организаторов колхоза в селе Бажей. Его брат и другие родственники тоже сначала вступили в колхоз, но потом вышли из него и подговаривали выйти остальных. В отместку активист устроил обыск у брата. Было найдено припрятанное зерно, брата объявили лишенцем, ему грозили раскулачивание и высылка. В итоге, когда И.К.Коваль вместе с другим колхозным активистом во время уборочной страды 1932 г. сторожили на лугу колхозных лошадей и инвентарь, его брат и еще один родственник напали на них и забили до смерти49.
Там, где к конфликтам, связанным с коллективизацией, добавлялась межэтническая напряженность, возникала особенно взрывоопасная смесь. В качестве примера можно указать колхоз «Дзержинский» в Воронежской области, объединявший русских и украинских крестьян. Этот колхоз был организован в 1929 г. в селе Тумановка, бывшем крепостном селе семьи Тушневых, группой красноармейцев, уроженцев Брянской области. Позднее туда переселились несколько украинских семей из соседнего села. Три эти группы — тумановские крестьяне, брянский контингент и украинцы — так и оставались отграниченными одна от другой и антагонистическими, сводя на нет все усилия целого ряда председателей по эффективному управлению колхозом. Старожилы и брянцы, и те и другие — русские, иногда объединялись, ругая украинцев («вы, "хохлы", черт вас понаносил сюда»), но бранились и друг с другом:
«С первых дней организации коммуны и до сего времени не потухает вражда между старыми жителями сельца Тумановки, из которых три семьи во время коллективизации раскулачены и высланы и у которых остались ближайшие родственники, и прибывшими новыми семьями, которые организовали коммуну, часто в открытую ругаются, то старожилы говорят, вас черти принесли, если бы вас не было бы, то здесь и колхоза не было бы, а новые жители говорят старым, что это вам, говорят, не помещик Туш-нев, которому вы поклонялись и т.д. как богу и крали у него чего хотели»50.
278
«Классовая борьба*- в деревне 30-х годов
Теоретически коллективизация уравняла крестьянство и устранила прежние классовые конфликты в деревне между кулаками и бедняками. На практике же ситуация была сложнее. Во-первых, как говорилось в гл. 5, появилось классовое расслоение в колхозе между привилегированными группами, монополизировавшими административные посты и работу с техникой, и рядовыми колхозниками, трудившимися в поле. Правда, это расслоение смягчалось частой сменяемостью председателей и, следовательно, нестабильностью колхозной управленческой элиты.
Во-вторых, прежние крестьянские «классы» — частью реальные, частью выдуманные большевиками в 20-е гг., мысль о которых, однако, постоянно внедрялась в сознание крестьян с помощью неопровержимого факта раскулачивания, — продолжали свое призрачное существование в коллективизированном селе. Один из уникальных вкладов Сталина в марксистскую теорию — открытие, что с уничтожением социальных классов усиливается классовое сознание выживших их представителей51. Это положение, конечно, применялось к раскулаченным, чья прежняя принадлежность к социально-экономическому классу кулаков вроде бы больше не существовала. Но кроме того оно применялось, хотя и в меньшей степени, также к тем крестьянам, бедняцкий статус которых подтверждался их вступлением в колхоз на раннем этапе и назначением на должности в колхозной администрации и сельсоветах.
Мы уже сталкивались с некоторыми из многообразных случаев употребления термина «кулак» в речи крестьян 30-х гг. Термин «бедняк» встречался реже (поскольку имел позитивное, а не негативное значение и меньше годился для доносов), но, тем не менее, оставался в обращении. Он использовался главным образом для демонстрации лояльности и политической благонамеренности, как, например, в невольно комичной преамбуле к жалобе колхозницы Екатерины Беловой в Комиссию партийного контроля:
«Сама я по происхождению дочь бедного крестьянина... Все время была беднячкой и уже перед коллективизацией достигла положения ниже среднего крестьянского хозяйства»52.
Сельский руководитель-коммунист мог указывать на свое бедняцкое происхождение точно так же и с той же целью, с какой городской коммунист назвал бы себя «сыном рабочего класса». Низкое социальное происхождение служило порукой тому, что он не участвовал в делах старого режима, а продвижение в ряды новой элиты подразумевало, что он выиграл от революции и, следовательно, является пламенным советским патриотом.
Более удивителен второй случай употребления данного термина: находились крестьяне, все еще писавшие о себе как о бедняках в прежнем буквальном смысле слова (т.е. как о нуждающихся) 5 и даже 10 лет спустя после коллективизации и, более того,
279
заявлявшие, что более зажиточные семьи в деревне поносят их и смеются над ними, как до коллективизации. В одном письме 1938 г. крестьянин жаловался, что председатель колхоза, происходивший из зажиточной семьи, презирает бедняков и называет их «вредителями, лодырями и разлагателями»53.
Группа крестьян из колхоза «Серп и молот» Курской области писала в «Крестьянскую газету», что председатель, сын бывшего старосты, плохо обращается с бедняками в колхозе, особенно с семьей Гумниковых (которым принадлежат по крайней мере 3 из 5 подписей под письмом). Он (а возможно, его отец) точно так же вел себя до революции, когда «издевался над бедняками, выгонял бедных сирот [например, В.З.Гумникова] из хаты». И теперь продолжает в том же духе, не давая беднякам (в частности, Л.З.Гумникову) лошадь, чтобы поехать в больницу. Более того, он подвергает бедняков дискриминации, выдавая разрешение на отходничество только тем колхозникам, которые в состоянии дать ему взятку54.
Другая группа бедняков, из колхоза «Красная заря» Ленинградской области, жаловалась, что кулаки забрали власть в колхозе и систематически злоупотребляют ею:
«Председатель колхоза Михаил Парихин во всем потворствует кулакам и мошенникам. Бывший мясоторговец и владелец кожевенного завода кулак Тимофей Парихин приходится председателю двоюродным братом. В колхозе ему поручают самые выгодные и легкие работы... Бывшие бедняки Арсений Максимов, Мирон Голицын и др. имеют работу только летом, а зимой всю работу председатель колхоза распределяет между своими сватьями и кумовьями»55.
Молодые крестьянские активисты и селькоры, хотя и сравнительно немногочисленные, в деревенских сварах служили словно бы громоотводом, притягивающим к себе молнии. Один из них, Лебусенков, председатель сельсовета в Западной области, в 1936 г. написал в газету паническое письмо о преследовании его кулаками. Лебусенков был одним из трех коммунистов в районе. Его величайшим врагом в деревне был Петров, школьный учитель, до коллективизации являвшийся зажиточным крестьянином и продолжавший вести единоличное хозяйство, преподавая в школе. Вражда началась после того, как Лебусенков сообщил властям, что Петров бьет своих учеников, и тот получил выговор от районного отдела народного образования.
Петров по доколхозным или дореволюционным меркам был человек с положением: Лебусенков называет его «бывшим царским офицером», очевидно, имея в виду, что он выслужил чин во время Первой мировой войны. А его брат и племянник после раскулачивания стали бандитами, так что Лебусенков боялся за свою жизнь: «Прямо мне говорил Петров: "Я тебя еще живого не выпущу — имей в виду", — а у него брат и племянник — бандиты, и я боюсь...» После инцидента с Петровым Лебусенков чувствовал
280
себя обязанным уйти с поста председателя сельсовета, но боялся, особенно потому, что участвовал в раскулачивании в той же деревне:
«Ведь я человек не грамотный, молодой, могут отыграться на мне, это я понимаю, и особенно сейчас, нет у нас секретаря Райкома ВКП(б) т. Большунова, который бы, конечно, не отдал меня в плен кулакам и жуликам, а ведь я уже работаю 8 лет на Советской работе, много обострился с мужиками в момент раскулачивания, да и много людей мстят...»56
В сходной ситуации оказался еще один селькор, Максимов, молодой крестьянин из Дорогобужского района, который, вступив в 1932 г. в комсомол, прочел «книги Ленина, Сталина, Маркс Энгельса» (sic!) и убедился в реальном существовании классовой борьбы. Это заставило его написать районному прокурору донос на колхозного председателя, бывшего мельника по фамилии Ермаков, как на кулака, разбазаривающего и расхищающего колхозное имущество и отдавшего все лучшие должности в колхозе членам своей семьи (его мать занималась молокопоставками, сын был счетоводом, отец — колхозным сторожем, а жена заведовала молочной фермой).
Прокурор не отреагировал на сигнал Максимова, зато отреагировали Ермаковы. Максимова немедленно исключили из колхоза. Невзирая на неудачу, он остался в деревне, продолжая досаждать колхозному руководству. Он тайно «собрал актив колхоза около реки в лесочке». Он расследовал проникновение председателя украдкой, среди ночи, на колхозный склад. В этом последнем случае Ермаков, догадавшись, что за ним шпионят, взял ружье и выстрелил в Максимова. «Что теперь мне делать, — в отчаянии писал тот, — они стали мне угрожать убийством и поджогом моего дома»57.
В Калининской области одного селькора выжили из колхоза руководители, которых он критиковал, и вся тяжесть их гнева обрушилась на его 65-летнюю мать. Она написала в «Крестьянскую газету», рассказав историю своего преследования:
«Мой сын, Румянцев Иван, в течение долгого времени является селькором разных советских редакций. Посредством чего он разоблачал, невзирая на лица, все чуждое, что мешает развитию социалистического строительства. Но этому настал конец.
Я и мой сын в 1930 г. вступили во вновь организуемый колхоз "Победа", в котором честно работали до 1936 г. Как сына, равно и меня за последнее время правленцы изнуряли. На основе чего сын был вынужден подать заявление об отпуске его в город Ленинград на жительство, несмотря что я остаюсь одинокая. После отъезда сына меня, 65-летнюю женщину, правление колхоза вычистило с колхоза (те же люди, которых мой сын разоблачил). В то же время, т.е. в конце 1936 г., сельсовет начислил мне госплатежей 912 рублей, что противоречило всем советским законам. Срок уплаты дали в течение 24 часов. По истечении указанного
281
времени сельсовет произвел тщательный обыск в моем доме, взломали в амбаре замки и отобрали имущество вплоть до тельного белья...»58
Фракционный дух
«Вредный и беспринципный фракционный дух» царил, по заключению следователя НКВД, в мае 1936 г. в колхозе «Ленинские дни» Западной области. История конфликта в «Ленинских днях» восходила к периоду коллективизации, возможно, к антагонизму между тремя маленькими деревушками, объединенными в один колхоз. Он обострился в 1935 г., когда предводитель одной фракции Денис Дольниченков стал председателем. Семеро крестьян, занимавшие административные посты в колхозе, были его сторонниками и, очевидно, его креатурами, поддерживали его и двое рядовых колхозников. Оппозиционная фракция возглавлялась Петром Журавлевым, колхозным ревизором, о котором говорилось, что он инвалид, и состояла из 11 рядовых колхозников, включая трех братьев Журавлева. Остальные колхозники, кажется, всего 80 человек, сохраняли нейтралитет.
В августе 1935 г. Петр Журавлев, воспользовавшись своей должностью ревизора, сообщил в райсовет, что в поле осталось несжатым много хлеба. Было проведено расследование, повлекшее за собой увольнение бригадира Михаила Харитоненкова, принадлежавшего к фракции Дольниченкова.
Дольниченковская группировка восприняла это как крупную провокацию и нанесла ответный удар. В результате ее интриг братья Журавлева Николай и Егор в августе 1935 г. были отданы под суд за хулиганство, осуждены и посажены в тюрьму. Через 2 дня после вынесения приговора люди Дольниченкова инсценировали покушение на Харитоненкова и попытались свалить вину на Петра Журавлева, цитируя злобные угрозы, высказанные им вечером после осуждения братьев.
В марте 1936 г. Николай Журавлев, освобожденный из тюрьмы досрочно, вернулся в деревню. Он ухаживал за Екатериной Ивановой, племянницей знатной колхозницы Домны Голубевой, ударницы и депутата, не принадлежавшей ни к одной из фракций. Вечером в день его возвращения в клубе были танцы. После них Николай проводил Екатерину и Домну домой, и его пригласили остаться ночевать. Домна уступила влюбленным свою кровать и ушла спать в другую комнату. К несчастью, все забыли о слабоумной Домниной сестре Ульяне, делившей с ней спальню. Ульяна, которая не ходила на танцы и к моменту их возвращения уже спала, проснулась, «заметив на койке сестры "ненормальное", подняла шум и затем, выбежав на улицу, подняла тревогу», перебудив всех соседей. Не разобравшись, что происходит, Домна во-
282
рвалась в комнату и бросилась на Николая с палкой. Тот оттолкнул ее, она упала и сломала руку.
Фракция Дольниченкова увидела новую возможность дискредитировать Журавлевых и обвинила Николая в попытке убийства сельской активистки (Домны Голубевой). Но этот трюк не удался. По словам следователя НКВД, «конфликт был ликвидирован тем, что Журавлев женился на Ивановой Екатерине»59.
История в «Ленинских днях» выделяется тем, что участвовавших в ней явно интересовала борьба как таковая, а не достижение какой-либо цели. Более типично для враждующих сторон было иметь в виду ясную цель — добиться власти в колхозе и контроля над его имуществом и распределением должностей. Архивы «Крестьянской газеты» содержат множество примеров такого рода. Зачастую соперничающие фракции в селе/колхозе сменяли друг друга у кормила власти, словно при двухпартийной системе, где район играл роль электората. Одна фракция добивалась назначения своего ставленника председателем, раздавала своим членам самые важные и вожделенные посты, от бригадира до сторожа. Через некоторое время случались какие-нибудь неприятности — не выполнялись планы госпоставок, сгнивал урожай картофеля, слишком много колхозников уходили в отход, и колхоз оставался без рабочих рук, или руководство чересчур открыто проматывало колхозное добро. Противная сторона, видя в этом свой шанс, писала жалобы и доносы властям, которые проводили расследование и обнаруживали, что хищения и плохое управление действительно имели место. Район назначал председателя из оппозиционной фракции, и все начиналось сначала.
В некоторых случаях соперничающие фракции представляли разные социально-политические группы на селе. Так было, например, по словам райкомовских аналитиков, консультировавшихся с «Крестьянской газетой», в колхозе «Красный пахарь» Смоленской (бывшей Западной) области. «Кулацкую» фракцию возглавлял Т.И.Шалыпин, в прошлом твердозаданец. К «советской» фракции принадлежал бригадир Зуев, который «в прошлом... вел активную борьбу против кулацко-зажиточной части деревни, за что его и сейчас многие ненавидят». Вероятно, из-за своего прошлого Зуев не стал занимать пост председателя, когда его фракция была у власти. Эта честь досталась некоему Полякову, возможно, в прошлом зажиточному крестьянину, поскольку райком (поддерживавший его) не стал давать ему социально-политической характеристики. Конфликт Шалыпина — Зуева, развитие которого в эпоху Большого Террора очерчено в следующем разделе, годами то и дело возникал на повестке дня в районе, как сообщал страдальческим тоном «Крестьянской газете» заведующий отделом жалоб Смоленского райзо60.
Распри нередко порождали сильнейшее взаимное ожесточение. «Ненависть окружает меня за эти дела, если бы не кузнец, то давно бы выгнали», — писал крестьянин из Краснодара61. Ожес-
283
точение это отчасти следует объяснять чрезвычайной серьезностью ущерба, который враждующие стороны могли нанести друг другу. Набор карательных мер против своих врагов, непосредственно доступных руководству колхоза или сельсовета, варьировал от повседневной дискриминации (назначение на плохие работы, отказ дать колхозную лошадь или разрешение на отходничество) до серьезных санкций, таких как исключение из колхоза и конфискация имущества. А при поддержке района можно было наказать противников куда суровее — посредством уголовного преследования и приговора к заключению в тюрьму или лагерь: аппарат насилия Советского государства легко приводился в действие с помощью ловко составленного доноса или нужных связей в районе. Читая письма в «Крестьянскую газету», поражаешься тому, с какой беспощадностью и неистовостью воюющие колхозные фракции вновь и вновь наносили друг другу удары, либо непосредственно, либо манипулируя государственным аппаратом насилия.
Можно привести в пример 8-летнее сражение между руководством колхоза «Пролетарский рассвет» в Сталинградской области и колхозником А.С.Захаровым. Началось оно в 1930 г., по-видимому, в связи с коллективизацией. У Захарова, очевидно, вошло в обычай обличать грехи колхозных начальников, пользовавшихся покровительством руководства на районном уровне, как на колхозных собраниях, так и в письмах с жалобами в вышестоящие инстанции. В свою очередь, местное начальство завело обыкновение возбуждать против Захарова уголовное преследование, по каким обвинениям, нам неизвестно. За период 1930 — 1938 гг. Захаров 6 раз был под следствием, 3 раза осужден и в общем и целом провел в тюрьме 4 года. При последнем его аресте, в 1937 или 1938 г., его семью исключили из колхоза. Жена его продала все, что было, и уехала в свою родную деревню, в соседний район. Впрочем, Захаровым повезло: покровители их преследователей в районе пали жертвами Большого Террора. После этого Захарова выпустили из тюрьмы, и он перебрался в деревню жены, где смог вступить в колхоз «Комсомол»62.
ДОНОСЫ
Доносы — осведомление властей о проступках других граждан — в 30-е гг. стали элементом культуры быта российской деревни. Хотя наибольшую известность приобрела история юного доносчика Павлика Морозова, доносительство не было преимущественно свойственно подросткам, пионерам или комсомольцам. Большинство из писавших доносы, судя по почте «Крестьянской газеты», являлись простыми крестьянами, как правило, взрослыми мужчинами. В отличие от Павлика Морозова, донесшего на отца, большая часть корреспондентов «Крестьянской газеты» изо-
284
бличали своих начальников, а в отличие от писем селькоров 20-х гг., опиравшихся в своих доносах на советские, недеревенские ценности, в основе их обвинений лежала крестьянская, а не коммунистическая мораль.
Существовал ряд возможных мотивов написания доноса. Одним из них служила идеологическая преданность, как в случае с мифологизированным Павликом и многими реальными селькорами. Другим — поиски правосудия в стране, где правовая система действовала плохо. Третьим — личная злоба и сведение счетов. С функциональной точки зрения, на практику доносительства (поощряемую государством) можно смотреть «сверху вниз» как на механизм государственного контроля и средство выявления общественного мнения. Но возможен и взгляд на функцию доноса «снизу вверх»: если государство использовало подобную практику для контроля за своими гражданами, то и отдельные граждане могли использовать ее в целях манипулирования государством.
Павлик Морозов
Имя Павлика Морозова — мальчика, донесшего на своего отца-кулака и в отместку убитого дядьями в сентябре 1932 г., — известно всем советским людям. Павлик действовал, как утверждалось, подобно любому честному юному пионеру того периода, т.е. в ситуации, когда преданность семье вступила в конфликт с преданностью государству, благородно поставил интересы государства на первое место. Его убийство привело к организации показательного процесса в деревне Морозовых, Герасимовке, в Свердловской области, освещавшегося местными журналистами и привлекшего внимание ЦК комсомола. На Съезде советских писателей в 1934 г. М.Горький привел Павлика Морозова в пример как образец советского героизма, и на десятилетия он стал своего рода святым покровителем пионерской организации, его увековечивали в памятниках, превозносили на митингах и в детских кни-
Когда писатель Юрий Дружников в 70-е гг. тщательно исследовал легенду о Павлике Морозове, оказалось, что подлинная история событий несколько иная — но не менее интересная и характерная для того времени. Отец Павла, как выяснилось, не был кулаком. Он был председателем сельсовета в глухой деревушке на Северном Урале, еще не коллективизированной, служившей прибежищем для раскулаченных крестьян, высылавшихся из других частей страны. За несколько лет до случившегося Григорий Морозов оставил жену и детей и сошелся с более молодой женщиной из той же деревни. Возмущенному Павлу, старшему сыну лет 13 — 14, пришлось занять место отца в хозяйстве и управляться со злой (и, по всем свидетельствам, ленивой) матерью. Он не был
285
пионером, пионеров тогда среди крестьянских детей вообще было мало, не говоря уже о такой глухомани, как Герасимовка.
Павел не доносил, что отец прячет зерно, как часто полагают, хотя мысль о доносе, возможно, пришла ему в голову после того, как учитель в школе расспрашивал детей о потайных складах зерна в деревне. Он обвинил отца в том, что тот, будучи председателем сельсовета, выписал одному из недавно прибывших ссыльных кулаков справку, что он является герасимовским бедняком и ему разрешено покинуть деревню для занятий отходничеством. Может быть, донести на отца, бросившего семью, было собственной идеей Павла, а может быть, его подбили на это мать или двоюродный брат, который сам хотел стать председателем сельсовета. Так или иначе, в конце 1931 г. отец был арестован и бесследно исчез в лагере. Через несколько месяцев Павла и его младшего брата нашли в лесу убитыми. Кто именно их убил, неясно, но среди тех, кто обвинялся в этом преступлении, были дед и бабка Морозова со стороны отца, молодой двоюродный брат и два ДЯДИ64.
Примерно в то же время появились сообщения о ряде случаев идеологически мотивированного осведомительства среди подростков. Некоторых осведомителей хвалили и награждали: например, Сережа Фадеев, рассказавший директору школы, где его отец припрятал картофель, получил путевку в Артек, знаменитый пионерский лагерь в Крыму65. Но другие разделили судьбу Павлика Морозова.
Никита Сенин, 15-летний пионер из Западной области, охарактеризованный как школьный активист и прилежный ученик, еще в 13 лет стал селькором районной газеты. (Он также с 14 лет был корреспондентом Сухиничской метеорологической станции и, несомненно, прожил бы дольше, если бы ограничился записью информации о погоде.) В своих письмах Никита вскрывал злоупотребления в сельсовете, школе, на местной почте, которой заведовал «человек, полностью разложившийся» — с весьма уместной фамилией Кулаков, бывший также вожатым местного пионерского отряда. Никита написал на Кулакова донос в райком комсомола, где говорилось, что пионеры его деревни считают последнего неподходящим вожатым, потому что он пьет и бьет их. Будучи начальником почтового отделения, Кулаков, естественно, вскрывал и читал всю корреспонденцию, так что он узнал о поступке Никиты и пригрозил ему плохими последствиями, если он и дальше будет писать такие письма. В конце концов, Кулаков приобрел ружье (это обошлось ему в 150 руб.). Спустя несколько дней он упросил Никиту доставить мешок с почтой в райцентр, Козельск, подкараулил его на дороге и убил66.
Поток доносов крестьянских детей на своих родственников и соседей достиг пика в начале 30-х гг. Позже, несмотря на официальные славословия в адрес Павлика Морозова, такого рода действия поощрялись меньше и даже в какой-то степени не приветст-
286
вовались67. Во время Большого Террора от детей ожидалось изобличение отцов и матерей, арестованных как враги народа, но лишь после того, как свершился факт ареста, — их активно не поощряли давать ход делу, донося на родителей.
Письма крестьян о злоупотреблении властью
Наушничество являлось укоренившейся традицией в Советской (и даже досоветской) России. Рядовых граждан поощряли сигнализировать вышестоящему начальству о разложении и некомпетентности бюрократии низшего звена, и письма в газеты представляли собой один из общепринятых способов сделать это. Крестьяне-наушники, писавшие в газеты, в 20-е гг. получили название селькоров.
Фигура селькора ассоциировалась с советскими, передовыми ценностями и критикой деревенской отсталости и убожества. Он жил в деревне, но был там в какой-то степени чужаком, зачастую демобилизованным красноармейцем или учителем. Чувствуя внутреннее родство с новым строем и его революционными целями, селькор 20-х гг. хотел быть «глазами и ушами Советской власти» в деревне, т.е. разоблачать в письмах различные антисоветские и реакционные явления (засилье кулаков в общине и эксплуатацию бедняков; разложение и пьянство должностных лиц; коммунистов, позорящих партию тем, что избивают своих жен или крестят детей, и т.д.). По идее, то были не личные претензии селькора, а советские претензии, и селькор был не доносчиком и предателем крестьянской общины, а исключительно активным общественником и смелым гражданином. Конечно, крестьяне далеко не всегда смотрели на дело таким образом. Известные селькоры нередко подвергались остракизму, а порой и погибали от рук односельчан.
Традиция воинствующего селькорства еще процветала (хотя и с изрядными потерями) в годы коллективизации. Но к середине 30-х гг. она значительно ослабла, вероятно, потому, что многие естественные кандидаты на эту роль покинули деревню. Селькоры классического типа встречались все реже, и такие газеты, как «Крестьянская газета» или «Беднота», больше не хранили списков имен, адресов и биографических данных «наших» селькоров, как в 20-е гг. Термин «селькор» становился все неопределеннее и все чаще применялся к любому, кто был готов взять ручку и бумагу и купить 20-копеечную марку, чтобы отправить в газету письмо с разоблачением «злоупотребления властью». В 1938 г. примерно 2 из каждых 5 писем, получаемых газетой, попадали в рубрику «злоупотребление властью» и являлись по сути доносами на колхозных председателей и других административных работников68.
Кто писал эти письма? В противоположность дореволюционному обычаю составления крестьянских ходатайств, почти все пись-
287
ма приходили от отдельных лиц и маленьких групп, а не крестьянских общин в целом69. (В коллективной жалобе колхоза советская власть могла усмотреть подстрекательство к мятежу.) Среди авторов индивидуальных писем классические селькоры и истинные общественники составляли довольно незначительное меньшинство. Как уже отмечалось, классический селькор — теперь, в отличие от 20-х гг., почти всегда комсомолец или коммунист — являлся исчезающим, хотя еще и не совсем вымершим видом. Граждане-общественники — те, кто вроде бы не имел зуб на кого-либо и не преследовал личных целей, а заботился об исправлении несправедливостей и улучшении положения дел, — обычно представляли собой либо живущих в деревне пожилых людей, порой вышедших на пенсию рабочих, либо бывших сельчан, живущих в городе или служащих в армии, которых крестьяне попросили действовать от их имени. Самое трогательное впечатление производит пожилой крестьянин, написавший свою жалобу на злоупотребления в колхозе в середине родительского письма сыну-горожанину:
«Ты, сынок родимый Митя, сходи, что я тебя просил, в редакцию и объясни все, что я тебе писал, и попроси, чтобы обратили внимание, это вредительство надо выводить, тогда будем жить хорошо, а то они опять, кулаки, по-кулацки стали делать»70.
«Лжеселькорами» власти именовали довольно большое число категорий жалобщиков, располагавшихся на другом конце спектра: самозванцев, кляузников, ненормальных. Самозванцы — это те, кто пользовался самовольно присвоенным статусом селькора, оправдывая свои неудачи или плохую работу: например, крестьянин, жаловавшийся, будто его исключили из колхоза за то, что он сигнализировал о непорядках, тогда как на самом деле (по словам работника, проводившего официальное расследование) истинной причиной его исключения было то, что он не ходил на работу, притворяясь больным, и каждый летний день проводил на реке с удочкой71. «На меня гонение, как на селькора» — обычная песня тех, у кого было много взысканий и темных пятен в биографии.
Кляузники — деревенские сплетники (как правило, мужчины, вопреки расхожему стереотипу), собиравшие любые порочащие кого-либо сведения, даже самые тривиальные, и считавшие своим долгом давать им ход. Поначалу их письма, как правило, бывали посвящены какому-либо лицу, облеченному властью, председателю колхоза или бригадиру, но быстро сбивались на всякие посторонние темы вроде кражи капусты с чьего-то огорода. Кляузники часто упоминали о своем неустанном труде, заключавшемся в написании каждый год десятков писем в газеты, районные и областные органы власти, прокуратуру, НКВД и т.д.
Писали письма и ненормальные всякого рода, например, параноики вроде крестьянина Воробьева из Тамбовской области, жаловавшегося, будто другие колхозники с ним не разговаривают, чтобы довести его до болезни. «Почти каждый день он пишет
288
письма в органы, в письмах заявляет, что все районные руководители враги народа, — писал районный прокурор в «Крестьянскую газету». — Я предупредил Воробьева насчет его глупой писанины, отнимающей массу времени у следственных органов и других организаций, куда он пишет жалобы...»72. Еще один автор доносов был дискредитирован, когда журналист областной газеты приехал с расследованием в деревню и обнаружил, что имеет дело с фантазером, вообразившим себя директором школы и одновременно важным чином НКВД:
«Везде и всюду он заявляет колхозникам, что работал "начальником следственного органа", и что если у кого есть жалобы, пусть ему отдадут, а он их пустит в ход»73.
Три самые крупные категории авторов писем можно обозначить так: истцы, просители и интриганы.
Истцы считали свои законные права нарушенными в какой-то конкретной ситуации и добивались правосудия. Они, по всей видимости, использовали письма как замену судебных исков или дополнительную к ним меру — что лишний раз показывает, как плохо действовала в деревне правовая система74, — и предпочитали основывать свои аргументы скорее на букве закона, чем на принципах естественной справедливости. Истцы были грамотнее большинства авторов писем и писали более бесстрастным тоном. Главное место в этой группе занимали отходники, конфликтующие с колхозом.
Просителями были простые колхозники, считавшие себя бесправными жертвами местного начальства и взывавшие к властям «наверху», чтобы те исправили зло. Злом в их глазах было какое-либо нарушение справедливости или принятого порядка вещей, вне зависимости от того, являлось ли оно также нарушением закона или нет. Большинство среди просителей составляли рядовые колхозные работники, необразованные и неискушенные. Женщины были представлены в этой группе лучше, чем в других. Письма просителей обвиняли председателей и бригадиров в неоказании помощи в нужде; брани, побоях и оскорблениях; воровстве и обмане при начислении трудодней; кумовстве и, как правило, создании неравного положения колхозных дворов; в том, что они в своем колхозе «ведут себя как царьки».
Просители обращались к представителям государства и по другим поводам, например за помощью или советом. По возможности они делали это лично, а не только в письменной форме. Например, в 1933 г. политотделы МТС в Центрально-Черноземной области сообщали, что в день туда приходят по 15 — 20 колхозников с вопросами, просьбами и жалобами — в том числе, с удивлением отмечали они, с заявлениями о разводе75.
Интриганы соперничали с теми крестьянами, которые в текущий момент занимали важнейшие посты в колхозе и сельсовете. Они писали жалобы в надежде дискредитировать и добиться смещения этих должностных лиц и часто оказывались вовлечены в
289
10 — 1682
порочный круг взаимных доносов и склок, описанных в этой главе выше. Как правило, уверенные в себе, умеющие выражать свои мысли, они вовсю пользовались советским жаргоном, их письма пестрели выражениями вроде «зажим критики», «контрреволюционный» и имели характер доносов в прямом смысле слова — передачи порочащей информации о других лицах в органы внутренних дел. Один сельский «интриган» из Западной области, Шишков, изобличал председателя сельсовета Ботенкова как «социально-чуждый элемент». В результате Ботенков был уволен, а председателем сельсовета назначен Шишков. Но Ботенков тоже был интриганом. Когда жена Шишкова, напившись в одном застолье, стала подпевать антиправительственные частушки, Ботенков тут же написал донос властям, надеясь добиться увольнения Шишкова и своего восстановления в прежней должности76.
Использование доносов
Писание доносов, ходатайств и жалоб в сталинской России имело то большое преимущество, что при этом были хорошие шансы получить желаемый результат. Власти внимательно читали такие письма граждан. Это была одна из немногих форм участия в политической жизни, доступных рядовым гражданам; и среди писем разного характера донос оставался самым мощным орудием.
Конечно, гарантий благоприятного исхода для авторов доносов и ходатайств не существовало. Даже если вышестоящая инстанция вмешивалась, выступая в защиту просителя, местные власти могли игнорировать ее указания. Что касается доносов, написание их было не лишено риска. В архивах «Крестьянской газеты» есть упоминания о ряде случаев, когда расследование, вызванное письмом крестьянина, заканчивалось арестом автора районным НКВД как смутьяна, тунеядца или представителя «социально-чуждого элемента»77. Частые просьбы, чтобы имя автора письма не называлось, отражали вполне обоснованный страх, что районные власти могут принять подобные меры, защищая себя и своих ставленников.
Однако спортивный шанс на успешный исход доносительства существовал, не только потому, что власти приветствовали информацию такого рода и предупредительно на нее откликались, но и потому, что режим подчинялся неким автоматическим рефлексам, которыми умный гражданин мог воспользоваться в своих интересах. Важнейшим из них являлась обостренная чувствительность в вопросе о классовых врагах. Если вы хотели руками государства устранить своего врага в деревне, достаточно было назвать его кулаком.
В 30-е гг. объявлять своих противников в деревенских распрях или борьбе за власть кулаками стало обычной практикой. В ряде
290
случаев такие заявления имели под собой некоторое основание: лицо, о котором шла речь, действительно до революции либо в 20-е гг. имело процветающее хозяйство или свое дело, либо кто-то из его ближайших родственников был раскулачен в начале 30-х. Но чаще имели место большие натяжки в самой тривиальной биографии, когда, например, какой-нибудь давно умерший дядя был торговцем или тещин брат — раскулачен.
Вся прелесть голословных утверждений о чьем-то «кулацком» происхождении заключалась в том, что можно было с уверенностью рассчитывать на самую энергичную реакцию советской администрации. Судя по поведению Западного обкома, известному нам благодаря Смоленскому архиву, власти неизменно посылали в деревню следователя, когда звучали такие заявления, и следователи добросовестно прокладывали путь через нагромождения обвинений и контробвинений, стремясь ухватить неуловимую истину в вопросе о том, кто кулак, а кто нет. Читая их многостраничные отчеты (которые, между прочим, содержат некоторые интереснейшие социологические исследования российской деревни 30-х гг.), трудно не увидеть, что партия, одержимая страхом перед кулаками, стала плясать под дудку крестьян, которые вертели ей, как хотели.
Та же мысль появлялась и у следователей, для которых подобные доносы стали удручающей рутиной. Вообще-то со стороны коммуниста — следователя или руководителя — было неразумно сразу отклонять доносы на «кулаков», поскольку он сам рисковал в таком случае быть обвиненным в том, что симпатизирует кулакам. Однако порой какой-нибудь руководитель все-таки нетерпеливо отмахивался от такого доноса, как это сделал районный прокурор, резко прокомментировавший письмо, которое переслала ему «Крестьянская газета», следующим образом: «Павлов кулаком никогда не был, и вообще в селении Меретяки кулацких групп не существует, а существует отсутствие труддисциплины, и нет дружественных связей среди колхозников»78.
Офицер НКВД, выехавший расследовать донос в колхоз «Ленинские дни» Западной области, тоже был настроен скептически. Отметив, что село погрязло в своего рода фракционной борьбе, в которой каждая сторона то и дело обвиняет другую в связях с кулаками и торговцами, он заключил, что обвинения эти в общем пустые, хотя и не всегда совершенно безосновательные. Но самое интересное в его рапорте то, что, несмотря на такой вывод и в целом положительное суждение о способностях председателя колхоза, на которого поступил донос, он все же рекомендовал сместить последнего. Из-за дореволюционных занятий своих родных торговлей, объяснял он, председатель всегда будет мишенью доносов со стороны своих соперников в этом разбившемся на фракции селе, и сохранение его на этом посту не стоит таких хлопот^.
Во времена Большого Террора доносы, где шла речь о связях с «врагами народа», неизвестных посетителях или каком-нибудь
291
сборище, которому можно было присвоить ярлык конспиративного, еще успешнее, чем обвинения в «кулацком» происхождении, провоцировали рефлекторную реакцию властей. Это не укрылось от крестьян-доносчиков, и многие из них мгновенно овладели соответствующей терминологией. Ближе к концу 1936 г. кто-то написал в «Крестьянскую газету», обвиняя председателя колхоза по фамилии Суханов «в сочувствии троцкистско-зиновьевскому террористическому центру», — НКВД счел обвинение беспочвенным, доложив в то же время, что в результате несчастного и его детей «травят» в селе и в школе80.
«Троцкист Я.К.Коробцов... стал на путь террора», — восклицал в начале 1937 г. один из корреспондентов «Крестьянской газеты», колхозник из Курской области81. (Это значило, как выяснилось, что Коробцов совершил нападение на колхозного сторожа, пытаясь украсть со склада семенное зерно.) Крестьянин из Краснодарского края, обвиняя правление своего колхоза в том, что оно платит по трудодням только натурой, а не деньгами, замечал:
«Вот, читая газету "Крестьянскую" о процессе вредителей, диверсантов, отъявленных убийц наших родных вождей, невольно и думаешь — нет ли и их здесь руки...»82
Ничто дальше в письме не заставляет предположить, будто сам автор принимал эту идею всерьез и собирался конкретизировать намек. Это была лишь уловка, призванная привлечь внимание властей и скорее побудить их расследовать финансовую деятельность колхозной администрации.
Сельским интриганам Большой Террор предоставлял золотой шанс прогнать действующих председателей колхоза и сельсовета, связав их с опальными «врагами народа» в районном руководстве. Это выглядело вполне правдоподобно, поскольку административные работники низшего звена почти всегда назначались районными руководителями и часто вполне заслуживали названия их клиентов в системе бюрократического патронажа. Есть много примеров переориентации давних деревенских распрей в соответствии с новым политическим моментом. Селькор, давно имевший зуб на парторга своего колхоза, писал, что теперь он понял: его враг все это время выполнял «троцкистские задания бывшего секретаря Райкома». Другие закоренелые склочники добавили новый аспект в свои доносы на руководителей колхоза, указывая, что те являлись протеже двух бывших районных руководителей, недавно разоблаченных как враги народа^.
10. Потемкинская деревня
ПОТЕМКИНСТВО
Если типичная российская деревня 30-х гг. была голодной, унылой, обезлюдевшей и деморализованной, то существовала и другая деревня, счастливая и процветающая, кишащая народом, оглашаемая веселыми звуками аккордеона и балалайки, — в воображении. Я называю ее потемкинской деревней, однако в советской жизни ее значение не ограничивалось созданием декоративного фасада, призванного произвести впечатление на важных гостей. Потемкинская деревня существовала в угоду образованному советскому обществу — и даже, в какой-то степени, в угоду крестьянам. Как и другие образы в стиле социалистического реализма сталинского периода, образ Новой Советской Деревни, так любовно создававшийся в газетах, кино, политических речах и официальной статистике, отражал не жизнь, как она есть, а ту жизнь, какую надеялись увидеть добрые советские граждане. Потемкинская деревня была как бы анонсом грядущих благ социализма1.
Много лет спустя один выходец из крестьян, чья успешная городская карьера началась в 30-е гг., вспоминал, в какое глубокое горе повергло его в 1936 г. заявление Сталина, отбросившего метафору социалистического реализма насчет «строящегося» в СССР социализма, о том, что социализм в основном уже построен:
«Я тогда только вернулся из своей вятской деревни, заброшенной в глуши лесов, отрезанной бездорожьем от мира. Там в избах — грязь, тараканы, из-за отсутствия керосина пришлось вернуться от лампы к лучине. Но я вроде бы ничего этого не замечал — ведь нам впереди светил маяк, светлое будущее, которое мы строим своими руками. Пусть нам придется трудиться с напряжением всех сил еще пять, десять лет, все равно мы своего добьемся! И вдруг оказалось: то, что меня окружает, — это и есть социализм, правда, построенный лишь в основном. Никогда — ни до, ни после — не переживал я такого разочарования, такого горя»2.
Среди крестьян, живущих в деревне, такая приверженность метафорам социалистического реализма встречалась редко, а то и вовсе не встречалась. На селе потемкинская картина крестьянской жизни воспринималась скептически и стала привычной мишенью крестьянских шуток и саркастических замечаний. Но в то же время потемкинство от случая к случаю приносило свои плоды крестьянам и в реальной действительности. Им порой перепадали крошки с богато накрытых столов потемкинской деревни. Некото-
293
рым из них доводилось пользоваться товарами и удобствами, в потемкинской версии доступными крестьянским массам, хотя в основном все эти блага приходили в деревню лишь в воображении крестьян.
Главную роль в создании потемкинской деревни играла пресса наряду с профессиональными писателями, артистами, кинорежиссерами. Публикуемая советская статистика, появлявшаяся в 30-е гг. под заголовками типа: «Наши достижения» или «Социалистическое строительство», в первую очередь служила потемкинским целям. Съезды крестьян-стахановцев, где рекордсмены — трактористы и доярки — с нежностью распространялись о премиях, полученных ими за работу, представляли собой еще одну сторону того же процесса.
После того как писатель Ф.Гладков навестил в 1935 г. свою родную деревню на Волге, он написал как потемкинский очерк о ней, так и куда более взволнованный рассказ, в котором внимание акцентировалось на заброшенности школы и тяжелом положении учителей3. В потемкинской версии он оперировал одним из излюбленных тропов сталинского социалистического реализма — антитезой деревенской нищеты в прошлом и колхозных триумфов в настоящем/будущем. Когда-то, писал Гладков, здесь были «нищие, жалкие поселения: чумазые мазанки, с гнилыми крышами, смердящие навозом, без палисадников. Улицы были голы, пыльны, скучны, неприветливы». Теперь все изменилось (меняется):
«Теперь почти в каждом селе видишь зеленые насаждения перед фасадом, фруктовые сады. Избы часто покрыты железом или новой чесаной под глину соломой, выбеленные или гладко обмазанные глиной, как отштукатуренные. Улица очищается, становится просторной, зеленой, площади обсаживаются деревцами... В окнах — белые занавески, часто тюлевые. На подоконниках — цветы».
Внутри на стенах висели «революционные картины, портреты вождей, фотографии», имелась книжная полка («колхозник много и жадно читает») с трудами вроде сталинских «Вопросов ленинизма». Повсеместно вошли в употребление велосипеды. Словом, «дыхание города чувствуется во всем, даже в облике и одежде колхозников».
Белые тюлевые занавески и цветы на подоконниках в потемкинской деревне были обычной деталью обстановки. В доме на столе часто красовались радиоприемник или швейная машинка, стояли кровати. Потемкинские дома строились по современному типу, делились на комнаты в отличие от традиционных крестьянских изб. Вот типичные сообщения местных газет из тех, что регулярно появлялись в печати, освещая перемены в крестьянском быту. Колхозник из Воронежской области Н.А.Федерякин, бывший бедняк, построил себе дом с 4 комнатами, железной крышей и оштукатуренными стенами; еще трое крестьян в том же колхозе строят «кирпичные дома из 3 — 4 просторных комнат».
294
И.Д.Балюк, колхозник с Алтая, купил в дом «мягкий диван, венские стулья, патефон». У Веры Панкратовой, ударницы из колхоза «Истра», по словам одной газеты, даже был телефон, который провели в ее избу в 1935 г. Она стала первой (и, скорее всего, единственной) крестьянкой в Горьковском крае, удостоенной такой чести*.
Потемкинский колхоз мог похвастать множеством новых административных зданий, культурных и медицинских учреждений, учебных заведений. Например, в одном сибирском овцеводческом колхозе-«миллионере», как с гордостью говорилось в письме члена этого колхоза, опубликованном в общесоюзной газете, было 15 общественных зданий, в том числе школа-семилетка, читальня, библиотека, роддом и ясли; колхоз имел 3 грузовика. Потемкин-ство не ограничивалось собственно деревней, оно шло и в поля. Тракторист, премированный за ударный труд, рассказывал на Втором съезде колхозников-ударников, какие удобства были у них созданы для тех, кому приходилось ночевать в поле в разгар сельскохозяйственной страды: «Была^ нас будка на 16 мест, в которой каждому трактористу была отведена отдельная койка; в будке были радио, патефон, часы и музыка»5.
Вероятно, то, о чем поведал сталинградский тракторист, имело место в одном отдельно взятом случае и вряд ли стало нормой. Однако в протоколах закрытого собрания, посвященного вопросу о формах оплаты работы председателей колхозов, сохранившихся в архиве Наркомзема, можно обнаружить более убедительные свидетельства того, что потемкинские приметы встречались не только в воображаемом, но и в реальном мире. Председатель колхоза из Винницкой области, не имевший оклада и получавший плату по трудодням, недовольно заметил, что районные власти не установили в его колхозе оклада никому, кроме музыканта, чья работа — великолепный пример потемкинства в реальной жизни — заключалась в том, чтобы играть веселые мелодии колхозникам, работающим на свекловичных полях6.
Музыка в потемкинском мире играла важную роль. Газеты часто помещали маленькие заметки о музыкальных занятиях колхозников и снабжении музыкальными инструментами сельских потребителей. В 1933 г. на одной фотографии с подписью: «Растет зажиточность колхозных масс, растет их культурный уровень» — красовался крестьянский мальчик, играющий на скрипке: это был ученик особой музыкальной школы для детей колхозников в г. Урюпинске на Нижней Волге. В 1937 г. сельские потребители в Западной области заказали 4 рояля; 50 пианино и 50 комплектов оркестровых инструментов были проданы в том же году колхозам Днепропетровской области; краснодарские колхозники приобрели более сотни комплектов оркестровых инструментов за первые семь месяцев 1938 г.7.
Местные партийные и правительственные органы несли ответственность за музыкальное образование и вообще культурное вос-
295
питание крестьянства. Партийная организация Московской области, всегда задававшей тон, в 1935 г. объявляла, что собирается организовать в колхозах, помимо 3000 хоров, 4000 драмкружков, 500 струнных ансамблей и 131 районного духового оркестра, еще и 100 фортепианных классов. Колхозников всячески поощряли создавать самодеятельные театральные коллективы, изокружки, оркестры и хоры. Лучшим участникам самодеятельности открывалась возможность ездить на областные и всесоюзные фестивали и конкурсы (как показано в кинофильме «Волга-Волга»)8.
Хотя в потемкинской деревне не забывали и о народном творчестве, в первую очередь акцент делался на высокую культуру. Например, в планы Московской областной парторганизации входило создание 100 колхозных кружков по изучению иностранных языков. Газеты с одобрением писали об инициативах колхозников Московской области и Саратовского края, организовывавших «Пушкинские комитеты» для подготовки к 100-летней годовщине гибели поэта и «Пушкинские уголки» в колхозных клубах. Еще более примечательную инициативу в сфере высокой культуры выдвинул один сельсовет в Курской области, проведший в 1936 г. местную конференцию «читателей произведений Анри Барбюса»9.
Еще одним из главных видов деятельности в потемкинской деревне был спорт. Памятный пример колхозной спортсменки — молодая колхозница с Кавказа Б.Ш.Мистостишхова, рассказавшая о своих достижениях на всесоюзном съезде стахановцев:
«МИСТОСТИШХОВА. В своем колхозе я рекордистка колхозных полей. Но я не только рекордистка колхозных полей, я готова к труду и обороне. (Указывает на значки "Готов к труду и обороне"10 и "Ворошиловский стрелок".)
СТАЛИН. Сколько вам лет?
МИСТОСТИШХОВА. 17 лет. Кроме того я рекордистка-альпинистка. Я вместе с товарищем Калмыковым первая взошла на высочайшую гору Европы — Эльбрус... Я готовлюсь сейчас прыгать с парашютом. До сих пор не успела потому, что после штурма Эльбруса не хватало времени. Но, товарищи, я заверяю товарища Ворошилова, что и в парашютном деле я буду впереди мужчин...»11
В 1936 г. представитель отдела физкультуры и спорта ЦК комсомола сказал на Всесоюзном съезде комсомола, что в стране вряд ли найдется колхоз, где нет группы физкультурников, площадок для волейбола и футбола — игр, еще совсем недавно неизвестных в деревне. (Такое откровенное потемкинство было ошибкой, потому что зал был полон истинных энтузиастов спорта, которые знали, что это неправда, и стали выкрикивать гневные опровержения. Данное заявление — чушь, сказал позднее один выступавший. «В большинстве колхозов мы не имеем ни физкультурных коллективов, ни физкультурных площадок».) В том же году Московская областная администрация заявила, что ею орга-
296
низовано почти 2000 спортивных соревнований в сельской местности12.
Такие количественные показатели культурного прогресса — проведено 2000 спортивных соревнований, организовано 3000 хоров, 100000 учащихся окончили школу, распространен 1 млн экземпляров газет — являлись важной стороной потемкинского «культурного строительства» в Советском Союзе. Статистика стала служанкой потемкинского предприятия. Где-то в эпоху коллективизации кардинально изменились функции советских статистических справочников. В 20-е гг. многочисленные статистические справочники предназначались для интеллигентов-марксистов (в том числе и в политическом руководстве), которым нужны были данные для социологического, политического и экономического анализа. В 30-е — сравнительно немногие издававшиеся справочники стали преимущественно источником статистических иллюстраций для пропагандистов и журналистов, пишущих о потемкинском мире. Предпочтение отдавалось статистике роста, как правило, выраженного в процентах от показателей какого-нибудь исключительно плохого года, например 1932-го. Излюбленными объектами такой статистики в деревне были образование и грамотность, стахановское движение, клубы и кружки, спортивные соревнования, чтение газет, количество радиоприемников и кинопроекторов и снабжение потребительскими товарами13.
В этой последней области в справочниках делался упор на «культурные» потребительские товары: велосипеды, мотоциклы, швейные машинки, карманные часы, будильники, радиоприемники, патефоны, духовые инструменты (для оркестров) и пианино. Во -всех случаях статистика показывала заметный рост производства и продажи в сельских кооперативных лавках. Например, в 1938 г. сельским потребителям было продано в 50 раз больше велосипедов и в 20 раз больше патефонов, чем в 1933 г. (Разумеется, в 1933 г. сельским потребителям были доступны лишь 5000 велосипедов и никаких пианино, мотоциклов, радиоприемников, швейных машинок, карманных часов и будильников14.) Несмотря на то что спрос на данные товары в 30-е гг. намного превышал предложение, они даже рекламировались в журналах и местных газетах, часто с фотографиями или рисунками изделий.
Если бы товары, направлявшиеся в сельские кооперативы, были равномерно распределены между советскими колхозами, каждый колхоз мог бы приобрести один мотоцикл и один патефон и почти каждый имел шанс заполучить одну швейную машинку и карманные часы. На каждый шестой колхоз приходился бы один будильник, а на каждый сотый — мотоцикл15. В действительности, конечно, многие из этих товаров улетучивались, даже не дойдя до сельского кооператива, или продавались горстке колхо-зов-«миллионеров» плодородного юга. Но в принципе — излюбленное советское выражение — они были доступны крестьянам. Для рядового колхозника стать владельцем часов, швейной ма-
297
шинки или железной кровати было маловероятно, но все-таки не совсем невозможно.
Крестьяне могли не только приобретать эти товары обычным путем, через торговую сеть, но и получать в качестве премии за отличную работу в колхозе. Такого рода премии давали колхозным ударникам и стахановцам. Премирование носило характер лотереи, т.е. при этом не учитывались конкретные нужды или пожелания премированного. Это было, пожалуй, справедливо, поскольку число колхозников, обладавших работающим мотоциклом или часами, без сомнения, неизмеримо уступало числу тех, кто мог претендовать на эти предметы. Функциональность не входила в число достоинств советских культурных товаров для села. Они являлись символами современности и социалистических надежд, а не предметами обихода.
Во второй половине десятилетия перечисление наград на всесоюзных и областных съездах стахановцев стало традиционной чертой — одним из обязательных ритуалов. Но еще прежде, чем подобная декламация превратилась в стандартную формулу, крестьянские делегаты на различных собраниях порой по собственной инициативе с гордостью упоминали о своих наградах:
«За мою работу два года бригадиром меня премировали 20 раз (аплодисменты). Все премии я перечислять не буду, но скажу: у меня не было хаты, меня колхоз премировал хатой, от края я получил велосипед, патефон, часы, от района — ружье»16.
Потемкинская деревня была связана с широким потемкинским миром огромных заводов и Современных технологий, о которых крестьяне знали, главным образом, понаслышке или из газет. Один из самых мощных символов этого широкого мира представлял собой самолет. В 20-е гг. крестьяне уже начали включать его в свой фольклор, а в 30-е им порой удавалось и увидеть его в натуре. Комсомольцам одного сельсовета Воронежской области удалось организовать полет на какие-то соревнования на самолете из областного центра, и они испытывали «великую гордость». В отсталом Вельском районе Западной области колхозники на полном серьезе собрали 22000 руб. на постройку самолета, который должен был называться «Вельский колхозник». (По последним сообщениям на эту тему, они все еще дожидались своего самолета; по-видимому, местные власти, чувствуя выспренность этого жеста, не спешили предпринимать конкретные шаги по превращению 22000 руб. в самолет17.)
Своего апофеоза потемкинская деревня достигла в кино. Сразу в нескольких фильмах второй половины 30-х гг. картина колхозной жизни была нарисована яркими красками, без полутонов, и сопровождалась непрерывными пением и танцами — нечто среднее между американским мюзиклом «Оклахома!» и массовой сценой из какой-нибудь оперы Римского-Корсакова. Фильм «Богатая невеста», снятый в Киеве в 1938 г. режиссером И.Пырьевым, с музыкой популярного композитора И.Дунаевского, тут же просла-
298
вился и получил в марте 1938 г. специальную премию Верховного Совета18. Следующей картиной того же режиссера стали «Трактористы», с музыкой братьев Покрасс. Фильм «Волга-Волга» (1938), снятый на «Мосфильме» Г.Александровым, с музыкой И.Дунаевского, относился к тому же жанру, хотя и не был непосредственно посвящен колхозу.
«Богатая невеста», которую критик того времени назвал жизнерадостной и реалистической картиной, «первой по-настоящему удачной кинокомедией на колхозную тему», являлась архетипом фильма в жанре «парень плюс девушка плюс трактор» эпохи 30-х гг.
Киновед Дж.Лейда так пересказывает ее сюжет:
«"Богатая невеста" — это Марина Лукаш, ударница в своем украинском колхозе. Колхозный счетовод видит в браке с ней наилучший шанс обеспечить свое будущее и, когда красивый тракторист начинает угрожать его планам завоевать Марину, счетовод искажает производственные показатели последнего, чтобы такой "позорный" работник представлялся явно неподходящей партией для получающей премии Марины. Но любовь и ревизоры торжествуют, и все это сопровождается песнями и танцами, от которых больше веет духом полей, нежели официальной помпой»19.
По мнению советского критика того времени, статус Марины как ударницы, вырабатывающей 400 трудодней в год, следовало отметить особо. Хотя отношения Павло Згары и Марины — их личное дело, пояснял он, но и коллектив имеет здесь свой законный интерес.
«"Выходишь замуж? Поздравляю! Ну, а ты узнала, какой он работник? На каком он счету в своей МТС — ударник он, стахановец или... лодырь?" — спрашивает бригадир... Личное ли это дело? Нет, не только личное. Бригада должна быть уверена в том, что Марина, выйдя замуж, останется такой же ударницей, как была»20.
Постоянно поддерживать потемкинский образ жизни — т.е. такой, который соответствовал бы «советским» ценностям и отвечал воззрениям образованных горожан на будущую жизнь села, — было не по силам почти всем колхозам, кроме очень немногих, по причинам экономического характера. Тем не менее, потемкинские эпизоды — воронежский полет на самолете, зимние эксперименты с самодеятельным театром, премирование швейной машинкой местной стахановки, вспышка спортивного энтузиазма, ведущая к приобретению волейбольного мяча, — случались в жизни всех колхозов, за исключением разве что самой глуши. Они происходили обычно по инициативе кого-нибудь постороннего и заканчивались, когда этот посторонний переключал свое внимание на что-то другое.
Крестьяне часто говорили о потемкинских представлениях с насмешкой, однако их отношение к ним — особенно к фильмам в голливудском стиле, с песнями, танцами и веселым смехом, царящими в потемкинской деревне, — не всегда бывало отрицатель-
299
ным. В конце концов, почему бы и не помечтать немножко? Тетка Варя, центральный персонаж повести Герасимова о Спасе-на-Пес-ках, по словам автора, ходила на каждый фильм, который крутили в деревне после войны, когда впервые удалось приобрести проектор. Сидя в первом ряду, с ребятишками, она внимательно смотрела музыкальные комедии о потемкинской деревне и шутила: «Вот и мы, говорят, скоро будем жить, как на картинах показывают»21 .
НОВАЯ СОВЕТСКАЯ КУЛЬТУРА
Ядром новой советской культуры на селе были собрания. В отличие от потемкинских товаров вроде радиоприемников и роялей, собрания являлись частью повседневной жизни колхозников — обязательные, постоянные, ритуализованные, они требовали от крестьян знания советских процедурных правил и семантических оборотов, доселе неизвестных. Наряду с чтением газет собрания представляли собой основной вклад коллективизации в культурную жизнь села.
Со времен революции собрания и публичные выступления всегда как магнитом притягивали незначительное меньшинство крестьян, жаждущих участия в политической жизни. «Когда в город поедешь, возьми меня с собой... — просил крестьянский парнишка заезжего городского комсомольца. — На оратора буду учиться». Бывшая батрачка, выступавшая на одном из всесоюзных съездов Советов, так рассказывала о своем вовлечении в общественную деятельность:
«"Лобанова любит ходить на собрания", — говорили обо мне женщины. И это была правда. Я почувствовала интерес к общественной деятельности и ходила на все собрания»22.
Сельские активисты вроде Лобановой в награду получали возможность присутствовать на все новых и новых собраниях, конференциях и съездах, все выше и выше уровнем. Чем уровень становился выше, тем дальше нужно было ехать — сначала в райцентр, потом в область и, наконец, — удел немногих счастливчиков — в Кремль, в Москву. Собрания служили естественной средой обитания для активиста, и, следовательно, опыт ведения собраний высоко ценился в этой среде. На Втором Всесоюзном съезде колхозников-ударников в 1935 г. в Москве на большинстве заседаний председательствовали крестьянские делегаты. Чувство ответственности и возбуждение, охватывавшие их от сознания того, что они ведут собрание, где присутствуют сотни людей, а Сталин и другие руководители партии сидят рядом в президиуме, очень живо переданы в ряде статей и интервью, опубликованных на первых страницах «Правды» и «Известий» («Заседание я вела
300
твердой рукой» — самодовольно гласил заголовок над рассказом колхозницы Т.П.Шаповаловой)23.
Большинство крестьян ходить на собрания не любили, но все же ходили, потому что присутствие на собраниях в колхозе и сельсовете считалось обязательным, а отсутствие могло быть расценено как политическая демонстрация. Местная администрация беспрестанно созывала собрания, как потому, что этого требовало вышестоящее начальство, так и потому, что считала проведение собраний своей работой и любила демонстрировать свою сноровку в этом деле. (Периодически вышестоящие руководители порицали подчиненных за чрезмерное увлечение собраниями, не приносящими конкретных результатов.)
Одна пожилая крестьянка высказала в разговоре с советским социологом предположение, что культура собраний, пришедшая в деревню вместе с коллективизацией, явилась причиной падения набожности:
«С колхозами вроде некогда нам стало думать о боге, о молитве и постах; днем работаешь, вечером по хозяйству хлопочешь, а там, смотришь — кино хорошее привезли или собрание назначили — надо идти. Перед сном лишь вспомнишь, что не помолилась сегодня. — Ну, думаешь, уже завтра помолюсь, так и откладываешь»^
Существовала или нет такая причинно-следственная связь, в любом случае правда то, что в результате повсеместного закрытия церквей, кабаков и прочих общественных мест собрание в колхозном клубе оставалось для крестьян одной из главных возможностей пообщаться в нерабочее время.
Самым важным колхозным собранием в году было общее собрание, на котором заслушивался годовой производственный отчет и проводились выборы правления и председателя. Проводились и собрания, где обсуждались с уполномоченными по государственным заготовкам планы поставок. Временами собрания, посвященные выборам и поставкам, бывали весьма оживленными и даже бурными, если колхозники решались оспорить выдвинутую районом кандидатуру председателя или протестовали против спущенных им планов госпоставок. Но как правило, они проходили монотонно, формально и по раз и навсегда установленному стереотипу.
Первую их часть занимали доклады председателя и ревизионной комиссии, неограниченные по времени, полные цифр и такого количества советского жаргона, какое только было доступно выступавшему. Порой основным оратором становился представитель района или МТС, приезжавший провести нового ставленника на пост председателя либо отчитать колхозников за опоздание с севом или чересчур массовый характер мелкого воровства во время уборочной, при этом председатель колхоза и бригадиры должны были выступать с «самокритикой», т.е. каяться и просить прощения за прошлые ошибки. Вторая часть собрания неизменно
301
включала формальную процедуру голосования: либо объявлялись кандидаты в правление и на пост председателя, с последующим голосованием простым поднятием рук, либо вносились предложения утвердить отчет председателя, принять обязательства колхоза по госпоставкам и т.д. В большинстве случаев все пункты равнодушно и привычно принимались25.
Районные ораторы периодически ездили по колхозам с докладами о текущем моменте и недавних партийных и правительственных постановлениях. В 1939 г. в Омской области, по данным одного из потемкинских статистических справочников, упоминавшихся выше, было прочитано 13 416 таких докладов. Как правило, они были нудными, лишенными всякой конкретики и связи с непосредственными нуждами крестьян, как признавали и партийные специалисты по агитации и пропаганде в центре. Реального обмена мнениями между оратором и аудиторией практически не было, и прения обычно проводились кратко и формально. Районные пропагандисты особенно любили рассказывать колхозникам о «международном положении», употребляя термины и географические названия, незнакомые и непонятные многим крестьянам. (Впрочем, популярность слухов и частушек, отражавших крестьянские представления о реальном международном положении, показывает, что доклады все же имели кое-какой эффект, хотя и не совсем такой, как было задумано26.)
Колхозными собраниями отмечались также советские памятные годовщины и революционные праздники. Главные советские и революционные праздники — годовщина Октябрьской революции (7 ноября), 1 мая, Международный женский день (8 марта), День Парижской Коммуны (18 марта) — как правило, до коллективизации в деревне не отмечались, разве что их праздновали несколько комсомольских энтузиастов, но село в целом участия в этом не принимало. В колхозе же эти праздники, наряду с памятными датами Кровавого воскресенья (9 января) и смерти Ленина (относимой то на 21, то на 22 января), отмечались, по заведенному порядку, торжественными собраниями в клубе27. Главная ответственность при этом, по всей видимости, лежала на учителе, по крайней мере в первые годы, когда официальная развлекательная часть программы революционных праздников обычно представляла собой какое-нибудь школьное представление или чтение стихов и, может быть, краткое выступление одного из местных руководителей, посвященное значению празднуемого события28.
Не считая официальных собраний, в 30-е гг. (но не раньше) в деревне по-настоящему отмечали по крайней мере два революционных праздника — 7 ноября и 1 мая.
Празднование годовщины Октябрьской революции, по-видимому, было введено на селе под сильным нажимом сверху после коллективизации и в первые годы не обходилось без тревожных явлений, таких как хулиганство и вспышки антисоветских настроений. В одних местах новый праздник пришелся по душе: напри-
302
мер, в колхозе «Красный боец» в 1931 г. по этому случаю закупили 100 литров водки и пили 5 дней, с 6 по 10 ноября. В других — колхозники роптали из-за отсутствия водки в магазинах. Одобрением властей, конечно, пользовалась официальная часть программы, а не последующее пьянство. Правилами государственной торговли в 1930 г. даже запрещалось продавать спиртное на 7 и 8 ноября, 22 января, 1 и 2 мая29.
Однако за несколько лет обычай отмечать праздник 7 ноября' попойками за счет колхозных средств явно стал во многих местах доброй традицией. Праздновали и 1 мая: «Будет колхоз делать обед, — писал старик-колхозник в 1938 г. своему сыну, — наварили пива и вина набрали по четвертинке на человека». За исключением торжественной части в клубе, советские празднества по форме сильно напоминали прежние религиозные. Не редкостью в эти дни были и случаи поджогов и насильственных преступлений30.
Тиражи газет в деревне резко выросли после коллективизации, от менее 10 млн экз. в 1928 г. до более 35 млн экз. в 1932 г. В одном зажиточном мелитопольском селе-колхозе, где в 1936 г. проводилось исследование читательского спроса, 412 из 555 дворов выписывали по крайней мере одну газету, а многие — две-три. Конечно, это была потемкинская статистика, но газеты, особенно «Крестьянская газета», в жизни крестьян имели реальное значение. Скорее всего, лишь горстка фанатичных поклонников упомянутой газеты относилась к ней с таким энтузиазмом, какой продемонстрировал делегат Второго съезда колхозников-ударников, сказавший, что она дала ему образование. Но десятки тысяч писем, приходивших в редакцию, свидетельствуют о наличии реальной связи между газетой и ее подписчиками — пусть даже самая важная информация шла от читателей к газете, а не наоборот31 .
Радио, по-видимому, играло менее важную роль, несмотря на широкую рекламу этого нового средства массовой мнформации. Даже в конце 30-х гг. только четверть всех сельских клубов имела собственные радиоточки, и они частенько выходили из строя. Из Московской области, например, в 1935 г. сообщали, что там действительно работает только треть радиоточек32.
В 30-е гг. впервые существенное воздействие на деревню оказало кино. Крестьяне обычно ездили смотреть его в райцентр, поскольку на селе все еще было сравнительно мало кинотеатров и проекторов (в 1937 г. — 13000 кинопередвижек и всего 2500 кинотеатров, оборудованных для показа звуковых фильмов). Репертуар был скудным. Западные фильмы больше не импортировались, а самые знаменитые советские ленты — в 1939 г., например, таковыми являлись «Петр Первый», «Александр Невский» и «Ленин в Октябре» — ходили в 800 — 850 копиях и демонстрировались снова и снова33.
303
Особенно полюбили кино молодые крестьяне. «Трудно передать, с каким восторгом относится к кино колхозная молодежь», — сказал один выступавший на Десятом съезде ВЛКСМ, описывая успех кинофестиваля в Воронежской области, который посетили тысячи энтузиастов из колхозов, насчитывавших 7000 юных и взрослых колхозников. Выборочный опрос, проведенный в 1938 г. среди молодых колхозников (в возрасте до 23 лет), показал, что почти все они в прошлом году побывали в кино, а 37% — 16 раз и больше. В среднем каждый из них видел 4 —5 из 11 фильмов, признанных в Советском Союзе лучшими, к которым относились, например, «Чапаев», «Великий гражданин» (драма о политической интриге, порожденной убийством Кирова), «Детство Горького» и «Богатая невеста»34.
Вообще говоря, понятие «новой культуры», пришедшей в советскую деревню после коллективизации, к деревенским школьникам применимо больше, чем к любой другой категории сельского населения. Именно эта группа с наибольшим энтузиазмом воспринимала поветрия и увлечения, приходившие в 30-е гг. из российского города: звуковое кино, спорт, прыжки с парашютом, дальние перелеты, арктические исследования. В одном из наиболее примечательных пассажей своих беллетризованных воспоминаний о крестьянском детстве М.Алексеев рассказывает, с каким жаром он и его 15 —16-летние сверстники предались этим «советским» увлечениям осенью 1933 г., когда начался новый школьный год и можно было выбросить из головы воспоминания о голоде, в предыдущем году унесшем жизни половины односельчан. Когда в райцентре шел фильм «Чапаев», вся школа, чтобы посмотреть его, провела ночь в сквере перед кинотеатром; герой картины «ворвался в наши души и навсегда покорил их». Когда ледокол «Челюскин» с экипажем полярников застрял во льдах, эти деревенские дети следили за драматической историей спасения экипажа (неделями освещавшейся советскими средствами массовой информации в сводках новостей) с тем же страстным вниманием, что и городские их сверстники:
«О челюскинцах и их спасителях мы узнали в поле, где сражались с... злющим сорняком, и орали "уРа" Д° хрипоты, когда последний челюскинец был снят со льдины и вывезен... на Большую землю. От великой радости мы не слышали даже зуда в ладонях, не чувствовали и усталости, просили бригадира, чтобы оставил нас на поле и ночью»35,
ЗНАТНЫЕ ЛЮДИ
В представлениях о советском крестьянине и его отношении к советской власти в 1935 г. произошел перелом. В первой половине 30-х гг. фигура колхозного активиста — находчивого, энергично-
304
го, несгибаемого, сознательно усвоившего советские ценности — предлагалась другим крестьянам в качестве образца для подражания. Были проведены и широко освещались два всесоюзных съезда активистов, или «колхозников-ударников», а также множество областных съездов. Второй всесоюзный съезд прошел в марте 1935 г., и его задачей было обсудить проект нового Устава сельскохозяйственной артели, подготовленный сельскохозяйственным отделом ЦК, и формально утвердить его от лица крестьянства. Но с принятой активистами на себя ролью представителей крестьянства возникли проблемы. Во-первых, многие из них были председателями колхозов и бригадирами, а не простыми колхозниками. Во-вторых, как показал Второй съезд, отношения активистов с пассивным (или враждебным) крестьянским большинством в период коллективизации оставили горькое наследие, в результате чего они не хотели и не могли представлять интересы большинства.
С появлением в 1935 г. стахановского движения образцовый тип колхозного активиста стал уступать место новым фигурам — «знатным людям» из крестьян. Активист жил в мире власти, естественной средой обитания знатных людей стал рекламный потемкинский мир. Типичные колхозные активисты принадлежали к мужскому полу и обычно были русскими, типичными знатными колхозниками стали женщины, часто представительницы какого-нибудь колоритного этнического меньшинства. Хотя, как правило, чтобы стать знатным, необходимы были производственные достижения, как только барьер был взят, основным занятием знатных людей (пока не прошла слава) становились присутствие на съездах и митингах, позирование перед фотографами и встречи с политическими руководителями. Одной из главных функций знатных людей всесоюзного уровня было давать Сталину возможность разыгрывать мудрого и заботливого вождя-отца со своими любящими дочерьми-крестьянками.
Хотя Второй съезд еще был достаточно самостоятельным собранием, с реальной повесткой дня, культ Сталина, в создании которого знатные люди из крестьян позднее сыграли существенную роль, уже был налицо. Сталин опоздал на полчаса на первое заседание редакционной комиссии, потому что фотографировался с делегатами. Как свидетельствуют многие рассказы, эти фото для делегатов имели огромное значение; те, кому удалось постоять рядом с ним или увидеть его вблизи, неизменно бывали глубоко взволнованыЗб. О том, как Сталин вошел и занял свое место в президиуме на третьем заседании, в стенографическом отчете говорится следующее:
«Его появление встречается бурными, долго не смолкающими аплодисментами. Раздается возглас одной из делегаток съезда: "Да здравствует наш вождь, великий учитель Сталин!"»37
Один из делегатов, отчитываясь перед своими односельчанами в Ленинградской области на чрезвычайно долгом, затянувшемся на 6 часов, вечере вопросов и ответов, подчеркивал символич-
305
ность того факта, что заседания съезда проходили в Кремле: «А разве это могло быть раньше? Разве нас бы пустили в этот дворец? Никогда!» Это, видимо, задело чувствительную струнку в душе его слушателей-крестьян, один из которых в истинно потемкинском духе осведомился, знают ли об этом событии в капиталистических странах Запада: «А заграничные послы были на съезде?» — спросил он с надеждой38.
Одна из первых и наиболее долговечных знатных колхозниц, Паша Ангелина, присутствовала на съезде в качестве делегата. Выступая разумно и по существу, она все же не преминула дать обещание вспахать на своем тракторе 1200 гектаров. Это, по-видимому, явилось первым шагом на поле обращенных к Сталину торжественных клятв повысить производительность труда, которое позже превратилось в арену состязаний39.
Когда стахановское движение в конце 1935 г. развернулось во всесоюзном масштабе, по-настоящему пышным цветом расцвели новые ритуалы с участием крестьян и руководителей. В промышленности, где движение зародилось, термин «стахановец» означал рабочего, перевыполнявшего норму за счет рационализации трудового процесса. Однако в сельском хозяйстве о рационализации речь могла идти в гораздо меньшей степени, и там термин «стахановец» мало отличался от предыдущего — «ударник». И стахановцы, и ударники в сельском хозяйстве были крестьянами, которых премировали за более высокую производительность и более упорный труд, чем у других. Им давали премии в виде швейных машинок и одежды, а кроме того, они получали в высшей степени вожделенную привилегию поехать на съезд стахановцев в районный или областной центр, а то и в Москву. В иерархии крестьян-стахановцев низы, совершавшие поездки и пользовавшиеся известностью лишь местного значения, продолжали работать на полях и фермах, где часто сталкивались со злобой и враждебностью со стороны остальных. Верхи же ездили на всесоюзные съезды стахановцев в Кремль40, где немногие избранные, бывшие достаточно привлекательными или остроумными, окутывались магической потемкинской дымкой, где они шутили со Сталиным и другими членами Политбюро, давали интервью журналистам и посылались в качестве знаменитостей в поездки по стране.
Конференции и съезды имели серьезное значение как часть советской системы поощрений, а также как торжественные постановки, в которых Советское государство выводило на сцену самых достойных и ярких своих граждан. Поэтому неудивительно, что крайняя бестактность одного местного руководителя, организовавшего «съезд лодырей», на который пригласили худших работников колхоза, заслужила резкий выговор ЦК партии41.
Ударники и стахановцы — вместе с разными другими «простыми людьми», которых прославляли в 30-е гг. средства массовой информации, такими как «матери-героини», — вошли в новую советскую категорию знатных людей. Две самые знамени-
306
тые крестьянки в этой категории — Паша Ангелина и Мария Демченко. Ангелина родилась в 1912 г. в бедной крестьянской семье греческого происхождения на Украине, вступила со своей семьей в колхоз в 1928 г., в следующем году стала трактористкой, а в 1933 г. организовала первую женскую тракторную бригаду в СССР. Демченко, того же года рождения, была комбайнером свекловодческого колхоза на Украине и начала движение «пяти-сотниц», торжественно заверив Сталина, что соберет не меньше 500 центнеров сахарной свеклы с гектара — почти в 4 раза больше средней нормы42. Обе эти женщины, явно обладавшие редкими способностями и инициативностью, выбрали профессию механизатора, где преобладали мужчины. Но многие другие знатные колхозницы были простыми доярками или свинарками, объяснявшими свои успехи нежной заботой о подопечных и любовью к Сталину.
Когда культ Сталина и съезды стахановцев были еще молоды, один советский журналист — явно завороженный новым ритуалом, но все же больше зритель, чем участник — написал по этому поводу почти антропологические наблюдения:
«То стихая, то нарастая, с новой силой вспыхивали аплодисменты в честь вождя народа товарища Сталина. Когда все еще стихало, из глубины зала кто-то вдруг крикнул взволнованным голосом по-казацки приветственный возглас в честь Сталина. Встали стахановцы, встал Сталин, вожди партии и правительства и долго, молча, горячо аплодировали друг другу...
Когда Серго Орджоникидзе закрыл вечернее заседание, тысячи людей поднялись, как один, и возгласы в честь Сталина, в честь нашей партии, огласили высокие своды зала. И так же, как и при утренней встрече, Сталин ответил стахановцам горячими аплодисментами, широким приветственным жестом простился с делегатами совещания...»43
Риторика и иконография культа Сталина многим обязаны этим стахановским съездам 30-х гг. Именно на них фотографы запечатлели новый имидж Сталина: добродушный, держащийся по-отечески, прямой без высокомерия и претензий, человечный вождь, легко смешивающийся со своим народом. В середине 30-х гг., до Большого Террора, Сталин в подобных случаях часто появлялся в компании других членов Политбюро, с которыми фотографировался всего лишь как первый среди равных (выходцам с Кавказа, Орджоникидзе и Микояну, вместе с общительным Ворошиловым лучше всех удавалось создать эту атмосферу непринужденного товарищества). Члены Политбюро слегка поддразнивали бойких девушек-стахановок и любезно ободряли робких. Отношения, проникнутые доверием, теплотой, чувством юмора, показаны, на фоне красот природы, на одной из известнейших икон того периода — сделанной Б.Игнатовичем в 1936 г. фотографии Сталина и комбайнера-стахановки Марии Демченко, подписанной: «Расцвет Советской Украины».
307
Разговаривая с крестьянками-стахановками, члены Политбюро употребляли фамильярное обращение «ты». Это явно должно было вызывать чувство неформальности, интимности общения, хотя циники могли бы дать другие толкования. В следующем обмене репликами между Сталиным и нервничающей девушкой-комбайнером семейный характер взаимоотношений настойчиво рекомендуется:
«ПЕТРОВА. Товарищи, я работаю на комбайне первый год. Скосила 544 гектара, получила 2250 рублей... Я волнуюсь, не могу говорить.
СТАЛИН. Говорите смелее, здесь все свои.
ПЕТРОВА. На будущий год я беру обязательство скосить 700 гектаров. Вызываю на социалистическое соревнование по Советскому Союзу всех девушек. (Аплодисменты.)
МОЛОТОВ. Хорошо выходит, говорите.
ПЕТРОВА. Я волнуюсь.
СТАЛИН. Ничего, ничего, хорошо выходит, посмелее... Здесь своя семья»44.
Для знатной колхозницы первая встреча со Сталиным была моментом огромнейшего ритуального значения, о котором рассказывали снова и снова, для некоторых — даже моментом самоосознания:
«И, когда товарищ Сталин говорил, что "только колхозная жизнь могла сделать труд делом почета, только она могла породить настоящих героинь-женщин в деревне", — я чуть не заплакала, потому что эти слова были словами о моей жизни и о жизни миллионов таких же, как я, женщин.
Я слушала товарища Сталина, и передо мной прошла вся моя жизнь с детства и до самой встречи с товарищем Сталиным...»45
Зачастую подобные повествования принимали сказочный характер; некоторые крестьянки-стахановки преуспели в этом направлении по крайней мере не меньше, чем псевдонародные сказители, публиковавшие эпические произведения во славу Сталина. Возьмем, к примеру, рассказ Марии Демченко о ее первой встрече со Сталиным на последующем съезде стахановцев:
«Вот они вышли к нам — товарищи Сталин, Молотов, Каганович, Ворошилов, Калинин, Орджоникидзе, Микоян...
Товарищ Сталин стоял среди своих помощников веселый, махал нам рукой (вот так!) и внимательно, очень внимательно и как-то особенно приветно оглядывал колхозниц.
Когда аплодисменты утихли, он посмотрел на меня и проговорил:
— Ну что же, товарищ Демченко, рассказывай...
Все рассказала...
Я смотрю на товарища Сталина — как он слушает, и по лицу его вижу, что он не пропускает мимо ушей ни одного слова: то улыбнется, то задумается, то головой вот так: дескать, правильно!
После колхозниц стал говорить он сам.
308
Вся его речь, каждое его слово так мне легли в память, что не забыть мне никогда...
Под конец своей речи он посмотрел на своих соратников и проговорил:
Ну, что же им?.. Немножко подумал, сказал:
Надо им дать ордена...
Замерло сердце. "Неужели такое нам счастье, что не только мы видели товарища Сталина, не только разговаривали с ним, но и получаем от него награду, выше которой нет"...»
После того как медали были вручены и фотографии сделаны, Сталин подошел к Демченко и, как в русской сказке, предсказал ей будущее:
«Я говорю: "Товарищ Сталин, свое обязательство я выполнила. Хочу, чтобы вы мне дали какое-нибудь новое задание".
Он чуточку подумал, сказал:
Учиться хочешь?
Так хочу, что и рассказать не умею.
Он повернулся к своим соратникам, говорит:
— А знаете, товарищи, Демченко на учебу идет. Агрономом будет.
Тут мы с ним попрощались»46.
На съездах стахановцев обсуждение шло чисто риторическое, а не по существу, поэтому неудивительно, что именно там в первую очередь рождались льстивые эпитеты для Сталина. Крестьянки-стахановки оказывались самыми изобретательными на этот счет, в особенности нерусские, и некоторые из них были настоящими специалистами по дирижированию овациями толпы.
«Спасибо товарищу Сталину, нашему вождю, нашему отцу, за счастливую, веселую колхозную жизнь!..
Он, великий Сталин, внимательно слушает всех нас на этом совещании, любит нас великой сталинской любовью (бурные аплодисменты), день и ночь думает о нашей зажиточности, о нашей культуре, о нашей работе...
Да здравствует наш друг, наш учитель, любимый вождь мирового пролетариата товарищ Сталин! (Бурные аплодисменты, переходящие в овацию. Крики "ура".)»47.
Главной представительской функцией всесоюзных съездов стахановцев было продемонстрировать зажиточное, демократическое Советское государство и счастливое крестьянство. Лейтмотивом их стал лозунг, взятый из речи Сталина на съезде ударников и ударниц комбайнеров 1 декабря 1935 г.: «Жить стало лучше, веселее »48.
Счастье могло пониматься по-разному, в частности как избавление от прежней нищеты. Члены тракторной бригады Ангелиной (в 1935 г. все в возрасте около 20 — 30 лет) на вопрос одной газеты, что в том же возрасте делали их матери, с пафосом отвечали:
309
«Мать с 13 лет ходила внаймы. Потом вышла замуж. Была красива, а то разве батрачку кто-нибудь бы взял? Осталась неграмотной.
Мать в мои годы (19 лет) работала по найму у помещика. От тяжкого труда у матери появились болезни: умерла она еще молодой, когда мне было только 6 лет»49.
Рассказывая историю своей жизни на съездах стахановцев, крестьянские женщины обязательно подчеркивали контраст между прошлыми мытарствами и нынешним счастьем:
«Я была батрачкой, осталась от отца четырехлетней сиротой и все время жила у чужих, работала в нужде, и никогда в моей жизни раньше не было веселых дней. Теперь я колхозница-ударница и знатный человек в своем районе...
Много я трудилась и тогда, когда была батрачкой, но за этот труд никто меня не уважал: ни хозяин, ни соседи. Только в колхозе завоевала трудом уважение к себе и полное равноправие со всеми колхозниками...»50
Изложение автобиографии и рассказ о своих производственных достижениях представляли собой два ключевых компонента стандартной речи на съезде стахановцев. Если выступали стахановки, особенно крестьянки, существовала еще одна важная деталь: перечисление материальных поощрений. Женщины откровенно гордились своими новыми вещами, что раньше вполне могло бы быть расценено как дух мелкобуржуазного стяжательства, партийные вожди нередко подбадривали их шутливыми репликами и вопросами.
«За ударную работу я получила в 1935 году от райкома партии и райисполкома премию в 700 рублей. На эти деньги я приобрела себе мебель. Кроме того, ко мне в квартиру провели телефон... От Народного комиссариата пищевой промышленности я получила 1000 рублей, а колхоз премировал меня домом и коровой...
Я сама за хорошую ударную работу три раза была премирована районными организациями, четыре раза — центральными организациями. Получила в премию кровать, патефон и другие необходимые культурные предметы. Я могу вам сообщить, что я теперь не живу в старой глинобитной избе, а я получила в премию дом европейского типа. Я культурно живу...
Все, что на мне надето, я получила в премию за хорошую работу в колхозе. Помимо платья и обуви я получила швейную машину в Нальчике...
За уборочную я премирована шелковым платьем стоимостью в 250 рублей»51.
Четвертым моментом в речах крестьянок-стахановок обычно было утверждение, что колхоз освободил их от гнета патриархальной семьи, поскольку в колхозе они самостоятельно зарабатывают трудодни. Эта тема получила свое канонические оформление в замечаниях Сталина на встрече со стахановками свеклович-
310
ных полей в ноябре 1935 г.52. Один пассаж, несомненно давший основную идею фильму «Богатая невеста», представляет собой пересказ Сталиным слов одной делегатки Второго съезда колхозников-ударников, с которой он разговаривал:
«Год тому назад никто ко мне на двор из женихов заглядывать не хотел. Бесприданница! Теперь у меня пятьсот трудодней. И что же? Отбою нет от женихов, хотят, говорят, жениться, а я еще посмотрю, сама выбирать буду женишков»5^.
Яковлев рассказывал о таком же разговоре с одной колхозницей:
«Я ее спрашивал между прочим, не вышла ли она замуж. Говорит — нет. Спрашиваю — почему? Говорит — "пары пока не находится, а торопиться мне некуда. Кабы было, как в 1929 году, за любого пошла бы с двумя детьми да со свекровью, а теперь — 600 трудодней!"»54
Тема освобождения пользовалась особенной популярностью среди стахановок, принадлежавших к этническим меньшинствам. Следующие две цитаты взяты из выступлений Паши Ангелиной и бригадира из Армении З.С.Будягиной:
«Ведь наши девушки-гречанки раньше не только не знали трактора, они боялись даже выходить на улицу, открыть свое лицо, посмотреть на мужчину. Раньше было так, что если девушка выйдет с открытым лицом на улицу и посмотрит на мужчину, то она уж не выйдет замуж, она — самая последняя девушка. А теперь благодаря нашему вождю и учителю товарищу Сталину девушки-гречанки добились такого положения, что мы сейчас идем впереди многих мужчин».
«Товарищ Сталин очень правильно говорил, что женщина раньше была угнетенной. В особенности это было видно в нашей армянской деревне, где женщина была настоящей рабыней. Сейчас наши колхозницы стали свободными, сейчас они иногда зарабатывают больше, чем мужья. А когда зарабатываешь больше, чем муж, как он сможет угнетать? Тогда у него язык становится короче » 55.
Многие стахановки говорили о конфликтах с мужьями, возникших в результате их освобождения в колхозе. Иногда отсталый муж становился наконец на верный путь, как в следующем, звучащем несколько свысока, рассказе:
«Когда я вступила в колхоз в 1929 году, мне приходилось бороться не только с отсталыми колхозниками, но и со своим родным человеком — мужем. Но я поборола его. Мой муж теперь вступил в колхоз и уже работает неплохо. В 1935 году он стал ударником, несколько раз премировался, получал хорошие премии»56.
В других случаях, как, например, в описанном стахановкой из Башкирии, освобождение жены приводило к распаду брака:
«...Меня выдали замуж. Выдали по старому, тогда еще не отжившему, обычаю, против моей воли.
311
Прожив с мужем полтора года, я разошлась с ним и стала самостоятельно работать в колхозе. Тут я получила возможность хорошо жить»57.
ВЫБОРЫ
Советские выборы в общем и целом принадлежали к потемкинскому миру. До 1937 г. делегаты на всесоюзные и республиканские съезды Советов избирались каждые два года на основе непрямых выборов, часто голосованием, причем по существовавшей избирательной системе не только были лишены права голоса кулаки и прочие «классовые враги», но также голоса городских рабочих имели значительный перевес над голосами крестьян58. Разумеется, сельские советы избирались непосредственно сельским населением, но нерегулярно (за все десятилетие такие выборы состоялись лишь три раза — в 1931, 1934 и 1939 гг.) и по заранее подготовленному списку кандидатов. Сельские выборы порой проводились с помпой: например, в 1934 г. в Рудненском районе для оживления избирательных собраний привлекли целый оркестр из местных музыкантов: гармониста, балалаечника, скрипача и литаврщика. Однако вплоть до 1937 г. демократический фасад был настолько хрупок, что правительственное постановление, отбирающее у сельсоветов полномочия по сбору налогов и передающее их району, поставило это решение в связь с новой (sic!) ролью сельсоветов «как выборных органов Советской власти в деревне» по новой Конституции59.
Демократический аспект республиканских и всесоюзных съездов Советов заключался преимущественно в избрании делегатами множества людей скромного общественного положения — крестьян, рабочих, женщин, представителей этнических меньшинств. Они входили в категорию знатных людей сталинской эпохи, которых мы уже встречали на съездах стахановцев и других мероприятиях. Группы колхозников-ударников, стахановцев и советских депутатов в значительной степени совпадали друг с другом. Ряд делегатов Второго съезда колхозников-ударников уже были делегатами съезда Советов или членами ВЦИК и ЦИК СССР: например, Диомид Сидоров, колхозный председатель-коммунист из Московской области, и Прасковья Фомина, беспартийная заведующая животноводческой фермой из Северного края, оба были членами ВЦИК; Тамара Шаповалова и Марфа Коняева, рядовые колхозницы из Воронежской и Киевской областей, беспартийные, — членами ЦИК СССР. Как простодушно рассказывала Шаповалова, ее в последнее время куда только не избрали: кроме ЦИК СССР, она была еще членом Воронежского облисполкома, райисполкома и правления своего колхоза — и все это, заявила она, без освобождения от полевых работ в колхозе^0.
312
Кандидатов для выборов в советы подбирали в соответствии с неофициально существовавшей системой квот, чтобы получить надлежащим образом сбалансированный список, как можно видеть из записки, под грифом «Совершенно секретно», партийного секретаря Западной области одному районному руководителю, советующей подобрать в качестве кандидатов для предстоящих выборов в советы «рабочих и работниц (лучших из стахановцев на производстве) — 7, колхозников и колхозниц 4 чел., представителей интеллигенции (инженеры, агрономы, учителя, врачи) 1 чел.» и добиться, чтобы в списке было по меньшей мере 3 женщины и чтобы не больше половины кандидатов были коммунистами и комсомольцами61.
Присутствие крестьян и представителей каких-нибудь экзотических племен, соответственно одетых, в качестве делегатов на съездах добавляло живые краски в обязательные газетные отчеты о заседаниях и производило глубокое впечатление на иностранцев, как отмечала А.Л.Капустина, колхозница из Ленинградской области, ставшая в 1935 г. депутатом ЦИК СССР:
«Я была 7 ноября в нашей Ленинградской области на празднике. На трибуне встретилась с иностранными рабочими и через переводчиков беседовала с ними. Я рассказала им, что в нашей стране женщины широко вовлечены в управление государством, что я, простая в прошлом, забитая женщина, являюсь членом союзного правительства... Они так удивлялись, что записали мой адрес, посмотрели мой документ, увидели мой значок и, наконец убедившись, покачали головой. Да, товарищи, для них это чудо, ибо там этого быть не может»62.
Между прочим, эта тема легла в основу одной из великих лент 30-х гг. «Член правительства» (1939), рассказывающей о колхознице, ставшей членом советского парламента^.
Новая Конституция все изменила — или казалось, что изменила. Еще в начале 1935 г. ЦК партии решил демократизировать избирательную систему, заменив непрямые выборы прямыми, введя тайное голосование и покончив с дискриминационным перевесом голосов городского населения над голосами сельского населения64. Затем появилась новая Конституция (проект ее был опубликован 12 июня 1936 г.), в которой провозглашалось, что все граждане страны имеют равные права и могут избирать и быть избранными «независимо от расовой и национальной принадлежности, вероисповедания... социального происхождения, имущественного положения и прошлой деятельности»65. В начале 1937 г. было объявлено, что первые прямые выборы в Верховный Совет СССР состоятся в том же году.
Эти выборы будут демократическими, говорил Жданов Центральному Комитету партии на февральско-мартовском пленуме 1937 г. Они не только будут проводиться на основе всеобщего, равного и прямого избирательного права, с предоставлением права голоса бывшим классовым врагам и единым принципом
313
представительства66, но кроме того — чудеса, да и только! — за каждое место будут бороться несколько кандидатов, и не будет списков, подготовленных заранее партийными организациями. Такой переход не будет легким, предупреждал Жданов. Коммунисты должны научиться соревноваться с беспартийными кандидатами и быть готовы к тому, что какие-то коммунистические кандидаты провалятся на выборах. Они должны отказаться от привычного образа мыслей, сложившегося у них за годы удобного закулисного подбора кандидатов, избрание которых на практике было пустой формальностью67.
Разумеется, в изложенной Ждановым программе немедленной демократизации имелись некоторые ограничения. Во-первых, в 1937 г. должны были состояться выборы только в Верховный Совет, а не в местные советы68. Таким образом, они не затрагивали жизненных интересов избирателей и местных советских чиновников, о чьих местах непосредственно речь пока не шла. Во-вторых, коммунистическая партия не собиралась отказываться от практики нажима в тех ситуациях, когда появлялась угроза ее диктатуре. Жданов подчеркнул, что если новые процедуры будут способствовать демагогическим атакам на местных советских работников — если, короче говоря, все выйдет из-под контроля, — то партия должна, не колеблясь, принять решительные меры6^.
Что стояло за новой политикой и насколько серьезно собиралось партийное руководство проводить ее — вопросы, на которые пока нет окончательного ответа. Возможное объяснение таково, что в самом начале действительно существовало некое стремление к демократизации, однако к тому моменту, когда Жданов выступал на февральско-мартовском пленуме, оно уже почти исчезло, и программе следовали по инерции. Это был, следует напомнить, тот самый пленум, на котором Молотов, Сталин и Ежов выдвинули чудовищные обвинения во вредительстве и заговорщической деятельности против высокопоставленных коммунистов, дав тем самым сигнал к началу Большого Террора. При таком начале эксперимент по установлению советской демократии заранее был обречен на провал70.
Не прошло много времени, как появились первые тревожные признаки. Наппример, в аккоджинском колхозе Симферопольской области чтение и обсуждение Положения о выборах, организованное прямо в поле местным коммунистом Козловым, приняло совершенно не тот оборот, когда крестьяне решили устроить себе развлечение за счет Козлова. Все началось с того, что один член полевой бригады сказал: «Все, что вы нам здесь рассказываете, очень интересно, но желательно увидеть, как это выглядит на практике. Нельзя ли сейчас же провести пробные выборы?»
К этому предложению присоединились и другие колхозники, и Козлов наивно согласился провести шуточные выборы в сельсовет и его ревизионную комиссию. Затем были выдвинуты 9 кандидатов на 5 мест в сельсовете и 5 — на 3 места в ревизионной комис-
314
сии. И началась потеха: колхозники принялись за «гнуснейшее издевательство» над местными активистами и должностными лицами, бывшими в числе кандидатов. «Якобы в "шутку" обливали грязью председателя колхоза т. Дитрих, в прошлом батрака и тракториста. Они "отвели" его из "списка для тайного голосования"...»
Веселье продолжилось вечером в колхозном клубе, в присутствии колхозного парторга и представителя райкома. Шуточные выборы были проведены и, естественно, закончились поражением нынешнего руководства сельсовета. Представитель райкома решил замять дело, не предавая огласке. Но посоветовал коммунистам колхоза «больше не устраивать репетиции выборов»71.
Этот инцидент показывал скорее низкое мнение колхозников об активистах и коммунистах и их сардонический взгляд на потемкинские аспекты советской жизни, чем какие-либо серьезные планы в отношении предстоящих выборов в Верховный Совет. Но некоторые из собранных НКВД примеров «антисоветских» проявлений свидетельствуют о более зловещих настроениях части сельских избирателей. В Воронежской области кое-кто из крестьян говорил: «Жаль, что расстреляли зиновьевцев. Мы бы при новых выборах голосовали за них». Некие «контрреволюционные группы» в той же области призывали крестьян бойкотировать коммунистических кандидатов и выбирать «своих людей». Один говорил: «Теперь выборы будут тайные, и мы будем голосовать за своих людей, а не за коммунистов. За коммунистов подавляющее большинство населения голосовать не будет, и власть переменится». Другой, якобы когда-то поддерживавший Антонова, предводителя крестьянского восстания 1921 г. на Тамбовщине: «При перевыборах советов надо выбирать беспартийных и бывших кулаков. Эти люди умнее коммунистов и не желают чужого, а коммунисты только грабят народ» 72.
Согласно многим сообщениям, наиболее энергично ухватились за возможности, предоставляемые новой избирательной процедурой, верующие и священники, восстановленные в правах Конституцией 1936 г. Священники и пасторы поспешили предложить местным властям свои услуги в качестве агитаторов и пропагандистов новой Конституции и Положения о выборах, проводили с этой целью собрания в церквях и молитвенных домах и даже ходили по домам с пропагандой советских выборов73. Вдобавок некоторые из них поняли, что могут баллотироваться и сами, кандидатами от своих прихожан.
Согласно инструкциям, изданным летом 1937 г., кандидаты на выборы могли выдвигаться партийными и комсомольскими орга-низациямии, профсоюзами, промышленными предприятиями, колхозами и разными другими организациями, в том числе «другими организациями, зарегистрированными в установленном законом порядке»74. По-видимому, составители этих инструкций упустили из виду тот факт, что, поскольку советские законы требовали,
315
чтобы все религиозные организации регистрировались государством, буквальное толкование постановления давало право выдвинуть своего кандидата любому православному приходу страны. А вот от внимания верующих этот момент не ускользнул. Когда одна областная газета опубликовала стереотипную «разоблачительную» статью о сыне священника, какой-то читатель написал протестующее письмо, где говорилось, что статья полностью противоречит духу «новой, радостной для всех жизни», предопределенной Конституцией, которая гарантировала, что «не только сын, но и сам священник имеет право труда даже в верховных органах власти»75.
Скоро посыпались сообщения о том, что активность, проявленная священниками и верующими в связи с выборами, вовсе не объясняется чисто альтруистическими мотивами. В одном районе старообрядцы попытались организовать свой съезд, чтобы составить список кандидатов-старообрядцев в Верховный Совет. В другом баптисты и православная секта федоровцев решили вместе вступить в предвыборную борьбу и устроить штаб-квартиру в будке путевого обходчика на железной дороге. Распространялись «иерусалимские письма» и памфлеты со списками православных кандидатов. Священники читали проповеди, в которых разъясняли, что по Положению о выборах религиозные организации имеют право выдвигать кандидатов; на Украине священникам разных областей велели скоординировать свою предвыборную стратегию и совершить «предвыборные поездки». Проводились приходские собрания по выдвижению кандидатов; в церквях устраивались опросы для выяснения настроений народа. Когда заезжий лектор по атеизму спросил крестьян в одной деревне, за кого они будут голосовать на выборах, половина стала выкрикивать: «за отца Николая», тогда как другая половина пыталась их заглушить76.
НКВД доносил Сталину в октябре, что православные активисты и сектанты призывают крестьян голосовать против коммунистов и пытаются снова открывать церкви и молитвенные дома без официального разрешения77. В такой трактовке, как и в историях, рассказываемых газетами, лидерство приписывалось «церковникам», а крестьянам отводилась роль пассивно следующих за ними. Однако в действительности, возможно, часто бывало наоборот. В современной российской истории «церковники» если и руководили политическим движением в низах, то очень редко. Зато есть масса прецедентов, когда крестьяне выражали свой протест государству под маской борьбы за веру78.
Эта гипотеза получает подтверждение в поступившем в июне 1937 г. от одного сельского руководителя из Вельского района Западной области сообщении о том, что «люди, 20 лет не ходившие в церковь, теперь ходят». Далее он продолжает, обнаруживая смятение, гнев и страх, владевшие в то время многими коммунистами:
316
«Попы отвечают, что их выбрала масса, что, мол, у нас есть заявление от массы об открытии церкви, что это заявление в каком-то синоде. Я же таких, как председатель сельсовета, заявлений не видел и не знаю, и сомневаюсь, чтобы они подавали. Дальше так, товарищи, нетерпимо. Необходимо нам в будущем, прорабатывая решение партии, выявлять вредителей и их судить»7^
Этому совету вскоре последовали. К середине лета советское руководство было уже по-настоящему встревожено «оживлением» религии и его возможными последствиями на выборах. Первой его реакцией было развязать террор против православных иерархов. НКВД объявил о раскрытии ряда контрреволюционных заговоров, возглавлявшихся церковниками, обычно епископами и другими прелатами православной церкви, посылавшими священников как своих агентов вести подрывную деятельность в деревнях. В довершение повсеместно прошла, хотя и с куда меньшей оглаской, облава на странствующих богомольцев, сектантов и прочих в рамках «кулацкой операции»80. Наконец, снова началось закрытие церквей и преследование религиозной деятельности на местном уровне. В некоторых районах Западной области, как потом сообщалось, секретари райкомов создали особые отряды, единственной задачей которых было закрывать церкви. В одном районе, где поспешно принятое решение привело к закрытию всех церквей, «в работу включили избирательные комиссии, которые в своих сводках о ходе избирательной кампании регулярно сообщали о... закрытии церквей»81. (Впрочем, по прошествии нескольких месяцев подобные акции были осуждены как «перегибы» и кампания против церкви прекращена.)
Самым сокрушительным ответным ударом партийного руководства явилось изменение правил выборов в Верховный Совет в разгар избирательной кампании. Основных изменений было два. Во-первых, православные приходы и прочие религиозные организации безоговорочно исключались из числа организаций, имеющих право выдвигать кандидатов. А.И.Стецкий, зав. отделом агитации и пропаганды ЦК и один из главных составителей новой Конституции, разъяснил, что на самом деле Конституция вовсе не давала религиозным организациям права выдвигать кандидатов на выборы в советы. Он обвинил церковь и различные секты в неправомерном присвоении себе этого права и в том, что они «одурачивают» поддерживающий их простой народ. Спустя несколько месяцев — слишком поздно, чтобы это имело какое-то реальное значение, — работники агитпропа придумали лучший аргумент: выдвижение церковными группами кандидатов на выборы в советы нарушает конституционный принцип отделения церкви от госу-дарства8^.
Во-вторых, партийное руководство внезапно полностью отказалось от идеи выборов в Верховный Совет со многими кандидатами. Этот удивительный переворот, очевидно, произошел на пле-
317
нуме ЦК, состоявшемся 11 — 12 октября83. Решение не предавалось гласности до декабря, почти до самых выборов, когда не имеющие соперников кандидаты в каждом избирательном округе получили эвфемистическое название представителей «блока коммунистов и беспартийных». Предположительно сразу после октябрьского пленума местным партийным организациям были направлены секретные инструкции по поводу данного решения и его выполнения. Во всяком случае уже 21 октября газеты сообщили, что в трех московских избирательных округах прошли первые собрания по выдвижению кандидатов, где бесспорную победу одержали соответственно Сталин, Молотов и 34-летняя работница-выдвиженка, на тот момент председатель Таганского райисполкома, Прасковья Пичугина84.
Это значило, конечно, что выборы в Верховный Совет пойдут по прежнему потемкинскому пути, причем при значительном недовольстве со стороны крестьян и тревоге со стороны коммунистов-организаторов. Тысячи городских рабочих были отправлены агитаторами в деревню, чтобы бороться с «контрреволюционной клеветой» насчет выборов85.
«Клевета», тем не менее, продолжалась. В Воронежской области православные и баптисты агитировали против официальных кандидатов в Верховный Совет, в одном случае «даже на колхозном собрании». Монахини отвлекали колхозников от избирательной кампании, предрекая скорое наступление дня Страшного Суда. Священники ездили по деревням, советуя людям во время тайного голосования «вычеркивать в избирательных бюллетенях фамилии всех намеченных кандидатов, а вместо них вписывать другие фамилии»86. В селе Старый Оскол кем-то был предложен в качестве кандидата «некто Горозанкин — родственник одного из соучастников злодейского убийства С.М.Кирова», что, несомненно, повергло местное руководство в панику, когда данная связь обнаружилась. В колхозе «Победа» неизвестные саботажники сорвали плакаты, призывающие голосовать за «лучших людей» — расхожее выражение того времени, обозначавшее лояльных и праведно мыслящих граждан, формально беспартийных87.
Когда в конце года выборы наконец состоялись, «блок коммунистов и беспартийных» одержал громкую победу, якобы завоевав 90 млн из 91 млн поданных голосов. Таким образом, по крайней мере в потемкинском мире доверие крестьян к государству осталось незыблемым. Что же касается доверия государства к крестьянам, символически выражаемого количеством мест, предоставленных крестьянам в Верховном Совете, то кремлинологический анализ дает смешанные результаты. Крестьяне «завоевали» 27% мест в Верховном Совете, избранном в конце 1937 г. Это совсем не так впечатляет, как их представительство на Чрезвычайном съезде Советов, созванном в конце 1936 г. для ратификации новой Конституции, где крестьянами были 40% делегатов. С другой стороны, это намного лучше их представительства в прежнем
318
советском парламенте (ЦИК СССР), где было лишь 15% крестьянских депутатов88.
Для меньшинства крестьян, избиравшихся депутатами советов, получавших стахановские награды и фотографировавшихся со Сталиным на всесоюзных съездах, потемкинская деревня, несомненно, имела реальное значение, ибо они являлись ее воплощением в глазах внешнего мира. Конечно, их подлинные связи с другими крестьянами ослабевали, когда они становились знаменитостями. Даже если они не покидали деревню физически, их настоящей социальной средой, как правило, становились районные и местные сельские чиновники. А многие из них через несколько лет уезжали из деревни на учебу и, если возвращались, работали агрономами либо директорами МТС (как Мария Демченко и Паша Ангелина).
Крестьянству же в целом потемкинская сторона жизни порой служила источником развлечения или даже воодушевления, но чаще вызывала презрительное равнодушие, досаду или гнев.
«Дорогие вожди, Вы видите очень слепо, — писал сибирский крестьянин Сталину и Калинину в 1937 г., — Вы только слышите на разных всякого рода съездах, совещаниях какое-то количество во всем довольных людей в лице делегатов, а также вся наша пресса втирает Вам очки о колхозной деревне. Фактически в колхозах наблюдается печальная картина, особенно если сравнить с годами нэпа...»89
Другой колхозник, из Калининской области, заканчивал свое письмо в газету о положении в колхозе так:
«Вот, уважаемая "Крестьянская газета", какие у нас творятся безобразия, а родной наш учитель т. Сталин думает, у нас все в порядке, люди живут прямо в раю»90.
Если некоторые колхозники и полагали, будто на Втором съезде колхозников-ударников должны были присутствовать иностранные послы, чтобы своими глазами убедиться в том, что простые крестьяне заседают в Кремле, то многие другие весьма бесцеремонно высказывались по поводу самой необходимости этого съезда:
«Верховодцам коммунистам надо чем-либо заниматься, вот и выдумали новый устав, рисуют на бумаге зажиточную жизнь, а все это брехология»91.
11. Мыши и кот
«Мыши», о которых идет речь в названии главы, — это советские крестьяне, чье поведение в подчиненном положении рассматривается в данной книге. «Кот» — это хищник-начальник, другая часть уравнения власти и подчинения. Символы кота и мышей использовались в русских лубках конца XVII — начала XVIII века, там кот традиционно отождествлялся с Петром Великим. В нашем повествовании кот — это зачастую Сталин, олицетворение власти в народном сознании. Но было и множество более мелких котов. Для крестьян важнейшими из них являлись «маленькие Сталины» районного масштаба, олицетворявшие власть на местном уровне.
Настоящая глава рассматривает два аспекта взаимоотношений мышей и кота, связанные с этим образом. Тема первого раздела — слухи, в особенности касающиеся властей и политики. Слухи настолько же являются средством для выражения народного мнения, насколько и для распространения информации. С помощью слухов, ходивших в деревне в 1930-х гг., советские крестьяне пытались интерпретировать события в стране и даже за рубежом и, подобно кремлинологам, тщательно анализировали официальные заявления правителей, стараясь вскрыть их истинный смысл и мотивы, стоящие за ними. Следует сказать, что этот кремлинологический подход показал глубокое недоверие крестьян ко всему, что «они» (начальство, партийные пропагандисты, газеты) говорят.
В более ранние исторические периоды слухи среди крестьян озвучивали миф о «добром царе», благим намерениям которого в отношении народа препятствуют злые царедворцы. Правда, подобных слухов не слишком много было во времена Петра Великого, то же можно сказать и о сталинском времени. Слухи, ходившие в деревне в 1930-х гг., примечательны не только почти полным отсутствием «наивного монархизма», но и выражаемой ими глубиной народной оппозиции Сталину.
Второй раздел главы посвящен показательным процессам над бывшими районными руководителями, прошедшим осенью 1937 г. во многих сельских районах. Эти процессы, часть более широкого феномена Большого Террора, на первый взгляд, имеют отношение исключительно к противоборству в сфере власти, т.е. к миру котов. Однако ситуация была гораздо сложнее. Мыши-крестьяне оказывались вовлечены в районные показательные процессы на многих уровнях. Они были первыми жертвами жестокостей, вымогательства и других правонарушений, вменяемых в вину должностным лицам; они же служили главными свидетелями против обвиняемых в суде.
320
Районные показательные процессы несомненно задумывались как спектакль, обращенный к крестьянам «наивно-монархического» толка. С их помощью крестьянам как бы говорили, что настоящая советская власть — не та, с которой они сталкивались в повседневной жизни, и тот факт, что Сталин, олицетворение власти, карал теперь местных руководителей за их грехи, был призван продемонстрировать это.
Однако крестьяне остались глухи к подобному обращению. В деревне неизвестны слухи о благих намерениях Сталина или его роли в спасении мышей от хищничества мелких котов. Напротив, мыши-крестьяне, по-видимому, утверждались в своем мнении, что кот есть кот, просто одни коты больше и опаснее других. Вывод, сделанный ими из кровавой гибели столь многих котов в 1937 г., судя по «народной молве»1, состоял в том, что режим находится в кризисе и близок к падению, а война неминуема. Что касается самих районных процессов, то крестьяне, игнорируя заключенное в них обращение режима, превращали процессы в своего рода карнавал — время шумного веселья, когда мир «становится с ног на голову» и слабый может безнаказанно высмеивать сильного.
ОБРАЗ СТАЛИНА В ДЕРЕВЕНСКОЙ МОЛВЕ
Трудно выяснить, что на самом деле думали крестьяне — вернее, что они говорили между собой, а не лицам, облеченным властью, посторонним или образованным людям. Само собой разумеется, большинство наших источников — это либо сообщения посторонних лиц о крестьянах, либо сведения об общении крестьян с посторонними. Слухи представляют собой исключение из этого правила. К счастью для историков, советские органы внутренних дел собирали слухи как показатель настроений в народе и общественной реакции на правительственные меры. Подбор несомненно осуществлялся тенденциозно, поскольку НКВД и его предшественников всегда в первую очередь интересовала та часть разговоров среди крестьян, которая имела отношение к политике и государству; и в 1930-е гг. слухи и мнения, о которых они доносили, почти всегда носили крамольный характер.
Вопрос о том, насколько при этом искажалось реальное положение дел, остается открытым. У финского коммуниста Арво Ту-оминена, повидавшего советскую деревню в 1934 г. в качестве члена хлебозаготовительного отряда, сложилось убеждение, будто крестьяне говорят о существующем строе не иначе как в бунтарском духе:
«По первому моему впечатлению, оказавшемуся прочным, все были настроены контрреволюционно и вся деревня восставала против Москвы и Сталина»2.
'/2 11-1682
Возможно, столь единодушное антисоветское настроение, по крайней мере частично, являлось следствием прибытия в деревню отряда Туоминена. Но равным образом возможно, как полагал Туоминен, что обычаи общения крестьян между собой требовали безоговорочно негативной оценки существующего строя и всех его действий. Это характерно для разговоров подчиненных лиц в армии, школах, тюрьмах и других закрытых учреждениях во всем мире, при этом для тех же самых подчиненных лиц столь же характерно проявление позитивного, гражданственного отношения в разговорах с вышестоящими. Таким образом, даже если мы вслушаемся, благодаря НКВД, в частные разговоры советских крестьян, вопрос о том, что же на самом деле они думали, останется до некоторой степени нерешенным.
Принимая во внимание это предостережение, мы все-таки можем узнать, какие мысли поверяли друг другу советские крестьяне посредством слухов в 1930-е гг. В области политики и правительства их излюбленными темами были вероятность международного краха или свержения существующего строя, а также возможность и вероятные последствия войны. Уделялось внимание и признакам инакомыслия в партийном руководстве, и влиянию иностранных держав на советскую политику. Что касается партийных лидеров, крестьяне выказывали стойкое враждебное и подозрительное отношение к Сталину — даже более враждебное и подозрительное, нежели к советскому строю в целом. В деревне, как замечал Туоминен, «не услышать было гимнов великому Сталину, какие слышишь в городах»3, в слухах господствовало мнение, что Сталин, как организатор коллективизации, — закоренелый враг крестьян, и крестьяне желали его смерти, свержения его режима и провала коллективизации даже ценой войны и иностранной оккупации.
О коллективизации и голоде
Сталин дебютировал в роли главного героя деревенской молвы в марте 1930 г., после своего письма «Головокружение от успехов», возлагавшего на местных руководителей вину за перегибы, сопровождавшие коллективизацию. Эта лицемерная уловка явилась, как можно было ожидать, глубоко оскорбительной для коммунистов местного уровня, изо всех сил старавшихся выполнить партийные указания. Сталин и Политбюро, публикуя письмо, по-видимому, строили политический расчет на том, что выгода от благодарности крестьянства перевесит цену, которую придется при этом заплатить. Почти наверняка они пытались пробудить в крестьянстве «наивно-монархический» дух.
Крестьяне несомненно поняли, что послание обращено именно к ним. Со всей страны приходили сообщения о том, как в деревне старались раздобыть экземпляр газеты со статьей «Головокруже-
322
ние от успехов», переплачивая за нее по ценам черного рынка и расстраивая усилия некоторых местных коммунистов остановить ее распространение (в одном районе Северного края «у крестьян, читавших статью Сталина, отбирали газеты, вырывали их из рук»; где-то еще были конфискованы все экземпляры газет, поступившие в деревни по персональной подписке). На Урале крестьяне специально посылали в город ходоков, чтобы те купили «Правду» со статьей Сталина, «и именно "Правду", а не местную газету, так как последним совершенно не доверяли, причем за номер газеты платили до 10 рублей». Когда газету удавалось достать, она ходила по рукам и перечитьшалась снова и снова4.
Взяв на вооружение сталинскую статью, крестьяне, как могли, старались использовать ее против местного руководства. В одной уральской деревне группа крестьян в сопровождении сельского священника устроила шествие, потрясая газетными вырезками со статьей и угрожая привлечь местные власти к суду за «"незаконную" организацию колхозов». Быстро распространялись слухи: «Сталин сказал, рано еще строить колхозы» или «Сталин приказывает разогнать все коммуны и колхозы». В Мишкино на юге Урала даже прошел слух, будто Сталин приедет лично, чтобы защитить кулаков и наказать бедняков и колхозников, в результате целые группы кулаков сидели на железнодорожной станции в ожидании прибытия Сталина5.
Эти последние, несомненно, являлись крестьянами знаменитого «наивно-монархического» толка. Но они были из отдаленной местности и в культурном отношении далеко отстали от крестьян, думавших о возбуждении судебного дела; сообщения о подобного рода поведении крайне редки. Большинство донесений о реакции крестьян гласит, что они стремятся воспользоваться сталинским письмом, но свое мнение о его авторе и намерениях последнего держат при себе. Следующий бум крестьянских разговоров о политике пришелся на годы голода, 1932 — 1933. Согласно донесениям ОГПУ по Западной области, крестьяне с тревогой комментировали весной 1932 г. слухи о голоде на Украине, говоря о возможности войны и революции (были слухи, будто революция начнется 1 мая) и выражая надежду, что в случае войны советский строй падет. По их мнению, советская власть скрывала от них важную информацию (которая, конечно, была), а газеты и пропагандисты все врали. Среди высказываний, о которых доносило ОГПУ, встречались следующие:
«Я думаю, скоро будет война, тогда колхозы развалятся, я первый уйду с колхоза. Сейчас говорят, что уже поляк и японец идут войной, только от нас скрывают».
«Объясните мне такой вопрос, какое это будет на 1-е мая "кровавое воскресенье", по деревне идут разговоры, что на 1-е мая пойдет война, везде и всюду большевиков будут резать».
«Думаю, если будет война, ни один не пойдет в защиту советской власти»6.
■л... 323
Мнение крестьян о Сталине, по сообщениям ОГПУ, было единодушно отрицательным. Один колхозник сравнивал его с Лениным, отнюдь не в пользу Сталина:
«...т. Сталин слишком большим темпом стал зажимать по этой части... Иначе обстояло дело, если бы был жив Ленин, [нрзб.] человек с высоким образованием и имел много жизненного опыта, а у Сталина, к сожалению, этого нет»7.
Среди крестьян Западной области ходил загадочный анекдот по поводу сталинского лозунга «Социализм в одной стране». Сталин поехал на Кавказ в отпуск и, пока был там, работал пастухом, потому что некому было пасти овец (намек на отток населения из деревень вследствие коллективизации). С горы спустился Карл Маркс и услышал, как Сталин поет: «Мы социализм в одной стране построим». Маркс спрашивает, кому он поет. Сталин отвечает: «Пою песню своим баранам, т.е. партии»8.
Недоверия крестьян к Сталину и его песням не смягчил сталинский призыв к колхозникам становиться зажиточными на Первом съезде колхозников-ударников в январе 1933 г. Как отметило ОГПУ, реакция была мрачной и подозрительной, боялись ловушки. Станешь зажиточным, говорили крестьяне, тебя тут же раскулачат9.
О существовании еще большей враждебности, направленной лично на Сталина и М.И.Калинина, председателя ЦИК СССР, сообщалось из охваченного голодом Поволжья в 1932 — 1933 гг. (на Калинина, единственного высокопоставленного партийного руководителя крестьянского происхождения, прежде смотрели как на защитника крестьянства; однако за время голода его акции упали, и с этих пор он стал мишенью особой злобы и насмешек в деревне). В ходе хлебозаготовок 1932 г. деревню наводнили слухи, будто хлеб предназначался не для того, чтобы кормить города и Красную Армию (как заявляло советское руководство), а на экспорт. Появились частушки и прибаутки по поводу государственных экспортных планов. Вину за голод возлагали на Сталина, «заварившего все это» в 1932 г., и жизнь при Сталине сравнивалась с жизнью при Ленине, отнюдь не в пользу первой:
Когда Ленин был жив, нас кормили.
Когда Сталин поступил, нас голодом морили10.
Об убийстве Кирова
В середине тридцатых советская власть изо всех сил старалась наладить отношения с крестьянством, это наглядно продемонстрировали собеседования с крестьянами перед обнародованием Устава сельскохозяйственной артели, уступки, содержащиеся в Уставе, амнистия в 1935 г. для колхозников и председателей колхозов, осужденных за экономические преступления несколькими годами ранее, некоторое смягчение отношения к кулакам и закрепление
324
земли за колхозами в вечное пользование. Сталин лично сделал ряд примирительных и даже заискивающих жестов: например, настаивал на расширении личных приусадебных участков, предложил на Втором съезде колхозников-ударников давать отпуск по беременности и родам женщинам-колхозницам, тепло принимал крестьян-стахановцев; сюда же можно отнести его знаменитое изречение: «Сын за отца не отвечает».
Если все это и вызывало положительные отклики среди крестьян, наши источники этого не показывают. Донесения фиксировали реакцию кислую и настороженную: крестьяне смотрели в зубы дареному коню и постоянно склонны были видеть худшее в любых действиях властей. Так, даже закрепление земли за колхозами в вечное пользование породило ропот насчет того, что это новая форма закрепощения и крестьян «навечно закабаляют в колхозе», а амнистия 1935 г. в деревне истолковывалась как попытка Сталина вызволить руководителей низшего звена, понесших наказание за «перегибы» во время коллективизации11.
Судя по материалам Смоленского архива, главной темой, возбуждавшей усиленные толки в деревне того периода, служило убийство С.М.Кирова, ленинградского партийного лидера, совершенное в декабре 1934 г. Большинство ученых, как западных, так и советских, благосклонно смотрят на Кирова как на популярного лидера умеренного толка, не склонного к насилию, благодаря которому коллективизация в Ленинградской области была проведена в сравнительно мягкой форме. Согласно потемкинской картине крестьянской жизни, убийство Кирова вызвало взрыв народной скорби и возмущения, выразившихся в горестном «Плаче о Кирове», сложенном народной сказительницей Е. П. Кривошеевой12.
В реальной жизни реакция была совсем другой. Сведения, старательно собранные партийными следователями и НКВД в Западной области, указывают, что убийство Кирова отнюдь не оплакивалось в деревнях, а порождало возбуждение и злорадное удовлетворение. Это объяснялось вовсе не особой неприязнью к Кирову, о котором крестьяне Западной области мало что знали. Очевидно, им просто приятно было слышать, что погиб какой-то коммунистический лидер, особенно в обстоятельствах предполагаемого внутреннего конфликта в руководстве, это возрождало надежду на падение режима. В слухах, сопровождавших смерть Кирова, проскальзывала единственная нотка сожаления из-за того, что убили не Сталина.
Немедленно появились частушки, посвященные убийству Кирова. Почти все, обнаруженные в Западной области, связывали с убийством Кирова предположение, будто Сталина может посгиг-нуть та же участь. В одной песенке обыгрывалась отмена хлебных карточек 1 января 1935 г., всего несколько недель спустя после убийства:
325
11 — 1682
Когда Кирова убили, Торговлю хлебную открыли. Когда Сталина убьют, Все колхозы разведут .
Популярный припев, использовавшийся во многих частушках того времени, выражал основную идею в сжатом виде:
Убили Кирова, Убьют и Сталина14.
В одном варианте, который подвыпившие колхозницы распевали на духов день, припев приобретал особенно зловещий оттенок:
Убили Кирова, Убьем и Сталина .
Реакция на убийство Кирова носила столь примечательный характер, что должна была произвести глубокое впечатление на всех коммунистов, читавших донесения органов внутренних дел. Если предположить, что настроения крестьян Западной области являлись типичными, Сталину явно было о чем беспокоиться, включая возможность покушения на него самого, поскольку, казалось, недостатка в желающих сделать это не будет. Многие историки видят в убийстве Кирова руку Сталина, хотя данное обвинение остается недоказанным. Если и так, для него должна была стать большой неожиданностью столь широкая народная поддержка его планов устранения коммунистических лидеров.
Множество крамольных и угрожающих замечаний и жестов отмечалось в связи с убийством Кирова. В правлении одного колхоза бывший член партии «подошел к портретам тт. Ворошилова и Орджоникидзе (sic!), проколол ножами лица, говоря, что за Кировым надо расправиться и с этими». Были похожие донесения и касательно портретов Сталина. В некоторых случаях говорилось о намеках, будто Сталин как-то замешан в убийстве Кирова16.
В одной деревне бывший комсомолец Архипов хвалился перед группой колхозников, что если бы он когда-нибудь оказался рядом со Сталиным, то убил бы его, причем некоторые из его слушателей выражали согласие. Девятилетний сельский школьник на собрании своего пионерского отряда заявил: «Долой Советскую власть, когда я вырасту большой, убью Сталина». Молодой колхозник закончил перебранку с председателем местного сельсовета словами: «Будет тебе, как было Кирову»17.
Одной из причин, почему убийство Кирова оказалось настолько мифологизировано в народном сознании, были действия самой коммунистической партии. В начале 1935 г. Центральный Комитет разослал местным организациям письмо с грифом «совершенно секретно», где говорилось, что убийство Кирова является результатом антисоветского заговора во главе с Г.Зиновьевым, бывшим руководителем ленинградской партийной организации, и другими старыми оппонентами Сталина. Все партийные и комсо-
326
мольские организации обязаны были «проработать» это письмо и затем тщательно изучить списки своих членов на предмет выявления скрытых предателей и классовых врагов.
Это повлекло за собой обычные «разоблачения» и исключения из партии и комсомола18, а вдобавок подстегнуло новый всплеск антиправительственных песен и слухов, которые пересказывались и осуждались в бесчисленных «выступлениях с самокритикой». Другой момент — то, что имя Зиновьева впервые привлекло внимание крестьян: именно с этих пор, через десять лет после завершения своей политической карьеры, он стал заметной фигурой в деревенской молве.
Вторая причина столь широкого — и специфического — резонанса, вызванного убийством Кирова в деревне, — несомненно, наличие там сравнительно большого числа недовольных бывших коммунистов и комсомольцев. Подавляющее большинство их составляли не оппозиционеры, а простые люди, исключенные из партии в ходе чисток 1933 — 1935 гг., в основном за бытовые проступки, такие как растраты, взяточничество, пьянство, или «экономические» преступления вроде невыполнения плана хлебозаготовок. Не стоит думать, будто большая часть из них были «антисоветчиками», пока их не выгнали из партии, но есть все основания считать, что они стали таковыми после, так как исключение весьма неблагоприятно отозвалось на их положении и перспективах^.
Как отмечалось в одной из предыдущих глав, в 1935 г. в деревне, вероятно, больше было коммунистов бывших, чем настоящих, и в донесениях партийных органов и органов внутренних дел множество антисоветских высказываний в колхозах после убийства Кирова приписывались именно им. Это понятно, так как бывшие коммунисты наверняка больше интересовались политикой и лучше были осведомлены о партийных делах, чем простые крестьяне, и наверняка чувствовали гнев и разочарование в партии, изгнавшей их из своих рядов. Имеет смысл и гипотеза, что крестьяне в 1930-е гг. получали свое истинное политическое воспитание от бывших коммунистов, а не от партийных пропагандистов. Разумеется, не бывшие коммунисты ответственны за антисоветские настроения крестьянства, порожденные всем опытом коллективизации и голода, однако они, возможно, учили крестьян быть антисоветчиками на советский манер («политически грамотными»).
Об угрозе войны
«Я попросил слова и стал рассказывать колхозникам о международном положении, о сущности капиталистического окружения и между прочим упомянул, что у нас не найдется ни одного честного колхозника, который бы хотел войны, т.к. война приносит
327
людям огромные бедствия и т.д. В это время вскакивает с места колхозник Юденков Игнат и, злобно трясясь, выкрикнул: "А туды ее мать, чем такая жизнь! Пусть — война! Скорей бы! Я первый пойду!"»20
Возможность нового объединенного военного нападения иностранных держав, имеющего целью стереть с лица земли первое в мире социалистическое государство, была ночным кошмаром советских руководителей с самой гражданской войны. Советская пресса в 1930-е гг. постоянно твердила о миролюбивой природе Советского Союза и тенденциях к разжиганию войны, проявляющихся в капиталистических странах, особенно после прихода к власти Гитлера в Германии и установления экспансионистского милитаристского режима в Японии. Средства массовой информации всегда говорили о войне как о катастрофе для Советского Союза, в особенности если она начнется слишком рано, прежде чем индустриальное развитие страны наберет достаточные обороты. По этому вопросу, одному из немногих, взгляды властей и большинства образованных советских граждан совпадали.
Крестьяне смотрели на вещи иначе. Во-первых, их раздражали лекции и часто сопровождавшие их требования денег. Когда заезжий пропагандист в одном колхозе призвал крестьян принять участие в государственном займе с целью укрепления советской военной мощи, «посыпались короткие возгласы» со стороны возмущенных колхозников («какой тут заем, когда хлеба нет», «нам никто не дает»)21. Во-вторых, судя по содержанию ходивших слухов, многие, если не большинство крестьян вовсе не считали, что война — это так уж плохо, если она приведет к свержению существующего строя.
Зачем работать, говорил один смутьян колхозникам в Пермской области в октябре 1938 г., «ведь идет война и скоро будет переворот, будем делить землю». В Ленинградской области в 1937 г. «по деревням странствовал 16-летний мальчик с евангелием и призывал молодежь не ходить в кино, клубы и красные уголки, бороться против советской власти, т.к. "скоро фашисты начнут войну"»; некоторые христианские секты «распространяли провокационные слухи, цитируя "Протоколы сионских мудрецов", что послужило бы на руку фашистам в случае войны». Предыдущей зимой Западный обком отмечал, что православные и сектантские группировки стали хвалить капиталистические и фашистские системы и пытались создавать тайные повстанческие организации «на случай войны»22.
Злополучная перепись населения 1937 г. вызвала в народе незаурядные споры на темы религии и политики. В центре дебатов стояла проблема: следует ли верующим правдиво отвечать на вопрос о вероисповедании в анкете? Все полагали, что признавшие себя верующими попадут в особый список; вопрос заключался в том, хорошо это или плохо? Конечно плохо, говорили многие. Занесенных в список верующих будут клеймить позором, арестовы-
328
вать, судить, облагать особыми налогами, ссылать, выгонять из колхозов, расстреливать. Однако некоторые приходили к другому выводу. Допуская вероятность войны и переворота, они считали благоразумным и предусмотрительным признать себя верующими. «Неверующим хорошо будет при советской власти, но ненадолго. После войны будет хорошо верующим».
В случае войны «все сведения о неверующих будут иметь Польша и Германия», и их наверняка будут преследовать так же, как советская власть преследовала верующих. Если произойдет внутренний переворот, новое правительство, вероятно, тоже использует вопрос о вере как тест на лояльность; вот поэтому одна женщина попросила записать ее верующей, заявив проводившему перепись, что, «если будет новый переворот, ей и детям ее будет лучше». Однако ожидавшие японской оккупации предпочитали писать «неверующий», так как, по слухам, «кто запишется верующим, тех японцы перебьют»23.
Некоторые толковали вопрос анкеты о вероисповедании как своего рода референдум, итоги которого должны будут воздействовать на советскую политику, либо непосредственно, либо в результате международного давления. Подобное мнение наверняка отражает интерпретацию крестьянами официально организованного обсуждения новой Конституции, в котором они только что участвовали. Многие думали, будто, получив большинство ответов «да» на вопрос о вероисповедании, власти будут вынуждены вновь открыть церкви.
Были слухи, что это не столько референдум, сколько потенциальное оружие для международной дипломатии, которое поможет советским дипломатам продемонстрировать «респектабельность» Советов и продвинуть вперед дело коллективной безопасности. «Государство желает точно установить, сколько в нашей стране имеется религиозных, чтоб доказать иностранным государствам наличие религиозных и что религия в нашем государстве не притесняется, поэтому следует писаться "православными"». По мнению других, положительный ответ мог помочь международному сообществу оказать нажим на советское правительство, «потому что та перепись пойдет на рассмотрение Лиги Наций, а Лига Наций спросит у тов. Литвинова, почему мы закрыли церкви, когда у нас много верующих»24.
О такой же вере в эффективность иностранного давления НКВД сообщал раньше по поводу статьи новой Конституции, возвращавшей гражданские права священникам: «Это изменение произошло в результате того, что на Советский Союз воздействовали иностранные государства»25.
Во время Большого Террора на показательных процессах в Москве рассказывались леденящие кровь истории о саботаже, заговорах и предательском сговоре с капиталистическими врагами Советского Союза бывших партийных и государственных руководителей, которые публично каялись в своих преступлениях. Про-
329
цессы, очевидно, были призваны мобилизовать народную поддержку режима. Сталин тогда же попытался как бы объединиться с «маленькими людьми» против вероломных начальников, заявив: «Руководители приходят и уходят, а народ остается. Только народ бессмертен» 26.
Однако все эти попытки в деревне не увенчались успехом. Пожалуй, суд над Зиновьевым и Каменевым за соучастие в убийстве Кирова возымел даже обратный эффект. По принципу «враг моего врага — мой друг», сектанты в Ленинградской области молились за души Зиновьева и других старых большевиков — «террористов» после их казни летом 1936 г. Точно так же, прочитав отчеты о втором большом московском процессе в январе 1937 г., автор анонимного письма пришел к выводу, что, раз Сталин ненавидел Троцкого, стало быть, Троцкий был противником коллективизации и другом русского крестьянина2?.
Сталинская декларация солидарности с «маленькими людьми» в октябре 1937 г., по-видимому, не произвела в деревне никакого впечатления. Действительно, одной из наиболее характерных черт тысяч писем крестьян в «Крестьянскую газету» в 1937 — 1938 гг. является то, как редко они отдавали дань культу Сталина, даже формально. Резко контрастируя с поведением «потемкинских» крестьян во время публичных мероприятий, авторы писем — даже ходатайств — редко рассыпались в похвалах и благодарностях Сталину или цитировали его изречения. Обычно они вообще избегали упоминаний о нем.
Конечно, были исключения, вроде Степаниды Никитичны Ярославцевой, 52-летней колхозной активистки, написавшей письмо, чтобы выразит* благодарность «вождю народов, Великому Сталину» за освобождение пенсионеров от обязательств по госпоставкам. Были крестьянские ходатайства, адресованные лично Сталину и Калинину, хотя и не обязательно в низкопоклонническом духе. Даже в тех редких случаях, когда крестьяне восхваляли Сталина в своих письмах, они обычно делали это довольно двусмысленным образом. Так, один крестьянин, сначала процитировав изречение «нашего любимого вождя народов и всего прогрессивного человечества, т. Сталина», что «надо прислушиваться к голосу масс», тут же стал жаловаться, что прежние его письма Сталину остались без ответа, то есть Сталин не следует собственному совету28.
В 1939 г., когда в Центральном Комитете обсуждались меры по укреплению колхозной дисциплины, Сталин якобы был обеспокоен возможной реакцией на них крестьян. Но коллеги по Политбюро заверили его: «Народ уже давно ждет»29. Это служит невольным показателем реального отношения крестьян к Сталину, проявляющегося в слухах, — ничего хорошего от него не ожидали. Сталин, вероятно, полагал, что в народе сложился его образ как доброго, но грозного царя, вершителя правосудия, милующего и карающего. Но поразительно, как редко подобный образ фи-
330
гурирует в слухах или других истинно народных источниках (в противоположность псевдонародным, потемкинского типа). Память о коллективизации не давала образу Сталина как «доброго царя» утвердиться в предвоенной деревне (хотя после войны, по-видимому, положение изменилось). Если Сталин и делал какие-то уступки или примирительные шаги, они воспринимались крестьянами с недоверием и подозрительностью. Если же он закручивал гайки, это не казалось им предательством, поскольку взаимного доверия не было и так, а лишь еще одним подтверждением сложившегося мнения о Сталине как о враге крестьян № 1.
КАК МЫШИ КОТА ХОРОНИЛИ
«Как мыши кота хоронили» — старинный русский лубок, выражающий, как часто полагают, народное ликование по поводу смерти Петра Великого3*). На нем изображена группа танцующих, веселящихся мышей, провожающих в последний путь тело огромного кота, крепко-накрепко привязанного к носилкам, словно бы для того, чтобы исключить любую возможность неожиданного воскрешения. Это кажется подходящей метафорой для экстраординарной цепи показательных процессов сельских руководителей, происходивших в районных центрах по всему Советскому Союзу осенью 1937 г., в самый разгар Большого Террора31. Кот — это подсудимые на показательных процессах, бывшие руководители, носящие теперь клеймо «врагов народа», обвиняемые в превышении власти, насилии над крестьянами и систематическом нарушении Устава сельскохозяйственной артели. Мыши, радующиеся падению кота, — это крестьяне-свидетели, на показаниях которых строились дела против руководителей.
Районные показательные процессы следовали образцам трех знаменитых московских процессов 1936, 1937 и 1938 гг., особенно в том, что подсудимые являлись бывшими политическими лидерами (районного и государственного уровня соответственно), обвинялись в контрреволюционных преступлениях и назывались «врагами народа». Но были и существенные отличия. На московских процессах судили старых большевиков (Г.Зиновьева, Л.Каменева, Н.Бухарина и др.), имевших за плечами долгую историю служения революции, и вменяли им в вину фантастические, немыслимые преступления против государства, включая изощренные заговоры, терроризм, вредительство, контакты с Троцким и иностранными разведками. Их дела основывались в первую очередь на их собственных признаниях. На районных же процессах подсудимые были руководителями низшего звена, вполне правдоподобно обвиняемыми в злоупотреблениях против крестьян и плохом руководстве сельским хозяйством; их дела базировались главным образом не на признаниях, а на показаниях колхозников.
331
Подобно всем показательным процессам, районные процессы представляли собой политический спектакль, развязка которого была известна заранее, а не «нормальное» судебное разбирательство, в ходе которого подсудимый может быть, а может и не быть признан виновным. Тем не менее данный политический спектакль был гораздо реалистичнее и ближе к земле, нежели мелодраматические московские представления. Легко было поверить, что обвиняемые действительно совершали все деяния, приписываемые им: запугивание и насилие над крестьянами, принуждение их к непосильным обязательствам по госпоставкам, навязывание «нереальных посевных планов» и т.п. Единственной натяжкой являлось то, что эти деяния признавались криминальными, что они якобы в той или иной степени отличались от обычного поведения местной советской власти, когда дело касалось сельского хозяйства и госпоставок. Короче говоря, от районных показательных процессов веяло духом статьи «Головокружение от успехов»: верховная власть, откликаясь на проблемы колхозов, перекладывала вину на местное руководство.
Организация районных показательных процессов
Показательные процессы не были новостью в Советском Союзе 1930-х гг., и процессы районного уровня редко удостаивались освещения в центральной печати. Тем не менее весной и летом 1937 г. «Правда» поместила репортажи о нескольких районных показательных процессах, касающихся сельского хозяйства и крестьянских дел. Кажется очевидным, что «Правда» тем самым предлагала определенную модель, неявно поощряя областное руководство к организации таких же процессов в своих сельских районах. Примерно месяц спустя после репортажей в «Правде» показательные процессы состоялись во многих частях страны, и все они в общем следовали одному образцу. Дела слушались на выездных сессиях областного суда и подробно освещались в областных газетах. Это продолжалось несколько месяцев, а потом вдруг резко прекратилось. После декабря 1937 г. уже нет сообщений о сельских районных процессах такого типа.
Количество, синхронность и сюжетное единообразие процессов явно исключают возможность проявления стихийной местной инициативы, хотя несомненно местные происшествия создавали специфический контекст. По всей вероятности, обкомы и отделы НКВД получили секретные инструкции по организации таких процессов, а в области уже выбирали районы, в которых они должны были быть проведены.
В первом из репортажей «Правды» говорилось о показательном процессе над бывшими партийными и советскими руководителями в Лепельском районе в Белоруссии, состоявшемся в марте. Подсудимым вменялась в вину незаконная конфискация имущест-
332
ва крестьян в счет задолженности по налогам, хотя недавно изданное постановление прощало недоимки, учитывая чрезвычайно плохой урожай в 1936 г. По сообщению «Правды», лепельские следственные органы обратили внимание на жалобы местных крестьян и прокурор Белоруссии возбудил дело по распоряжению А.Вышинского, Генерального прокурора СССР. Крестьяне выступали свидетелями на процессе, проходившем в здании лепельско-го городского театра, и суд якобы пачками получал письма с благодарностью за избавление от притеснений3^.
Три месяца спустя «Правда» писала о похожем процессе в Ширяевском районе Одесской области. Там районная верхушка оказалась виновна в «возмутительном» обращении с колхозниками и постоянном нарушении прав, данных им Уставом сельскохозяйственной артели, включая незаконную конфискацию имущества, вымогательство, ночные' обыски, произвольное установление налогов и принудительную подписку на государственные займы, навязывание непосильных обязательств по госпоставкам в 1936 г. и «издевательство над колхозниками». Эти преступления привлекли внимание Центральной контрольной комиссии, поручившей прокурору Украины возбудить дело. Главными свидетелями против обвиняемых на ширяевском процессе выступали крестьяне, более трети из них были вызваны в суд для дачи показаний33.
Через несколько недель в «Правде» появились сообщения о подобных процессах в Новоминске, Казачьем районе Азово-Чер-номорской области и Даниловском районе Ярославской области. На новоминском процессе вскрылась картина жестокой экономической эксплуатации колхозников со стороны местных властей, вынудившей крестьян тысячами уходить из колхозов. На даниловском процессе районное руководство обвинялось в незаконной ликвидации колхоза «Новая жизнь» и присвоении его имущества после того, как оно оказалось неспособно разрешить свой конфликт с колхозниками34.
В начале августа «Правда» развернула материалы о ширяевском и даниловском процессах в редакционную статью, предостерегающую местных руководителей от плохого обращения с крестьянами. Районные власти, заявляла «Правда», смотрят сквозь пальцы на всевозможные нарушения прав колхозников. Они произвольно распоряжаются колхозной землей и колхозным имуществом, рассматривая их «точно свою собственность, свою вотчину»; они даже ликвидируют целые колхозы, как случилось в Даниловском районе. При этом они забывают провозглашенный советской властью девиз: «Колхозники являются хозяевами своего колхоза»35.
В результате была создана своего рода «образцовая фабула»36 на тему злоупотреблений и эксплуатации коллективизированного крестьянства советским руководством на местном уровне, положенная в основу тридцати с лишком показательных процессов, со-
333
стоявшихся в сельских районах Советского Союза в сентябре и октябре 1937 г. Фабула в целом такова:
Враги народа, связанные взаимным покровительством и круговой порукой, пробрались на ключевые посты в районе и использовали свое служебное положение, чтобы без зазрения совести грабить крестьян. Из-за глупости и невежества руководителей в вопросах сельского хозяйства их постоянное администрирование и вмешательство в дела колхозов нанесли последним огромный ущерб. Крестьяне, оскорбленные и возмущенные, изо всех сил сопротивлялись незаконным требованиям. Они подавали в суд, писали жалобы в высшие инстанции, но в результате круговой поруки жалобам не давали хода. Наконец, правда о скандальном поведении местных руководителей вышла наружу, и виновные предстали перед судом. Простые люди — требовавшие самого сурового наказания для своих бывших притеснителей — восторжествовали над начальниками, обманывавшими и оскорблявшими их.
Данная фабула в основе своей — продукт творчества правдин-ских журналистов, действовавших, вероятно, по указанию Политбюро и сельскохозяйственного отдела ЦК. Однако ее наложение на специфическое обстоятельства в каждом отдельном случае — уже дело местных органов. Несомненно здесь были замешаны действия НКВД, хотя и в меньшей степени, чем в Москве, где признания обвиняемых являлись ключевым моментом и «сценарии» основывались на искусном их переплетении. Не будем забывать и о вкладе журналистов областных газет, создававших литературное оформление (под сильным влиянием Салтыкова-Щедрина), чьи подробные репортажи о районных показательных процессах послужили для меня основным источником.
Однако именно жалобы и доносы крестьян — письма «о злоупотреблениях» рассматривались в одной из предыдущих глав — почти наверняка составили фундамент, на котором строились районные процессы. Как мы уже видели, крестьяне в 1930-е гг. непрестанно писали жалобы на свое непосредственное начальство. Они писали руководителям партии и государства, Сталину и Калинину; писали в высшие органы власти, союзные и республиканские; писали в местные партийные органы, прокуратуру и НКВД; писали в местные газеты; писали в центральные газеты, особенно в «Крестьянскую газету». Они писали жалобы по поводу и без повода, обоснованные и необоснованные и, как правило, посылали их за пределы своего района, в областной центр или даже в Москву, будучи уверены, что начальники в их районе покрывают друг друга. Подобные жалобы зачастую побуждали областные или районные власти начать официальное расследование деятельности председателей колхозов и сельсоветов.
Хотя и невозможно доказать, что жалобы крестьян играли важную роль во всех случаях, на целом ряде процессов говорилось о том, как они подтолкнули к действиям следственные органы, выявившие правонарушения. На местные жалобы как на сти-
334
мул к началу официального расследования указывалось во время трех из четырех «образцовых» процессов, освещенных в «Правде»: в лепельском деле внимание Вышинского привлекли «жалобы трудящихся Лепельского района»; «жалобы колхозников» упоминаются в ширяевском деле; и в Данилове «письма селькоров» вскрыли злоупотребления местного руководства, которое, разумеется, всячески зажимало критику в свой адрес37.
Подобными ссылками на жалобы и ходатайства из деревни изобилуют районные показательные процессы, прошедшие осенью. В Андреевке, например, свидетели-крестьяне говорили, что они посылали телеграмму наркому земледелия. В Щучьем жалобу посылали во ВЦИК. В Алешках председатель сельсовета направил жалобу крестьян на другого руководителя в Комиссию советского контроля в Москву38.
Как проходили процессы
На показательных процессах обвинение предъявлялось всей районной верхушке, а не отдельным руководителям. Стандартный набор подсудимых включал первое лицо в районе, бывшего секретаря райкома (иногда обвинявшегося заочно, с указанием, что он уже арестован и ликвидирован ранее), председателя райисполкома, второе лицо в руководстве, заведующего райзо и еще несколько руководителей, имевших дело с крестьянами, плюс несколько председателей сельсоветов и колхозов.
Обычной практикой стало предъявлять районной верхушке (хотя председателям колхозов и сельсоветов не обязательно) обвинение по ст. 58 Уголовного кодекса (контрреволюционная деятельность)3^ Несмотря на использование ст. 58, обвинения редко имели хотя бы отдаленно политический оттенок. Не говорилось о связях с иностранными разведками или политическом терроризме, не делалось серьезных попыток доказать наличие контрреволюционного заговора. Никто из подсудимых никогда не принадлежал к партийной оппозиции, даже контакты с троцкистами и другими оппозиционерами крайне редко фигурировали в обвинительных заключениях, возможно, потому, что немногим руководителям местного, районного уровня могла выпасть возможность встретиться с такими почти сказочными персонажами40.
Подсудимых на сельских районных процессах настойчиво побуждали признать свою вину, как это было и в Москве. Однако они гораздо меньше были настроены сотрудничать со следствием, нежели их московские товарищи по несчастью, особенно когда дело касалось контрреволюции. А.И.Солженицын рассказал об одном районном процессе (в селе Кадый Ивановской обл.), на котором, по его словам, отказ обвиняемого на суде от своего прежнего признания расстроил все дело41. Судя по отчетам о процессах, имеющимся в моем распоряжении (кадыйского среди них
335
нет), подобные отказы не были редкостью. Правда, они не производили такого драматического эффекта на ход процесса, как это описано у Солженицына, поскольку ключевым моментом обвинительного заключения являлись сокрушительные показания крестьян-свидетелей, а не признание обвиняемого.
В Алешках (Воронежской обл.) никто из главных обвиняемых вину свою не признал. Хотя основной фигурант, бывший секретарь райкома, признался во время предварительного следствия в контрреволюционной деятельности, на суде он от своих слов отказался и с этого момента утверждал, что виновен только в неспособности держать в узде некоторых ретивых подчиненных, которые вели себя недальновидно и обижали местное население. Второй по значимости подсудимый, бывший председатель райисполкома, проявлял такое же упорство, постоянно ставя под сомнение показания свидетелей и уверяя, что они сводят с ним личные счеты («Он поминутно вскакивает и заявляет суду, что свидетель находится с ним во враждебных отношениях»). Еще один подсудимый, председатель сельсовета, чье оскорбительное поведение в отношении крестьян едва ли не вошло в поговорку в районе, признался в злоупотреблении властью, но упорно отрицал, что вел какую-либо контрреволюционную деятельность42.
В Андреевке (Западная обл.) бывший старший инспектор Андреевского райзо К.В.Румянцев вступил в яростный спор с прокурором по поводу своей роли в принудительном слиянии мелких колхозов. Сливать или не сливать — было вечной проблемой для Западной области вследствие непостоянства политики центра по данному вопросу и наличия множества крайне мелких колхозов. Терпение Румянцева истощил призыв прокурора признаться в том, что это слияние представляло собой контрреволюционную политику, направленную на возмущение крестьянства против советской власти.
«РУМЯНЦЕВ. Я не виноват. Я не знал, что принудительное слияние есть контрреволюционная деятельность...
ПРОКУРОР. Вы это преступление совершили сознательно?
РУМЯНЦЕВ. Я сознательно выполнил волю заведующего райзо и райкома»43.
Процессы проходили в самых больших помещениях в районных центрах. В качестве публики привозили крестьян из соседних колхозов. Они являлись как на праздник (возможно, в городе продавали водку после представления или даже во время его), аплодировали «своим» свидетелям, когда те описывали чинимые им обиды и притеснения, и освистывали, по крайней мере фигурально выражаясь, негодяев, пытавшихся оправдать свои действия.
Местные газеты часто сообщали, будто крестьяне требовали для обвиняемых смертного приговора, даже когда прокурор этого не требовал или судья выносил приговор более мягкий. Не стоит принимать все за чистую монету, поскольку подобный глас народа зачастую режиссировался советской властью, но в тех случаях,
336
когда крестьяне знали подсудимых и имели к ним веские претензии, это вполне могло быть правдой. Как бы то ни было, приговоры на осенних процессах действительно выносились более суровые, чем на «образцовых» процессах весной и летом. Десять лет заключения с конфискацией имущества — самый строгий приговор на любом из «образцовых» процессов, причем некоторые подсудимые отделывались всего шестью месяцами. Не приговаривали к смертной казни и на двух процессах, состоявшихся в августе (Борисовка Курской обл. и Андреевка Западной обл.). Однако на множестве процессов, прошедших в сентябре и октябре, стали обычными приговоры к высшей мере наказания двум-трем высокопоставленным подсудимым, остальные получали от восьми до десяти лет лишения свободы44.
В Андреевке провели повторное слушание дела с целью ужесточения приговора после вмешательства Сталина. Вышло это так. Новый секретарь обкома Коротченко допустил ошибку, хвастливо отрапортовав Сталину (перед вынесением приговора) об успешном вкладе андреевского процесса в дело воспитания крестьянства и повышения бдительности. Сталин откликнулся на следующий день кратким указанием расстрелять всех андреевских вредителей. Так как суд уже успел приговорить обвиняемых к различным срокам лишения свободы, пришлось немедленно назначить повторное слушание45.
Обвинения
Многие действия, которые руководителям вменяли в вину на районных процессах, не являлись преступлениями в обычном смысле слова. В каких-то случаях их явно делали козлами отпущения после экономических провалов в районе. В других — им приходилось отвечать за поступки, неразрывно связанные с их родом деятельности, и за государственную политику, непопулярную среди местных крестьян. В общем и целом наиболее характерной общей чертой «криминальных» деяний, приписываемых обвиняемым, являлось то, что они наносили ущерб крестьянам, задевали их достоинство и чувство справедливости.
Злоупотребление властью — один из основных пунктов обвинения, и показания крестьян-свидетелей на эту тему наиболее колоритны. Брань, оскорбления, побои, издевательства, запугивание, несанкционированные аресты — об этом шла речь повсеместно, когда говорили о поведении сельских властей по отношению к крестьянам. На одном процессе восьмидесятилетняя крестьянка «со слезами» поведала, как председатель сельсовета избил ее мужа и швырнул его в тачку; муж умер от побоев через две недели. Другой свидетель описывал, как районный руководитель однажды загнал четырех колхозных бригадиров на печь и заставил сидеть там четыре часа под охраной деревенского милиционера.
337
Когда председателя колхоза спросили, почему он допустил такое, тот ответил: «А что я мог поделать? Ведь Семенихин был хозяин, он и меня мог загнать на печь»4^.
О безобразном поведении Радчука, председателя сельсовета, говорили многие крестьяне на новгородском районном процессе. Для него обычным делом было физическое насилие и вторжение в дома колхозников (связанное с разного рода вымогательством). Одна свидетельница описывала, как Радчук стал ломать дверь ее дома.
«Сейчас, — кричит, — вышибу дверь топором и покажу тебе. Я испугалась, выскочила в окно и побежала на почту звонить мужу в Новгород. А когда вернулась, Радчук уже ушел, а дверь была разбита топором»47.
Произвольные штрафы и прочие денежные поборы (порой именовавшиеся «налогообложением» или «взносами в счет государственного займа») со стороны местных властей постоянно являлись источником недовольства. В Ширяево, например, как говорили, был создан целый «ночной отряд», врывавшийся к крестьянам глубокой ночью с обыском и описывавший имущество. С точки зрения крестьян, это было вымогательством независимо от того, шли деньги государству или отдельным руководителям, впрочем, зачастую предполагалось, что последнее вернее. По их словам, Кочетов в Алешках в 1935 и 1936 гг. оштрафовал колхозников в общей сложности на 60000 руб.: «Штрафы он налагал по личному усмотрению и по любому поводу: за невыход на работу, за непосещение занятий по ликвидации неграмотности, за "невежливые выражения", за непривязанных собак»48.
Председатель райисполкома Семенихин, подсудимый на том же процессе, по показаниям свидетелей, проявил еще большую изобретательность в сборе средств с населения.
«В 1936 г. из Алешек уезжали на Дальний Восток 200 завербованных на стройку колхозников. Они уже готовились сесть в поезд, когда явились три милиционера, прочли длинный список имен и всех вызванных отвели под конвоем в райисполком в кабинет председателя.
— А-а, недоимщики! — приветствовал их Семенихин. — Удрать думали? А ну, плати живей! Плати, а то из кабинета не выпущу и посадку в вагон не разрешу. И сундуки ваши отберем.
Он поставил у дверей милиционера и приказал: выпускать только по предъявлении квитанции об уплате.
Так председатель райисполкома "выжал" из колхозников 700 рублей последних сбережений»49.
Во многих местностях денег у колхозников практически не было и вымогалось в основном имущество. Звучало множество разнообразных рассказов о том, как руководители сельских и районных советов вели себя «как в собственной вотчине» и взимали «дань» с населения. Один председатель сельсовета брал 4 —5 кг мяса с каждого забитого теленка или свиньи, да еще и водку,
338
каждый раз, как посещал деревню. Другой «открыл себе неограниченный и безвозвратный "кредит" на продукты: даже по ночам, случалось, поднимал он с постели заведующего магазином, требуя, чтобы ему немедленно были отпущены водка и закуски. А когда ему как-то понадобилась картошка, он просто прислал за ней в ближайший колхоз с сопроводительной запиской на имя заведующего хозяйством». Председателей колхозов обвиняли в том, что они обращались с колхозной собственностью как со своей личной, продавали дома, сдавали в аренду землю (незаконно) и клали в карман прибыль50.
В одном районе председатель исполкома завел при райисполкоме так называемое «подсобное хозяйство» с тридцатью овцами, десятью коровами, семью лошадьми и пр., реквизированными в разных частях района, и кормил свое стадо кормами, отобранными у колхозов. Он добился особых успехов в разведении свиней, торговал свининой на местном рынке и сдал на 1500 руб. мяса в заготконтору. Крестьяне иронически говорили: «Райисполком завел у себя кулацкое хозяйство!»51
Куда хуже, чем регулярное «взимание дани» по мелочам, бывало, когда колхозника одним махом обдирали как липку. В одном случае, о котором шла речь на процессе в Щучьем, председатель сельсовета, позарившись на огород одного колхозника, его «немедленно раскулачил и отобрал все имущество». Когда он узнал, что жена его жертвы успела продать кое-какую утварь до конфискации, «он отобрал деньги и своим издевательством довел ее до того, что она была отправлена в психиатрическую больницу» 52.
Другое распространенное обвинение заключалось в том, что местное руководство и чиновники выгоняли колхозников из колхоза не в установленном законом порядке, а в отдельных случаях даже ликвидировали целые колхозы. Почти двадцать свидетелей из колхоза «Путь к социализму» (Воронежская обл.) показали, что были исключены из колхоза незаконно. Среди них была Матрена Окунева, рассказывавшая:
«Меня исключили из колхоза за то, что я вышла замуж за рабочего железнодорожника, хотя я и продолжала жить в Липягов-ке и работать в колхозе. Я никуда не жаловалась, потому что думала, что так полагается. Вскоре после этого ко мне во двор заявились Кашкин и Кабанов [председатель колхоза и парторг] и потребовали, чтобы я шла на прополку свеклы. Я отказалась, потому что считалась исключенной из колхоза. Тогда Кашкин заявил, что сельсовет штрафует меня на 50 рублей... У меня взяли мужнин пиджак, причем Кабанов сказал: "Говори спасибо, мы могли бы сжечь тебя, да соседей жалко"»53.
В других упоминавшихся случаях исключений речь по существу шла о несанкционированном отъезде колхозников, оказавшихся на грани голодной смерти из-за неурожая 1936 г. Например, по заявлению свидетелей на островском процессе (Псковская обл.),
339
более тысячи дворов в районе ушли из колхозов в 1935 — 1936 гг., поскольку не могли существовать на то ничтожное количество хлеба, которое давал им колхоз54. В Нерехте (Ярославская обл.) крестьяне обвиняли районное руководство в «массовых исключениях и понуждениях к выходам из колхозов» в тот же период. Эти свидетели, по-видимому, считали, что районные начальники, подобно владельцам поместий при крепостном праве, обязаны помогать своим крестьянам в трудные времена. К примеру, они с возмущением рассказывали, как «после того, как в колхозе был пожар и сгорело 16 домов, [председатель] обратился к обвиняемо-мому Бегалову [председатель райисполкома] за помощью, заявляя, что иначе колхозники разъедутся. В ответ на просьбу обвиняемый Бегалов сказал: "Черт с ними, пусть разъезжаются"». В результате двадцать дворов вышли из колхоза55.
Самым вопиющим преступлением в списке обвинений на районных показательных процессах 1937 г. была ликвидация целого колхоза. В случае с колхозом «Новая жизнь» в Данилове (один из тех, о которых писала «Правда») районное руководство конфисковало все колхозное имущество и скот — а потом, в довершение всех обид, потребовало, чтобы бывшие колхозники немедленно заплатили тяжкий налог, взимавшийся с единоличников. Когда был ликвидирован колхоз «Вперед» в Кириллово, его землю распределили между соседними колхозами, потому что «колхоз... якобы отказался сам от земли», как гласила официальная запись. Районные власти приступили к конфискации колхозных лошадей, сельскохозяйственного инвентаря, запасов семенного картофеля и прочей коллективной собственности. С точки зрения крестьян, до коллективизации владевших той же самой собственностью в своих единоличных хозяйствах, ликвидация колхоза стала вторым и окончательным захватом их имущества. Неудивительно, что кирилловские крестьяне, по словам свидетелей, плакали, когда распустили их колхоз56.
Известен только один случай ликвидации колхоза в плодородной Черноземной полосе страны, и произошел он несколькими годами раньше, чем в Нечерноземье. Как показали свидетели на процессе 1937 г. в Ивнинском районе Курской области, в 1933 г. — во время голода — колхоз «Ленин» был ликвидирован распоряжением местной МТС, а его земля отдана соседнему совхозу, несмотря на то что 28 дворов из 31 голосовали против. В результате этого крестьяне за одну ночь оказались на положении безземельных сельскохозяйственных рабочих57.
И в Данилове, и в Кириллово ликвидации колхоза предшествовал конфликт колхозников с местной властью. В Кириллово это была острая конфронтация из-за весеннего посевного плана на 1936 г., который общее собрание колхозников отказалось принять, к ярости председателя сельсовета, присутствовавшего на собрании; в отчете о кирилловском процессе намекалось на то, что ликвидация колхоза стала по сути карательной мерой местной
340
власти в ответ на неподчинение колхозников. Впрочем, сообщения о даниловском процессе содержали предположения, что районное начальство руководствовалось более корыстными мотивами при ликвидации, возможно, желая завладеть колхозным имуществом для себя или своих друзей.
Сельскохозяйственные неудачи занимают видное место в обвинительных актах. В том, что советское руководство на селе обвиняли в неурожаях, нет ничего нового. Однако в одном, весьма важном, отношении обвинения на районных процессах 1937 г. отличаются от прежних. Руководителям не ставили в вину невыполнение планов хлебозаготовок, как частенько бывало в начале 1930-х гг. На этот раз их судили за неудовлетворение нужд крестьян — то есть за выдачу на трудодни столь малого количества хлеба, что колхозники оказывались на грани голодной смерти.
Большинство дел такого рода связаны с крайне плохим урожаем 1936 г., последствия которого проявились наиболее остро весной и летом 1937 г., перед новым урожаем58. Как признался на красногвардейском процессе председатель колхоза Алексеев, он развалил колхоз экономически и, поняв это, реагировал следующим образом:
«В 1936 г. колхозники ничего не получили на трудодень. Когда я увидел все это, то решил бежать из колхоза. Я заявил об этом председателю райисполкома Горнову. Он мне сказал: "Беги скорей"».
Алексеев последовал дружескому совету, но недостаточно быстро (видимо, он совершил ошибку, пытаясь вывезти семью и используя для этого колхозных лошадей). Он был арестован НКВД вместе с Горновым^Э.
В Островском районе из-за неурожая 1936 г. доходы колхозов упали на 20 — 50%, говорилось на островском процессе. Но, поскольку выполнение планов госпоставок ставилось на первое место по сравнению с нуждами крестьян, многие колхозы гораздо больше урезали натуральные выплаты своим членам. На процессах 1937 г. это рассматривалось как преступление. На обвиняемых руководителей возлагали ответственность за уход большого числа голодающих колхозников, подавшихся на заработки в города или совхозы, чтобы как-то выжить60.
На ряде процессов крестьяне-свидетели утверждали, что районное руководство виновно в бедах колхозников, так как его нелепые распоряжения вызвали снижение урожайности. Главной темой подобных жалоб служат «нереальные посевные планы». Несмотря на то что в обязанности земельных отделов райисполкомов входило предписывать коллективным хозяйствам, какие культуры, где и когда сеять, крестьяне могли, благодаря атмосфере, в какой проходили процессы, говорить о таких распоряжениях с неприкрытым негодованием и презрением. В Красногвардейске, по сообщениям газет, показания крестьянина из колхоза «Тридцать
341
лет Красной Армии» произвели «огромное впечатление» на «всех присутствующих на суде»:
«[Свидетель] говорит о том, как колхозники пробовали протестовать против вредительских планов и специально поехали в райзо к Маннинену. Нагло усмехаясь, этот враг народа заявил колхозникам: "Если пойдете в область жаловаться на наши планы, прибавим еще"»61.
Свидетели-крестьяне приводили много примеров агрономически безграмотных распоряжений района и МТС. Одному колхозу приказали распахать заливные луга и пустоши, лишив его пастбищ для скота. В другом — директивы района по посевной исходили из заведомо неверного утверждения, будто данный колхоз располагает более чем 200 га сенокосов, что, по словам крестьян, вдвое превышало их реальную площадь («вредители засчитали как сенокосы пастбища, зыбучие пески и приусадебные участки колхозников »)62.
Еще одно бедствие в сельском хозяйстве, бывшее в центре внимания на некоторых процессах, — большой падеж скота. В Щучьевском районе (Воронежская обл.), где за первую половину 1937 г. пала почти тысяча лошадей, это объясняли нехваткой кормов в связи с неурожаем 1936 г. и эпидемией, начавшейся на Щучьевском государственном конезаводе и быстро охватившей весь район. Подсудимым в Щучьем вменяли в вину не умышленную преступную деятельность, а преступную халатность63.
В двух других случаях (в Крестцах и Сычевке) руководителей районов, где имел место большой падеж скота, обвинили в умышленном заражении животных. Директор сычевского совхоза (бывший член партии эсеров) обвинялся в том, что руководил заговором с целью уничтожения совхозного скота и, используя как прикрытие царившие в хозяйстве антисанитарные условия, заразил 80% животных. Затем в дело якобы должен был вступить сычев-ский районный ветеринар и распространить эпидемию на всю страну, послав животных из зараженного стада на Всесоюзную сельскохозяйственную выставку в Москву64.
Сходные обвинения предъявлялись руководителям района на порховском процессе, хотя в данном случае саботажем якобы занимались крестьяне — один единоличник, выполнявший приказы секретаря райкома, и бывший кулак, недавно вернувшийся из ссылки и работавший в колхозе конюхом, который действовал по собственной инициативе, из мести6^.
На некоторых показательных процессах поднимался вопрос о покровительстве бывшим кулакам. Материалы этих процессов позволяют уяснить, сколько проблем возникало в связи с возвращением кулаков и секретным постановлением, разрешающим принимать их в колхозы66. На первое место выходят конфликты из-за конфискованного кулацкого имущества. О руководителях, каким-либо образом помогавших бывшим кулакам, всякий раз говорили, что они подкуплены, и никто не вспоминал о провозглашенной в
342
1936 г. государственной политике реинтеграции кулаков. Крестьяне-свидетели жаловались, что кулакам удавалось получить назад отобранные у них дома и лошадей, что им в колхозах давали хорошую работу и что, попав в колхоз, они принимались мстить активистам.
Как заявил прокурор на процессе в Борисовке (Курская обл.), в 1936 и первой половине 1937 г. кулакам вернули 75 домов, и 134 кулака были восстановлены в правах. Свидетели находили это тем более обидным, что партийный секретарь Федосов весьма жестоко обходился с простыми крестьянами в районе: «У населения отбиралось все, вплоть до чулок, а кулакам возвращали законно отобранное у них имущество». Кроме того, по словам свидетелей, когда колхозники пожаловались секретарю райкома на уступки бывшим кулакам, тот «ориентировал присутствующих на заседании на примирение с классовыми врагами». (Это трактовалось как совершенно очевидное противоречие политике партии67.)
Так было не только в Курске. В Сычевке (Западная обл.) двух районных руководителей обвиняли в том, что они извращали политику партии по отношению к кулакам, заявляя, будто пора забыть идею классовой вражды и назначать людей на должности по их заслугам, а не по классовому происхождению. Они не только приказали председателю сельсовета уничтожить списки кулаков и прочих лишенцев, но еще и выбрали нескольких бывших кулаков колхозными председателями, ставили бывших торговцев заведовать сельскими кооперативами и назначили сына помещика директором школы. Это, как говорилось на процессе, вызвало негодование в деревне. По заявлениям свидетелей, кулаки, ставшие председателями колхозов, нанесли огромный вред, преследуя стахановцев и убивая лошадей68.
«Нарушение колхозной демократии» — одно из стандартных обвинений, выдвигавшихся против районных руководителей на показательных процессах 1937 г. Согласно установкам, принятым на этих процессах, район практически всегда оказывался неправ, если возникал конфликт между ним и колхозниками по поводу выборов или увольнения председателя. По словам крестьян-свидетелей и прокуроров выходило, будто колхозники пользовались непререкаемым авторитетом в данном вопросе. Например, в Ка-зашкине (Саратовский край) районное руководство обвинялось в том, что оно игнорировало протесты колхозников и навязало им в председатели бывшего чиновника из района. Новый председатель был уличен в расхищении колхозной собственности, что стало доказательством правоты колхозников69.
Были заявления о том, что руководители районных и сельских советов шли на крайние насильственные меры в конфликтах с колхозниками по поводу выбора председателя. Ликвидация колхоза «Новая жизнь» в Даниловском районе — один из примеров. В другом случае свидетели Я.Н.Гольцев и В.А.Мишин рассказали, «что, когда на общем собрании в колхозе "1-го Мая" одни
343
колхозники выступили с критикой работы правления и требовали снятия председателя колхоза за бездеятельность, председатель сельсовета Кочетов разогнал собрание и четыре наиболее активных колхозника, в том числе и свидетели, были арестованы по его провокационному и ложному заявлению»70.
Добродетельные крестьяне и порочные начальники
Согласно фабуле районных процессов, порочные начальники эксплуатировали крестьян и совершали злоупотребления, а крестьяне были их жертвами. Нет почти никаких оттенков в черно-белой картине противостояния крестьян и их начальников (от председателя колхоза до секретаря райкома) и никаких намеков на возможность преодоления разделявшей их пропасти. Ту же риторическую фигуру можно найти в письмах крестьян в «Крестьянскую газету»: начальники (включая председателей колхозов, а иногда и бригадиров) — «они»; колхозники — «мы». Конечно, в реальной жизни дихотомия правящих и управляемых в советской деревне второй половины 1930-х гг. значительно сложнее, поскольку председатели были в основном из местных крестьян и этот пост зачастую становился объектом жестокой конкурентной борьбы между различными деревенскими группировками. Однако такие нюансы никогда не всплывали на процессах, где драма разворачивалась вокруг противостояния добродетельных крестьян на свидетельском месте и порочных руководителей на скамье подсудимых.
Обычно крестьяне-свидетели играли главную роль в создании подобного сюжета. Но бывали и исключения. Например, на процессе в Щучьем, выделявшемся среди других районных процессов тем, что подсудимые пошли на сотрудничество с обвинением, двое подсудимых так ответили на вопрос прокурора, почему они не пытались вовлечь крестьян и рабочих в свою антисоветскую деятельность:
«СЕДОВ [директор сахарозавода]: Безусловно, если бы они [рабочие] узнали, что я троцкист-вредитель, они бы разорвали меня...
ПОЛЯНСКИЙ [директор МТС]: Да если бы я им только намекнул о вредительстве, они [крестьяне] в лучшем случае избили, а то просто убили бы»71.
Свидетельства крестьян на процессах рисуют множество ярких картин того, как местные начальники издевались над ними и упивались своей властью:
«Ах, так, ездишь во ВЦИК! У нас власть на местах. Что хочу, то и сделаю».
«Я — коммунист, а вы — беспартийные, сколько вы ни наговариваете на меня, все равно вам веры не будет».
344
«Ты бы такую сволочь лучше застрелил, все равно ничего тебе за него не будет» (замечание районного руководителя подчиненному, избившему крестьянина).
«Подохло бы человек 5, научились бы, как нужно работать, стервецы и бездельники» (слова районного руководителя, обращенные к колхозникам во время голода 1933 г.).
«Хлеб надо дать лошадям, а колхозники обойдутся и без хлеба»72
В сообщениях о процессах подчеркивается «глубокая ненависть», с какой крестьяне говорили о своих бывших притеснителях на суде. Перед процессами и во время их проведения, по словам газет, из соседних колхозов шли резолюции и петиции с требованием смертного приговора обвиняемым, которые награждались такими эпитетами, как «презренная гадина» и «гнусные гады». Постоянно описывались переполненные залы суда, внимательно слушающая публика, полная негодования против обвиняемых.
«Каждый вечер около школы собираются толпы колхозников... За время процесса областному прокурору, присутствующему на суде, передано лично гражданами до 50 заявлений с указанием на новые факты злоупотреблений и беззаконий, совершавшихся Семенихиным, Колыхматовым и другими»73.
Одна из самых драматичных сцен, описанных в прессе, — когда крестьянка Наталья Латышева, пройдя на свидетельское место, повернулась к бывшим руководителям Новгородского района.
«ЛАТЫШЕВА: Товарищи судьи! Разве это люди? Гады они, людоеды. (В зале движение, возгласы одобрения, на скамье подсудимых — замешательство.)
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: Свидетель, от вас требуются факты.
ЛАТЫШЕВА: Вы уж меня простите, товарищи судьи, но как увидела я этих гадов, сердце не выдержало. И это факт, что они гады!.. Вот они сидят здесь, проклятые, никогда им этого колхозник не забудет»74.
В истории, поведанной Латышевой, как и в рассказах многих других свидетелей на процессах, вмешательство района в сельскохозяйственные дела — в частности, определение посевных планов — выглядит необоснованным и нелепым, поскольку районные чиновники совершенно невежественны. К примеру, колхозу Латышевой район никак не давал создать коневодческую ферму и заставлял возделывать невыгодные и не соответствующие местным условиям культуры. Но колхозников было не запугать.
«ЛАТЫШЕВА: Но мы не сдались. Мы решили завести рысаков. Так и сделали, не сломили нас враги колхозов. На удивление всем, выстроили конеферму, а сейчас у нас 21 лошадь чистопородного орловского племени. (По залу стихийно проносятся аплодисменты, слышатся голоса: "Молодцы!", "Правильно!")...
345
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: Имеете ли вы, свидетель, что-либо еще добавить?
ЛАТЫШЕВА: Имею. (Колхозница поворачивается к подсудимым и, стоя лицом к лицу с врагами народа, громко произносит.) А все-таки наша взяла, а не ваша. Мы победили!»75
«Наша взяла, а не ваша!» Как хотелось бы закончить рассказ на этой торжествующей ноте. Но в самом ли деле крестьяне одержали крупную победу над своими притеснителями? На лубочной картинке «Как мыши кота хоронили» мыши радуются тому, что кот умер сам, а не тому, что им удалось убить его. Точно так же и на процессах 1937 г. крестьяне вряд ли могли бы сказать, что это они «убили кота»: районные руководители, чье падение они встречали с таким ликованием, были не свергнуты в результате местных крестьянских бунтов, а сметены политическим ураганом, налетевшим из Москвы. Крестьяне, самое большее, могли чувствовать себя причастными к этому событию, поскольку они не только давали показания на процессах, но и раньше писали множество писем с жалобами и разоблачениями местного начальства. Однако можно утверждать, что доля их участия в происходящем была не больше, чем у зевак, сбежавшихся поглазеть на публичную казнь.
Процессы 1937 г. привели к устранению целой когорты сельских руководителей, многие из которых, вероятно, печально прославились своими злоупотреблениями и продажностью. Но они не изменили властных отношений на селе в их основе, не упразднили колхозы, даже не повлияли существенно на те стороны колхозной жизни, которые наиболее тяготили крестьян. Правда, в деле выбора и отстранения председателя голос колхозников во второй половине 1930-х гг. приобрел больший вес, но такая тенденция наметилась еще до процессов и не являлась их результатом. В 1938 г. были изданы правительственные постановления, защищавшие членов колхоза, в особенности отходников и их семьи, от необоснованного исключения, уменьшавшие для колхозных председателей возможности самовластно распоряжаться колхозной собственностью и использовать ее в целях наживы, а также увеличивавшие денежные выплаты колхозникам на трудодни. В 1939 г. еще одно постановление ограничивало (по крайней мере формально) право районного руководства устанавливать посевные планы для колхозов7^.
Тем разительнее последующий переход государства к политике большего принуждения и администрирования в отношении колхозов. Важнейший пример тому — постановление 1939 г., обязавшее колхозников вырабатывать определенный минимум трудодней, не только значительно ужесточившее колхозную дисциплину, но и фактически отменившее прошлогоднее постановление, регламентировавшее исключение из колхоза. В том же самом постановлении рекомендовалось урезать приусадебные участки колхозников, чтобы заставить их больше работать на колхозной земле; соответ-
346
ственно все участки были перемеряны государственными землемерами, и половина дворов в колхозах потеряли землю. Вдобавок ввели новый налог на крестьянские фруктовые сады; колхозникам запретили косить для своих коров сено на колхозных лугах; увеличились планы поставок хлеба и мяса; в результате натуральная оплата трудодней была снижена без компенсации в форме повышения оплаты денежной77.
Подобные новшества несомненно удручали колхозников, но не стоит думать, будто они явились для них сюрпризом. Латышева и другие крестьяне-свидетели, конечно, прекрасно понимали, «когда столь резко критиковали свое бывшее начальство, что участвуют в политическом спектакле, а не в политической революции. По письмам, приходившим в «Крестьянскую газету» в 1938 и начале 1939 г., не видно, чтобы крестьяне пережили страшное разочарование, когда государство не выполнило того, что, казалось, обещали процессы 1937 г. Эти процессы не стали в сознании крестьян какой-то вехой, поворотным моментом; новые притеснения, с их точки зрения, были делом обычным, хоть и дурным.
В конце концов, может быть, в данном случае имеет значение само событие, а не его последствия. Процессы можно рассматривать как советскую версию карнавала — народного праздника (как правило, санкционированного государством), где на один день мир встает с ног на голову, люди веселятся в ярких кос1ю-мах, сословные границы стираются, разрешаются насмешки и глумление над власть имущими78. Но особенность карнавала в том и состоит, что он длится всего день или неделю. Потом приличия и социальные барьеры восстанавливаются, а то и укрепляются. Реальные властные отношения остаются незатронутыми. Карнавал — не революция.
Впрочем, иногда карнавал выходит из берегов. По мнению Солженицына, так и случилось с районными процессами 1937 г.; и, хотя его рассказ, основанный на одном-единственном примере, дает несколько одностороннюю картину, в этом он, возможно, прав. В Кадые, по словам Солженицына, судебное заседание вышло из-под контроля и превратилось в свалку79. Так могло быть и в других случаях; по вполне понятным причинам областные газеты, послужившие для меня основным источником, о них не писали. Во всяком случае волна районных показательных процессов схлынула так же быстро, как и поднялась: к декабрю 1937 г. все закончилось. Напрашивается закономерный вывод, что в центре решили прекратить процессы такого типа.
Вообще это была весьма смелая, даже опасная идея — организовать показательные процессы, на которых звучали реальные претензии к государственным служащим и государственной политике, где обвиняемые и обвинители (крестьяне-свидетели) являлись реальными, местными людьми, хорошо знавшими друг друга. Ходом московских процессов гораздо легче было управлять, несмотря на проблемы, возникавшие в связи с опорой ис-
347
ключительно на признания обвиняемых. Там тоже уничижались сильные мира сего, однако как-то невзаправду, обезличенно, на фоне таинственном и экзотическом (шпионы, иностранцы, заговоры, саботаж, заграничные поездки). Их обвиняли в гнусных преступлениях, но — за исключением «вредительства» (подстроенные несчастные случаи на производстве, толченое стекло, подсыпанное в масло, и т.п.) — то были преступления против коммунистической партии и государства, а не против всего народа.
Подобная смелость говорит о том, что Сталин или его подручные рассчитывали извлечь из показательных процессов политическую выгоду. По-видимому, намеревались дать народу излить накопившуюся зависть и ненависть к тем, кто обладал привилегиями и властью: Сталин воздал коммунистам-начальникам по заслугам — слава Сталину! Такая политическая уловка может рассматриваться как продолжение тактики 1930 г., выразившейся в статье «Головокружение от успехов», когда Сталин попытался свалить вину за проведение коллективизации на местных руководителей, допускавших «перегибы».
Подобного рода намерение ясно просматривается в репортаже «Правды» об одном из «образцовых» процессов (в Данилове Ярославской обл.). Когда процесс закончился, сообщала газета, крестьяне Даниловского района написали Сталину, благодаря его за то, что защитил их от врагов и восстановил их колхоз (который был распущен упомянутыми врагами, районными руководителями)80. «Правда» искусно рисовала образ «доброго царя» — Сталина, всеведущего и милосердного, услышавшего о несправедливостях, творимых злыми боярами и чиновниками, и пришедшего на выручку простому народу.
Беда в том, что крестьяне не поверили этой заманчивой сказке. Памятуя о сдержанности в восхвалении Сталина, проявленной ими в жалобах и прошениях, еще интереснее наблюдать, как упорно образ «царя-освободителя» игнорировался крестьянами-свидетелями на процессах. Не обращая внимания на намеки «Правды», свидетели на районных процессах не ставили суд над разложившимся местным руководством в заслугу Сталину. Они не сообщали о каких-либо ответах на их жалобы, не приписывали Сталину решающей роли в событиях и в своих показаниях неизменно избегали «наивно-монархических» формулировок типа: «Если бы Сталин знал, что происходит...». Они не посылали ему писем с благодарностью за избавление от притеснителей (а если и посылали, газеты об этом молчат). Фактически в тысячах строк, посвященных процессам местными газетами, вообще нет упоминаний о Сталине.
Неизменно впечатляет упорная враждебность, которую крестьяне питали к Сталину из-за коллективизации. Без сомнения, они рады были увидеть унижение своих угнетателей в 1937 г. — так сказать, бросить камень в свое бывшее начальство, стоящее у позорного столба. Это было злорадное удовлетворение такого же
348
рода, как выраженное в старинном лубке «Как мыши кота хоронили» или в частушках и высказываниях по поводу убийства Кирова. Но при всем том у крестьян совершенно отсутствовало малейшее желание разделить это удовлетворение со Сталиным, признать его своим другом, раз, по его словам, у него те же враги, что и у них. Если вид районного руководства на скамье подсудимых или известие о смерти Кирова вызывали такое злорадство, то разве не получили бы они еще большее удовольствие, узнав о падении Сталина?! Как пелось в частушке, «убили Кирова, убьем и Сталина»81.
И может быть, восклицание Латышевой: «Наша взяла, а не ваша!» — не так уж лишено оснований? В самом ли деле мыши на похоронах кота плясали под дудку Сталина? Или они пели свою собственную крамольную песенку «Убили Кирова»?
Послесловие
В этой книге речь идет о довоенной истории советских колхозов. Почти весь период 30-х гг. крестьяне медленно оправлялись от удара, нанесенного коллективизацией. Восприятие коллективизации как второго крепостного права за десятилетие, несомненно, несколько ослабело, но не исчезло совсем, как не исчезло и равнодушное, как у всех крепостных, отношение к работе на колхозных полях. Главная причина этого заключалась в том, что колхоз продолжал служить государству средством экономической эксплуатации крестьянства в форме больших заданий по обязательным госпоставкам, оплачиваемых государством по крайне низким ценам.
В иных вопросах крестьянам лучше удавалось приспособить колхозы к собственным нуждам. Заметное исключение представляет лишь вопрос о владении лошадьми, в котором государство ни на йоту не сдвинулось со своей позиции. Но у колхозников все же были коровы и приусадебные участки; они не встречали значительных препятствий (по крайней мере со стороны государства), если хотели уехать на заработки на сторону; немалая часть уехавших сохраняла свое членство в колхозе, нисколько там не работая. Политотделы МТС в середине десятилетия исчезли, так же как и большинство председателей-чужаков, столь типичных для первых лет существования колхозов. Хотя колхоз и подчинялся району, фактически пользовавшемуся полномочиями назначать председателей, среди них становилось все больше местных, и в каких-то отношениях село (колхоз), казалось, успешно вновь брало в свои руки управление своими внутренними делами.
Как мне представляется, среди крестьянских устремлений эпохи 30-х гг. можно выделить три основных типа. Крестьяне-«традиционалисты» хотели, чтобы им оставили их лошадь и корову и дали спокойно добывать себе пропитание обработкой земли в составе некоей общинной структуры, препятствующей экономическому расслоению. «Предприниматели» хотели не только обеспечивать себе средства существования, но и получать прибыль от торговли на рынке, иметь возможность покупать и арендовать землю и становиться зажиточными по столыпинскому образцу. «Колхозники-госиждивенцы» хотели, чтобы государство вело себя как хороший хозяин: предоставило им пенсии и всевозможные социальные льготы, которые защищали бы их от риска пойти ко дну в неурожайный год. Стремления первого из этих трех типов в течение десятилетия, по всей видимости, ослабели, тогда как второго и третьего типов — усилились.
350
Это не значит, что крестьяне смирились с колхозами как с непреложным фактом их бытия. То, что они этого не сделали, подтверждается постоянным, на протяжении всех 30-х гг., существованием в деревне слухов о том, что скоро будет война и колхозы разгонят. И действительно, когда в 1941 г. война началась, многие крестьяне на оккупированных территориях Украины и Юга России первое время приветствовали захватчиков или, по меньшей мере, готовы были терпеть их в надежде, что они уничтожат колхозы. Подобное отношение переменилось лишь после того, как стало очевидно, что у немцев нет такого намерения*.
Поскольку коллективизация представляла собой государственный проект, имеющий целью как эксплуатацию, так и модернизацию, логично было бы ожидать, что одним из ее результатов станет вовлечение деревни в более тесные политические и культурные взаимоотношения с городом — чтобы влить российское село в состав формирующегося советского народа. Именно в 30-е гг. ощущение принадлежности к новой общности — советскому народу — широко распространилось среди городского населения. Но население сельское этот процесс, кажется, не затронул сколько-нибудь заметно (за исключением молодых крестьян, собиравшихся покинуть деревню и устроить свою жизнь в городе).
В селах стали читать больше газет, чем раньше; больше крестьянских ребятишек ходили в школу и учились там дольше. Однако не велось никакого значительного строительства железных и автодорог, которые могли бы прочнее связать село с городом, а кампания по индустриализации, вместо того чтобы принести в деревню электричество, напротив, часто оставляла крестьян даже без керосина для ламп. Уровень жизни и потребления крестьян после коллективизации резко снизился и за весь предвоенный период так и не достиг снова уровня, существовавшего до 1929 г. Кроме того, крестьяне чувствовали, что коллективизация превратила их в граждан второго сорта. Поэтому, вероятно, не стоит удивляться ни разительному отсутствию патриотизма, хоть советского, хоть русского, продемонстрированному слухами о войне, постоянно ходившими в деревне, ни столь близкому сходству надежд колхозников на освобождение руками немецких оккупантов с надеждами крепостных на Наполеона в 1812 г. Если в России и произошло превращение «крестьян в советских граждан», это случилось уже после Второй мировой войны2.
Вторая мировая война принесла новые страдания крестьянству, принявшему на себя главное бремя огромных потерь, понесенных Советским Союзом. Она сильно увеличила демографический дисбаланс в деревне. Нехватка мужчин, дававшая себя знать уже в 30-е гг., резко увеличилась. В начале 1946 г. среди всех трудоспособных колхозников РСФСР четверть были мужчины, три четверти — женщины, и даже в 1950 г. мужчины все еще составляли лишь треть трудоспособных колхозников. Нехватка мужчин являлась результатом не только военных потерь, но и решения
351
выживших не возвращаться в колхоз после войны. Хотя две трети личного состава Советской армии были призваны из колхозов, только половина уцелевших вернулась туда после демобилизации. Отток населения из деревни в город продолжался и после войны, несмотря на существовавшую по-прежнему паспортную систему. В 1950—1954 гг. 9 млн сельских жителей навсегда переселились в город. Доля сельского населения по стране неуклонно снижалась, упав в 1961 г. ниже 50%-ного уровняЗ.
Как крестьяне на оккупированных территориях поначалу надеялись на отмену колхозов немцами, так же и крестьяне по всей стране, когда война уже близилась к концу, стали говорить о больших переменах, которые наверняка принесет мир. Повышение терпимости к религии во время войны, на уровне высокой политики выразившееся в заключении в 1943 г. государственного конкордата с православной церковью, а на местном уровне — в осторожном выходе на свет «подпольной» религиозной деятельности, несомненно, способствовало таким надеждам. Во многих колхозах во время войны приусадебные участки колхозников были увеличены за счет колхозной земли, и некоторые предприимчивые крестьяне получили большую прибыль, продавая голодающим горожанам продукты на черном рынке. Везде ожидали, что после войны советская власть либо отменит, либо значительно модифицирует колхозы4.
Надежды колхозников на послевоенное послабление разрушило постановление правительства от 19 сент. 1946 г. «О мерах по ликвидации нарушений Устава сельскохозяйственной артели в колхозах», предписывавшее всем, кто присвоил колхозную землю, вернуть ее и определявшее различные меры по укреплению колхозной дисциплины5. Планы поставок и налоги выросли более чем когда-либо, а денежная реформа 1947 г. уничтожила сбережения крестьян из группы предпринимателей военного времени. В конце 40-х гг. была проведена коллективизация (и раскулачивание) в Прибалтийских республиках и на других вновь присоединенных территориях, и это послужило лишним подтверждением того факта, что колхозы являются одним из ключевых элементов советской системы. Период с конца войны и до смерти Сталина в 1953 г. стал для крестьян самым тяжелым из всех, пережитых ими с начала 30-х гг.
В 1950 г. власть сделала важный шаг назад, решив слить существующие колхозы в более крупные объединения. Число колхозов упало с 250000 в 1949 г. до 124000 в 1950 г. и впоследствии продолжало уменьшаться — до 69000 в 1958 г. и 36000 в 1965 г. К середине 60-х гг. средний колхоз включал более 400 дворов, тогда как до реформы — около 80. Это означало, что село больше ни в каком смысле не являлось самоуправляющейся или сколько-нибудь значительной хозяйственной единицей. Кроме того, новые колхозы были так велики, что требовали профессионального управления. В 1955 г., как бы возвращаясь в первые годы коллек-
352
тивизации, власти развернули кампанию по отправке в деревню 30000 добровольцев — 30-тысячников, — которые должны были стать председателями колхозов6.
Укрупнение усилило проявившуюся еще в конце войны тенденцию к назначению жестких колхозных председателей, часто чужаков. Многие, сделавшиеся председателями в послевоенные годы, были ветеранами армии и коммунистами. Эти новые председатели отличались от своих предшественников конца 30-х гг. и военного времени. Председатель такого типа «принес... с войны строгость и дисциплину, дикую разруху решил одолеть отчаянной атакой, как брал недавно вражеские окопы. Его уши глохли подчас от бесчисленных жалоб и просьб людских, которые не мог он никак исполнить, а слово "давай!" стало в его лексиконе самым ходовым и результативным» 7.
Хотя в послесталинскую эпоху поведение колхозных председателей стало менее жестким, поворот к назначению «карьерных» председателей — профессиональных администраторов, придерживающихся авторитарного стиля в отношениях с крестьянами и, как правило, сохраняющих дистанцию между собой и ими, — совершился окончательно. Эти новые председатели, которые по своему складу и происхождению были ближе к районным чиновникам, чем к крестьянам, брали на себя всю ответственность за колхоз и принимали все решения. Они мало чем отличались от директоров совхозов (уже в 30-е гг. ставших администраторами с ежемесячным окладом), так же как и укрупненные колхозы все меньше отличались от совхозов.
По стилю управления, как отмечали в 60-е гг. два западных наблюдателя, колхозные председатели и директора совхозов походили на помещиков и управляющих прежних времен, а поведение крестьян точно так же имело много общего с поведением крепостных. «Судя по действиям одного пожилого совхозного рабочего, которого мы встретили на улице... низы также всячески старались проявлять покорность и смирение. Завидев директора, этот старый мужик внезапно остановился, сорвал с себя шапку и, прижав ее к груди, принялся непрестанно отвешивать короткие поклоны, как бедный крестьянин времен царизма»8.
По заключению этих наблюдателей, колхозники по-прежнему относились к работе в колхозе, как к барщине:
«Колхозный "крепостной" выполняет свои трудовые обязанности перед "хозяином" небрежно, нехотя. Он не заботится о плодородии "коллективной" земли. Она не его. Он не видит ни коллективных сорняков, ни ржавчины на коллективной технике, ни личной коровы, объедающей коллективное поле. Он крадет у коллектива или привычно смотрит сквозь пальцы, как крадут его собратья... »9
Колхозных председателей нового поколения можно сравнить с советскими директорами в промышленности. Они были такими же дельцами и комбинаторами на селе. Как их коллеги в промышлен-
353
ности, заправляющие делами в «заводских городах» советской провинции, председатели колхозов и директора совхозов выступали в роли хозяев своих маленьких вотчин, поддерживая полезные связи в районе и выше, совершая разные хитроумные сделки с колхозной продукцией, чтобы их колхоз получил нужное ему количество удобрений или не был задавлен слижком тяжкими планами госпоставок. Один советский журналист в 60-е гг. заметил:
«Почти вся экономическая и социальная власть в сельском обществе сосредоточена в его руках, и он вынужден пользоваться ею, в первую очередь, чтобы решать свои производственные проблемы. Он — главная сила, "делец", который всем заправляет.. >Ю
Другие перемены в политике послесталинского периода оказались еще важнее для эволюции колхозов в последние четыре десятилетия советской власти. После жестких требований позднего сталинского периода партийные руководители в послесталинскую эпоху согласились между собой в том, что бремя, лежащее на крестьянстве, следует облегчить. И его действительно значительно облегчили, сначала при Хрущеве, потом при Брежневе. В результате жизнь российского крестьянина в последнюю четверть советской эры резко улучшилась.
В конце 50-х — начале 60-х гг. Хрущев раз в пять повысил закупочные цены на сельскохозяйственную продукцию. Средний доход колхозника от работы в колхозе (и денежный и натуральный) за период 1953 — 1967 гг. вырос в абсолютном выражении на 311%. Это означало, что основные средства к жизни колхозникам все больше давал заработок в колхозе, а не доход с приусадебного участка. В то же время часть колхозного заработка, выдававшаяся наличными, в большинстве колхозов 30-х гг. ничтожная, значительно увеличилась, так что в середине 60-х гг. колхозники уже получали основную часть заработка наличными, а не натурой11.
Хрущев попытался компенсировать это повышение доходов, урезав официально разрешенные размеры приусадебного участка и штрафуя тех колхозников, которые не отрабатывали установленное количество времени на колхозной земле. Но после его падения эти меры были отменены. При Брежневе приусадебный участок уже не являлся ключевым элементом системы выживания для крестьянина, как в 30-е гг., однако все еще играл важную роль как в крестьянском хозяйстве, так и в экономике в целом, поставляя во второй половине 70-х гг. треть всей продукции животноводства и десятую часть всех пищевых культур и все еще занимая треть времени крестьянина12.
Крестьяне всегда мечтали о таком положении, когда они будут защищены от риска разорения в неурожайные годы. В ходе обсуждения Конституции 1936 г. они предлагали распространить на колхозников меры социального обеспечения, доступные городским работникам, а некоторые даже выдвигали идею гарантированного
354
минимума заработной платы. Эти чаяния «колхозников-госиждивенцев» сбылись в 60-е гг.
Во-первых, колхозники в 1964 г. стали получать пенсии по старости. Поначалу они были значительно меньше пенсий городских рабочих и служащих, однако в 1968 г. пенсионный возраст для колхозников снизили до 60 лет у мужчин и 55 у женщин, как и в городском секторе, а колхозные пенсии повысили. В 1970 г. последовало введение государственного страхования здоровья для всех колхозников, хотя размеры его, как и размеры пенсий, были более скудными, чем для городских рабочих1^.
Во-вторых, в 1966 г. был введен гарантированный минимум заработной платы для колхозников. Заработная плата, рассчитывавшаяся на основе платы за такую же работу в совхозах, была одинаковой как для передовых колхозов, так и для тех, которые находились в состоянии экономического упадка14.
Естественно, зарплата колхозников намного отставала от зарплаты городских рабочих, средняя заработная плата в колхозе в 1971 г. составляла 78 руб., тогда как в городском секторе — 126 руб. Впрочем, на самом деле разница была не так велика, если помимо наличных начислялся и заработок в натуре. Кроме того, в сельской местности за период 1950—1976 гг. доходы выросли гораздо значительнее, чем в городе. По подсчетам Г.Шре-дер, средний заработок (в натуре и наличными) сельскохозяйственных рабочих за этот период более чем утроился, а у несельскохозяйственных рабочих — только удвоился. В 1950 г. средний доход работающего в сельском хозяйстве составлял 56% от среднего дохода работающих в других сферах экономики; в 1976 г. — уже 88%15.
Если в 60-е гг. совершили скачок вперед доходы и материальное благосостояние на селе, то в 70-е деревня наконец начала догонять город и в сфере культуры. В 70-е — 80-е гг. разительно повысился образовательный уровень сельского населения. В 1970 г. только 318 на 1000 чел. сельских жителей в возрасте 10 лет и старше имели среднее образование, тогда как среди городского населения — 530 на 1000 чел. К 1989 г. эти цифры соответственно были: 588 на 1000 чел., 666 на 1000 чел.16.
В 70-е гг. в деревню в массовом порядке пришло телевидение, и к 1980 г. на каждые 100 семей там приходился 71 телевизор (в городах — 91). В то же самое время примерно 6 из 10 семей в деревне имели холодильники и стиральные машины; даже автомобили начали во второй половине 70-х гг. появляться на селе в значительном количестве17.
Несмотря на столь заметные улучшения, деревня во многих отношениях все еще далеко отставала от города. Хотя в большинстве сел в 60-е гг. появилось электричество и почти в 60% сельских домов к 1976 г. был газ, число сельских жителей, имеющих в доме отопление, горячую воду, ванные, телефоны, оставалось невелико, и многим по-прежнему приходилось таскать воду в вед-
355
pax из колодца. Обследование сельских жилищ, проведенное в 1977 г. в Новосибирской области, выявило, что лишь пятая часть их имела водопровод, десятая часть — отопление и 4% — телефоны. Сельские дороги также оставались в плачевном состоянии. В 1976 г. только 9% сельских населенных пунктов в Советском Союзе располагалось у мощеных дорог. Сельские улицы все еще представляли собой «типичные широкие проселки старой России, а тротуары — тропинки в грязи на обочине»18.
Остаточные признаки статуса колхозников как «граждан второго сорта» дожили до 70-х и даже 80-х гг. Когда в 1969 г. был обнародован третий Устав сельскохозяйственной артели, колхозникам все еще не разрешалось держать лошадей (некоторые вещи остаются неизменными при всех переменах!) и не выдавались автоматически паспорта. В конце 70-х гг. состоялись дискуссии на тему, не пора ли разрешить им держать лошадей. Но лошади так и остались в России дефицитом, а политики из старой гвардии по-прежнему считали, что частная собственность на «средства производства» абсолютно несовместима с социалистическим сельским хозяйством. В 1982 г. правительство смягчило правила, разрешив иметь лошадей совхозным рабочим и всем прочим сельским жителям кроме колхозников. Как это ни невероятно, но формальное запрещение колхозникам держать лошадей, кажется, сохранилось вплоть до распада СССР в 1991 г., хотя и не так уж строго соблюдалось в последнее десятилетие1^.
С решением проблемы паспортов у советской власти тоже были трудности, но тут прогресс оказался не таким жалким, как в вопросе о лошадях. К 70-м гг. советские политические лидеры признали, что оставлять колхозников на положении граждан второго сорта в связи с отсутствием права на автоматическое получение паспорта не подобает. Однако они боялись, как бы устранение формального препятствия к отъезду из деревни не повысило и так уже тревоживший их уровень миграции. Накануне Второй мировой войны, несмотря на сильную миграцию в города в 30-е гг., две трети населения Советского Союза все еще оставались в селе. В 1959 г. доля сельского населения сократилась до 52% (109 млн чел.). К 1970 г. она упала до 44% (106 млн чел.), а к концу десятилетия составляла лишь 38% (менее 100 млн чел.)20.
Политики, как можно было бы подумать, должны были прийти к совершенно очевидному выводу, что закон о паспортизации не стал сколько-нибудь существенной помехой отъезду. Вместо этого они размышляли о том, насколько все будет хуже, если крестьянам действительно начнут выдавать паспорта. К моменту выхода в 1974 г. нового закона о паспортах вопрос о правах крестьян был проработан кое-как. Однако в течение нескольких лет разум восторжествовал. К 1980 г. крестьяне получили паспорта, и исторические неравноправие, созданное в 1933 г., было окончательно ликвидировано21.
356
К концу брежневского периода большинство исторических несправедливостей были устранены. Сельское население жило лучше, чем когда-либо, и, по-видимому, работало меньше, чем когда-либо. Оно сократилось от двух третей всего населения в 1939 г. до одной трети полвека спустя, а колхозное население сократилось еще больше и в 1979 г. насчитывало всего 39 млн чел. (15% всего населения; менее 40% сельского населения). Это был результат не только миграции из села в город, но и перехода колхозников в совхозы — теперь куда более привлекательное место, нежели в 30-е гг., где, как правило, и платили лучше22.
Признаков предприимчивости среди стареющего крестьянского населения было не различить невооруженным глазом, разве что председатели колхозов являлись энергичными предпринимателями советского типа (скорее комбинаторами, чем рационализаторами). Зато признаки всеобщего госиждивенчества были налицо. Колхозники достигли своей долгожданной цели — почти полностью избавиться от риска. Государство отпускало сельскому хозяйству дотации — в таких размерах, что Сталин, не говоря уже о старых большевиках-марксистах 20-х гг., перевернулся бы в гробу, — практически без всякого эффекта. Низкая производительность советского сельского хозяйства стала притчей во языцех.
Так что же удивительного в том, что крестьяне, когда их призвали сбросить оковы колхозов и храбро ринуться в новый мир независимого капиталистического фермерства, ответили глухим молчанием. Стареющие колхозники, обеспеченные гарантированным минимумом заработной платы, пенсиями и страхованием здоровья, естественно, смотрели на перемены в позднюю советскую и раннюю постсоветскую эпоху с опаской и часто рассчитывали на то, что их председатели будут возглавлять их и руководить их действиями в новой ситуации.
«Мы плакали, когда в сорок девятом гнали в колхоз, а теперь будем плакать, когда станете из колхоза гнать!» — говорили в 1990 г. литовские крестьяне. Колхоз внезапно стал казаться весьма привлекательным, даже в Прибалтике, где крестьяне лишь 40 лет были оторваны от прежних традиций единоличного хозяйствования, что же говорить о России, оторванной от них почти на 60 лет — более чем на 2 поколения! Молодые не хотят выходить из колхоза, говорил ошеломленному российскому журналисту сельский механик в Литве, потому что у них нет интереса делать деньги и они не хотят работать; старые — потому что нет смысла — они просто дожидаются выхода на пенсию".
В России появлялись сообщения о враждебности по отношению к предприимчивым людям, пытавшимся выйти из колхоза или приезжавшим в село, чтобы стать независимыми фермерами, очень напоминавшей прежнюю враждебность сельской общины к «выделившимся». «У кого совесть есть, торговать не пойдет». «Мы к колхозу привычные». «Кто хочет уйти из колхоза, того и
357
хоронить не будем. Не будет тому гроба из колхозного пиломатериала!»24
Колхоз пережил советскую систему, создавшую его (будущее покажет, надолго ли), а «крепостной» менталитет колхозников сохранился и после того, как государственное принуждение, породившее его, сменилось государственными подачками. Нескончаемый поток крестьян-мигрантов принес с собой в город их привычку работать спустя рукава и презрение к понятию государственной (общественной) собственности. Когда Советский Союз наконец свершил свой земной путь, колхоз и его проблемы могли бы *' служить олицетворением всего советского общества: не представ- О ляющего больше опасности, как в прошлом; не управляемого без- \ жалостными и внушающими страх начальниками; инертного, тяжелого на подъем и пассивно сопротивляющегося переменам — общества, члены которого по большей части презрительно относятся к идее общественного блага, подозрительно — к энергичным или удачливым соседям, постоянно чувствуют себя ущемленными тем, что «они» (начальники) делают, но не шевельнут и пальцем в своей твердой решимости не делать ничего самим.
О библиографии и источниках
Опубликованных вторичных источников по российской деревне 30-х гг. сравнительно немного, и зачастую они не лучшего качества. Если говорить о советских ученых, 30-е гг. были весьма неудобным периодом для историков, а коллективизация и ее результаты — опаснейшей из тем. На Западе же о деревне после коллективизации почти ничего не написано. Это, несомненно, следствие трудности работы с неадекватными и недостоверными опубликованными источниками, недоступности (до самого недавнего времени) советских архивов и того факта, что сама российская деревня более полувека после коллективизации была по сути недоступна для приезжих с Запада, невозможен был даже туризм, не говоря уже о работе в поле.
Основные монографии, посвященные колхозу 30-х гг., принадлежат М.А.Вылцану: Завершающий этап создания колхозного строя (1935 — 1937 гг.). М., 1978; Советская деревня накануне Великой Отечественной вофны (1938—1941 гг.). М., 1970. Есть две полезные статьи И.Е.Зеленина о колхозах в первой половине 30-х гг.: Колхозное строительство в СССР в 1931 -1932 гг. // История СССР. 1960. № 6; Колхозы и сельское хозяйство СССР в 1933-1935 гг. // Там же. 1964. Me 5. О раскулачивании — классический труд Н.А.Ивницкого: Классовая борьба в деревне и ликвидация кулачества как класса (1929—1932 гг.) М., 1972. В числе работ о колхозном населении и миграции из села в город: Выл-цан М.А. Трудовые ресурсы колхозов в довоенные годы (1935—1940 гг.) // Вопросы истории. 1973. № 2; Арутюнян Ю.В. Коллективизация сельского хозяйства и высвобождение рабочей силы для промышленности // Формирование и развитие советского рабочего класса (1917—1961 гг.). М., 1964. Местные публикации исследований крестьянства часто более познавательны, чем центральные, напр.: Гущин Н.Я. Сибирская деревня на пути к социализму. Новосибирск, 1973; Он же (вместе с Е.В.Кошеле-вой и В.Г.Чарушиным). Крестьянство Западной Сибири в довоенные годы (1935-1941). Новосибирск, 1975.
В отличие от 20-х гг., периода, весьма богатого этнографическими и социологическими работами о российской деревне, в 30-е гг. подобные исследования почти совершенно отсутствовали. Два исключения: Шува-ев К.М. Старая и новая деревня. Материалы исследования с. Ново-Жи-вотинного и дер. Моховатки Березовского района, Воронежской области, за 1901 и 1907, 1926 и 1937 гг. М., 1937; Арина А.Е., Котов Г.Г., Лосева К.В. Социально-экономические изменения в деревне. Мелитопольский район (1885 — 1938). М., 1939. В послесталинский период к такой литературе можно отнести: The Village of Viriatino. An Ethnographic Study of a Russian Village from before the Revolution to the Present / Ed. by S.Benet. New York, 1970; Анохина Л.А., Шмелева М.Н. Культура и быт колхозников Калининской области. М., 1964, а также статьи, посвященные различным регионам, печатавшиеся в 60-е гг. в журнале «Советская этнография *■.
Существует ряд полезных документальных публикаций, в частности серия местных сборников о коллективизации, как правило, охватывающих период 1927 — 1937 гг., которые появились в 70-е гг. Их названия
359
обычно стандартны, напр.: Коллективизация сельского хозяйства в Центрально-Черноземной области (1927 — 1937 гг.). Воронеж, 1978. Более подробное описание данного источника, снабженное аннотированной библиографией см.: Viola L. Guide to Document Series on Collectivization // A Researcher's Guide to Sources on Soviet Social History in the 1930s / Ed. by S.Fitzpatrick, L.Viola, Armonk, N.Y., 1990. Еще один важный источник для любого исследователя крестьянства — двухтомник советских и российских законов и постановлений о колхозах за период конца 1920-х — конца 1950-х гг.: История колхозного права: В 2 т. М., 1958—1959.
Примерно с 1988 г. советские (позднее — постсоветские) ученые получили возможность публиковать до недавних пор засекреченные архивные материалы, посвященные таким щекотливым темам, как раскулачивание и голод 1932 — 1933 гг., хотя объем подобных публикаций пока еще (написано в январе 1993 г.) сравнительно невелик. К ним относятся: Документы свидетельствуют. Из истории деревни накануне и в ходе коллективизации 1927 — 1932 гг. / Под ред. В.П.Данилова, Н.А.Ивницкого. М., 1989; Зеленин И.Е. О некоторых •«белых пятнах» завершающего этапа сплошной коллективизации // История СССР. 1989. Jvfe 2; Кондра-шин В.В. Голод 1932—1933 годов в деревнях Поволжья // Вопросы истории. 1991. № 6; Тепцов Н.В. Правда о раскулачивании (Документальный очерк) // Кентавр. 1992. Март —апрель.
Западные ученые в основном сосредоточили свое внимание на темах коллективизации и голода. Заметные работы принадлежат Р.В.Дэвису: The Socialist Offensive. The Collectivization of Soviet Agriculture, 1929 — 1930. Cambridge, Mass., 1980; The Soviet Collective Farm, 1929-1930. Cambridge, Mass., 1980; М.Левину: Russian Peasants and Soviet Power: A Study of Collectivization. London, 1968, а также некоторые очерки в его книге: The Making of the Soviet System. New York, 1985; Л.Виола: Best Sons of the Fatherland. Workers in the Vanguard of Soviet Collectivization. Oxford, 1987, а также ее статьи: Bab'i Bunty and Peasant Women's Protest during Collectivization // Russian Review. 1986. Vol. 45. № 1; The Peasant Nightmare: Visions of Apocalypse in the Soviet Countryside // Journal of Modern History. 1990. Vol. 62. № 4; Р.Конквесту: The Harvest of Sorrow. Soviet Collectivization and the Terror-Famine. Oxford, 1986. Следует упомянуть также трехтомник: Commission on the Ukraine Famine. Report to Congress. Washington, 1988 — подготовленный Дж.Мэйсом и его коллегами.
С исследованиями периода после голода дело обстоит еще печальнее. На эту тему есть важная статья Р.Мэннинг, основанная на материалах Смоленского архива: Government in the Soviet Countryside in the Stalinist Thirties: The Case of Belyi Raion in 1937 // The Carl Beck Papers in Russian and East European Studies. 1984. № 301. В ценном сборнике очерков под редакцией Дж.Р.Миллара: The Soviet Rural Community. Urbana, 111., 1971 — содержится много интересного о 30-х гг., в особенности статья: Hough J.F. The Changing Nature of the Kolkhoz Chairman. Истории советской сельскохозяйственной политики в довоенный период не существует, хотя один из ее аспектов рассматривается в работе Р.Ф.Миллера: One Hundred Thousand Tractors. The MTS and the Development of Controls in Soviet Agriculture. Cambridge, Mass., 1970. На смену первой в этой области работе экономиста Н.Ясны: The Socialized Agriculture of the USSR. Stanford, 1949 — пришла лишь изданная на немецком языке книга С.Мерля. Работа С.Маслова: Колхозная Россия. Прага, 1937 — дает
360
ценнейшее описание функционирования первых советских колхозов, явно основанное на свидетельствах очевидцев.
Некоторые важнейшие западные работы по теме принадлежат европейским и японским ученым. Лучшее исследование организации и экономики советского сельского хозяйства 30-х гг.: Merl S, Bauern unter Stalin. Die Formierung des Kolchossystems 1930-1941. Berlin, 1990. В дополнительном томе: Sozialer Aufstieg im sowjetischen Kolchossystem der 30er Jahre? Uber das Schicksal der bauerlichen Parteimitglieder, Dorfsowjetvorsitzenden, Posteninhaber in Kolchosen, Mechanisatoren und Stachanowleute. Berlin, 1990 — рассматриваются вопросы социальной мобильности и социальной дифференциации. Японский историк Н.Шимото-маи опубликовал две статьи на английском языке: A Note on the Kuban Affair (1932-1933). The Crisis of Kolkhoz Agriculture in the North Caucasus // Acta Slavica Iaponica. 1983. Vol. I, а также поэтически озаглавленную: Springtime for the Politotdel: Local Party Organization in Crisis // Acta Slavica Iaponica. 1986. Vol. IV. Стоит упомянуть также работу: Werth N. La Vie Quotidienne des Paysans Russes de la Revolution a la Collectivisation (1917 — 1939). Paris, 1984 — хотя главное достоинство этой книги заключается в историко-антропологическом описании российской деревни 20-х гг.
В отношении опубликованных первичных источников 1930-е гг. представляют настоящую проблему для историков. В 1929—1933 гг. почти все добротные источники периода 20-х гг. либо перестали издаваться, либо заметно снизили количество и качество информации. Поскольку данный вопрос подробно рассмотрен в справочнике «A Researcher's Guide to Sources on Soviet Social History in the 1930s», я коснусь его здесь в общих чертах. Основная проблема заключается в том, что жесткая цензура и самоцензура сталинского периода не только препятствовала публикации сведений о сельскохозяйственных провалах и претензиях крестьян, но и способствовала печатанию хвастливых, дутых отчетов о достижениях в сельском хозяйстве и довольстве среди крестьян. По этой причине первичные опубликованные источники много говорят нам о потемкинской деревне и очень мало о реальной.
Журналы 30-х гг. часто приносят разочарование. Можно перерыть годовую подшивку журнала «Социалистическая реконструкция сельского хозяйства», так и не встретив фигуры реального крестьянина. «Молодой колхозник» — один из немногих журналов, содержащих материал, интересный для социального историка, но он выходил чуть больше года. Для историков крестьянства, как и для всех социальных историков, лучшими журнальными источниками являются правоведческие журналы, особенно такие, как «Советская юстиция», больше занимавшаяся конкретными делами и проблемами их решения, чем правовой теорией. Полезный обзор источников такого рода представляет статья П.Соломона: Legal Journals and Soviet Social History // A Researcher's Guide...
Статистические справочники 30-х гг. (в отличие от справочников 20-х гг.) по большей части принадлежат к потемкинскому миру рекламы, чем к будничному миру рутинного сбора данных. Лучшие среди них — общие статистические справочники, выходившие в 1934, 1935 и 1936 гг. под названием «Социалистическое строительство СССР. Статистический ежегодник», однако следующий и последний том серии: Социалистическое строительство Союза ССР (1933—1938 гг.). Статистический сборник. М. — Л., 1939 — пример вопиющей неадекватности. Полнее об этом см.:
12 - 1682
Wheatcroft S.G. Statistical Sources for the Study of Soviet Social History in the Prewar Period // A Researcher's Guide...
Среди статистических публикаций, посвященных конкретно сельскому хозяйству, «Сельское хозяйство СССР. Ежегодник 1935» (М., 1936) и «Сельское хозяйство СССР. Статистический справочник» (М., 1939) сосредоточены почти исключительно на экономических и технологических аспектах, а «Колхозы во второй сталинской пятилетке. Статистический справочник» (М., 1939) почти полностью носит потемкинский характер. Более полезный сборник колхозной статистики: Производительность и использование труда в колхозах во второй пятилетке / Под ред. И.В.Саутина. М.— Л., 1939 — имеет тот недостаток, что не дает сведений о критериях выборки данных при обследовании 430 колхозов в 10 областях Советского Союза, откуда и взяты приведенные в нем цифры. Ярким примером той же проблемы является проведенное в 1938 г. обследование колхозной молодежи, результаты которого опубликованы в книге: Социальный облик колхозной молодежи по материалам социологических обследований 1938 и 1969 гг. М., 1976. Обследование проводилось среди небольшой группы молодых колхозников, отобранных по принципу, о котором можно только догадываться, по-видимому, из тех, чей уровень зажиточности и культуры был выше среднего.
Недавно корпус опубликованных статистических данных пополнился очень важными материалами переписи 1937 г., долго скрывавшимися из-за содержащейся в них неудобной информации о потерях среди населения. Хотя цифры и не сведены окончательно в таблицы, они дают куда больше, чем скудные (и, вероятно, дутые) данные переписи 1939 г., на которые раньше часто опирались ученые. Материалы переписи 1937 г. опубликованы теперь в: Всесоюзная перепись населения 1937 г. Краткие итоги. М., 1991, а также, с обстоятельным комментарием, в: Поляков Ю.А., Жиромская В.Б"., Киселев И.Н. Полвека молчания (Всесоюзная перепись населения 1937 г.) // Социологические исследования. 1990. № 6, 7.
В будущем, если бывшие советские архивы останутся открытыми для западных ученых, социальные историки, возможно, предпочтут работать с архивными, а не опубликованными источниками. Но у меня, когда я начала собирать материал для этой книги, такого выбора не было, поэтому я решила попытаться преодолеть потемкинский барьер путем чтения как можно большего количества газет. Хотя и из центральной прессы можно извлечь многое, в особенности из «Правды», «Известий», сельскохозяйственной газеты «Социалистическое земледелие» и «Крестьянской газеты», лучшие газетные источники 30-х гг. представлены прессой областной. Чаще всего в этой книге я цитировала следующие областные газеты: «Горьковская коммуна» (Горький), «Коммуна» (Воронеж), «Коммунист» (Саратов), «Красная Татария» (Казань), «Красное знамя» (Томск), «Красный Крым» (Симферополь), «Курская правда» (Курск), «Молот» (Ростов-на-Дону), «Рабочий край» (Иваново), «Рабочий путь» (Смоленск), «Северный рабочий» (Ярославль), «Советская Сибирь» (Новосибирск), «Социалистический Донбасс» (Сталино), «Тамбовская правда» (Тамбов), «Тихоокеанская звезда» (Хабаровск), «Уральский рабочий» (Свердловск) и «Звезда» (Днепропетровск). Следует особо отметить ленинградскую газету «Крестьянская правда», специализировавшуюся на проблемах села и являвшуюся подарком судьбы для исследователя крестьянства почти до 1938 г., после чего ее качество снизилось.
362
Крупнейшая проблема, с которой сталкивается историк крестьянства 30-х гг., заключается в том, что почти все источники, как опубликованные, так и архивные, совершенно игнорируют самих крестьян и жизнь села. Даже зная, что государство в первую очередь заботило получение продукции, поражаешься такой односторонней сосредоточенности на производстве и поставках. О колхозном скоте сведений больше, чем о колхозных дворах: человеческий фактор совершенно отсутствует. Проблему усугубляет тот факт, что мало выходило мемуаров о жизни села в 30-е гг. В сталинскую эпоху мемуарный жанр был чем-то подозрительным, однако даже в последние годы, когда появилось много воспоминаний об этом периоде, среди них нет почти ничего о деревне. Это лишний раз показывает, насколько мало контактов с деревней имело российское образованное общество в то время.
Среди немногочисленных имеющихся воспоминаний лучшие — это «Страницы пережитого» И.Твардовского (Юность. 1988. № 3), написанные крестьянином (братом поэта А.Твардовского), чья семья была раскулачена и выслана, и «Путешествие в Спас-на-Песках» Е.Герасимова (Новый мир. 1967. № 12), рассказ журналиста о борющемся с трудностями колхозе/селе, над которым его газета в 30-е гг. «взяла шефство». «The History of a Soviet Collective Farm» (New York, 1955) Ф.Белова — это воспоминания послевоенного эмигранта, бывшего некогда председателем колхоза на Украине. Значительные эпизоды, связанные с деревней, есть также в следующих произведениях мемуарного характера: Grigorenko P.G. Memoirs. New York, 1982; Tuominen A. The Bells of the Kremlin. Hannover; London, 1983; Soviet Youth. Twelve Komsomol Histories / Ed. by N. K.Novak-Deker. Miinchen: Institut fur Erforschung der UdSSR, 1959. Ser. 1. № 51; Kravchenko V. I Chose Freedom. New York, 1946. М.Хиндус (Red Bread. London, 1931) описал свое посещение родной деревни на Украине во время коллективизации. Есть также несколько книг с воспоминаниями знатных кохозников сталинской эпохи, в том числе Ф.Дубковецкого (На путях к коммунизму. Записки зачинателя колхозного движения на Украине. М., 1951).
Некоторые из советских художественных произведений о селе представляют собой либо замаскированные мемуары, либо замаскированные реальные истории, рассказанные очевидцами. Таковы, например, роман М.Алексеева «Драчуны» (М., 1982), содержащий поразительные свидетельства о голоде 1932—1933 гг. в родной деревне автора на Средней Волге; его же повесть «Хлеб — имя существительное» (написана в 1961 — 1963 гг.; опубликована в сб.: Алексеев М. Вишневый омут. Карю-ха. Хлеб — имя существительное. [М., 1981]), прослеживающая судьбы деревенских жителей, описанных в «Драчунах», вплоть до Второй мировой войны; роман Б.Можаева о коллективизации «Мужики и бабы» (М., 1988), а также: Скромный Н. Перелом // Север. 1986. № 10-12 (о высылке кулаков); Антонов С. Овраг // Дружба народов. 1988. № 1—2.
Использование художественных произведений, в том числе беллетри-зованных мемуаров и беллетризованных биографий, как исторических источников представляет вполне понятные трудности. Однако следует отметить, что в начале 60-х гт. и во второй половине 80-х гт. это был в Советском Союзе излюбленный жанр для воссоздания истории сталинской эпохи. Советские читатели, чтобы узнать правду о прошлом, обращались к художественной литературе, и авторы произведений в этом жанре стремились избежать упреков в каких-либо исторических неточностях. К примеру, первая журнальная публикация можаевских «Мужи-
12* 363
ков и баб» (Дон. 1987. № 3. С. 96—106) включала послесловие со ссылками на архивные источники! (Что, впрочем, не помешало научному историческому журналу критиковать Можаева как плохого историка. См. замечания В.П.Данилова: Вопросы истории. 1988. № 3. С. 22.)
Советские архивы, в том числе и закрытые материалы, только начинали открываться для западных ученых, когда я проводила свои исследования и писала эту книгу. Некоторые архивы, например Центральный партийный архив, стали для меня доступны лишь после того, как я завершила первый вариант рукописи. Поэтому я не буду пытаться дать исчерпывающий анализ содержимого бывших советских архивов. Однако несколько общих замечаний следует сделать, прежде чем охарактеризовать основные архивные источники, использованные в этой книге.
Обширный массив материалов, хранившихся в советских архивах, состоит из отчетов государственных и партийных бюрократических инстанций. Тип и характер информации, передаваемой по бюрократической цепочке, всегда отражают климат, в котором работает бюрократический аппарат. В сталинскую эпоху климат был весьма суровый, и посланцам, приносящим дурные вести, в самом деле грозил расстрел. По этой причине советские бюрократические документы подвергались самоцензуре, столь же жесткой, как и официальная цензура публикуемых материалов. К 1937 — 1938 гг. даже дела ЦК и Политбюро проходили сильнейшую самоцензуру. Чем более деспотическим становился сталинский режим, тем труднее было высшему руководству получать достоверную информацию по обычным бюрократическим каналам.
Эта ситуация заставила руководство искать или создавать другие источники информации. Первым из альтернативных источников являются регулярные секретные донесения органов внутренних дел (ГПУ, ОГПУ, НКВД) и специальные рапорты особых следователей, поступавшие помимо милицейских и чекистских каналов. Подобные расследования назначались в результате вопиющих промахов при осуществлении заданной политики («перегибов»), жалоб и доносов населения и разного рода скандалов. Для социального историка это великолепные источники, но они имеют свою внутреннюю тенденцию: данные каналы существовали специально для передачи дурных новостей. Особый следователь, пришедший к выводу, что вся проблема в расследуемом им случае состоит всего лишь в неумелости и неопытности руководства, мог быть заподозрен в соучастии или укрывательстве; о работнике НКВД, взявшем за правило сообщать хорошие новости из деревни (об укреплении морального облика села, улучшении руководства, росте колхозного самосознания), могли сказать, что он ведет неправильную линию в работе. Делом работников органов внутренних дел и особых следователей было откапывать грязь.
Второй альтернативный канал информации представляли собой прошения, жалобы и доносы, посылавшиеся в инстанции отдельными гражданами. В сталинскую эпоху это активно поощрялось, и крестьяне, так же как и городские жители, писали их в огромных количествах, обращаясь во всевозможные инстанции — партийные комитеты, прокуратуру, газеты, правительственные учреждения, НКВД, а также лично политическим лидерам, особенно Сталину и Калинину. Множество таких писем сохранилось в архивах учреждений, куда они были посланы (один такой архивный фонд будет подробно рассмотрен ниже). Эти пока практически не востребованные источники много дадут социальным историкам в будущем.
364
Ниже перечислены основные архивы и архивные фонды, которые я использовала в этой книге. Поскольку в сносках материалы из бывших советских архивов описаны лишь по номерам фондов, описей, дел, листов, я привожу здесь некоторые сведения о содержании и происхождении источника. За исключением Смоленского архива, который находится в США и материалы которого можно получить на микрофильмах Национального архива Соединенных Штатов, а также уральского архива ГАСО, находящегося в Екатеринбурге (бывшем Свердловске), все прочие перечисленные архивы хранятся в Москве.
Смоленский архив
Часть архива Западного обкома партии, трофей времен Второй мировой войны, захваченный сначала немцами, потом американцами. Подробнее о его истории и содержании см.: Getty J.Arch. Guide to Smolensk Archive // A Researcher's Guide... Кроме партийных материалов в архиве находятся материалы, поступавшие в обком из других учреждений, например, донесения НКВД и крестьянские письма с жалобами, пересланные газетами. Среди документов, оказавшихся особенно полезными для моих исследований, — материалы о «перегибах» при проведении коллективизации в 1930 г., донесения НКВД и отчеты инструкторов обкома, посылавшихся в села расследовать жалобы. Следует отметить, что Западная область — не идеальный пример для историка российского крестьянства в целом: для нее характерны малоплодородные почвы, мелкие колхозы, самый большой процент хуторов в России, высокий уровень отходничества и сравнительно незначительные масштабы сельскохозяйственного производства.
РГАСПИ
Российский государственный архив социально-политической информации, бывший РЦХИДНИ (Российский центр хранения и изучения документов новейшей истории), в советские времена — ЦПА (Центральный партийный архив Института марксизма-ленинизма при ЦК КПСС).
Он стал для меня доступен только в самом конце работы над этой книгой, и мое знакомство с его материалами было, по необходимости, беглым. Я просматривала и использовала в книге следующие фонды: Ф. 5. Оп. 4 (Сельскохозяйственный отдел ЦК); Ф. 17 (ЦК КПСС). Оп. 2 (пленумы); Оп. 3 (Политбюро); Оп. 7 (Отдел статистики); Ф. 112 (политотделы МТС); Ф. 78 (личный архив М.И.Калинина); Ф. 77 (личный архив А.А.Жданова); Ф. 89 (личный архив Ем.Ярославского).
ГАСО
Государственный архив Свердловской (ныне Екатеринбургской) области.
Материалы, использованные мной после короткого визита в этот архив, относятся как к открытым, так и к закрытым до недавних пор фондам исполкома Свердловского облсовета (Ф. 88; Ф. 88/р; Ф. 88/52) и к архиву Уральского областного суда (Ф. 1148).
365
ГАРФ
Государственный архив Российской Федерации, бывший ЦГАОР СССР (Центральный государственный архив Октябрьской революции и социалистического строительства СССР).
Для настоящего исследования данный архив не был главным, однако из него использованы следующие фонды: Ф. 374. Оп. 9 (Народный комиссариат рабочей и крестьянской инспекции СССР, сельскохозяйственная инспекция); Ф. 5407 (Союз воинствующих безбожников); Ф. 5451 (Центральный совет профсоюзов); Ф. 5515. Оп. 1 (Народный комиссариат труда; протоколы коллегий); Ф. 3316 (Всесоюзный Центральный исполнительный комитет съезда Советов). Оп. 34, 39 (прошения и жалобы), 41 (письма по поводу Конституции 1936 г.).
РГАЭ
Российский государственный архив экономики, бывший ЦГАНХ (Центральный государственный архив народного хозяйства СССР).
В основном использованы фонды: Ф. 7486 (Народный комиссариат земледелия СССР), в особенности оп. 19 (секретариат); Ф. 396. Оп. 10, И («Крестьянская газета», письма в редакцию 1938 и 1939 гг.). Большая из этих двух описей, оп. 10, содержит около 160 дел с письмами, классифицированными по областям и частично по теме. Использованные мной материалы оп. 10 относятся к следующим областям: Челябинской (Д. 149), Горьковскому краю (Д. 23), Ярославской (Д. 160 — 162), Ивановской (Д. 34), Калининской (Д. 39), Краснодарскому краю (Д. 64 — 67), Курской (Д. 81, 86 — 88), Саратовскому краю (Д. 121), Смоленской (Д. 129), Свердловской (Д. 122), Сталинградской (Д. 137), Тамбовской (Д. 141 — 143), Воронежской (Д. 15, 19) и Татарской республике (Д. 145).
«Крестьянская газета» (РГАЭ. Ф. 396)
Поскольку архив «Крестьянской газеты» явился для данной книги важнейшим источником, он заслуживает большего, чем просто беглое упоминание. В первых девяти описях содержится обширное и богатое собрание крестьянских писем 20-х гг. Письма за весь период 30-х гг., кроме 1938 и 1939, утеряны (а собрание за 1939 г. очень мало, потому что газета была закрыта в начале весны). Подавляющее большинство этих писем, написанных от руки и почти всегда подписанных, — от сельских жителей, главным образом колхозников. Многие авторы составляли и писали свои письма сами, судя по диалектным особенностям языка и грамматическим и орфографическим ошибкам, но меньшая часть (20 — 30%) писем написаны гладко, на правильном русском советском языке. Последние обычно принадлежали колхозным бухгалтерам и учителям, но были некоторые и от рядовых колхозников, возможно, попросивших написать письмо более грамотного односельчанина.
Эти письма не предназначались для публикации, и очень немногие из них действительно были опубликованы. Их посылали, надеясь получить практический результат, в частности информацию о правах и обязанностях колхозников и колхоза, добиться исправления несправедливости с помощью государства, наказания обидчиков. В редакции был целый
366
отдел, в задачи сотрудников которого входило отвечать на вопросы, давать советы, направлять жалобы и доносы в соответствующие инстанции (обкомы и райкомы партии, обл- и райисполкомы, прокуратуру, НКВД) и держать их на контроле, чтобы убедиться, что необходимые меры приняты.
Письма в архиве «Крестьянской газеты» делятся в основном на 2 категории. Первая — это просьбы дать какие-либо сведения, разъяснить соответствующее законодательство; вторая — жалобы и доносы. Письма, где запрашивается информация, преимущественно касаются налогообложения, прав и процедур, связанных с такими вопросами, как приусадебные участки, трудовые повинности, исключение из колхоза, оплата трудодней. Например: может ли колхоз заставить отходника вернуться и принять участие в земледельческом труде в колхозе? Если кузнец вступает в колхоз, обобществляются ли кузница и инструменты? Должно ли единоличное хозяйство, состоящее из двоих престарелых родителей и сына — работника на окладе, платить сельхозналог и местные налоги?
Вопросы по налогообложению, как правило, задавали простые крестьяне. В этой категории есть и другие письма, написанные колхозными председателями и бухгалтерами. Вот эти письма и ответы, данные «Крестьянской газетой» (иногда после консультации с Наркомземом), представляют собой чрезвычайно ценный источник информации о том, как на практике применялись законы, относящиеся к колхозу, и какие существовали общераспространенные способы эти законы обходить.
Ко второй категории писем относятся жалобы и доносы на местную администрацию, колхозных председателей и бригадиров. В архиве «Крестьянской газеты» за 1938—1939 гг. они собраны в отдельное дело под заголовком «Злоупотребление властью и вредительство» и составляют 30 — 40% среди всех писем 1938 г. К сожалению, поскольку письма предыдущих лет в архиве «Крестьянской газеты» отсутствуют, нельзя сказать с достаточной степенью уверенности, что крестьяне были такими же энергичными жалобщиками и доносчиками и до Большого Террора 1937—1938 гг. Но все же подобные письма наверняка не являлись характерными исключительно для 1938 года, хотя раньше, возможно, их было гораздо меньше: в Смоленском архиве, например, содержится ряд писем от крестьян Западной области, направленных «Крестьянской газетой» в обком для проведения расследования и принятия мер в 1935 и 1936 гг. Большинство писем из папки «Злоупотребление властью» написаны простыми (не занимающими административных должностей) крестьянами о крестьянах, занимающих административные должности в колхозе или сельсовете. Наиболее часто жертвой доноса является председатель колхоза.
СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ
ВВСКУ
ви
ГАРФ ГАСО ИКП
ИСК
КГ КолСЗ
КолСК
КолСП
КолЦЧО
КП
КПСС в резолюциях.
КрП
МКрГ
РГАСПИ
РГАЭ
Решения партии и
правительства...
СА
СВ
СГ
СГП
сдк сз
СЗ СССР
Второй Всесоюзный съезд колхозников-ударников. 11 — 17 февраля 1935 г.: Стенографический отчет. М., 1935 Вопросы истории
Государственный архив Российской Федерации Государственный архив Свердловской области История колхозного права: В 2 т. М., 1958-1959
История советского крестьянства: В 5 т. М., 1986
Крестьянская газета
Коллективизация сельского хозяйства в Северо-Западном районе (1927 — 1937 гг.). Л., 1970
Коллективизация сельского хозяйства на Северном Кавказе (1927-1937 гг.). Краснодар, 1972
Коллективизация сельского хозяйства в Среднем Поволжье (1927-1937 гг.). Куйбышев, 1970
Коллективизация сельского хозяйства в Центрально-Черноземной области (1927-1937 гг.). Воронеж, 1978 Комсомольская правда Коммунистическая партия Советского Союза в резолюциях и решениях съездов, конференций и пленумов ЦК (1898-1970): В 15 т. 8-е изд. М., 1970-1984 Крестьянская правда (Ленинград) Московская крестьянская газета Российский государственный архив социально-политической истории Российский государственный архив экономики Решения партии и правительства по хозяйственным вопросам: В 2 т. М., 1967 Смоленский архив Социалистический вестник Советское государство Советское государство и право Справочник деревенского коммуниста. М., 1936 Социалистическое земледелие Собрание законов и распоряжений рабоче-крестьянского правительства СССР (с 1938 г. — Собрание постановлений и распоряжений правительства СССР)
368
Соцстрой — Социалистическое строительство СССР:
Статистический ежегодник. М., 1934, 1935, 1936
Сталин. Сочинения — И.В.Сталин. Сочинения. Т. 1 — 13 (М.);
Т. 1 (14) - 3 (16) (Под ред. Р.Макнила. Стэнфорд)
СУ РСФСР — Собрание узаконений и распоряжений рабо-
чего и крестьянского правительства РСФСР
СЮ — Советская юстиция
SR — Slavic Review
Примечания
Введение
О Культурной Революции, эпизоде «классовой борьбы» с «буржу азной интеллигенцией» в годы первой пятилетки, см.: Cultural Revolu tion in Russia, 1928—1931 / Ed. by S.Fitzpatrick. Bloomington, Ind., 1978.
Термин «подчиненные» и концепцию подчиненности (subalternity) в исследованиях крестьянства ввели д-р Ранаджит Гуха и его коллеги. См.: Selected Subaltern Studies / Ed. by R.Guha, G.C.Spivak. New York, 1988. P. 35 and passim.
Здесь мой подход к вопросу отличается от подхода Джеймса Скот та (Domination and the Arts of Resistance. Hidden Transcripts. New Haven, 1990).
Scott J.C. Weapons of the Weak. Everyday Forms of Peasant Resis tance. New Haven, 1985. См. также: Hoch S.L. Serfdom and Social Control in Russia. Chicago, 1986. Ch. 5; Frederickson G.M., Lasch C. Resistance to Slavery // The Debate over Slavery / Ed. by AJ.Lane. Urbana, 111., 1971. P. 223-244.
См.: Yang A.A. A Conversation of Rumours: The Language of Popu lar Mentalites in 19th-century Colonial India // Journal of Social History. 1987. Spring.
О связи религии и политического протеста в российской деревне см.: Dunn S.P., Dunn E. The Peasants of Central Russia. New York, 1967. P. 104 — 105. Классический труд по проблеме религии и сопротивления государству в России: Cherniavsky M. Old Believers and the New Relig ion // The Structure of Russian History: Interpretive Essays / Ed. by M.Cherniavsky. New York, 1970. P. 140-188.
О «нравственной экономике» см.: Thompson E.P. The Moral Econ omy of the English Crowd in the Eighteenth Century // Past and Present. 1970. Vol. 50. P. 76-136; Scott J.C. The Moral Economy of the Peasant. New Haven, 1976. О том же в приложении к российским условиям см.: Figes О. Peasant Russia, Civil War. The Volga Countryside in Revolution (1917-1921). Oxford, 1989. Ch. 3. Об «ограниченном благе» см.: Fos ter G.M. Peasant Society and the Image of Limited Good // American An thropologist. 1965. Vol. 67. № 2. P. 293-315.
Popkin S.L. The Rational Peasant. The Political Economy of Rural Society in Vietnam. Berkeley, 1979.
О тайных и официальных «протоколах» см.: Scott J.C. Domina tion and the Arts of Resistance. P. 4 —5 and passim.
О большаках см.: Hoch S.L. Serfdom and Social Control in Russia. Chicago, 1986. P. 129-132.
Западные ученые (Lewin M. Russian Peasants and Soviet Power. London, 1968; Shanin T. The Awkward Class. Oxford, 1972) энергично ос паривают советское убеждение, что деревня в 20-х гг. была расколота по классовому признаку. Что касается классов, они несомненно правы, но упускают из виду тот факт, что, вероятно, именно существование силь-
370
ной раздробленности и вражды в деревне привело советских марксистов к убеждению, будто они наблюдают там классовую борьбу.
12. См. недавнюю этнографическую работу в этом духе: Громы ко М.М. Традиционные нормы поведения и формы общения русских крестьян XIX в. М., 1986.
Redfield R. Tepoztlan: A Mexican Village. Chicago, 1930; Lewis О. Tepoztlan Restudied. Urbana, 1951; Lopreato J. Peasants No More. Social Class and Social Change in an Underdeveloped Society. San Francisco, 1967.
Речь на XX съезде партии (1956), см.: The Anti-Stalin Campaign and International Communism. A Selection of Documents. New York, 1956. P. 77.
См.: Field D. Rebels in the Name of the Tsar. Boston, 1976.
Глава 1
Итоги всесоюзной переписи населения 1959 г. СССР. Сводный том. М., 1962 (население территории Российской империи, вошедшей в состав Советского Союза); Всесоюзная перепись населения 17 декабря 1926 г. Краткие сводки. М., 1928. Т. 5. С. XIV, 2-7 (грамотность насе ления в возрасте восьми лет и старше в 1926 г.).
Пландуновский В. Народная перепись. СПб., 1898. С. 339 — 340, Прил. 1; Энциклопедический словарь. СПб.: Брокгауз, Ефрон, 1895. С. 26а. Стб. 693.
Об этническом составе населения России см.: ВИ. 1980. № 6. С. 41-44.
Черноземная полоса, названная так из-за характерной для нее почвы, богатой гумусом, тянется по территории Украины и Европейской России. На юге она ограничена Черным и Каспийским морями, на севе ре — воображаемой линией, соединяющей Киев на Украине, Тулу в Центральной России, Казань на Волге и Пермь на Урале.
См.: Field D. Rebels in the Name of the Tsar; Wildman A.K. The Defining Moment, Land Charters and the Post-Emancipation Agrarian Set tlement in Russia, 1861-1863 // The Carl Beck Papers & East European Studies. 1996. № 1205.
Исторические записки. 1974. Вып. 94. С. 70 — 71.
Декрет о земле 26 октября 1917 г. (ст.ст.) // Решения партии и правительства... Т. 1. С. 15—17.
См.: Данилов В.П. Советская доколхозная деревня: население, землепользование, хозяйство. М., 1977. С. 106—107; История СССР. 1981. № 1. С. 37 — 84 (о судьбе выделившихся крестьян в 1917 г.); Боль шевик. 1927. № 22. С. 46 (о раскулачивании). Сомнение в реальном су ществовании раскулачивания в тот период см.: Shanin T. The Awkward Class. P. 145-152.
О продразверстках и голоде в Поволжье см.: Figes О. Peasant Rus sia, Civil War. P. 267-273.
Поляков Ю.А. Переход к нэпу и советское крестьянство. М., 1967. С. 100; Shanin. The Awkward Class. P. 153-154.
Данные взяты из: Поляков Ю.А. Советская страна после окончания гражданской войны: территория и население. М., 1986. С. 120, 146 — 148; Lorimer F. The Population of the Soviet Union. Geneva, 1946. P. 29-30; Всесоюзная перепись населения 17 декабря 1926 г. Т. 5. С. 2 — 5.
371
Данилов В.П. Советская доколхозная деревня: население... С. 298; Поляков Ю.А. Переход к нэпу... С. 377.
Данилов В.П. Советская доколхозная деревня: население... С. 107, 115, 139-143, 171.
Исторические записки. 1974. Вып. 94. С. 71—72, 110; Отход сельского населения на заработки в СССР в 1926—1927 гг. М., 1929.
Розницкий Н. Лицо деревни по материалам обследования 28 во лостей и 32 730 крестьянских хозяйств Пензенской губернии. М.— Л., 1926. С. 13; Трезвость и культура. 1929. № 19. С. 3.
Davies R.W. The Development of the Soviet Budgetary System. Cambridge, 1958. P. 68, 114 — 115, 117; Ларин Ю. Вопросы крестьянского хозяйства. М., 1923. С. 117 — 118; Феноменов М.Я. Современная дерев ня. Л.-М., 1925. Т. 1. С. 202.
РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 7. Д. 315. Л. 58; Социальный и националь ный состав ВКП(б). Итоги всесоюзной партийной переписи 1927 г. М. — Л., 1928. С. 80, 87, 89.
Atkinson D. The End of the Russian Land Commune, 1905-1930. Stanford, 1983. P. 299-300; Carr E.H. The Foundations of a Planned Economy 1926-1929. London, 1971. Vol. 2. P. 251; Голубых М. Очерки глухой деревни. М.-Л., 1926. С. 10-12; Shanin T. The Awkward Class. P. 194.
Большевик. 1928. № 9. С. 79-80.
Селищев A.M. Язык революционной эпохи. 2-е изд. М., 1928. С. 215; Шафир Я. Газета и деревня. 2-е изд. М., 1924. С. 100-101.
Заметки о деревне (из деревенской практики студентов АКВО) / Под ред. Г.И.Окуловой. М., 1927. С. 34; Большаков A.M. Деревня, 1917-1927. М., 1927. С. 425; Голубых М. Очерки глухой деревни. С. 73.
Большаков A.M. Деревня. С. 423 — 425; Феноменов М.Я. Совре менная деревня. Т. 2. С. 38 — 39, 95 — 96.
Сталин. Сочинения. Т. 7. С. 335, 337. Название «коммунист», официально принятое в 1918 г., в 20-е гг. сплошь и рядом употреблялось наряду с названием «большевик».
Деревня при НЭП'е. Кого считать кулаком, кого — тружеником. Что говорят об этом крестьяне? М., 1924. С. 7. Количественные данные см.: Изменения социальной структуры советского общества, октябрь 1917—1920. М., 1976. С. 226. Два мнения по поводу доли оставшихся кулаков по регионам см.: Большевик. 1927. № 22. С. 40 — 60; 1929. № 12. С. 43.
См.: Сох Т. Peasants, Class and Capitalism. The Rural Research of L.N.Kritsman and his School. Oxford, 1986; Solomon S.G. The Soviet Agrarian Debate. Boulder, Colo., 1977.
Изменения социальной структуры... С. 222 — 227.
Пленум Сибирского Краевого Комитета ВКП(б) 3 — 7 марта 1928 года: Стенографический отчет. М.; Новосибирск, 1928. С. 1, 21.
Более подробное освещение этого вопроса см.: Fitzpatrick S. The Problem of Class Identity in NEP Society // Russia in the Era of NEP / Ed. by S.Fitzpatrick, A.Rabinowitch, R.Stites. Bloomington, 1991. P. 12-33.
Данилов В.П. Советская доколхозная деревня: социальная струк тура, социальные отношения. М., 1979. С. 309 — 321; Carr E.H. The Foundations of a Planned Economy. Vol. 2. P. 278-280.
Коммунист. 1990. № 5. С. 80. См. также: Большаков A.M. Де ревня. С. 426.
372
Деревня при НЭП'е. С. 19, 38-39.
Там же. С. 29-30, 53-54, 75-76 и ел.
См., напр.: Историко-бытовые экспедиции 1949—1950. Материа лы к вопросу расслоения крестьянства и формирования пролетариата в России конца XIX — начала XX века / Под ред. А.М.Панфиловой. М., 1953. С. 158.
Гагарин А. Хозяйство, жизнь и настроение деревни. М. — Л., 1925. С. 41.
Козлов В.А. Культурная революция и крестьянство 1921 — 1927. М., 1983. С. 105.
Декреты советской власти. М., 1957-1959. Т. 1. С. 210-211, 237-239, 247-249, 371-373; Т. 2. С. 553.
Анохина Л.А., Шмелева М.Н. Культура и быт колхозников Ка лининской области. М., 1964. С. 267; Kenez P. The Birth of the Propa ganda State. Cambridge, 1985. P. 173.
Молодая гвардия. 1925. № 8. С. 104; Комсомол в деревне. Очер ки / Под ред. В.Г.Тан-Богораза. М.-Л., 1926. С. 9, 115; Weiss- man N.B. Rural Crime in Tsarist Russia: The Question of Hooliganism, 1905-1914 // SR. 1978. Vol. 37. № 2. P. 228-240; Тан-Богораз В.Г. Ста рый и новый быт. Л., 1924. С. 18.
Декреты советской власти. Т. 2. С. 561; КПСС в резолюциях... Т. 2. С. 469-472; Т. 3. С. 84-85.
См.: Carr E.H. Socialism in One Country. London, 1964. Vol. 1. P. 38-46.
Freeze G.L. The Parish Clergy in 19th Century Russia. Crisis, Re form, Counter-Reform. Princeton, 1983. P. 453; Werth N. La vie quotidi- enne des paysans russes de la revolution a la collectivisation (1917—1939). Paris, 1984. P. 188—189; Гагарин А. Хозяйство, жизнь и настроение де ревни. С. 84.
Школа и учительство Сибири. 20-е — начало 30-х годов. Новоси бирск, 1978. С. 37 — 42; Голубых М. Очерки глухой деревни. С. 53 — 55; Брыкин Н. В новой деревне. Л., 1925. С. 22-23, 100-104.
Емельях Л.И. Крестьяне и церковь накануне Октября. Л., 1976. С. 48-51.
Яковлев Я. Наша деревня. Новое в старом и старое в новом. 3-е изд. М.—Л., 1925. С. 120, 123; Обновленная деревня: Сборник / Под ред. В.Г.Тан-Богораза. Л., 1925. С. 118; Анохина Л.А., Шмелева М.Н. Культура и быт... С. 269; Яковлев Я. Деревня, как она есть. (Очерки Никольской волости). 3-е изд. М., 1924. С. 98; Трезвость и культура. 1929. № 24. 4-я с. обл.
Мурин В.А. Быт и нравы деревенской молодежи. [М.,] 1926. С. 37, 96; Яковлев Я. Деревня, как она есть. С. 97; Hindus M. Red Bread. London, 1931. P. 48-49, 184-185, 195-196.
Яковлев Я. Деревня, как она есть. С. 98; Он же. Наша деревня. С. 120; Розницкий Н. Лицо деревни... С. 115 — 116.
Шафир Я. Газета и деревня. С. 114—115.
Анохина Л.А., Шмелева М.Н. Культура и быт... С. 145; Hin dus М. Red Bread. P. 59 — 60; Очерки быта деревенской молодежи. М., 1924. С. 19-20.
Очерки быта деревенской молодежи. С. 10—12.
Тан-Богораз В.Г. Старый и новый быт. С. 18; Селищев A.M. Язык революционной эпохи. С. 215.
373
Более подробно о кризисе 1927—1929 гг. см.: Lewin M. Russian Peasants and Soviet Power.
Сталин. Сочинения. Т. 11. С. 4-5.
Московские новости. 1987. 12 июля. С. 9. Примеры, имевшие место в Сибири, см. в сообщении Эйхе: За четкую классовую линию: Сборник. Новосибирск, 1929. С. 37-38.
ГАРФ. Ф. 374. Он. 9. Д. 418. Л. 6.
Сталин. Сочинения. Т. 11. С. 4 — 5.
Там же. С. 88.
Народное хозяйство СССР. Статистический справочник 1932. М.-Л., 1932. С. 130-131.
Сто сорок бесед с Молотовым. Из дневника Ф.Чуева. М., 1991. С. 280-281.
О коммунах 20-х гг. см.: Wesson R.G. Soviet Communes. New Bruns wick, 1963. О Чурикове: Воинствующее безбожие в СССР за 15 лет / Под ред. М.Енишерлова и др. М., 1932. С. 149-150; Безбожник. 1929. № 23. С. 14.
СА. ВКП. 261: 5-6; 260: 267; Беднота. 1929. 6 нояб. С. 4.
Davies R.W. The Socialist Offensive. The Collectivization of Soviet Agriculture, 1929-1930. Cambridge, Mass., 1980. P. 112.
Цит. по: Чернопицкий П.Г. На великом переломе. Сельские сове ты Дона в период подготовки и проведения массовой коллективизации (1928-1931 гг.). Ростов н/Д, 1965. С. 91-92, 101.
КолСК. С. 150; История коллективизации сельского хозяйства Урала (1927-1937). Пермь, 1983. С. 73.
Судебная практика. 1931. № 1. С. 12.
СА. ВКП. 260: 31.
Антирелигиозник. 1930. № 2. С. 56; История коллективизации сельского хозяйства Грузинской ССР. Тбилиси, 1970. С. 237; Революция и культура. 1929. № 3. С. 19. Подробнее об этих выборах см.: Carr E.H. The Foundations of a Planned Economy. Vol. 2. P. 274-289.
Кукушкин Ю.С. Сельские советы и классовая борьба в деревне (1921-1932 гг.). М., 1968. С. 225; СА. ВКП. 261: 38-39; Московские новости. 1987. 12 июля. С. 9; Гущин Н.Я. Сибирская деревня на пути к социализму. Новосибирск, 1973. С. 201.
СА. ВКП. 162: 31-32; Беднота. 1929. 10 окт. С. 4; 31 окт. С. 4.
Беднота. 1929. 10 окт. С. 4; Чернопицкий П.Г. На великом переломе. С. 37, 40; Беднота. 1929. 25 окт. С. 4 (см. также: Там же. 30 нояб. С. 4).
Беднота. 1929. 29 окт. С. 4; История коллективизации сельского хозяйства Грузинской ССР. Тбилиси, 1970. С. 237.
История советского крестьянства и колхозного строительства в СССР. М., 1963. С. 319.
СА. ВКП. 261: 32.
Цит. по: Davies R.W. The Socialist Offensive. P. 148.
Ibid. P. 133, 151.
Atkinson D. The End of the Russian Land Commune. Stanford, 1983. P. 356.
Об этой новой стратегии впервые заговорили на конференции колхозников, состоявшейся в июле 1929 г. См.: Atkinson D. The End of the Russian Land Commune. P. 356.
Кукушкин Ю.С. Сельские советы... С. 227 — 228; Вощанов П. «Кулаки» // КП. 1989. 8 сент. См. также: Viola L. The Campaign to
374
Eliminate the Kulak as a Class, Winter 1929-1930: The Reevaluation of the Legislation // SR. 1986. Vol. 45. № 3. P. 503-524.
Цит. по: Davies R.W. The Socialist Offensive. P. 138.
Наша газета. 1929. 4 июля. С. 1. О заговорах, раскрытых ОГПУ, см.: Беднота. 1929. 2 окт. С. 4; 10 окт. С. 4; 15 окт. С. 4; Наша газета. 1929. 12 нояб. С. 4.
Антирелигиозник. 1930. № 2. С. 19-21; Наша газета. 1929. 24 дек. С. 2; ГАРФ. Ф. 5407. Оп. 1. Д. 47. Л. 65, 69.
Превосходная статья Л.Виолы, посвященная этой теме (The Peas ant Nightmare: Visions of Apocalypse in the Soviet Countryside // Journal of Modern History. 1990. Vol. 62. № 4. P. 747-770), появилась уже после того, как был написан этот раздел.
82. Январский объединенный пленум МК и МКК, 6—10 января 1930 г. М., 1930. С. 40; КолСЗ. С. 163; СА. ВКП. 434: 214.
СА. ВКП. 434: 214; КолСЗ. С. 223.
Наша газета. 1928. 31 янв. С. 1.
СА. ВКП. 261: 104.
ГАРФ. Ф. 5407. Оп. 1. Д. 47. Л. 83; КолСК. С. 179.
СА. ВКП. 434: 161.
Колхозник. 1935. № 3. С. 3.
Январский объединенный пленум... С. 40; КолСК. С. 179; Анти религиозник. 1930. № 8-9. С. 26; СА. ВКП. 434: 214.
Глава 2
1. Десятая Уральская областная конференция ВКП(б), бюлл. 2. Свердловск, 1930. С. 18. Цит. по: РГАЭ. Ф. 7446. Оп. 10. Д. 178. Л. 161. Цитата приведена в авторском послесловии к роману Б.Можаева «Мужики и бабы» (Дон. 1987. № 3. С. 104).
2. Рабочий путь (Смоленск). 1930. 29 янв. С. 1. . 3. ГАСО. Ф. 1148. Оп. 148 р/2. Д. 65. Л. 39.
СА. ВКП. 260: 7; Стенографический отчет XV областной партий ной конференции (5 — 15 июня 1930 г.). Казань, 1930. С. 120; Малафе ев А.Н. История ценообразования в СССР (1917-1961 гг.). М., 1964. С. 147 — 149; КолСЗ. С. 174; Шарова П.Н. Коллективизация сельского хозяйства в Центрально-Черноземной области (1928—1932 гг.). Воро неж, 1963. С. 155, 164.
Научный работник. 1930. № 5-6. С. 72.
СА. ВКП. 261: 74; КолСЗ. С. 162.
ЦГАОР. Ф. 5451. Оп. 15. Д. 33. Л. 99.
Цит. по: Чернопицкий П.Г. На великом переломе. С. 156.
ГАСО. Ф. 1148. Оп. 148 р/2. Д. 65. Л. 39. См. также: ЦГАОР. Ф. 374. Оп. 9. Д. 418. Л. 79; КолСК. С. 224.
В Центрально-Черноземную область (ЦЧО) были объединены с 1928 по 1934 г. Воронежская, Курская, Орловская и Тамбовская облас ти.
СА. ВКП. 151: 194; 260: 21; 261: 32-33; Шарова П.Н. Коллек тивизация... С. 153; ЦГАОР. Ф. 374. Оп. 9. Д. 418. Л. 79; ГАСО. Ф. 1148. Оп. 148 р/2. Д. 65. Л. 38; КолЦЧО. С. 131.
СА. ВКП. 261: 32-33, 102; ЦГАОР. Ф. 374. Оп. 9. Д. 418. Л. 78, 79.
ГАСО. Ф. 88/р. Оп. 1а. Д. 57. Л. 28.
375
ГАРФ. Ф. 374. On. 9. Д. 418. Л. 5.
ГАСО. Ф. 1148. Оп. 148 р/2. Д. 65. Л. 38; СА. ВКП. 151: 194; ГАСО. Ф. 1148. Оп. 148 р/2. Д. 65. Л. 39.
ГАСО. Ф. 1148. Оп. 148 р/2. Д. 65. Л. 38; Десятая Уральская областная конференция ВКП(б), бюлл. 6. С. 14—15.
ГАСО. Ф. 1148. Оп. 148 р/2. Д. 65. Л. 37; СА. ВКП. 261: 69.
РГАЭ. Ф. 7486. Оп. 19. Д. 61. Л. 2; ГАСО. Ф. 1148. Оп. 148 р/2. Д. 65. Л. 39.
ГАСО. Ф. 1148. Оп. 148 р/2. Д. 65. Л. 37-38.
Davies R.W. The Socialist Offensive. P. 26, 270; ГАРФ. Ф. 5451. On. 14. Д. 13. Л. 32-36.
Кукушкин Ю.С. Сельские советы... С. 229.
Сталин. Сочинения. Т. 12. С. 166-170; СА. ВКП. 260: 24.
ГАРФ. Ф. 374. Оп. 9. Д. 418. Л. 89.
Тепцов Н.В. ОГПУ против крестьян (Документальная история сталинского геноцида). 1991. Неопубл. рукопись. С. 8, 11; РГАЭ. Ф. 9414. Оп. 1. Д. 1944. Л. 13-14.
История СССР. 1989. № 3. С. 43.
Тепцов Н.В. ОГПУ против крестьян. С. 15.
СА. ВКП. 260: 18, 20; ГАСО. Ф. 1148. Оп. 148 р/2. Д. 65. Л. 37-38; Ф. 88. Оп. 1. Д. 62. Л. 180.
ГАСО. Ф. 88/р. Оп. 1. Д. 54. Л. 196.
Там же. Ф. 88. Оп. 1. Д. 62. Л. 180; Ф. 1148. Оп. 148 р/2. Д. 65. Л. 39.
СА. ВКП. 260: 29.
Там же. 260: 43, 161.
ГАРФ. Ф. 374. Оп. 9. Д. 418. Л. 5. См. также: ГАСО. Ф. 1148. Оп. 148 р/2. Д. 65. Л. 37.
Стенографический отчет XV.областной партийной конференции... С. 130.
СА. ВКП. 260: 10-11, 31, 36-37. Похожие случаи на Урале см.: ГАСО. Ф. 88-р. Оп. 1. Д. 54. Л. 9; Ф. 1148. Оп. 148 р/2. Д. 65. Л. 39.
ГАСО. Ф. 88. Оп. 1. Д. 62. Л. 126.
Одно сообщение из Татарской АССР см.: ГАРФ. Ф. 374. Оп. 9. Д. 418. Л. 78.
КолСЗ. С. 163-164.
СА. ВКП. 260: 30; Стенографический отчет XV областной пар тийной конференции... С. 129, 183, 237; СА. ВКП. 260: 19.
СА. ВКП. 260: 30, 31, 45.
Там же. 260: 12-13, 34, 37.
ГАСО. Ф. 88. Оп. 1. Д. 62. Л. 171, 177; СА. ВКП. 260: 41; ГАСО. Ф. 88/р. Оп. 1а. Д. 57. Л. 30; ГАРФ. Ф. 374. Оп. 9. Д. 418. Л. 63; СА. ВКП. 260: 24-25; 261: 102.
ГАСО. Ф. 88/р. Оп. 1а. Д. 5. Л. 54.
СА. ВКП. 260: 24-25, 42; 261: 73; ГАСО. Ф. 1148. Оп. 148 р/2. Д. 65. Л. 40.
СА. ВКП. 260: 16, 27; ГАСО. Ф. 88/р. Оп. 1а. Д. 57. Л. 53.
Беднота. 1929. 10 нояб. С. 4; ГАРФ. Ф. 5407. Оп. 1. Д. 47. Л. 72, 73.
ГАРФ. Ф. 5407. Оп. 1. Д. 47. Л. 65.
ГАСО. Ф. 88/р. Оп. 1а. Д. 57. Л. 30.
376
ГАРФ. Ф. 5407. On. 1. Д. 47. Л. 76; Д. 49. Л. 16, 36; ГАСО. Ф. 88/р. Оп. 1а. Д. 57. Л. 43.
СА. ВКП. 261: 70-71.
ГАРФ. Ф. 5407. Оп. 1. Д. 44. Л. 83-84; Д. 47. Л. 7-8, 17.
СА. ВКП. 261: 69-70.
Там же. 260: 6, 43; ГАРФ. Ф. 374. Оп. 9. Д. 418. Л. 7.
ГАСО. Ф. 88/р. Оп. 1а. Д. 57. Л. 30; СА. ВКП. 151, 194, 261: 70-71.
ГАСО. Ф. 88/р. Оп. 1а. Д. 57. Л. 43; СА. ВКП. 260: 6.
СА. ВКП. 261: 70-71.
Там же. 151: 194.
Там же. 260: 6, 146; Антирелигиозник. 1930. № 3. С. 125.
СА. ВКП. 261: 70-71; ГАРФ. Ф. 5407. Оп. 1. Д. 44. Л. 84.
«Головокружение от успехов», опубл.: Правда. 1930. 2 марта, см.: Сталин. Сочинения. Т. 12. С. 191 — 199. См. также с. 208 — 209.
Сталин. Сочинения. Т. 12. С. 199. Резолюцию ЦК без даты «Не медленно ликвидировать искривления политики партии» см.: КП. 1930. 15 марта. С. 1.
Цит. по: Тепцов Н.В. ОГПУ против крестьян. С. 20-21.
СА. ВКП. 261: 74; Стенографический отчет XV областной пар тийной конференции... С. 124; ГАРФ. Ф. 374. Оп. 9. Д. 418. Л. 70.
Davies R.W. The Socialist Offensive. P. 442-443.
Стенографический отчет XV областной партийной конференции... С. 198.
Подробное освещение этого вопроса см.: Davies. The Socialist Of fensive. Ch. 6.
Цит. по: Чернопицкий П.Г. На великом переломе. С. 124—125.
Сталин. Сочинения. Т. 12. С. 225; Davies R.W. The Socialist Of fensive. P. 379; Кентавр. 1992. Март-апр. С. 50-55; Conquest R. The Harvest of Sorrow. Oxford, 1986. P. 123.
История СССР. 1960. № 6. С. 23.
Тепцов Н.В. ОГПУ против крестьян. С. 20-21; Шарова П.Н. Коллективизация... С. 155. По недавним оценкам, за первые два с поло виной месяца 1930 г. произошло свыше 2 тыс. случаев крестьянских вол нений, в которых приняли участие ок. 700000 чел.: История СССР. 1989. № 3. С. 44.
Очерки истории астраханской партийной организации. Волгоград, 1971. С. 348; СА. ВКП. 261: 47; 151: 194.
Тепцов Н.В. ОГПУ против крестьян. С. 18; СА. ВКП. 261: 70; КолСЗ. С. 162. См. также: Viola L. Bab'i Bunty and Peasant Women's Protest During Collectivization // Russian Review. 1986. Vol. 45. № 1. P. 23-42.
Антирелигиозник. 1930. № 8-9. С. 24; СА. ВКП. 261: 71-72; ГАРФ. Ф. 374. Оп. 9. Д. 418. Л. 79.
Шарова П.Н. Коллективизация... С. 156; Наша газета. 1929. 17 дек. С. 2; 21 дек. С. 4; КолСК. С. 225-226; The Village of Viriatino. An Ethnographic Study of a Russian Village from Before the Revolution to the Present / Trans, and ed. S.Benet. New York, 1970. P. 180.
РГАЭ. Ф. 7486. On. 19. Д. 61. Л. 5.
Grigorenko P.G. Memoirs. New York, 1982. P. 39.
ГАСО. Ф. 88/p. On. la. Д. 57. Л. 60; Гущин Н.Я. Сибирская деревня на пути к социализму. Новосибирск, 1973. С. 293 — 294; Шаро ва П.Н. Коллективизация... С. 166.
377
СА. ВКП. 261: 71; ГАСО. Ф. 88/р. Оп. 1а. Д. 57. Л. 53. Отно сительно слуха о Варфоломеевской ночи сделано примечание, что, судя по этой исторической ссылке, «в агитации кулакам помогает кое-кто из городской буржуазии».
СА. ВКП. 261: 71; 151: 194; Воинствующее безбожие. С. 135.
СА. ВКП. 261: 16, 71; КолСК. С. 283; ГАСО. Ф. 88/р. On. la. Д. 57. Л. 59-60.
ГАРФ. Ф. 5407. Оп. 1. Д. 44. Л. 93.
Январский объединенный пленум... С. 40; Народное просвеще ние. 1930. № 7-8. С. 8; Антирелигиозник. 1930. № 8-9. С. 26. См. также выше, с. 65 — 66.
Антирелигиозник. 1930. № 4. С. 97; W.H.Chamberlin. Russia's Iron Age. London, 1935. P. 79; СА. ВКП. 434: 214; 151: 194.
СА. ВКП. 261: 80; 434: 163.
Там же. 261: 101.
Там же. 261: 79, 102.
Там же. 261: 94-95.
См.: Sen A. Poverty and Famines. Oxford, 1981; Arnold D. Fam ine. Social Crisis and Historical Change. Oxford, 1988.
Количественные оценки последствий голода — вопрос сложный, и у нас не будет достоверных цифр, пока демографы не разберутся с но выми данными, вышедшими на свет, после того как были открыты совет ские архивы. По данным недавних советских работ, основанных на ар хивных материалах, число погибших в 1933 г. находится в пределах 3 — 4 млн чел. (см. работы В.В.Цаплина (ВИ. [1989]. № 4. С. 175-181) и Е.А.Осокиной (История СССР. [1981]. № 5. С. 18-26)), но это, конеч но, еще не последнее слово по этой проблеме. В общем и целом призна но, что наибольшие потери понесла Украина, затем Казахстан, Северный Кавказ, Среднее и Нижнее Поволжье и Центрально-Черноземная об ласть. Однако подробный демографический анализ последствий голода по регионам остается делом будущего.
Хороший пример процесса блокирования информации — дело Те рехова, партийного секретаря на Украине, наказанного за неудачную по пытку рассказать Сталину о царящем там голоде. См. рассказ об этом: Commission on the Ukraine Famine. Report to Congress. Washington, 1988. Vol. 1. P. XV. Похожую историю, рассказанную Шеболдаевым, ру ководителем партийной организации Северного Кавказа, см.: Молот. 1934. 23 янв. С. 2.
Цит. по: Davies R.W. The Socialist Offensive. P. 300; История СССР. 1989. № 2. С. 15. Подобные замечания на Северном Кавказе см.: Молот (Ростов н/Д). 1933. 28 марта. С. 2.
Shimotomai N. A Note on the Kuban Affair (1932-1933). The Cri sis of Kolkhoz Agriculture in the North Caucasus // Acta Slavica Iaponica. 1983. Vol. I. P. 40-41.
ИСК. Т. 2. С. 428-429 (прим. 147).
История СССР. 1960. № 6. С. 27.
Гущин Н.Я. Сибирская деревня на пути к социализму. С. 443; СЮ. 1933. № 16. С. 6; СГ. 1933. № 5. С. 35-36.
СЮ. 1932. № 25-26. С. 7; РГАСПИ. Ф. 112. Оп. 26. Д. 21. Л. 56, 154.
Сталин. Сочинения. Т. 13. С. 392 (прим. 61); СЗ СССР. 1932. № 62. Ст. 360.
378
СЮ. 1935. № 28. С. 8; 1934. № 13. С. 6-7; 1935. № 19. С. 12; СГ. 1933. № 5. С. 33.
История СССР. 1989. № 2. С. 15 (похожее донесение ОГПУ За падной обл. см.: СА. ВКП. 166: 797); РГАЭ. Ф. 7486. Оп. 19. Д. 229. Л. 130; Молот. 1933. 12 марта. С. 1; ВИ. 1991. № 6. С. 180.
История СССР. 1989. № 2. С. 14. Следует заметить, что, забрав осенью семенное зерно, государство вынуждено было весной возвращать его (в виде «семенных ссуд»).
СЗ. 1932. 12 нояб. С. 4; 16 нояб. С. 4; 28 нояб. С. 1; 17 дек. С. 4.
Сталин. Сочинения. Т. 13. С. 196, 247.
Молот. 1933. 10 марта. С. 1; История СССР. 1960. № 6. С. 27; 1989. № 3. С. 46. Курсив мой; РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 120. Д. 106. Л. 17.
Цит. по: Правда. 1963. 10 марта. С. 2.
Известия. 1933. 22 июня. С. 3.
СА. ВКП. 166: 327; Коммунист. 1990. № 1. С. 100.
В магазинах Торгсина начала 30-х гг., предшественниках валют ных магазинов, дефицитные товары продавались только за золото, сереб ро и иностранную валюту.
Кондрашин В.В. Голод 1932 — 1933 годов в деревнях Повол жья // ВИ. 1991. № 6. С. 180.
Подробнее см.: Shimotomai N. Springtime for the Politotdel: Local Party Organization in Crisis // Acta Slavica Iaponica. 1986. Vol. IV. P. 1-34.
О «черной доске» см.: Рабочий (Минск). 1933. 5 янв. С. 1; Молот. 1933. 14 марта. С. 1; 6 мая. С. 2. О коллективных высылках см.: Молот. 1933. 28 марта. С. 1; История СССР. 1989. № 2. С. 11; Shimo tomai N. A Note on the Kuban Affair. P. 47-48.
НО. РГАЭ. Ф. 7486. On. 19. Д. 229. Л. 131.
Слова Сталина процитированы Кагановичем, см.: Большевик. 1933. № 1-2. С. 17. См. также: Сталин. Сочинения. Т. 13. С. 207-208, 229-230.
Большевик. 1933. № 1-2. С. 18; Сталин. Сочинения. Т. 13. С. 226 — 228; Мошков Ю.А. Зерновая проблема в годы сплошной коллек тивизации сельского хозяйства СССР (1929-1932). М., 1966. С. 217.
Бюллетень объединенной V областной и III городской Ленин градской конференции ВКП(б). Л., 1934. № 5. С. 32-33.
РГАСПИ. Ф. 112. Оп. 26. Д. 21. Л. 254-255. В ЦЧО в 1933 г. было 15800 колхозов (Соцстрой. 1935. С. 318-319).
См.: Гущин Н.Я. Сибирская деревня на пути к социализму. С. 441; ГАСО. Ф. 88. Оп. 1. Д. 64. Л. 27, 29.
СА. ВКП. 178: 134-135. Курсив мой.
Там же. 178: 134.
Там же. 178: 135.
Эта цифра совершенно очевидно не включает тех, кто находился в исправительно-трудовых лагерях. В начале 1933 г. их было 334 300 чел., год спустя — 510307 чел.: Аргументы и факты. 1989. № 45. С. 6; Социологические исследования. 1991. № 6. С. 11.
СА. ВКП. 178: 135, 138.
Глава 3
1. Вдовин А.И., Дробижев В.З. Рост рабочего класса СССР 1917 — 1940 гг. М., 1976. С. 127; Труд в СССР: Статистический справочник. М., 1936. С. 7; Соцстрой. 1934. С. 356-357.
379
Подробнее об этом явлении и его количественных характеристиках см.: Fitzpatrick S. The Great Departure: Rural-Urban Migration, 1929 — 1933 // Social Dimensions of Soviet Industrialization / Ed. by W.G.Rosen berg, L.Siegelbaum. Bloomington, 1992. P. 15-40.
Исторические записки. 1974. Вып. 94. С. 63.
Народное хозяйство СССР. С. 130; Социалистическое строительст во Союза ССР (1933-1938 гг.): Статистический сборник. М.-Л., 1939. С. 85.
См.: Lopreato J. Peasants No More.
КрП. 1937. 2 сент. С. 2 (замечание местного чиновника, с возму щением процитированное колхозником).
Тепцов Н.В. ОГПУ против крестьян. С. 8; Davies R.W. The Social ist Offensive. P. 247-251.
Документы свидетельствуют. М., 1989. С. 330.
Цифры приведены Даниловым (SR. 1991. Vol. 50. № 1. Р. 152) и Ивницким (История СССР. 1989. Кя 3. С. 44).
Ивницкий Н.А. Классовая борьба в деревне и ликвидация кула чества как класса (1929 — 1932 гг.). М., 1972. С. 326. Беллетризованный рассказ о дискуссии по поводу переселения промышленного и аграрного см.: Скромный Н. Перелом // Север. 1986. № 10. С. 52-64. О кула ках — рабочих на производстве см.: Scott J. Behind the Urals. Bloom ington, 1973. P. 29-30, 85; Littlepage J.D. In Search of Soviet Gold. New York, 1938. P. 80.
Твардовский И. Страницы пережитого // Юность. 1988. № 3. С. 10 — 30. См. также: Скромный Н. Перелом — и публикации А.Джапа- кова (Труд. 1990. 10 янв.) и П.Вощанова (КП. 1989. 8 сент.).
Об источниках этих цифр см. выше, прим. 9.
СА. ВКП. 416: 64; 151: 561; 416: 74; 260: 27.
Там же. 260: 25; КолСК. С. 274; СА. ВКП. 416: 180; Труд. 1933. 14 июля. С. 4.
Алексеев М. Хлеб — имя существительное // Алексеев М. Вишне вый омут. Карюха. Хлеб — имя существительное. М., 1981. С. 435, 436, 443.
ГАРФ. Ф. 5515. Оп. 1. Д. 224. Л. 112-113; Итоги выполнения первого пятилетнего плана развития народного хозяйства СССР. М., 1933. С. 174.
Труд в СССР: Статистический справочник. М., 1936. С. 8; Сес сия ЦИК Союза ССР 6 созыва: Стенографический отчет и постановления 22-28 декабря 1931 г. М., 1931. Бюлл. 17. С. 9; Соцстрой. 1935. С. 474 — 475; Вдовин А.И., Дробижев В.З. Рост рабочего класса СССР. С. 109; Итоги выполнения... С. 174.
Были индустриальные. М., 1973. С. 280.
Герасимов Е. Путешествие в Спас-на-Песках // Новый мир. 1967. № 12. С. 63-64.
Молодой колхозник. 1935. № 1. Без пагинации.
Алексеев М. Хлеб — имя существительное. С. 440 — 441.
The Black Deeds of the Kremlin. A White Book. Vol. 2. The Great Famine in the Ukraine in 1931-1933. Detroit, 1955. P. 455-456; CB. 1932. № 10-11. С 23.
РГАСПИ. Ф. 78. On. 1. Д. 456. Л. 54; C3. 1937. 11 сент. С. З.
История СССР. 1989. № 2. С. 3; VIII казахстанская краевая кон ференция ВКП(б) 8—16 января 1934 г.: Стенографический отчет. Алма-
380
Ата, 1935. С. 46, 159, 226-229, 235. См. также: Шестой пленум Казахского Краевого Комитета ВКП(б). 10—16 июля 1933 г.: Стенографический отчет. Алма-Ата, 1936. С. 149, 260.
Литературная газета. 1988. № 15. С. 10. О бегстве в Донбасс см. также: Commission on the Ukraine Famine. Vol. 1. P. 242, 253.
Молот. 1934. 23 янв. С. 2; VIII казахстанская краевая конферен ция... С. 159.
Алексеев М. Драчуны. М., 1982. С. 258-263, 273-274, 290.
Труд в СССР. С. 7; The Black Deeds of the Kremlin. P. 465-466.
Зеленин И.Е. Зерновые совхозы СССР (1933-1941 гг.). М., 1966. С. 42; Он же. Совхозы СССР в годы довоенных пятилеток 1928 — 1941. М., 1982. С. 48, 104.
Зеленин И.Е. Совхозы СССР... С. 203, 207-208, 215. В 1932 г. постоянные работники совхозов (включая служащих, технический и ад министративный персонал) получали в среднем 68 руб. в месяц, а вре менные — 52 руб. В 1935 г. эти цифры составляли соответственно 119 руб. и 84 руб. Стоит сравнить со средним заработком шахтеров на угольных шахтах в 1935 г. - 213 руб.: Труд в СССР. С. 110, 270.
Narkiewicz О.A. The Making of the Soviet State Apparatus. Man chester, 1970. P. 109-110.
Исторические записки. 1974. Вып. 94. С. 112; ГАРФ. Ф. 5515. Оп. 13. Д. 14. Л. 122-123, 163; Оп. 1. Д. 146. Л. И, 102.
ГАРФ. Ф. 5515. Оп. 1. Д. 235. Л. 24. Более подробно об этом см.: Fitzpatrick S. The Great Departure.
ГАРФ. Ф. 5515. On. 1. Д. 235. Л. 22-23.
Подробное описание этих конфликтов см.: Панфилова A.M. Фор мирование рабочего класса СССР в годы первой пятилетки. М., 1964.
Сталин. Сочинения. Т. 13. С. 53.
Schwarz S.M. Labor in the Soviet Union. New York, 1951. P. 56-57.
Малафеев А.Н. История ценообразования в СССР. М., 1964. С. 138.
СЗ СССР. 1932. № 78. Ст. 475; Труд. 1932. 5 дек. С. 1; 1933. 6 янв. С. 2; 9 янв. С. 1.
СЗ СССР. 1932. № 84. Ст. 516, 517. См. также: Там же. 1933. № 11. Ст. 60, 61; № 46. Ст. 273. Исключение из правил было сделано для крестьян, проживающих в пределах 100 км вокруг Москвы и Ленин града и в пограничных зонах, — им выдавались паспорта (см.: КрП. 1935. 23 мая. С. 4).
Третья сессия ЦИК Союза ССР VI созыва: Стенографический отчет. 23-30 января 1933 г. М., 1933. Бюлл. 24. С. 6-8.
Труд. 1932. 17 нояб. С. 1; Shimotomai N. Springtime for the Poli- totdel.
Правда. 1932. 28 дек. С. 1.
История СССР. 1989. № 3. С. 46.
СЗ СССР. 1932. Ne 78. Ст. 475.
Труд. 1932. 29 дек. С. 2; Правда. 1932. 28 дек. С. 1.
Труд. 1933. 2 янв. С. 2.
The New York Times. 1933. 22 Jan. P. 15; 5 Feb. P. 1.
CB. 1933. № 3. С 16; № 8. С. 16.
VII съезд коммунистической организации Закавказья: Стеногра фический отчет. Тифлис, 1934. С. 159—160. Примеры из других городов
381
см.: История индустриализации Нижегородского — Горьковского края (1926-1941 гг.). Горький, 1968. С. 276; Труд. 1933. 6 янв. С. 2.
The Black Deeds of the Kremlin. P. 466; Молодой коммунист. 1988. № 4. С. 85.
Молот. 1933. 20 марта. С. 2.
См. с. 133-134, 144-145, 190-192.
ГАРФ. Ф. 3316. Оп. 41. Д. 107. Л. 61; Д. 81. Л. 49.
Изменения социальной структуры советского общества 1921 — се редина 30-х годов. М., 1979. С. 194, 196; Сонин М.Я. Воспроизводство рабочей силы в СССР и баланс труда. М., 1959. С. 143.
Сталин. Сочинения. Т. 1 (14). С. 362-363; СЗ. 1939. 30 марта. С. 3.
ВИ. 1973. № 2. С. 24.
Там же; Сонин М.Я. Воспроизводство рабочей силы... С. 182.
ИКП. Т. 2. С. 46-48; СЗ СССР. 1939. № 49. Ст. 397.
Helgeson А. С. Soviet Internal Migration and its Regulation since Stalin: The Controlled and the Uncontrollable. Ph. D. diss. Berkeley, 1978. P. 167.
61. История индустриализации Центрально-Черноземного района (1933-1941 гг.). Курск, 1972. С. 2, 282-283, 288-289. См. также: Ин дустриализация СССР 1933—1937 гг. Документы и материалы. М., 1971. С. 282-283, 288-289, 414, 445-446, 489-490.
В 1937 г. в Донбассе около 30% новых рабочих на шахтах и 40% — на металлургических заводах были наняты по оргнабору вербов щиками с предприятий: История рабочих Донбасса. Киев, 1981. Т. 1. С. 248 — 249. О вербовке на шахты Донбасса в 1870-е и 1880-е гг. см.: Историко-бытовые экспедиции 1951—1953. Материалы по истории про летариата и крестьянства России конца XIX — начала XX века / Под ред. А.М.Панкратовой. М., 1955. С. 71.
Индустриализация СССР. С. 486-490.
Там же. С. 486-487; ГАРФ. Ф. 5515. Оп. 1. Д. 235. Л. 22.
65. История индустриализации Центрально-Черноземного района. С. 445—446; Рабочие северо-запада РСФСР в период строительства со циализма. Л., 1979. С. 12-13.
Коммунист. 1990. № 1. С. 98. См. также: Zaslavsky V., Luryi Yu. The Passport System in the USSR and Changes in Soviet Society // Soviet Union/Union sovietique. 1979. Vol. 6. Pt. 2. P. 141.
Zaslavsky V., Luryi Yu. The Passport System... P. 141.
68. Первый Всесоюзный съезд колхозников-ударников передовых колхозов, 15—19 февраля 1933 г.: Стенографический отчет. М.—Л., 1933. С. 113. Об этом явлении см. также: Борисов Ю.С. Подготовка про изводственных кадров сельского хозяйства СССР в реконструктивный период. М., 1960. С. 275; Формирование и развитие советского рабочего класса (1917-1961 гг.). М., 1964. С. 111.
См. с. 258-260.
ГАРФ. Ф. 3316. Оп. 41. Д. 107. Л. 69-70; РГАЭ. Ф. 396. Оп. 10. Д. 15. Л. 19; Д. 23. Л. 4.
ГАРФ. Ф. 3316. Оп. 41. Д. 107. Л. 61.
Коммуна (Воронеж). 1937. 3 февр. С. 3.
Там же.
Письма из деревни. Год 1937-й // Коммунист. 1990. № 1. С. 98.
Там же. С. 101-102.
382
Глава 4
Я рассматриваю земли села и общины после 1917 г. как эквива лентные, хотя это непременно влечет за собой некоторое упрощение. В 1917 г. на территории РСФСР было около 110000 сельских обществ (общин). В 20-е гг. официально регистрируемой единицей стало земель ное общество. К этой категории относились крестьянские общины (неко торые из них, с подачи советских органов, ведавших земельными вопро сами, были разделены на две или три части), а также более мелкие зем лепользователи. Число зарегистрированных земельных обществ в РСФСР в 1928 г. составляло 319000, число коллективных хозяйств на той же территории в 1940 г. — 167000. Данные взяты из: Данилов В.П. Советская доколхозная деревня: население... С. 97; Арутюнян Ю.В. Со ветское крестьянство в годы Великой Отечественной войны. М., 1963. С. 386.
Строго говоря, речь идет о земельном обществе — двойнике общи ны в советском законодательстве. Это оно было упразднено указом пра вительства РСФСР в июле 1930 г.: ИКП. Т. 1. С. 306-307.
См. ч. 1 Устава сельскохозяйственной артели 1935 г. (Решения партии и правительства... Т. 2. С. 519), где население колхоза определя ется как «трудящиеся крестьяне села (станицы, деревни, хутора, кишла ка, аула) ... района».
См.: Davies R.W. The Soviet Collective Farm, 1929-1930. Cam bridge, Mass., 1980. P. 34-55.
РГАЭ. Ф. 7486. On. 19. Д. 61. Л. 6.
CA. ВКП. 151: 193-194/
РГАЭ. Ф. 7486. On. 19. Д. 61. Л. 7; CA. ВКП. 151: 115-116.
Социалистическое землеустройство. 1933. № 1. С. 1; Jsfe 25. С. 3; СДК. С. 453.
ВВСКУ. С. 226. О формулировках в Уставе 1930 г. см.: ИКП. Т. 1. С. 172.
Изменения социальной структуры советского общества. С. 243.
Бочков Н.В., Першин П.Н., Снегирев М.А., Шарапов В.Ф. Ис тория земельных отношений и землеустройства. М., 1956. С. 172—173, 190.
Ленинский путь (Великие Луки). 1933. 2 июля. С. 3. См. также: Коммуна. 1933. 17 июля. С. 3; КолСП. С. 560.
См. ч. 2 Уставов 1930 и 1935 гг.: ИКП. Т. 1. С. 173; Решения партии и правительства... Т. 2. С. 519.
14. Вылцан М.А. Завершающий этап создания колхозного строя (1935-1937 гг.). М., 1978. С. 46; КрП. 1936. 4 окт. С. 1.
РГАЭ. Ф. 7486. Он. 19. Д. 257. Л. 58.
Там же. Л. 220-221; Д. 259. Л. 166. См. также: Д. 229. Л. 223- 224; Д. 257. Л. 21, 55.
Неизвестная Россия XX века. Архивы. Письма. Мемуары. Т. 2. М., 1992. С. 276.
СЗ СССР. 1937. № 16. Ст. 49-58; Гущин Н.Я. Сибирская дерев ня на пути к социализму. С. 366.
Материалы первого всесоюзного съезда колхозников-ударников передовых колхозов. 15-19 февраля 1933 г. М., 1933. С. 113.
СЗ СССР. 1935. № 65. Ст. 520; СА. ВКП. 390: 348, 352-359, 368-369; Правда. 1936. 16 мая. С. 3.
383
Гущин Н.Я., Кошелева Е.В., Чарушин В.Г. Крестьянство Запад ной Сибири в довоенные годы (1935—1941). Новосибирск, 1975. С. 17.
Социалистическое землеустройство. 1935. № 1 — 2. С. 4; РГАЭ. Ф. 7486. Оп. 19. Д. 257. Л. 166 и ел.; История СССР. 1989. № 3. С. 52.
ИКП. Т. 1. С. 458-460; Бочков Н.В. и др. История земельных отношений и землеустройства. С. 211-212; РГАЭ. Ф. 7486. Оп. 19. Д. 412. Л. 42; Социалистическое землеустройство. 1935. № 6 — 7. С. 2.
КрП. 1935. 15 апр. С. 3; Рабочий путь. 1937. 5 сент. С. 3; 8 сент. С. 4.
Рабочий путь. 1937. 5 авг. С. 1. О процессах см. с. 336 — 337.
26. Вылцан М.А. Завершающий этап создания колхозного строя. С. 63.
Подробную аргументацию см.: Fitzpatrick S. Ascribing Class: The Construction of Social Identity in Soviet Russia // Journal of Modern His tory. 1993. Vol. 65. № 4. P. 745-770.
См., напр.: На путях к новой школе. 1930. № 2. С. 76; ГАРФ. Ф. 5451. Оп. 14. Д. 11. Л. 183; КрП. 1935. 27 февр. С. 2.
Разъяснение этих вопросов см.: РГАЭ. Ф. 396. Оп. 10. Д. 39. Л. 466, 492; Оп. И. Д. 44. Л. 74, 76.
ГАРФ. Ф. 5515. Оп. 1. Д. 235. Л. 28; СЮ. 1937. № 12. С. 22.
СА. ВКП. 390: 339-340, 342.
Решения партии и правительства... Т. 2. С. 520. Заметим, что в проекте Устава, представленном Второму съезду колхозников-ударников, приусадебным участком определенных размеров наделялся не двор, а от дельный колхозник. Несколько депутатов выступили, критикуя непрак тичность такого подхода: Второй Всесоюзный съезд колхозников-ударни ков. С. 69.
СЮ. 1937. № 20. С. 14.
РГАЭ. Ф. 7386. Оп. 19. Д. 410. Л. 2.
СГП. 1939. № 4. С. 54-55.
См. с. 130-132, 236-237.
Молот. 1933. 4 апр. С. 2.
Решения партии и правительства... Т. 2. С. 524; СЗ. 1937. 14 нояб. С. 3.
Решения партии и правительства... Т. 2. С. 524; РГАЭ. Ф. 396. Оп. 10. Д. 39. С. 492.
РГАЭ. Ф. 396. Оп. 11. Д. 44. Л. 76.
КолСК. С. 567; Яковлев Я.А. Вопросы организации социалисти ческого сельского хозяйства. М., 1933. С. 47 — 48. Жалобу отходника, которому колхоз отказался выдать хлеб на заработанные 130 трудодней, см.: СЗ. 1932. 16 нояб. С. 3.
СДК. С. 168-169; Правда. 1935. 12 июля. С. 4.
Коммуна. 1937. 2 сент. С. 3.
КПСС в резолюциях... Т. 5. С. 315; РГАЭ. Ф. 396. Оп. 10. Д. 34. Л. 326; Д. 137. Л. 50-54.
См. с. 225-226.
СГП. 1940. № 2. С. 29; Решения партии и правительства... Т. 2. С. 650-652; КПСС в резолюциях... Т. 5. С. 398-404.
См. гл. И.
СА. ВКП. 178: 60.
РГАЭ. Ф. 7486. Оп. 19. Д. 257. Л. 184-188; Курская правда. 1937. 2 окт. С. 1; 16 окт. С. 4.
384
Красный Крым (Симферополь). 1937. 2 авг. С. 2; КрП. 1937. 20 окт. С. 3.
Об организации съезда см.: Вылцан М.А. Завершающий этап со здания колхозного строя. С. 25, 28; СЗ. 1935. 31 янв. С. 1. Заметим, что весь процесс был чрезвычайно ускорен: от распоряжения Политбюро провести съезд (в соответствии с инструкциями ноябрьского пленума ЦК) до дня открытия съезда прошел всего один месяц, и задействован ным в подготовке съезда партийным руководителям наверняка чрезвы чайно мешал кризис, разразившийся в результате убийства С.М.Кирова в декабре. Подробное описание процесса выборов делегатов на съезд см.: КрП. 1935. 3 февр. С. 4.
Полный список участников и стенографический отчет о работе съезда см.: ВВСКУ. Яков Аркадьевич Яковлев (наст. фам. Эпштейн, 1896—1938) — интересная и довольно противоречивая фигура в полити ке 20-х и 30-х гг., личность, которая еще ждет своего биографа. Работая в 20-е гг. в аппарате ЦК, Яковлев написал два ценных социологических исследования послереволюционной российской деревни: «Деревня, как она есть» (1923) и «Наша деревня» (1924). Он стал наркомом земледе лия и председателемм Колхозцентра в 1929 г. и занимал первую из этих должностей до 1934 г., т.е. непосредственно ведал сельским хозяйством в период худших перегибов коллективизации. Однако его письменные ра боты и речи по крестьянскому вопросу отмечены прагматизмом и здра вым смыслом. Кроме того, Яковлева, как главного редактора «Крестьян ской газеты», следовало благодарить, по крайней мере отчасти, за необы чайную отзывчивость этой газеты к нуждам крестьян (выражавшуюся больше не в публикациях, а в обращении с крестьянскими жалобами (см. с. 366 — 367)). Зачастую он действовал за кулисами в защиту жертв не справедливости и произвола властей. Биографические данные см.: Боль шая советская энциклопедия. 1-е изд. М., 1931. Т. 65. С. 463; 3-е изд. М., 1978. Т. 30. С. 486; Деятели СССР и революционного движения Рос сии. Энциклопедический словарь «Гранат». М., 1989. Т. 2. С. 276 — 278; ВИ. 1975. № 5. С. 213-220; Medvedev Zh. Soviet Agriculture. New York, 1987. P. 115.
ВВСКУ. С 186—187; Вылцан М.А. Завершающий этап создания колхозного строя. С. 25; КГ. 1933. 4 февр. С. 4.
ВВСКУ. С. 185—187; Первый Всесоюзный съезд колхозников- ударников... С. 317.
Об этих наказах, сводившихся по сути к проблемам налогообло жения и надлежащего разрешения таких вопросов, как отходничество и включение в колхозы хуторян, см.: КрП. 1935. 3 февр. С. 4; 5 февр. С. 3. Выступления женщин-председателей см.: ВВСКУ. С. 49, 182.
Биографические сведения о делегатах Первого съезда см.: Пер вый Всесоюзный съезд колхозников-ударников... С. 166, 205, 256; Извес тия. 1933. 17 февр. С. 2. О вдовах, поддерживавших колхозы в нечерно земной полосе, см.: Анохина Л.А., Шмелева М.Н. Культура и быт... С. 32, 273; Герасимов Е. Путешествие в Спас-на-Песках.
Из «литературного портрета» Корчевского, сделанного Н.Асее вым (Известия. 1935. 17 февр. С. 5). Это был один из серии портретов, принадлежащих перу известных писателей, командированных газетой на съезд. О других ветеранах см.: ВВСКУ. С. 73 — 74, 213.
Известия. 1935. 17 февр. С. 5 (портрет Солодова, принадлежа щий перу В.Лидина); 12 февр. С. 1; ВВСКУ. С. 198 (Шестопалов).
Известия. 1935. 17 февр. С. 1.
385
Об Ангелиной см.: Большая советская энциклопедия. 2-е изд. Т. 2. С. 383; ВВСКУ. С. 102. О Кульбе: ВВСКУ. С. 197. О других жен щинах-делегатах см. ниже, с. 213, а также: ВВСКУ. С. 124, 215.
ВВСКУ. С. 48, 69.
Там же. С. 93, 102, 118, 194, 213.
Там же. С. 75-76.
КрП. 1935. 28 февр. С. 2.
Там же. 27 февр. С. 2.
ВВСКУ. С. 227; СДК. С. 159-160; Правда. 1935. 13 марта.
Сталин. Сочинения. Т. 1 (14). С. 53-54.
Там же. Т. 13. С. 252-253; Massell G. The Surrogate Proletariat. Moslem Women and Revolutionary Strategy in Soviet Central Asia, 1919 — 1929. Princeton, 1974.
КрП. 1935. 27 февр. С. 2.
ВВСКУ. С. 230.
Там же. С. 49.
Там же. С. 19.
Там же. С. 81-82, 130, 177, 213. См. также: Там же. С. 60.
СДК. С. 167 (курсив мой).
ВВСКУ. С. 19-20, 44, 76, 120, 162.
КрП. 1935. 28 февр. С. 2.
ВВСКУ. С. 17-18.
Там же. С. 48, 68, 130, 176, 215.
Там же. С. 85.
Там же. С. 228, 230.
КрП. 1935. 28 февр. С. 2.
Его полное название — «Примерный устав сельскохозяйственной артели, принятый II Всесоюзным съездом колхозников-ударников и ут вержденный Советом Народных Комиссаров Союза ССР и Центральным Комитетом ВКП(б)». Текст см.: Решения партии и правительства... Т. 2. С. 519-529.
Термин «колхозный нэп» впервые был использован Сергеем Мас- ловым (Колхозная Россия. Прага, 1937. Гл. 8).
Глава 5
Сталин. Сочинения. Т. 14. С. 108.
Хороший пример тому содержится в рассказе Можаева, написан ном от первого лица: Можаев Б. История села Берхова, писанная Пет ром Афанасьевичем Булкиным // Можаев Б. Надо ли вспоминать старое? М., 1988.
См., напр.: СА. ВКП. 261: 80, 101; 434; 164.
О крестьянах этого типа см. доклад партийного работника из Рос товской области на закрытом заседании ЦК в мае 1939 г.: РГАСПИ. Ф. 5. Оп. 4. Д. 18. Л. 5-6.
Данное положение в значительной степени обязано своим появле нием замечаниям Стивена Хока по первому варианту рукописи.
О дискуссии по поводу трех основных форм коллективного хозяй ства, существовавших в 20-е гт. (ТОЗ, артель, коммуна), см.: M.Lewin. Russian Peasants and Soviet Power. P. 109—112.
386
7. Сталин. Сочинения. Т. 1 (14). С. 53-54; СДК. С. 159. О двойст венной сущности колхозника см.: The Soviet Rural Community / Ed. by J.R.Millar. Urbana, 1971. P. 54-56.
8. Вылцан М.А. Завершающий этап создания колхозного строя. С. 200, 202, 208.
9. Решения партии и правительства... Т. 2. С. 388 — 389.
Вылцан М.А. Завершающий этап создания колхозного строя. С. 203— 204; Гущин Н.Я. и др. Крестьянство Западной Сибири в до военные годы. С. 175; Bergson A. The Real National Income of Soviet Rus sia since 1928. Cambridge, Mass., 1961.
Иногда колхозы выплачивали все налоги за отдельные дворы из колхозных фондов, но на это смотрели косо. См., напр.: СА. ВКП. 390: 319.
Данные о поступлениях в государственный бюджет за 1929/30 — 1937 гг. см.: Дьяченко В.П. История финансов СССР. М., 1978. С. 285; Индустриализация СССР. С. 58-60, 75, 88-89, 103, 119-120, 126, 134 — 135, 140. О государственных займах см.: Holzman F.D. Soviet Taxa tion. Cambridge, Mass., 1955. P. 202 — 204. Хотя теоретически подписка на государственные займы была добровольной, местными властями ока зывался жесточайший нажим на крестьян, и было много сообщений о на казаниях вроде отказа в приусадебном участке или оплате трудодней, ко торым подвергали (незаконно) тех, кто не хотел подписываться. СА. ВКП. 183: 20.
Holzman F.D. Soviet Taxation. P. 192-199, 252-259; Chap man J. Real Wages in Soviet Russia since 1928. Cambridge, Mass., 1963. P. 157; Davies R.W. Soviet Budgetary System. P. 282-283.
Holzman F.D. Soviet Taxation. P. 159 and passim.
Коммунист. 1987. № 16. С. 37. Рассмотрение системы государст венных заготовок и ее значения см. в блестящей статье М.Левина: «Ta king Grain»: Soviet Policies of Agricultural Procurements before the War // The Making of the Soviet System. New York, 1985. P. 165-170.
Напр.: РГАЭ. Ф. 396. On. 10. Д. 160. Л. 414. Также см. ниже, с. 170.
РГАЭ. Ф. 7486. Оп. 19. Д. 410. Л. 44-46; ИКП. Т. 1. С. 449.
О конфликтах из-за посевных планов см. ниже, с. 340 — 242, а также: Fainsod M. Smolensk under Soviet Rule. Cambridge, Mass., 1958. P. 267. О резолюции ЦК от 28 дек. 1939 г. см.: ИКП. Т. 2. С. 127-128.
ИКП. Т. 1. С. 329; СЮ. 1931. № 23. С. 18-19; 1934. № 27. С. 5; Рабочий. 1932. 29 марта. С. 2.
Об уклонении от трудовых повинностей см.: СЮ. 1934. № 27. С. 19—20; Красное знамя (Томск). 1936. 12 дек. С. 3. О том, как мест ные власти распоряжались колхозниками и их лошадьми, см. ниже, с. 201-202, 217.
Решения партии и правительства... Т. 2. С. 520.
В 1935 г. было установлено, что приусадебные участки единолич ников должны быть примерно на 10% меньше участков колхозников того же района. В 1939 г. норму для единоличников понизили до 0,1—0,2 га, а для наемных работников, проживающих в деревне, установили макси мальную норму 0,15 га (включая площадь, занятую домом). За инду стриализацию. 1935. 16 марта. С. 2; Решения партии и правительства... Т. 2. С. 711; Важнейшие решения по сельскому хозяйству за 1938 — 1946 гг. М., 1948. С. 136-137.
387
Правда. 1935. 12 июля. С. 4 — 5; Из истории партийных органи заций Урала (1917-1967). Пермь, 1967. С. 142; СА. ВКП. 186: 62-63.
РГАЭ. Ф. 7486. Он. 19. Д. 410. Л. 1-2, 75.
Эта цифра, соответствующая приблизительно 1910 г., взята из: Ларин Ю. Экономика досоветской деревни. М. — Л., 1926. С. 115—116.
Рабочий. 1934. 16 янв. С. 7; Решения партии и правительства... Т. 2. С. 707-713.
Арутюнян Ю.В. Советское крестьянство в годы Великой Отечест венной войны. М., 1963. С. 344-346.
СЮ. 1935. № 24. С. 4; КрП. 1936. 11 сент. С. 2.
РГАЭ. Ф. 396. Оп. 10. Д. 160. Л. 130-131.
Решения партии и правительства... Т. 2. С. 708.
Народное хозяйство СССР. С. 188-189; История СССР. 1960. № 6. С. 36; Народное хозяйство СССР в 1960 году. Статистический еже годник. М., 1961. С. 448.
История СССР. 1960. № 6. С. 20; Сельское хозяйство СССР: Статистический сборник. М., 1960. С. 58.
Miller R.F. One Hundred Thousand Tractors. Cambridge, Mass., 1970. P. 36-43. О политотделе МТС см. ниже, с. 196.
Цифры взяты из: Miller R.F. One Hundred Thousand Tractors. P. 50; Belov F. The History of a Soviet Collective Farm. New York, 1955. P. 16.
СА. ВКП. 186: 62-63.
СГП. № 4. C. 54 — 55; Вылцан М.А. Советская деревня накануне Великой Отечественной войны (1938-1941 гг.). М., 1970. С. 53-54; Вылцан М.А. Завершающий этап создания колхозного строя. С. 38.
РГАЭ. Ф. 396. Оп. 10. Д. 39. Л. 276; Д. 142. Л. 71.
Решения партии и правительства... Т. 2. С. 520; Труд. 1935. 9 мая. С. 1.
КрП. 1935. 6 апр. С. 2-3.
Там же. С. 3; 1936. 14 июля. С. 3.
СА. ВКП. 355: 280-281; The Village of Viriatino. P. 180. См. также: СА. ВКП. 390: 252, 259-260.
См., напр.: ВВСКУ. С. 31.
Вылцан М.А. Советская деревня накануне Великой Отечествен ной войны. С. 56; Merl S. Social Mobility in the Countryside. 1988. Un published paper. P. 9, 14; Производительность и использование труда в колхозах во второй пятилетке. М.—Л., 1939. С. 85—123 (табл. 60). Спи сок категорий служащих, входящих в «административный и служебный аппарат» колхоза в 1933 г., см.: Деревенский юрист. 1934. № 1. 2-я с. обл.
Производительность и использование труда... С. 83, 85—123. Эти проверки, о репрезентативности которых трудно судить, охватили 370 колхозов в 9 регионах Советского Союза.
Hoch S. Serfdom and Social Control in Russia. Chicago, 1986. P. 126-132, 135.
Вылцан М.А. Советская деревня накануне Великой Отечествен ной войны. С. 144.
СЗ. 1938. 4 июля. С. 3.
Вылцан М.А. Завершающий этап создания колхозного строя. С. 116-117.
Производительность и использование труда... С. 98, 104, 111, 117.
388
Там же. С. 97, ПО, 123.
Бригадная система организации труда в колхозах / Под ред. Н.Н.Анисимова, И.С.Шахова и др. 2-е изд. М.-Л., 1932. С. 52.
Решения партии и правительства... Т. 2. С. 380-382; СДК. С. 156.
Маслов С. Колхозная Россия. С. 210 — 213.
Шуваев К.М. Старая и новая деревня. Материалы исследования с. Ново-Животинного и дер. Моховатки Березовского района, Воронеж ской области, за 1901 и 1907, 1926 и 1937 гг. М, 1937. С. 61. См. также: СА. ВКП. 390: 252, 259-260.
Гущин Н.Я. Сибирская деревня на пути к социализму. С. 25 — 26; Jasny N. The Socialized Agriculture of the USSR. Stanford, 1949. P. 335- 336; СЮ. 1938. № 1. С 26.
Социалистическая реконструкция сельского хозяйства. 1939. № 9. С. 8; Jasny N. The Socialized Agriculture... P. 336-337.
Молот. 1933. 16 марта. С. 1; КрП. 1935. 3 марта. С. 2; 1937. 5 авг. С. 3; МКрГ. 1936. 18 дек. С. 2; СДК. С. 453.
РГАЭ. Ф. 396. Оп. 10. Д. 65. Л. 286.
Там же. Д. 161. Л. 372.
Там же. Д. 143. Л. 25.
Там же. Д. 142. Л. 72.
Там же. Д. 65. Л. 471.
СА. ВКП. 386: 370; РГАЭ. Ф. 396. Оп. 10. Д. 87. Без паг.
Советское крестьянство. Краткий очерк истории (1917—1970). 2-е изд. М., 1973. С. 278; Коллективизация сельского хозяйства центрально го промышленного района (1927—1937 гг.). Рязань, 1971. С. 513; Выл- цан М.А. Завершающий этап создания колхозного строя. С. 116.
Молот. 1934. 2 янв. С. 1; КрП. 1936. 6 сент. С. 1; Красная Баш кирия. 1937. 11 авг. С. 3; СА. ВКП. 390: 252, 259-260; The Village of Viriatino. P. 251; Dunn S.P., Dunn E. The Peasants of Central Russia. New York, 1967. P. 47-48.
ВИ. 1973. № 2. С 24, 27.
Вылцан М.А. Завершающий этап создания колхозного строя. С. 101.
Производительность и использование труда... С. 83, 85, 91; см. ниже, с. 213 — 217.
Поляков Ю.А., Жиромская В.Б., Киселев И.Н. Полвека молча ния (Всесоюзная перепись населения 1937 г.) // Социологические иссле дования. 1990. Хо 7. С. 53; Индустриализация СССР. С. 514.
СЗ. 1939. 17 авг. С. 2. См. также: СЗ. 1939. 6 янв. С. 2.
Островский В.Б. Колхозное крестьянство СССР. Политика пар тии в деревне и ее социально-экономические результаты. Саратов, 1967. С. 57; Советское крестьянство. С. 328; Красная Башкирия. 1937. 11 авг. С. 3; КрП. 1937. 24 авг. С. 2; 26 авг. С. 2; 27 авг. С. 2.
Советское крестьянство. С. 328; КрП. 1935. 23 марта. С. 2; 1937. 1 сент. С. 2; Решения партии и правительства... Т. 2. С. 646; Остров ский В.Б. Колхозное крестьянство СССР. С. 58.
Решения партии и правительства... Т. 2. С. 525, 648. Примеры нарушений см.: СДК. С. 166; СА. ВКП. 390: 253.
СЗ. 1938. 28 мая. С. 3; КрП. 1937. 28 июня. С. 3; СЗ. 1938. 28 мая. С. 3.
КрП. 1936. 6 сент. С. 1; 1937. 24 авг. С. 2; 27 авг. С. 2; СЗ. 1938. 8 июля. С. 3; Производительность и использование труда... С. 125.
389
Социалистическая реконструкция сельского хозяйства. 1938. № 9. С. 8; СЗ. 1939. 2 февр. С. 3.
По всей стране, в колхозах и на предприятиях, осенью 1936 г. было проведено почти полмиллиона собраний; были сделаны, в устной или письменной форме, сотни тысяч замечаний и поправок к проекту Конституции. См.: Строительство советского государства. Сборник ста тей к 70-летию Э.Б.Генкиной. М., 1972. С. 76; История СССР. 1976. № 6. С. 122. Про обсуждение Конституции см.: Getty J.Arch. State and Society under Stalin: Constitutions and Elections in the 1930s // SR. 1991. Vol. 50. № 1. P. 23-28.
ГАРФ. Ф. 3316. On. 41. Д. 107. Л. 69-70.
Там же. Л. 69.
Неизвестная Россия XX века. С. 276.
ГАРФ. Ф. 3316. Оп. 41. Д. 107. Л. 77. См. также: Там же. Д. 193. Л. 107; СА. ВКП. 500: 127, 183-184.
СА. ВКП. 500: 127.
Там же. 500: 184.
Там же. 500: 127; SR. 1991. Vol. 50. № 1. Р. 25. Из собранных Гетти 2627 писем жителей Ленинградской области и 474 — Смоленской (Западной) (ЦГАОР. Ф. 3316. Оп. 41. Д. 127-129) - в эту категорию («гарантированное страхование, отпуска, пенсии крестьянам, как и рабо чим») попадают 32% ленинградских писем и 22% смоленских.
Неизвестная Россия XX века. С. 272 — 273 (рапорт НКВД о вы сказывании крестьянина при обсуждении Конституции в Ивановской об ласти) .
Мнения большинства (пенсии — обязанность государства) см.: ГАРФ. Ф. 3316. Оп. 41. Д. 81. Л. 74, 121; Д. 82. Л. 45, 73; Д. 83. Л. 2, 79, 112; Д. 107. Л. 8, 73; СА. ВКП: 500: 126. Мнения меньшинства см.: ГАРФ. Ф. 3316. Оп. 41. Д. 82. Л. 37.
СА. ВКП. 500: 126; ГАРФ. Ф. 3316. Оп. 41. Д. 81. Л. 55, 58- 59; СА. ВКП. 500: 126, 184. См. также: ГАРФ. Ф. 3316. Оп. 41. Д. 81. Л. 60, 72, 74; Д. 107. Л. 7, 8, 26-27.
СА. ВКП. 500: 127.
Неизвестная Россия XX века. С. 276. Отметим, что выступавший старательно избегал термина «совхозы», хотя там тоже платили заработ ную плату. Крестьяне явно не хотели лишаться своих приусадебных участков, жить в холодных бараках и питаться в грязных общественных столовых, как это было в совхозах начала 30-х гг.
СА. ВКП. 500: 125.
Глава 6
Изменения социальной структуры советского общества. С. 243; По ляков Ю.А. и др. Полвека молчания. С. 53.
О занятиях единоличников см.: СЗ. 1938. 21 авг. С. 2.
Рабочий путь. 1937. 29 сент. С. 2.
СЮ. 1935. № 19. С. 5-6.
РГАЭ. Ф. 396. Оп. 10. Д. 162. Л. 398; Советская Сибирь. 1936. 2 окт. С. 3.
КрП. 1938. 12 сент. С. 3. См. также: Там же. 1937. 1 сент. С. 2.
Дьяченко В.П. История финансов СССР. М., 1978. С. 286; Инду стриализация СССР. С. 29, 60, 89.
390
Гущин Н.Я. Сибирская деревня на пути к социализму. С. 350 — 351. О единоличниках и налогах см. также: РГАЭ. Ф. 396. Оп. 10. Д. 162. Л. 43; СА. ВКП. 362: 32-33, 37.
Soviet Youth. Twelve Komsomol Histories / Ed. by N.K.Novak- Deker // Institut fur Erforschung der UdSSR. Series 1. № 51. Miinchen, 1959. S. 189.
Там же.
Герасимов Е. Путешествие в Спас-на-Песках. С. 75.
КрП. 1935. 23 апр. С. 4.
Молот. 1933. 1 апр. С. 3; Гущин Н.Я. и др. Крестьянство Западной Сибири в довоенные годы. С. 22, 45; КрП. 1937. 24 авг. С. 2; 27 авг. С. 2.
РГАЭ. Ф. 396. Оп. 10. Д. 34. Л. 432-433.
СЗ. 1937. 14 нояб. С. 3.
Алексеев М. Хлеб — имя существительное. С. 403—407.
Вылцан М.А. Советская деревня накануне Великой Отечествен ной войны. С. 54 — 56.
Бюллетень оппозиции. 1930. № 11. С. 25 (материал об Узбеки стане). О гибели ремесел и художественных промыслов в годы первой пятилетки см.: Fitzpatrick S. After NEP: The Fate of NEP Entrepreneurs, Small Traders, and Artisans in the «Socialist Russia» of the 1930s // Russian History/Histoire russe. 1986. Vol. 13. № 2-3. P. 209-220.
КрП. 1935. 12 апр. С. 3.
КГ. 1933. 8 дек. С. 3.
СА. ВКП. 500: 133-136.
Молот. 1933. 15 марта. С. 2; Красный Крым. 1933. 18 февр. С. 2; СЗ. 1932. 3 дек. С. 2.
РГАЭ. Ф. 7486. Оп. 19. Д. 412. Л. 91.
Там же. Л. 86-89.
КрП. 1938. 18 нояб. С. 4; Вылцан М.А. Завершающий этап со здания колхозного строя. С. 179; СЗ. 1938. 9 июня. С. 2.
РГАЭ. Ф. 396. Оп. 10. Д. 39. Л. 13; СЗ. 1938. 9 июня. С. 2; Молот. 1933. 28 июня. С. 2.
СЗ. 1938. 9 июня. С. 2; КрП. 1935. 27 июля. С. 3; СЗ. 1938. 12 мая. С. 3; РГАЭ. Ф. 396. Оп. 10. Д. 129. Без паг.
РГАЭ. Ф. 396. Оп. 10. Д. 160. Л. 23.
Труд. 1935. 2 янв. С. 2; Красный Крым. 1933. 18 февр. С. 2; Выл цан М.А. Завершающий этап создания колхозного строя. С. 179. См. также: СА. ВКП. 362: 371.
КрП. 1938. 10 июля.
СА. ВКП. 176: 123, 145.
РГАЭ. Ф. 396. Оп. 10. Д. 66. Л. 368; КрП. 1938. 2 сент. С. 3; Курская правда. 1937. 15 авг. С. 2.
СЗ. 1938. 29 мая. С. 2; 30 сент. С. 3; 16 окт. С. 3.
См.: Бударев А. Мелкая промышленность на путях социалисти ческого переустройства. М., 1931.
МКрГ. 1936. 17 дек. С. 3.
По словам А.Кауфмана (Small-Scale Industry in the Soviet Union. New York, 1962. P. 43), промколхозы в 1935 г. насчитывали 645000 чле нов. Из них 76% работали в кузницах, рыболовных, мукомольных и лесозаготовительных артелях. В переписи 1937 г. зарегистрировано 507000 членов промколхозов (не считая членов семей — иждивенцев): Поляков Ю.А. и др. Полвека молчания. С. 53.
МКрГ. 1936. 2 сент. С. 4; 6 сент. С. 4; 17 дек. С. 3.
391
КрП. 1938. 6 июля. С. 3.
Василевский К.В. Промкооперация СССР от первой пятилетки ко второй. М.-Л., 1933. С. 47.
Рабочая Москва. 1938. 11 нояб. С. 2; 21 дек. С. 4.
Вылцан М.А. Советская деревня накануне Великой Отечествен ной войны. С. 44.
Бюллетень объединенной V областной и III городской Ленинград ской конференции ВКП(б). Л., 1934. № 5. С. 31-32; СЗ СССР. 1935. № 65. Ст. 520; КрП. 1935. 5 дек. С. 3. См. также: СА. ВКП. 390: 347; Рабочий путь. 1937. 27 сент. С. 2.
См. выше, с. 125-127.
Гущин Н.Я. Сибирская деревня на пути к социализму. С. 349 — 350.
РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 3. Д. 983. Л. 142-147.
Решения партии и правительства... Т. 2. С. 711; Островский В.Б. Колхозное крестьянство СССР. С. 174—175; Вылцан М.А. Советская де ревня накануне Великой Отечественной войны. С. 46 — 47; СЗ. 1939. 24 авг. С. 1; 17 сент. С. 4. В постановлении особо упоминались Смоленская (бывшая Западная), Калининская и Ленинградская области РСФСР, Бе лоруссия и Украина.
ГАРФ. Ф. 5515. Оп. 1. Д. 235. Л. 21-32. О постановлении 30 июня 1931 г. об отходничестве см. выше, с. 107 — 109.
ИКП. Т. 1. С. 416; СЮ. 1934. № 17. С. 22; № 18. С. 23; Дере венский юрист. 1934. № 23. С. 10.
См., напр.: КрП. 1935. 29 мая. С. 4, а также выше, с. 115—116.
СЗ. 1939. 20 июня. С. 4.
Там же. 29 авг. С. 2.
КПСС в резолюциях... Т. 5. С. 399.
РГАЭ. Ф. 396. Оп. 10. Д. 162. Л. 302; Д. 145. Л. 116.
Там же. Д. 15. Л. 50.
См.: Burds J. The Social Control of Peasant Labor in Russia: The Response of Village Communities to Labor Migration in the Central Indus trial Region, 1861-1905 // Peasant Economy, Culture, and Politics, 1800- 1921 / Ed. by E.Kingston-Mann, T.Mixter. Princeton, 1991. P. 52-100.
РГАЭ. Ф. 396. On. 10. Д. 143. Л. 97; Д. 87. Без паг.
Цит. по: ГАРФ. Ф. 5515. Оп. 1. Д. 235. Л. 22; Индустриализа ция СССР. С. 486 - 487; Коммуна. 1937. 28 авг. С. 4.
РГАЭ. Ф. 396. Оп. 10. Д. 160. Л. 142. Другие подобные поста новления ярославских властей см.: Там же. Л. 5, 136.
Там же. Д. 39. Л. 271. См. также: Северный рабочий (Яро славль). 1935. 18 июля. С. 2; КолСП. С. 509-510.
РГАЭ. Ф. 396. Оп. 10. Д. 39. Л. 306-307.
Там же. Д. 160. Л. 151. См. также неопределенный ответ облзо: Там же. Л. 144.
Коммуна. 1937. 12 янв. С. 3; СА. ВКП. 390: 343-344.
СА. ВКП. 186: 62-63.
РГАЭ. Ф. 396. Оп. 10. Д. 65. Л. 103.
Там же. Д. 122. Без паг.
Под словом «колхоз» в данном контексте, по-видимому, имеется в виду общее собрание колхоза.
РГАЭ. Ф. 396. Оп. 10. Д. 88. Без паг.
Там же. Д. 15. Л. 51.
392
Там же. Д. 39. Л. 265-269. После того как «Крестьянская газе та» переслала это письмо в местный райком партии, Кукушкин был вос становлен в колхозе.
СА. ВКП. 386: 83; РГАЭ. Ф. 396. Оп. 10. Д. 161. Л. 221.
ВИ. 1973. № 2. С. 22; Индустриализация СССР. С. 513-514.
Bergson A. The Real National Income... P. 118.
Поляков Ю.А. и др. Полвека молчания. С. 53; Индустриализация СССР. С. 513-514.
Производительность и использование труда... С. XI, 85—123.
РГАСПИ. Ф. 5. Оп. 4. Д. 18. Л. 5-111.
О минимуме трудодней см. выше, с. 166—167.
Глава 7
О советском и российском руководстве низшего звена см.: Man ning R. Government in the Soviet Countryside in the Stalinist Thirties: The Case of Belyi Raion in 1937 // The Carl Beck Papers in Russian and East European Studies. 1984. № 301; Starr S.F. Decentralization and Self-Gov- ernment in Russia 1830-1870. Princeton, 1972.
Цифры взяты из: Соцстрой. 1936. С. 548-549; Труд в СССР. С. 30 — 31. Персонал МТС не учитывался. Сельский район управлялся районным исполнительным комитетом (РИК), в отличие от города, уп равлявшегося городским советом.
Данные из: Статистический сборник по Северному краю за 1929 — 1933 гг. Архангельск, 1934. С. 33, 213, 214, 217.
Соцстрой. 1936. С. 505; Manning R. Government in the Soviet Countryside... P. 31.
Соцстрой. 1936. С. 548-549; СЗ СССР. 1935. № 42. Ст. 358; 1937. № 22. Ст. 85; 3 сессия ЦИК СССР 6 созыва: Стеногр. отчет. М., 1933. Бюлл. 20, 21.
Соцстрой. 1936. С. 548-549; Труд в СССР. С. 30-31; СЗ СССР. 1937. № 66. Ст. 397; Carr E.H. The Foundations of a Planned Economy. Vol. 2. P. 251; Шуваев К.М. Старая и новая деревня. С. 52.
Впервые на это указал Д.Торнили (The Rise and Fall of the Soviet Rural Communist Party, 1927-1939. Basingstoke, UK, 1988).
РГАСПИ. Ф. 17. On. 7. Д. 315. Л. 58. Деревенские коммунисты подразделялись по типам своих партийных организаций: колхозных, сов хозных, территориальных и организаций МТС.
РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 7. Д. 309. Л. 140; Молот. 1934. 23 янв. С. 2; Thorniley D. The Rise and Fall... P. 143-144.
РГАСПИ. Ф. 17. On. 7. Д. 315. Л. 55, 58. Отметим, что данные о сельских членах партии в 1937 г., хранящиеся в РГАСПИ, не включа ют 118000 чел. из «учреждений с райцентров» — категория сельских парторганизаций, не называвшаяся в прежние годы.
Manning R. Government in the Soviet Countryside... P. 8. По дру гим данным, во всей Смоленской (бывшей Западной) области на 1 янв. 1938 г. был 5651 член сельских парторганизаций: РЦХИДНИ. Ф. 17. Оп. 7. Д. 315. Л. 30.
Hough J.F. The Changing Nature of the Kolkhoz Chairman // The Soviet Rural Community. P. 105; Вылцан М.А. Завершающий этап созда ния колхозного строя. С. 234; СССР — страна социализма: Статистичес кий сборник. М., 1936. С. 93.
393
Труд в СССР. С. 326; Вылцан М.А. Завершающий этап создания колхозного строя. С. 232; Thorniley D. The Rise and Fall... P. 20.
CA. ВКП. 415: 128.
СЗ СССР. 1935. № 44. Ст. 365; СЮ. 1936. № 16. С. 15.
КрП. 1936. 15 сент. С. 4.
Молот. 1937. 15 апр. С. 3; Дьяченко В.П. История финансов СССР. С. 318; Коммунист (Саратов). 1937. 2 сент. С. 2.
СЗ. 1932. 16 нояб. С. 2; СЮ. 1934. № 27. С. 5.
СА. ВКП. 190: 185; СЗ. 1932. 16 нояб. С. 2; СЮ. 1934. № 19. С. 7.
СА. ВКП. 190: 185. См. сходные жалобы: РГАЭ. Ф. 396. Оп. 10. Д. 122.
Северный рабочий. 1937. 22 сент. С. 2. См. также: СЗ СССР. 1935. № 65. Ст. 520; СЗ. 1938. 29 авг. С. 3; 1939. 15 июня. С. 1.
Коммуна. 1937. 4 окт. С. 2; СА. ВКП. 190: 222.
Курская правда. 1937. 23 авг. С. 4; 30 авг. С. 4; СА. ВКП. 178: 160.
См. многие примеры ниже, в гл. 11.
СЮ. 1935. № 15. С. 20; № 27. С. 1.
СА. ВКП. 178: 134.
Пример см.: Tuominen A. The Bells of the Kremlin. Hannover; London, 1983. P. 118.
Данные из: Рабочий путь. 1937. 29 авг. С. 1. Эти руководители были обвиняемыми на показательном процессе (см. гл. 11), но это вовсе не делает их пример нерепрезентативным.
Сталин. Сочинения. Т. 13. С. 251-252; Т. 1 (14). С. 74-77; ВВСКУ. С. 184, 186. См. также гл. 9 и 11.
КрП. 1935. 27 марта. С. 4; МКрГ. 1936. 26 сент. С. 2.
СЗ СССР. 1935. № 65. Ст. 520.
32. СА. ВКП. 166: 722; 355: 286-291; РГАЭ. Ф. 396. Оп. 10. Д. 129. Без паг.
4 сессия ЦИК Союза ССР 6 созыва: Стенографический отчет. М., 1934. Бюлл. 24. С. 10—11; Чирков П.М. Решение женского вопроса в СССР (1917-1937 гг.). М., 1978. С. 178; Serebrennikov G.N. The Posi tion of Women in the U.S.S.R. London, 1937. P. 107.
КрП. 1937. 29 авг. С. 2.
Женщины в сельсоветах. М., 1934. С. 16; Герасимов Е. Путеше ствие в Спас-на-Песках. См. также воспоминания Е.Бушмановой (Жен щины Урала в революции и труде. Свердловск, 1963) и П.О.Дегтяревой (Работница. 1935. № 7. С. 5).
СЗ. 1937. 26 июля. С. 2.
РГАЭ. Ф. 396. Оп. 10. Д. 145. Л. 310-311.
СА. ВКП. 386: 174-175.
39. О жалобах см. с. 287 — 290; о показательных процессах см. гл. 11.
Коммунист (Саратов). 1937. 2 сент. С. 2.
Tuominen A. The Bells of the Kremlin. P. 117-123.
ИКП. T. 1. С 175; Сто сорок бесед с Молотовым. С. 280-281; Решения партии и правительства... Т. 2. С. 529.
КрП. 1937. 26 авг. С. 2; 2 сент. С. 2.
Viola L. The Best Sons of the Fatherland. Oxford, 1987. P. 118. Вывод об «окрестьянивании» председателей колхозов в 30-е гг. впервые был сделан на основании данных о членстве в партии Дж.Ф.Хафом: The Soviet Rural Community / Ed. by J.R.Millar. P. 104- 106.
394
РГАЭ. Ф. 7486. On. 19. Д. 399. Л. 24, 65-66; Арина А.Е., Котов Г.Г., Лосева К.В. Социально-экономические изменения в деревне. Мелитопольский район (1885-1938). М., 1939. С. 215.
РГАЭ. Ф. 7486. Оп. 19. Д. 399. Л. 44.
Там же. Л. 66.
Там же. Л. 65.
Там же. Л. 65-66.
СЗ. 1932. 16 нояб. С. 2; СЗ СССР. 1935. № 65. Ст. 520; Спра вочник партийного работника. М., 1936. С. 450—451; Труд в СССР. С. 27. О текучести кадров в 1937-1938 гг. см. ниже, с. 223-224.
СЮ. 1935. Х« 15. С. 20; СА. ВКП. 111: 6, 11.
ВВСКУ. С. 28.
СА. ВКП. 386: 79-83.
ВВСКУ. С. 33, 49, 60-61. В январе 1937 г., по данным переписи населения, насчитывалось 5997 женщин — председателей колхозов: Все союзная перепись населения 1937 г. Краткие итоги. М., 1991. С. 142, 155.
СА. ВКП. 355: 286-291.
Герасимов Е. Путешествие в Спас-на-Песках. С. 73. 16% заведу ющих колхозными животноводческими фермами, 22% бригадиров живот новодов и две трети звеньевых были женщинами. См.: Serebren- nikov G.N. The Position of Women in the U.S.S.R. P. 107.
ИКП. T. 1. С 431-433.
Постановление Наркомата земледелия от 28 февраля 1933 г. об оплате председателей, процитированное представителем Наркомата на со брании в 1935 г., см.: РГАЭ. Ф. 7486. Оп. 19. Д. 399. Л. 2-3. В очень мелких колхозах (20 — 30 дворов) председатель должен был получать плату по той же ставке, что и бригадир, но имел дополнительные 10 тру додней в месяц.
Viola L. The Best Sons of the Fatherland. P. 56-57, 182; Деревен ский юрист. 1934. № 8. 2-я с. обл.; КрП. 1938. 20 сент. С. 3.
РГАЭ. Ф. 7486. Оп. 19. Д. 399. Л. 23-25, 44, 65, 106, 118-123, 153, 158-159.
Там же. Л. 170-173.
КрП. 1936. 10 окт. С. 2; 1937. 16 нояб. С. 3.
Курская правда. 1937. 30 сент. С. 1; РГАЭ. Ф. 396. Оп. 10. Д. 39. Л. 2; Коммуна. 1937. 8 сент. С. 1; РГАЭ. Ф. 396. Оп. 10. Д. 39. Л. 59; ИКП. Т. 2. С. 42-44.
РГАЭ. Ф. 396. Оп. 10. Д. 39. Л. 5, 57; Д. 122. Без паг.
Основное постановление, датированное 21 апреля 1940 г., уста навливает доплату как привилегию для «восточных районов СССР» (СЗ СССР. [1940]. № И. Ст. 271). В ответ на просьбу Московской и Смо ленской областей распространить на них эту привилегию соответствую щее постановление было издано 5 июня 1940 г. Другие области были включены в сферу ее действия последующими десятью постановлениями в июле 1940 г. — марте 1941 г. Полный список см.: Важнейшие решения по сельскому хозяйству... С. 288.
Алексеев М. Хлеб — имя существительное. С. 347. См. также: РГАЭ. Ф. 396. Оп. 10. Д. 65. Л. 288; Д. 86. Без паг.
РГАЭ. Ф. 7486. Оп. 19. Д. 399. Л. 176.
Коммунист. 1990. № 1. С. 98; СА. ВКП. 203: 17.
395
КрП. 1935. 8 апр. С. 3; 1937. 18 июля. С. 1; 20 авг. С. 3; РГАЭ. Ф. 396. Оп. 10. Д. 87. Без паг.; Рабочий путь. 1937. 29 июля. С. 2; СА. ВКП. 203: 17.
РГАЭ. Ф. 396. Оп. 10. Д. 65. Л. 463.
СА. ВКП. 351: 139.
РГАЭ. Ф. 396. Оп. 10. Д. 137. Л. 80.
Там же. Д. 142. Л. 215-216.
The World of the Russian Peasant: Post-Emancipation Culture and Society / Ed. by B.Eklof, S.Frank. P. 14.
СА. ВКП. 362: 214-215.
Bohac R. Everyday Forms of Resistance: Serf Opposition to Gentry Exactions, 1800-1861 // Peasant Economy, Culture and Politics. P. 239.
ИКП. T. 1. С 222.
Решения партии и правительства... Т. 2. С. 528-529; ВВСКУ. С. 28-30.
В первую очередь следует назвать ленинградскую газету «Крес тьянская правда», придерживавшуюся, как правило, либеральной изда тельской политики. См.: КрП. 1935. 1 февр. С. 3; 2 дек. С. 4.
СЮ. 1936. № 8. С. 7; Социалистический Донбасс. 1936. 10 дек. С. 2.
См., напр.: СА. ВКП. 362: 25; 386: 79-83, 100-103; 390: 21-22.
Там же. 203: 39-42.
Молот. 1937. 15 апр. С. 3. Похожие материалы см.: КрП. 1937. 20 авг. С. 3; Коммунист (Саратов). 1937. 14 сент. С. 3; Северный рабо чий. 1937. 5 апр. С. 1.
Коммуна. 1937. 4 окт. С. 2.
РГАЭ. Ф. 396. Оп. 10. Д. 65. Л. 238.
СЗ. 1938. 11 июля. С. 3.
См., напр.: Алексеев М. Хлеб — имя существительное. С. 355.
СА. ВКП. 111: 10.
См. ниже, с. 335-336.
Washington Post. 1991. 16 Aug. A38.
РГАСПИ. Ф. 17. On. 7. Д. 315. Л. 14-15, 23.
Вылцан М.А. Завершающий этап создания колхозного строя. С. 114—116; Entrepreneurship in Imperial Russia and the Soviet Union / Ed. by G.Guroff, F.V.Carstensen. Princeton, 1983. P. 263.
РГАЭ. Ф. 396. On. 10. Д. 88. Без паг.
О процессах см. ниже, гл. 11.
СЗ. 1938. 21 сент. С. 3.
СА. ВКП. 203: 163. О доносах см. гл. 9.
97. О случаях, когда объект доноса постигла кара, см.: РГАЭ. Ф. 396. Оп. 10. Д. 121. Л. 52-55; Д. 142. Л. 729; Д. 161. Л. 53. Об одном случае, когда жалоба привела к обратному результату и наказание понес жалобщик, см.: Там же. Д. 64. Л. 165. О еще одном случае, когда пострадали обе стороны (жалобщика арестовали, тех, на кого он жало вался, сняли с должности), см.: Там же. Д. 143. Л. 325.
Там же. Д. 65. Л. 46.
Там же. Д. 87. Без паг. Это были обычные бранные слова, упот ребляемые в языке марксистско-ленинской полемики 20-х и 30-х гг.
Там же. Д. 145. Л. 310-311.
СЗ. 1938. 3 февр. С. 3.
СЗ. 1938. 4 сент. С. 2; 21 сент. С. 3. О чистках 1933 г. см. выше, с. 92.
396
Решения партии и правительства... Т. 2. С. 650 — 652. По дан ным Н.Дугина (На боевом посту. 1989. 27 дек. С. 3), за период 1937 — 1939 гг. число заключенных, относящихся к категории «социально вред ных и социально опасных», почти утроилось (от 103513 чел. до 285831 чел.), а число заключенных всех политических категорий (контр революционная деятельность, государственная измена, шпионаж и т.д.) выросло больше чем вчетверо (от 118393 чел. до 503166 чел.). Число за ключенных всех уголовных категорий за тот же период снизилось от 421687 чел. до 417552 чел.
СА. ВКП. 111: 22; 321: 291; РГАЭ. Ф. 396. Оп. 10. Д. 129. Без паг.
Труд. 1992. 4 июня. С. 1: публикация документов из сверхсек ретных «особых папок», находящихся в руках Президентской комиссии по рассекречиванию архивов.
См. данные Н.Дугина по Гулагу (На боевом посту. 1989. 27 дек. С. 3). Данные по Оренбургу см.: Тепцов Н.В. О ГПУ против крестьян. С. 35; Труд. 1992. 4 июня. С. 4. Дело из материалов «Крестьянской га зеты» см.: РГАЭ. Ф. 396. Оп. 10. Д. 143. Л. 211-213.
Глава 8
Curtiss J.S. The Russian Church and the Soviet State. Gloucester, Mass., 1965. P. 267; Всесоюзная перепись населения 1926 года. Вып. 34. М., 1930. С. 97; Поляков Ю.А. и др. Полвека молчания. С. 53; ГАРФ. Ф. 5407. Оп. 1. Д. 106. Л. 97; СА. ВКП. 500: 294.
Данные взяты из: Поляков Ю.А. и др. Полвека молчания. С. 69. О реакции на вопрос о вере в переписи см. ниже, с. 328 — 329.
Молодежь СССР: Статистический сборник. М., 1936. С. 286; Ано хина Л.А., Шмелева М.Н. Культура и быт... С. 281.
Антирелигиозник. 1939. № 6. С. 3; Алексеев М. Хлеб — имя су ществительное. С. 378 — 379. См. также: Красный Крым. 1937. 12 июля. С. 2.
Антирелигиозник. 1939. № 6. С. 4; ГАРФ. Ф. 5407. Оп. 1. Д. 44. Л. 83; Д. 47. Л. 100; Антирелигиозник. 1930. № 5. С. 119.
Антирелигиозник. 1937. № 6. С. 14.
Среди протестантов в возрасте от 16 лет и старше грамотными были примерно 88 %, среди католиков — 67%, среди православных — 57%. Поляков Ю.А. и др. Полвека молчания. С. 69.
СА. ВКП. 500: 294; Северный рабочий. 1937. 10 сент. С. 3. О рас цвете сект в 30-е гг. см.: Fletcher W.C. The Russian Orthodox Church Un derground, 1917-1970. London, 1971. Ch. 4.
Материалы к серии «Народы Советского Союза». Перепись 1939 г. Документальные источники Центрального Государственного Ар хива Народного Хозяйства (ЦГАНХ) СССР. М., 1990. Т. 4. С. 732- 734.
Dunn S.P., Dunn E. The Peasants of Central Russia. New York, 1967. P. 94-110. См. также: The Soviet Rural Community. P. 370.
КрП. 1938. 26 дек. С. 2. См. также: Антирелигиозник. 1939. № 5; The Village of Viriatino. P. 273.
КрП. 1935. 18 июля. С. 1; Антирелигиозник. 1939. № 5. С. 39.
397
Праздник Параскевы Пятницы был 10 ноября, но еще до главно го торжества в течение всего года в ее честь отмечались 12 других пят ниц. См.: Ivanits L.J. Russian Folk Belief. Armonk, N.Y., 1989. P. 33-34.
КрП. 1937. 26 июля. С. 2.
Советская этнография. 1958. № 4. С. 115; КрП. 1937. 26 июля. С. 2.
Антирелигиозник. 1937. М° 1. С. 55.
Там же. 1939. № 5. С. 40; СА. ВКП. 355: 36-39.
Антирелигиозник. 1939. № 5. С. 40. Все даты праздников даны по новому стилю.
Рассказ Сорнова и все последующие цитаты взяты из: Антирели гиозник. 1939. № 11. С. 54-55.
См., напр.: СА. ВКП. 412: 32, 33.
РГАСПИ. Ф. 89. Оп. 4. Д. 66. Л. 73; СА. ВКП. 500: 293; РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 2. Д. 612. Л. 10.
Антирелигиозник. 1937. № 7. С. 10.
Там же. 1939. № 11. С. 55; СЮ. 1935. № 12. С. 9.
Антирелигиозник. 1939. № 10. С. 54; РГАЭ. Ф. 396. Оп. 10. Д. 34. Л. 313; РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 2. Д. 612. Л. 10; СЮ. 1939. № 12. С. 40; Социалистическая Осетия. 1937. 6 авг. С. 2; Прамнек Е. Отчет ный доклад V городской и областной партийной конференции о работе обкома ВКП(б). Горький, 1937. С. 22; Горьковская коммуна. 1937. 28 июля. С. 3.
Антирелигиозник. 1937. № 8. С. 3; 1939. № 6. С. 2; ГАРФ. Ф. 3316. Оп. 41. Д. 107. Л. 83.
Горьковская коммуна. 1937. 28 июля. С. 3; КрП. 1937. 17 сент. С. 3; Рабочий путь. 1937. 4 авг. С. 2.
О Конституции см. с. 312 — 319; о реакции на проведение перепи си в 1937 г. см. с. 328-329.
Звезда (Днепропетровск). 1937. 23 марта. С. 3. См. также: КрП. 1937. 5 авг. С. 2.
РГАЭ. Ф. 396. Оп. 10. Д. 145. Л. 286-287; Антирелигиозник. 1937. № 9. С. 12-13; ГАРФ. Ф. 3316. Оп. 41. Д. 84. Л. 72; СА. ВКП. 500: 183; ГАРФ. Ф. 3316. Оп. 41. Д. 84. Л. 72. Следует отметить, что в ходе обсуждения Конституции власти получали также множество писем с требованием не предоставлять священникам избирательных прав. См., напр.: ГАРФ. Ф. 3316. Оп. 41. Д. 107. Л. 11.
Профсоюзы СССР. 1938. № 5-6. С. 16-19.
Цит. по: КрП. 1937. 22 июля. С. 2; Горьковская коммуна. 1937. 28 июля. С. 3; Прамнек Е. Отчетный доклад... С. 23. См. также: Анти религиозник. 1937. № П. С. 9; Профсоюзы СССР. 1938. № 5-6. С. 16-19; Рабочий путь. 1937. 4 авг. С. 2.
Антирелигиозник. 1937. № 8. С. 12; № И. С. 9; Коммуна. 1937. 22 нояб. С. 2; Горьковская коммуна. 1937. 28 июля. С. 3.
КрП. 1937. 20 июня. С. 3; Горьковская коммуна. 1937. 28 июля. С. 3.
См. ниже, с. 315-317.
КрП. 1937. 9 авг. С. 4.
КрП. 1937. 22 июля. С. 2.
Северный рабочий. 1937. 3 авг. С. 2; 10 сент. С. 3; Красная Баш кирия. 1937. 29 июля. С. 2; КрП. 1937. 20 июня. С. 3; 2 авг. С. 2-3. Подробнее о таких слухах см. гл. И.
398
См.: Dunn S., Dunn E. The Peasants of Central Russia. P. 104- 105.
Можаев Б. Мужики и бабы // Дон. 1987. № 3. С. 68; КГ. 1933. 8 дек. С. 3; КрП. 1937. 2 авг. С. 3. См. также: Fitzpatrick S. After NEP. P. 209-220.
РГАЭ. Ф. 7486. On. 19. Д. 259. Без паг.
Советская этнография. 1966. Л° 5. С. 106—108; Анохина Л.А., Шмелева М.Н. Культура и быт... С. 144—146.
Советская этнография. 1965. № 5. С. 107; The Village of Viriat- ino. P. 231. О бродячих торговцах см.: Судебная практика РСФСР. 1931. № 16. С. 9; СЮ. 1932. № 10. 4-я с. обл.
Советская этнография. 1965. № 5. С. 107; The Village of Viriat- ino. P. 237-238; ВВСКУ. C. 74-75.
CA. ВКП. 166: 737.
Согласно официальной статистике, потребление водки государст венного производства в 1936 г. составляло 3,6 л на человека за год, в сравнении с 8,1 л до войны. В 1935 г. водки выпускалось (за исключе нием экспортных и промышленных нужд) 320 — 330 млн л в год, тогда как в 1913 г. — около 432 млн л, однако производительность росла. Более поздних данных нет: Справочник по сырьевой базе спиртовой про мышленности Наркомпищепрома СССР. М., 1934. С. 4; Справочник по сырьевой базе спиртовой промышленности Наркомпищепрома СССР. М., 1936. С. 3—4; Микоян А.И. Пищевая индустрия Советского Союза. [М.], 1939. С. 88. О низком уровне пьянства в деревне в «плохие време на» перед войной см.: Можаев Б. История села Берхова... С. 482.
КрП. 1935. 18 апр. С. 3; КрК. 1937. 16 окт. С. 4; Красная Башки рия. 1937. 15 авг. С. 4; СЗ. 1938. 12 авг. С. 4; Звезда. 1937. 5 окт. С. 4.
Социалистическое строительство Союза ССР. С. 133; Всесоюзная перепись населения 1937 г. С. 61, 157; Health and Society in Revolution ary Russia / Ed. by S.Gross Solomon, J.F.Hutchinson. Bloomington, 1990. P 135 — 139.
ГАРФ. Ф. 3316. On. 41. Д. 81. Л. 74; Д. 82. Л. 84; Д. 107. Л. 26-27, 78; CA. ВКП. 500: 126; ГАРФ. Ф. 3316. On. 41. Д. 107. Л. 81.
Рогалина Н.Л. Коллективизация: Уроки пройденного пути. М., 1989. С. 198; Алексеев М. Хлеб - имя существительное. С. 398-403; ИСК. Т. 3. С. 113; Народное хозяйство СССР 1922-1972 гг. С. 116. См. также: Tuominen A. The Bells of the Kremlin. P. 117-123.
Поляков Ю.А. и др. Полвека молчания. С. 53. О преобладании женщин см. также: ВВСКУ. С. 49-61; СЗ СССР. 1935. № 65. Ст 520; Женщина в колхозах — большая сила. Воронеж, 1934. С. 59, 70.
Герасимов Е. Путешествие в Спас-на-Песках. С. 64.
Там же. С. 79-80.
Там же. С. 64.
Там же. С. 66-67.
На путях к новой школе. 1930. № 4 — 5. С. 15; Воронов Н. Юность в Железнодольске // Новый мир. 1968. № 11. С. 42.
На путях к новой школе. 1930. № 4 — 5. С. 15. О такой политике см.: Carr E.H. Socialism in One Country. Vol. 1. P. 35 — 36; Stevens J.A. Children of the Revolution: Soviet Russia's Homeless Children (Bespri- zorniki) in the 1920s // Russian History/Histoire russe. 1982. Vol. 9. № 2-3. P. 259-261.
CA. ВКП. 355: 125-132, 181.
399
Worobec CD. Peasant Russia. Family and Community in the Post- Emancipation Period. Princeton, 1991. P. 70-74; Молот. 1933. 26 апр. С. 3; 30 июня. С. 2; СВ. 1933. № 12. С. 15; Сборник циркуляров и разъ яснений Народного Комиссариата Юстиции РСФСР, действующих на 1 мая 1934. М., 1934. С. 169.
За коммунистическое просвещение. 1935. 12 июля. С. 3.
КПСС в резолюциях... Т. 5. С. 206-211; Вылцан М.А. Завер шающий этап создания колхозного строя. С. 206.
СА. ВКП. 500: 13.
ИСК. Т. 3. С. 114; Вылцан М.А. Советская деревня накануне Ве ликой Отечественной войны. С. 25; Советская этнография. 1956. № 3. С. 19.
Сифман Р.И. Динамика рождаемости в СССР. М., 1974. С. 48; Вылцан М.А. Советская деревня накануне Великой Отечественной войны. С. 141-142.
Coale A., Anderson B.A., Haerm E. Human Fertility in Russia since the Nineteenth Century. Princeton, 1979. P. 42—43. Основные показатели, используемые ими, — «общая плодовитость», определяемая как число новорожденных у женщин в возрасте от 15 до 50 лет в достаточно боль шой группе населения, относительно которой имеется достоверная статис тика, и «брачная плодовитость», касающаяся лишь женщин от 15 до 50 лет, состоящих в браке.
КП. 1935. 9 дек. С. 3.
Молодой колхозник. 1935. N° 4. С. 2-3.
Там же. О выкупе за невесту и приданом до революции см.: Worobec CD. Peasant Russia. P. 63-64, 156-158; Hoch S.L. Serfdom and Social Control in Russia. Chicago, 1986. P. 95-105.
Timasheff N.S. The Great Retreat. New York, 1946; Новый мир. 1935. № 8. С. 261. О стахановках и разводах см. ниже, с. 311—312.
ГАРФ. Ф. 3316. Оп. 41. Д. 82. Л. 22. См. также: Советская эт нография. 1956. № 3. С. 22-23.
Новый мир. 1935. № 8. С. 261.
КрП. 1936. 4 июня. С. 2.
Проект закона был опубликован: Правда. 1936. 26 мая. Оконча тельную редакцию, датированную 27 июня, где сохранена та же шкала платы за развод, что и в проекте, см.: СЗ СССР. 1936. № 34. Ст. 309.
Соответствующие правительственные постановления и партийные резолюции см.: Народное образование в СССР. Общеобразовательная школа: Сборник документов 1917-1973 гг. М., 1974. С. 42, 109-113, 115-116.
Культурное строительство СССР: Статистический сборник. М., 1956. С. 122-123.
Поляков Ю.А. и др. Полвека молчания. С. 67.
За всеобщее обучение. 1931. № 4. С. 10; За коммунистическое просвещение. 1931. 8 янв. С. 1; Народное просвещение. 1930. № 7—8. С. 20. См. также: Fitzpatrick S. Education and Social Mobility in the So viet Union, 1921-1934. Cambridge, 1979. P. 161-163.
Дьяченко В.П. История финансов СССР. С. 285; Davies R.W. The Development of the Soviet Budgetary System. P. 225; Индустриализация СССР. С. 58, 60; За коммунистическое просвещение. 1934. 1 июня. С. 1.
Цифры по 1926 и 1939 гг. см.: Итоги Всесоюзной переписи насе ления 1959 года. СССР. Сводный том. М., 1962. С. 88; данные 1937 г. см.: Поляков Ю.А. и др. Полвека молчания. С. 65 — 66; заявление в
400
1932 г. см.: Итоги выполнения пятилетнего плана развития народного хозяйства СССР. М., 1933. С. 222. К несчастью, данные о грамотности в переписи 1937 г. не разделены на цифры по городу и деревне. Перепись 1937 г. выявила 75% грамотных среди всего городского и сельского населения в возрасте от 9 до 49 лет в совокупности (86% среди мужчин, 65% среди женщин).
Дьяченко В.П. История финансов СССР. С. 319.
За коммунистическое просвещение. 1934. 4 нояб.; 1935. 20 дек. С. 3.
Там же. 1934. 4 нояб.; За всеобщее обучение. 1931. № 4. С. 11; За коммунистическое просвещение. 1934. 18 янв. С. 2.
Там же. 1937. 21 сент. С. 3.
ГАРФ. Ф. 3316. Оп. 41. Д. 107. Л. 77. Автор, колхозник из Харьковской области, писавший в 1936 или 1937 г., заявляет, что книги для четверых детей, учащихся в школе (с 1 по 7 кл.), стоят ему 80 руб. в год. См. также: Там же. Д. 84. Л. 74.
84. См., напр.: За коммунистическое просвещение. 1934. 18 янв. С. 2; РГАЭ. Ф. 7486. Оп. 19. Д. 412. Л. 38.
За коммунистическое просвещение. 1934. 3 дек. С. 3.
Там же. 1935. 18 сент. С. 2; 24 нояб. С. 3; 6 дек. С. 3.
Там же. 6 дек. С. 3.
Женщины в 1937 г. составляли 48% среди сельских учителей и 67% среди городских, согласно данным переписи: Всесоюзная перепись населения 1937 г. С. 145, 158.
За коммунистическое просвещение. 1934. 8 окт. С. 3.
Там же. 1935. 14 июля. С. 2.
Там же. 16 авг. С. 3.
Гладков Ф. О сельской школе // За коммунистическое просвеще ние. 1935. 24 нояб. С. 3. О другом рассказе Гладкова о той же поездке, написанном совершенно в ином духе, см. ниже, с. 294.
Народное просвещение. 1930. № 6. С. 16-17; № 7-8. С. 8-10.
За коммунистическое просвещение. 1934. 4 дек. С. 4.
Культурное строительство СССР. С. 84 — 85 Отметим, что эти официальные цифры — 340000 сельских учителей в Советском Союзе в 1930/31 г. и 842000 в 1940/41 г. - могут быть занижены. Число чело век, назвавших себя учителями при проведении переписи 1937 г., более чем на 100000 превышает официальную цифру на 1936/37 г.: Поля ков Ю.А. и др. Полвека молчания. С. 57; Культурное строительство СССР. С. 80-81.
Коммунистическое просвещение. 1934. № 6. С. 87; 1935. № 1. С. 99.
КрП. 1936. 6 сент. С. 3; За коммунистическое просвещение. 1934. 18 янв. С. 2; Коммунистическое просвещение. 1936. № 5 — 6. С. 33 — 34; Клочко В.Ф. Культурное строительство в советской деревне в годы пяти летки (1933-1937). М., 1956. С. 68.
Подобные жалобы 30-х гг. см.: ГАРФ. Ф. 3316. Оп. 41. Д. 81. Л. 74; Д. 107. Л. 78. Об отношении крестьян к образованию в 20-е гг. см.: Большаков A.M. Деревня. С. 238-239, 246, 426; Fitzpatrick S. Edu cation and Social Mobility... P. 171-172.
По вопросу о требованиях крестьян и их удовлетворении до рево люции см.: Eklof В. Russian Peasant Schools. Officialdom, Village Cul ture, and Popular Pedagogy, 1861-1914. Berkeley, 1990. P. 475-482 and passim.
401
Народное образование в СССР. С. 165—166. Жалобы крестьян на передовые педагогические методы см.: Крестьяне о советской власти. М.-Л., 1929. С. 156-157, 164-165, 166-167, 178-179, 182-185; Fitzpatrick S. Education and Social Mobility... P. 19-25, 136-157. О ре формах 30-х гг. см.: Fitzpatrick S. Education and Social Mobility... P. 220-233.
ГАРФ. Ф. 3316. On. 41. Д. 107. Л. 45; За коммунистическое просвещение. 1934. 18 янв. С. 2.
ГАРФ. Ф. 3316. Оп. 41. Д. 107. Л. 30.
Там же. Л. 52.
См., напр.: РГАЭ. Ф. 396. Оп. 10. Д. 15. Л. 19; Д. 23. Л. 4, 74; Д. 81. Л. 25, 56, 91.
КрП. 1936. 6 сент. С. 3; РГАЭ. Ф. 396. Оп. 10. Д. 15. Л. 19.
Глава 9
Гущин Н.Я. Сибирская деревня на пути к социализму. С. 432; Ис тория СССР. 1960. № 6. С. 31 (прим.); СА. ВКП. 351: 87-88.
КрП. 1935. 4 февр. С. 4; 2 апр. С. 3.
Там же. 4 марта. С. 3.
СЮ. 1935. № 13. С. 10; № 14. С. 2, 7; 1936. № 15. С. 17-18. См. также: КрП. 1935. 27 марта. С. 4; 28 марта. С. 4.
Горьковская коммуна. 1937. 14 июля. С. 3; Звезда. 1937. 9 авг. С. 4.
СЮ. 1934. № 2. С. 17.
Там же. См. также: СГ. 1933. № 4. С. 66.
Там же. С. 67.
СА. ВКП. 415: 128.
См.: Manning R. Government in the Soviet Countryside... P. 16; Weissman N. Policing the NEP Countryside // Russia in the Era of NEP / Ed. by S. Fitzpatrick, A.Rabinowitch, R.Stites. Bloomington, 1991. P. 174 — 191. В 30-е гг., как и в 20-е, сельские исполнители, избираемые на уровне сельсоветов, имели мало власти и обычно бездействовали.
СА. ВКП. 500: 127; ГАРФ. Ф. 3316. Оп. 41. Д. 107. Л. 55. См. также: Там же. Д. 84. Л. 89; Д. 107. Л. 9, 31.
СЮ. 1933. № 16. С 4; ГАРФ. Ф. 5451. Оп. 15. Д. 33. Л. 100; СГ 1933. № 5 С 27
СА. ВКП. 351: 28; ГАСО. Ф. 1148. Оп. 148 р/2. Д. 65. Л. 42; РГАСПИ. Ф. 5. Оп. 4. Д. 1. Л. 37.
КГ. 1933. 21 нояб. С. 3; 26 нояб. С. 3; 28 нояб. С. 3; 30 нояб. С. 4; И дек. С. 2.
РГАЭ. Ф. 396. Оп. 10. Д. 145. Л. 286; СА. ВКП. 386: 369-370; СЮ. 1936. № 3. С. 5; СА. ВКП. 190: 195 - 196.
РГАЭ. Ф. 396. Оп. 10. Д. 66. Л. 180.
Там же. Д. 121. Л. 53-55.
СЗ СССР. 1934. № 33. Ст. 257; 1935. № 7. Ст. 57; Трифо нов И.Я. Ликвидация эксплуататорских классов в СССР. М., 1975. С. 389 — 391. Отметим, что, несмотря на ограничение свободы передвиже ния, ссыльные кулаки призывались в армию во время Второй мировой войны. Трифонов (с. 391) называет 1947 г. в качестве даты отмены огра ничений свободы передвижения для бывших кулаков. Совсем недавно В.Н.Земсков опубликовал секретное постановление Совета Министров СССР от 13 авг. 1954 г. («О снятии ограничений по спецпоселению с
402
бывших кулаков и других лиц»), что заставляет сделать вывод о более поздней дате (Социологические исследования. [1991]. № 1. С. 10).
ВВСКУ. С. 19. См. также выше, с. 142-144.
СДК. С. 167; ИКП. Т. 1. С. 429. Кулацким детям никогда офи циально не было отказано в приеме в колхоз, следовательно, их право на членство в колхозе никогда официально не восстанавливалось. Но это право все же было подтверждено мартовским указом 1933 г., возвращав шим избирательные права кулацким детям, не проявляющим антиобщест венных тенденций (СЗ СССР. [1933]. № 21. Ст. 117), и положением о праве на членство в колхозе в Примерном уставе сельскохозяйственной артели 1935 г. (ИКП. Т. 1. С. 429), открыто включавшим детей лишен цев и ссыльных кулаков, которые «заняты общественно-полезным трудом и трудятся добросовестно».
Вылцан М.А. Завершающий этап создания колхозного строя. С. 251; СЗ СССР. 1935. № 65. Ст. 520.
КП. 1935. 2 дек. С. 2.
См., напр.: КП. 1935. 28 дек. С. 1.
История СССР. 1976. № 6. С. 117, 119, 126; Рабочий путь. 1937. 16 окт. С. 2; СЗ. 1937. 28 дек. С. 3; Курская правда. 1937. 26 авг. С. 3; 29 авг. С. 3; 2 сент. С. 3; 14 окт. С. 4; Рабочий путь. 1937. 16 окт. С. 2; Строительство советского государства. С. 77.
ГАРФ. Ф. 3316. Оп. 41. Д. 107. Л. 12, 58. По словам одного со ветского историка, проанализировавшего 6369 замечаний к этой статье Конституции, систематизированных Президиумом Исполнительного Ко митета Всероссийского съезда Советов, большинство было против возвра щения избирательных прав кулакам и священникам; Арч Гетти обнару жил ту же тенденцию в своей подборке писем по поводу Конституции из Ленинградской и Западной областей (История СССР. [1976]. № 6. С. 125-126; SR. [1991]. Vol. 50. № 1. Р. 25).
Рабочий путь. 1937. 16 окт. С. 2; также см. выше, с. 222, 225- 226.
СЮ. 1935. № 32. С. 1; РГАЭ. Ф. 7486. Оп. 19. Д. 412. Л. 30.
РГАЭ. Ф. 396. Оп. 10. Д. 161. Л. 473; Д. 19. Л. 25; КрП. 1935. 2 июня. С. 2.
Алексеев М. Хлеб — имя существительное. С. 435 — 436; Крас ный Крым. 1937. 17 сент. С. 2; Шуваев К.М. Старая и новая деревня. С. 48.
ГАСО. Ф. 88. Оп. 1. Д. 62. Л. 95; СА. ВКП. 260: 24-25.
СЮ. 1933. № 1. С. 18; РГАЭ. Ф. 7486. Оп. 19. Д. 259. Без паг. Хотя вторая женщина беднячка по происхождению, стиль и содержание ее письма безусловно показывают, что она получила по крайней мере среднее образование.
СГ. 1933. № 5. С. 32-37; Молот. 1934. 23 янв. С. 2; СЮ. 1933. № 22. С. И; Юность. 1988. № 3. С. 11-30; Дружников Ю. Вознесение Павлика Морозова. Лондон, 1988. С. 30 — 54.
СЮ. 1934. № 17. С. 22.
СЮ. 1935. № 32. С. 1.
СА. ВКП. 386: 80.
Красный Крым. 1936. 17 сент. С. 2; КрП. 1936. 2 сент. С. 3; Кур ская правда. 1937. 26 авг. С. 3; 29 авг. С. 3; 2 сент. С. 3; 14 окт. С. 4; СЗ. 1937. 28 дек. С. 2.
РГАЭ. Ф. 396. Оп. 10. Д. 160. Л. 64; Д. 162. Л. 160. По меньшей мере в одном из двух подобных случаев район отклонил ходатайство.
403
Курская правда. 1937. 14 окт. С. 4; Рабочий путь. 1937. 16 окт. С. 2.
Курская правда. 1937. 14 окт. С. 4; РГАЭ. Ф. 396. Оп. 10. Д. 86. Без паг. (письмо селькора Веровойки от 27 марта 1938 г.).
Наиболее близкий к этому пример, который мне удалось найти (Курская правда. 1937. 14 окт. С. 4) — история «репрессированного» прежде крестьянина, который вернулся в деревню, был принят в колхоз и сразу стал там бригадиром.
Примеры взяты из: КрП. 1935. 8 апр. С. 3; Рабочий путь. 1937. 29 июля. С. 2; РГАЭ. Ф. 396. Оп. 10. Д. 143. Л. 216. См. также: СЗ. 1932. 4 нояб. С. 1; Молот. 1933. 21 апр. С. 1; Красная Башкирия. 1938. 14 мая. С. 2; СЮ. 1935. № 12. С. 9; КрП. 1935. 28 февр. С. 2; РГАЭ. Ф. 396. Оп. 10. Д. 86. Без паг. (письмо Веровойки, 27 марта 1938).
КГ. 1933. 21 нояб. С. 3; РГАЭ. Ф. 396. Оп. 10. Д. 87. Без паг. (жалоба из колхоза «Серп и молот» Советского района); Д. 145. Л. 495-496.
Шуваев К.М. Старая и новая деревня. С. 43 — 45.
РГАЭ. Ф. 396. Оп. 10. Д. 86. Без паг.
Красный Крым. 1933. 1 февр. С. 2.
СА. ВКП. 415: 13.
РГАЭ. Ф. 396. Оп. 10. Д. 87. Без паг.; Д. 129. Без паг. (дело Ильи Митронова).
Новый мир. 1968. № 11. С. 41-56; Антирелигиозник. 1930. № 8-9. С. 24; СЮ. 1932. № 3. С. 23.
СЮ. 1932. № 3. С. 23-24.
РГАЭ. Ф. 396. Оп. 10. Д. 19. Л. 195-196, 200.
Подробнее об этом см.: Fitzpatrick S. L'Usage bolchevique de la Class // Actes de la Recherche en Sciences Sociales. 1990. Vol. 85. P. 78- 79.
СА. ВКП. 190: 26.
РГАЭ. Ф. 396. On. 10. Д. 19. Л. 24.
Там же. Д. 87. Без паг.
КрП. 1935. 22 февр. С. 3.
СА. ВКП. 386: 144-147.
Там же. 190: 131 -132.
РГАЭ. Ф. 396. Оп. 10. Д. 39. Л. 477.
СА. ВКП. 500: 76-77.
РГАЭ. Ф. 396. Оп. 10. Д. 129. Без паг.
Там же. Д. 65. Л. 245.
Там же. Д. 137. Л. 50-60.
Основное изложение истории Павлика Морозова в советском духе см.: Большая советская энциклопедия. 3-е изд. М., 1974. Т. 16. С. 580; Зори советской пионерии. Очерки по истории пионерской орга низации (1917-1941). М., 1972. С. 72.
Дружников Ю. Вознесение Павлика Морозова. С. 10, 20, 30 — 55.
КрП. 1935. 23 апр. С. 4. Другие примеры см.: Conquest R. The Harvest of Sorrow. Oxford, 1986. P. 295; Зори советской пионерии. С. 72-73; Молодой колхозник. 1935. № 6. С. 10—11.
СЮ. 1935. № 9. С. 15-18.
См., напр., редакционную отповедь потенциальному доносчику на отца в: Красная Татария. 1938. 5 апр. С. 2.
См. характеристику этих материалов в разделе «О библиографии и источниках».
404
Были исключения из этого правила во время раскулачивания, когда некоторые деревни посылали общие ходатайства в защиту раскула ченных: ГАСО. Ф. 88 (1). Оп. 1. Д. 62. Л. 171, 177.
РГАЭ. Ф. 396. Оп. 10. Д. 161. Л. 473. Несмотря на этот бесхит ростный призыв, автор письма еще отнюдь не исчерпал своих возможнос тей. Он уже послал письмо в местную газету и собирался подать жалобу в народный суд, если жалоба в «Крестьянскую газету» останется без от вета.
Там же. Д. 65. Л. 265-268.
Там же. Д. 143. Л. 311.
Красный Крым. 1937. 15 сент. С. 2.
О тяжелейшей нагрузке районного судьи см.: Manning R. Govern ment in the Soviet Countryside... P. 14—16.
РГАСПИ. Ф. 112. On. 26. Д. 21. Л. 128-129.
CA. ВКП. 355: 29.
РГАЭ. Ф. 396. On. 10. Д. 64. Л. 165; Д. 143. Л. 211.
Там же. Д. 145. Л. 448.
СА. ВКП. 500: 76-77.
Там же. 239: 28.
РГАЭ. Ф. 396. Оп. 10. Д. 87. Без паг.
Там же. Д. 66. Л. 7.
Там же. Д. 142. Л. 670; Д. 129. Без паг. (письмо Т.И.Шалыпи- на).
Глава 10
Более подробно об этом см.: Becoming Cultured: Socialist Realism and the Representation of Privilege and Taste // Fitzpatrick S. The Cultural Front. Power and Culture in Revolutionary Russia. Ithaca, 1992. P. 216 — 237.
Рогалина Н.Л. Коллективизация: Уроки пройденного пути. С. 198.
Правда. 1935. 16 сент. С. 3. О другой версии см. с. 256.
СЗ. 1938. 3 янв. С. 2; Коммуна. 1936. 8 июля. С. 4; КрП. 1935. 1 апр. С. 4.
СЗ. 1938. 3 янв. С. 2; ВВСКУ. С. 70.
РГАЭ. Ф. 7486. Оп. 19. Д. 399. Л. 79.
КГ. 1933. 21 нояб. С. 3; Рабочий путь. 1937. 16 авг. С. 4; Звезда. 1937. 5 окт. С. 4; СЗ. 1938. 12 авг. С. 4.
За коммунистическое просвещение. 1935. 18 дек. С. 2; Культурная жизнь в СССР 1928-1941. Хроника. М., 1976. С. 504, 514, 620-621 (перечисление фестивалей).
За коммунистическое просвещение. 1935. 18 дек. С. 2; Культурная жизнь в СССР... С. 493, 523, 530. Барбюс, известный французский пи сатель, симпатизировавший Советам, автор антивоенного романа «Огонь» и биографии Сталина, был одним из участников потемкинского сборника о Советском Союзе: Глазами иностранцев: Иностранные писате ли о Советском Союзе / Под ред. М.Живова. М., 1932.
«Готов к труду и обороне» — советский эквивалент скаутского значка.
Героини социалистического труда. М., 1936. С. 71.
12. Десятый съезд Всесоюзного Ленинского Коммунистического Союза Молодежи 11 — 12 апреля 1936 г.: Стенографический отчет. М.,
405
1936. Т. 1. С. 288; Т. 2. С. 118; Веселов А.П. Борьба Коммунистической партии за проведение культурной революции в деревне в годы коллективизации. Л., 1978. С. 106.
Наиболее четко эти тенденции прослеживаются в справочниках конца 30-х гг.: Социалистическое строительство Союза ССР (1933 — 1938 гг.): Статистический сборник. М.—Л., 1939; СССР страна социа лизма: Статистический сборник. М., 1936.
Социалистическое строительство Союза ССР. С. 143.
Расчеты по: Там же. С. 85, 143.
ВВСКУ. С. 70.
Десятый съезд ВЛКСМ. Т. 1. С. 271-272; СА. ВКП. 203: 188.
СЗ. 1938. 24 марта. С. 1.
Leyda J. Kino. London, 1960. P. 342.
СЗ. 1938. 26 марта. С. 4.
Герасимов Е. Путешествие в Спас-на-Песках. С. 78.
Тан-Богораз В.Г. Обновленная деревня: Сборник. Л., 1925. С. 8; Работница. 1935. № 5-6. С. 16.
Известия. 1935. 16 февр. С. 1.
Анохина Л.А., Шмелева М.Н. Культура и быт... С. 281.
Описание основано на статье А.Янова «Колхозное собрание», опирающейся на наблюдения 1960-х гг. (International Journal of Sociol ogy. 1976. Vol. 6. № 2-3. P. 13-15).
Гущин Н.Я. и др. Крестьянство Западной Сибири в довоенные годы. С. 194—195; СДК. С. 484. О взрыве негодования после одной речи о международном положении см. с. 293.
Kenez P. Birth of the Propaganda State. P. 138; Зори советской пионерии. С. 74; ИСК. Т. 2. С. 391.
См.: СА. ВКП. 166: 767-768.
СА. ВКП. 166: 737, 774; ГАСО. Ф. 88. Оп. 1. Д. 66. Л. 20.
РГАЭ. Ф. 396. Оп. 10. Д. 161. Л. 473.
Культурное строительство СССР. С. 300, 322; Арина А.Е. и др. Социально-экономические изменения в деревне. С. 215; ВВСКУ. С. 213.
Вылцан М.А. Советская деревня накануне Великой Отечествен ной войны. С. 24; За коммунистическое просвещение. 1935. 14 окт. С. 3.
Культурное строительство СССР. С. 300 — 301; Социалистическое строительство Союза ССР. С. 129, 130.
Десятый съезд ВЛКСМ. Т. 1. С. 277; Социальный облик колхоз ной молодежи по материалам социологических обследований 1938 и 1969 гг. М., 1976. С. 23 — 24. Отметим, что обследование явно ориентирова лось на зажиточные колхозы.
Алексеев М. Драчуны. М., 1982. С. 312-314.
КрП. 1935. 27 февр. С. 2; ВВСКУ. С. 209; Дубковецкий Ф. На путях к коммунизму. Записки зачинателя колхозного движения на Ук раине. М., 1951. С. 41-44.
ВВСКУ. С. 78.
КрП. 1935. 3 марта. С. 2.
ВВСКУ. С. 61; КрП. 1935. 27 февр. С. 2; Героини социалисти ческого труда. С. 48.
К всесоюзным съездам такого типа относились съезды женщин «пятисотниц» в свеклосахарном производстве (ноябрь 1935 г.), ударни ков и ударниц комбайнеров (декабрь 1935 г.), ударников-хлеборобов (трактористов и молотильщиков, декабрь 1935 г.), колхозников и кол хозниц Таджикистана и Туркменистана (декабрь 1935 г.), колхозников и
406
колхозниц Узбекистана, Казахстана и Каракалпакии (декабрь 1935 г.), ведущих работников животноводства (февраль 1936 г.), льноводов и коноплеводов (март 1936 г.): ИСК. Т. 2. С. 349; Вылцан М.А. Завершающий этап создания колхозного строя. С. 121 — 130.
Справочник партийного работника. М., 1935. Вып. 9. С. 192 — 193.
Их биографии см. в «Большой советской энциклопедии» (2-е изд.).
КрП. 1935. 16 нояб. С. 3. Эта статья, полностью посвященная описанию ритуала, — в советской журналистике того времени случай из ряда вон выходящий — была опубликована без подписи.
Героини социалистического труда. С. 44 — 45.
Там же. С. 40.
Там же. С. 36-38.
Там же. С. 72, 75, 98.
Сталин. Сочинения. Т. 1 (14). С. 106.
КП. 1935. 9 дек. С. 3.
Героини социалистического труда. С. 40, 128—129.
Там же. С. 54-55, 71, 101-102, 129.
См.: Сталин. Сочинения. Т. 1 (14). С. 74-76.
Там же. С. 75-76.
ВВСКУ. С. 34.
Героини социалистического труда. С. 53, 57.
Там же. С. 92-93.
Там же. С. 87.
См.: Carr E.H. The Bolshevik Revolution, 1917-1923. London, 1966. Vol. 1. P. 153—154; Советское государство и право в период стро ительства социализма (1921-1935 гг.). М., 1968. С. 2, 217-218. В РСФСР была сложная система, при которой трудно точно оценить пере вес голосов. В других республиках он прямо устанавливался 5:1 в пользу городов.
Вылцан М.А. Советская деревня накануне Великой Отечествен ной войны. С. 192; За коммунистическое просвещение. 1934. 21 нояб. С. 2; СЗ СССР. 1937. № 2. Ст. 85.
Данные о делегатах см.: Правда. 1935. 12 февр. С. 2; 15 февр. С. 1 — 2; Известия. 1935. 12 февр. С. 1; 16 февр. С. 1. Российский и со ветский парламенты, в 1937 г. получившие название Верховных Советов, раньше были известны как акронимы ВЦИК и ЦИК (Всероссийский и Всесоюзный Центральные Исполнительные Комитеты съезда Советов).
СА. ВКП. 191: 32.
Героини социалистического труда. С. 162—163.
См.: СЗ. 1938. 18 нояб. С. 4. Там рассказывается о встрече ре жиссера и сценариста фильма с группой знатных колхозников для про верки реалистичности сценария.
История СССР. 1976. № 6. С. 117; КП. 1935. 8 февр. С. 2; 7 Съезд Советов: Стенографический отчет. М., 1935. Бюлл. 17, 41.
История советской конституции (в документах) 1917—1956. М., 1957. С. 726.
Каждый избирательный округ избирает одного депутата и пред ставляет 300000 чел. населения. Постановление о выборах в Верховный Совет СССР 9 июля 1937 г. // СЗ СССР. 1937. № 43. Ст. 182.
Труд. 1937. 11 марта. С. 1—2 (речь Жданова на пленуме ЦК); КПСС в резолюциях... Т. 5. С. 286-287 (резолюция ЦК).
407
Выборы в местные (областные, районные, городские и сельские) советы по новой Конституции в первый раз прошли в декабре 1939 г. Ко жевников Е.М. Исторический опыт КПСС по руководству Советским го сударством (1936-1941). М., 1977. С. 95-96.
Труд. 1937. 11 марта. С. 1-2.
Иную точку зрения см.: Getty J.Arch. State and Society under Stalin: Constitutions and Elections in the 1930s // SR. 1991. Vol. 50. № 1. P. 18 — 35. По протоколам пленума складывается сильное впечатление, что члены ЦК с таким страхом ждали следующих выступлений (Молото- ва, Ежова и Сталина о вредительстве) и так заняты были мыслью, как выжить самим, что не обратили никакого внимания на доклад Жданова о выборах. Председателю для проведения прений приходилось вызывать людей поименно. «Какие перевыборы?» — в какой-то момент рассеянно поинтересовался Сталин. Выступавшие с трудом вспоминали, о каких выборах идет речь: с одним или многими кандидатами, несмотря на тер пеливые разъяснения Жданова. Калинин, председатель ЦИК, признался в незнании новых избирательных процедур и заявил, что если люди на деются получить от него подробные инструкции, то их ждет разочарова ние. Сверх того, один выступавший связал демократическую тенденцию с именем Радека, ныне дискредитированного «врага народа». РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 2. Д. 612. Л. 4-40 (гл. обр. 8, 10, 18, 24, 34).
Красный Крым. 1937. 3 авг. С. 3.
Неизвестная Россия XX века. С. 276-278.
Профсоюзы СССР. 1938. № 5-6. С. 16-19; Коммуна. 1937. И окт. С. 2; 22 нояб. С. 2.
СЗ СССР. 1937. № 43. Ст. 182; Рабочий путь. 1937. 3 июля. С. 1—2; 26 сент. С. 2. Колхозов вначале не было в числе организаций, могущих выдвигать кандидатов, но последующие разъяснения включали в этот список и их.
Звезда. 1937. 23 марта. С. 3. Это анонимное письмо главному ре дактору опубликовано не было; выдержки из него цитировались (с несо мненным неодобрением) в тексте статьи, посвященной антирелигиозной пропаганде.
КрП. 1937. 2 авг. С. 2-3; Коммуна. 1937. 22 нояб. С. 2; Проф союзы СССР. 1938. № 5 - 6. С. 16 - 19; Антирелигиозник. 1937. № 8. С. 2; Коммуна. 1937. 22 нояб. С. 2; Северный рабочий. 1937. 10 сент. С. 3. См. также: КрП. 1937. 20 июня. С. 3; СО. 1937. 6 авг. С. 2; Ком муна. 1937. 21 авг. С. 1.
Неизвестная Россия XX века. С. 278.
О религии как средстве выражения народного протеста в России см. статью Э.Данн (The Soviet Rural Community / Ed. by J.R.Millar. P. 374).
CA. ВКП. Ill: 74.
О заговорах см.: Безбожник. 1937. № 7. С. 8. Об арестах см.: Неизвестная Россия XX века. С. 278 — 279, а также выше, с. 226 — 228.
Рабочий путь. 1937. 4 дек. С. 2. См. также: Курская правда. 1937. 2 нояб. С. 2.
Рабочий путь. 1937. 10 сент. С. 2; Коммуна. 1937. 22 нояб. С. 2.
См.: Getty J. Arch. State and Society under Stalin. P. 31.
Рабочий путь. 1937. 21 окт. С. 1; Правда. 1937. 12 нояб. С. 3.
Рабочий путь. 1937. 28 сент. С. 1.
Коммуна. 1937. 12 нояб. С. 1; 22 нояб. С. 2.
Курская правда. 1937. 2 нояб. С. 2; Коммуна. 1937. 27 нояб. С. 1.
408
Кожевников Е.М. Исторический опыт КПСС... С. 88; Рабочий класс в управлении государством (1926—1937 гг.). М., 1968. С. 97 — 98.
Коммунист. 1990. № 1. С. 98.
РГАЭ. Ф. 396. Оп. 10. Д. 39. Л. 276.
СА. ВКП. 186: 63.
Глава 11
См.: Yang A.A. A Conversation of Rumors.
Tuominen A. The Bells of the Kremlin. P. 113.
Там же.
ГАРФ. Ф. 374. On. 9. Д. 418. Л. 70; ГАСО. Ф. 88/р. On. la. Д. 57. Л. 59-60.
ГАРФ. Ф. 374. Оп. 9. Д. 418. Л. 70; ГАСО. Ф. 88/р. On. la. Д. 57. Л. 30, 59-60; СА. ВКП. 151: 194.
СА. ВКП. 166: 178, 180, 184.
Там же. 166: 216. Это сообщение пришло из нерусского (еврейско го?) колхоза.
Там же. 166: 399.
Там же.
10. ВИ. 1991. № 6. С. 180.
КолЦЧО. С. 278-279; Можаев Б. История села Берхова... С. 478.
«Плач» был опубликован в «Правде» (1936. 1 дек.). См.: Miller F.J. Folklore for Stalin. Russian Folklore and Pseudo-Folklore of the Stalin Era. Armonk, N.Y., 1990. P. 11.
СА. ВКП. 415: 22. Есть вариант: «Когда Кирова убили,/ По пуду соли дали./ Когда Сталина убьют,/ По два пуда нам дадут» (Там же. 415: 6).
Разные варианты см.: СА. ВКП. 352: 132; 237: 39.
Там же. 355: 33 (курсив мой).
Там же. 352: 115; 355: 48, 51, 57.
Там же. 415: 22, 19.
Материалы обсуждения секретного письма ЦК в комсомольских организациях см.: Там же. 415.
Об исключениях из партии см. с. 198—199.
20. СА. ВКП. 362: 240 (донесение НКВД из Вельского района, 16 июля 1937).
Там.же.
РГАЭ. Ф. 396. Оп. 11. Д. 44. Л. 64; КрП. 1937. 2 авг. С. 2-3; СА. ВКП. 500: 296. Западный обком, кажется не воспринял эти «по встанческие» организации серьезно.
Поляков Ю.А. и др. Полвека молчания. С. 68.
Там же.
Неизвестная Россия XX века. С. 279.
Сталин. Сочинения. Т. 1 (14). С. 254.
КрП. 1937. 2 авг. С. 2-3; СА. ВКП. 415: 142.
РГАЭ. Ф. 396. Оп. 10. Д. 162. Л. 222; Д. 88. Без паг. (письмо И.А.Кошкина и др.). Примеры крестьянских писем Сталину см. выше, с. 119, 319.
29. Волкогонов Д. Триумф и трагедия // Октябрь. 1988. № 11. С. 105.
409
Лубок /The Lubok / Сост. Ю.Овсянников. М., 1968. С. 11-14. Эта интерпретация оспаривается в: SR. 1991. Vol. 50. Jsfe 3. P. 560 — 562.
Последующее изложение основано на материалах газет о 30 рай онных показательных процессах, прошедших в 11 областях и краях РСФСР, плюс 2 процесса на Украине и 1 — в Белоруссии. Общее число таких процессов неизвестно, однако на основе собранного материала можно заключить, что они состоялись по крайней мере в 3% сельских районов России.
Правда. 1937. 9 марта. С. 6; 10 марта. С. 6; 11 марта. С. 6; 12 марта. С. 6.
Сообщения о ширяевском процессе появлялись в «Правде» (1937. 15 июня. С. 4; 16 июня. С. 4; 17 июня. С. 6; 18 июня. С. 6; 19 июня. С. 6), «Социалистическом земледелии» (1937. 18 июня. С. 4; 21 июля. С. 1) и некоторых областных газетах.
Правда. 1937. 2 июля. С. 6; 5 июля. С. 5 (новоминское дело); 15 июля. С. 1; 29 июля. С. 6; 30 июля. С. 6; 31 июля. С. 6 (даниловское дело).
Правда. 1937. 3 авг. С. 1.
Об «образцовой фабуле» (master plot) см.: Clark К. The Soviet Novel. History as Ritual. Chicago, 1981. P. 5-15.
Правда. 1937. 9 марта. С. 6; 16 июня. С. 4; 30 июля. С. 6.
Рабочий путь. 1937. 8 сент. С. 4; Коммуна. 1937. 1 сент. С. 4; 6 окт. С. 2.
Отметим, что этого не было в первоначальном сценарии «Прав ды», видимо, потому, что понятие «враги народа» и применение ст. 58 получили широчайшее распространение уже после марта 1937 г. (когда «Правда» поместила первый материал об «образцовом» деле), но до конца августа, когда покатилась волна районных показательных процес сов. На лепельском процессе в марте обвиняемые были осуждены по ст. 196 Уголовного кодекса БССР (нарушение советских законов и злоупот ребление служебным положением), а на даниловском — по закону от 7 августа 1932 г. за уничтожение социалистической собственности. «Прав да» не указывала конкретную статью Уголовного кодекса, примененную в новоминском и ширяевском делах, но, наверное, не преминула бы сде лать это, будь то ст. 58.
Один обвиняемый признался, что был знаком с неким троцкистом в Москве в 1928 г., сразу после окончания партийной школы. Другой позво лил бывшему троцкисту, директору местного ветеринарного техникума, скрыться и избежать ареста. Коммуна. 1937. 3 сент. С. 3; 3 окт. С. 2.
Solzhenitsyn A.I. The Gulag Archipelago. New York, 1973. Vol. 1- 2. P. 419 — 431. Кадыйская история, которую Солженицын, вероятно, слышал в лагере от одного из обвиняемых на том процессе, подана в зна чительной мере с точки зрения подсудимых, подчеркивавших, что они являются невинными козлами отпущения и жертвами фракционных ин триг в областном руководстве.
Коммуна. 1937. 29 авг. С. 4; 3 сент. С. 3; 4 сент. С. 4. Другие схожие случаи протестов и отказа признать свою вину см.: Курская прав да. 1937. 29 авг. С. 3; Северный рабочий. 1937. 30 июля. С. 4.
Рабочий путь. 1937. 5 сент. С. 3.
Газеты сообщали о приговорах по 10 делам, в 11-м случае о при говоре можно было догадаться: КП. 1937. 29 авг. С. 3; 2 сент. С. 2; 20 окт. С. 3; Курская правда. 1937. 4 сент. С. 2; Рабочий путь. 1937. 29 авг.
410
С. 3; 18 окт. С. 2; Коммуна. 1937. 6 сент. С. 4; б окт. С. 2; Московская колхозная газета. 1937. 3 нояб. С. 4.
См. шифротелеграммы из личного архива Сталина, опубликован ные в «Известиях» (1992. 10 июня. С. 7; я очень признательна Арч Гетти, обратившему мое внимание на эту публикацию), а также: Рабочий путь. 1937. 2 сент. С. 1.
Коммуна. 1937. 30 авг. С. 4; 4 сент. С. 4.
КрП. 1937. 3 сент. С. 2.
СЗ. 1937. 21 июля. С. 1; СЮ. 1937. № 20. С. 22.
СЮ. 1937. № 20. С. 24.
Коммуна. 1937. 28 сент. С. 2; СЮ. 1937. № 20. С. 22; КрП. 1937. 17 авг. С. 4.
СЮ. 1937. № 20. С. 24; Коммуна. 1937. 4 сент. С. 4.
Коммуна. 1937. 28 сент. С. 2.
Там же. 2 сент. С. 3.
КрП. 1937. 28 авг. С. 1.
Северный рабочий. 1937. 22 сент. С. 2.
СЗ. 1937. 26 июля. С. 2; КрП. 1937. 20 окт. С. 3.
Курская правда. 1937. 2 окт. С. 1; 16 окт. С. 4.
Исключение представляет нерехтинский процесс, где председате ля райисполкома обвиняли в плохом обращении с крестьянами во время голода 1933 года. Северный рабочий. 1937. 22 сент. С. 2.
Московская колхозная газета. 1937. 5 окт. С. 2.
Там же. 28 авг. С. 1.
КрП. 1937. 2 сент. С. 2.
Там же. 26 авг. С. 2; 2 сент. С. 2.
Коммуна. 1937. 28 сент. С. 1-2; 3 окт. С. 2.
КрП. 1937. 28 окт. С. 4; Рабочий путь. 1937. 12 сент. С. 2; 16 окт. С. 1, 2. У Р.Мэннинг есть захватывающий рассказ, основанный на материалах Смоленского архива, о событиях в Сычевке, приведших к показательному процессу («The Case of the Miffed Milkmaid»).
КрП. 1937. 30 июля. С. 2-3.
См. выше, с. 268-269.
СЗ. 1937. 26 июля. С. 2; 28 дек. С. 3; Курская правда. 1937. 23 авг. С. 4; 26 авг. С. 3; 29 авг. С. 3; 2 сент. С. 3; 14 окт. С. 4.
Рабочий путь. 1937. 16 окт. С. 2.
Коммунист (Саратов). 1937. 14 сент. С. 3.
Северный рабочий. 1937. 30 июля. С. 4; Коммуна. 1937. 4 сент. С. 4.
Коммуна. 1937. 3 окт. С. 2.
Там же. 6 окт. С. 2; КрП. 1937. 27 авг. С. 2; Коммуна. 1937. 28 сент. С. 2; Северный рабочий. 1937. 22 сент. С. 2; КрП. 1937. 2 сент. С. 2.
КрП. 1937. 26 авг. С. 2; 2 сент. С. 2; Коммуна. 1937. 4 сент. С. 4. См. также: Звезда. 1937. 20 сент. С. 1.
КрП. 1937. 3 сент. С. 2.
Там же.
КПСС в резолюциях... Т. 5. С. 313-320; ИКП. Т. 2. С. 127 — 128.
КПСС в резолюциях... Т. 5. С. 398-404; Nove A. An Economic History of the U.S.S.R. London, 1972. P. 257-258.
О карнавале см.: Davis N.Z. The Reasons of Misrule // Davis N.Z. Society and Culture in Early Modern France. Stanford, 1975; Burke P. Popular Culture in Early Modern Europe. London, 1978. Ch. 7.
411
Solzhenitsyn A.I. The Gulag Archipelago. P. 419-431. В Кадые, как рассказывали Солженицыну, подсудимые заявили, что процесс под строен НКВД, и защищались так смело, что все симпатии толпы оказа лись на их стороне.
Правда. 1937. 31 июля. С. 6.
СА. ВКП. 355: 33.
Послесловие
См.: Dallin A. German Rule in Russia, 1941-1945. A Study of Oc cupation Policies. London, 1957 (особенно с. 370 — 371); The Impact of World War II on the Soviet Union / Ed. by S.J.Linz. Totowa, N.Y., 1985. P. 77-78.
См. исследование инкорпорации крестьян в состав французской нации в XIX в.: Weber E. Peasants into Frenchmen. Stanford, 1976.
История СССР. 1982. № 5. С. 130; Fitzpatrick S. War and Society in Soviet Context: Soviet Labor Before, During and After World War II // In ternational Working-class and Labor History. 1989. Vol. 35. P. 45; Сонин М.Я. Воспроизводство рабочей силы в СССР и баланс труда. М., 1959. С. 144, 148; Народное хозяйство СССР 1922-1972 гг. С. 9.
О народных ожиданиях см. интервью с Г.А.Бордюговым «Укра денная победа» (КП. 1990. 5 мая. С. 2). О религии см.: W.C.Fletcher. The Russian Orthodox Church Underground. London, 1971. P. 152-162. О событиях в колхозе см. постановление 19 сент. 1946 г. (СЗ СССР. 1946. № 13. Ст. 254).
СЗ СССР. 1946. № 13. Ст. 254.
Hough J.F. The Changing Nature of the Kolkhoz Chairman. P. 109- 111; Adams A.E., Adams J.S. Men versus Systems. Agriculture in the USSR, Poland and Czechoslovakia. New York, 1971. P. 22.
Цит. по: Советская Россия. 1968. 6 февр. С. 1 (Hough J.F. The Changing Nature of the Kolkhoz Chairman. P. 106-107).
Adams A., Adams J. Men versus Systems. P. 55.
Ibid. P. 30. Такие же замечания по поводу колхоза 70-х гг. см.: Laird R.D., Laird В.A. The Soviet Farm Manager as an Entrepreneur // Guroff G. Entrepreneurship in Imperial Russia and the Soviet Union. Princeton, 1983. P. 258-259.
Слова А.Янова цит. по: Adams A., Adams J. Men versus Systems. P. 31. О предпринимательской натуре современного колхозного председа теля см.: Laird R., Laird В. The Soviet Farm Manager... P. 258-283.
Bronson D.W., Kruger C.B. The Revolution in Soviet Farm House hold Income, 1953-1967 // The Soviet Rural Community. P. 223.
The Soviet Rural Community. P. 155; Laird R., Laird B. The Soviet Farm Manager... P. 278-281.
СЗ СССР. 1964. № 29. Ст. 340; Encyclopedia of Soviet Law / Ed. by FJ.Feldbrugge. Leiden, 1973. Vol. 2. P. 366-367. До создания Всесо юзного фонда страхования здоровья актом 1970 г. колхозы должны были выплачивать своим членам пенсии по старости, нетрудоспособности и оп лачивать больничные листы по собственному усмотрению и из собствен ных средств. См. Устав 1935 г., § 11 (Решения партии и правительства... Т. 2. С. 524-525).
Medvedev Zh.A. Soviet Agriculture. New York, 1987. P. 347.
412
Encyclopedia of Soviet Law. Vol. 2. P. 366; Schroder G.E. Rural Living Standards in the Soviet Union // The Soviet Rural Economy / Ed. by R.C.Stuart. Totowa, N.Y., 1983. P. 243. Категория -«сельскохозяйст венные рабочие» включает и колхозников, и совхозных рабочих.
Ryan M. Contemporary Soviet Society: A Statistical Handbook. Aldershot, Hants., 1990. P. 135. Хороший обзор социокультурных перемен в Советском Союзе с 1950-х гг. см.: Lewin M. The Gorbachev Phenome non: A Historical Interpretation. Berkeley, 1988. Part 1.
Schroder G.E. Rural Living Standards... P. 247-249.
Народное хозяйство СССР 1922-1972 гг. С. 116; Schroder G.E. Rural Living Standards... P. 250, 254; Adams A., Adams J. Men versus Sys tems. P. 93.
Medvedev Zh.A. Soviet Agriculture. P. 381-382.
Ryan M. Contemporary Soviet Society. P. 19.
Zaslavsky V., Luryi Yu. The Passport System... P. 137-144; Med vedev Zh.A. Soviet Agriculture. P. 323. Отметим, что уровень миграции в город в последующее десятилетие заметно снизился. За период 1979 — 1989 гг. сельское население уменьшилось в абсолютном выражении лишь на 1 млн чел. (Ryan M. Contemporary Soviet Society. P. 19).
Итоги всесоюзной переписи населения 1959 года. СССР. Сводный том. С. 13; Ryan M. Contemporary Soviet Society. P. 19; Итоги всесоюз ной переписи населения 1979 г. Т. 7. М., 1990. С. 6. За период 1950 — 1980 гг. число совхозных рабочих более чем утроилось, а число колхоз ников уменьшилось наполовину (Schroder G.E. Rural Living Standards... P. 247-249).
Огонек. 1990. № 38. С. 8.
The New York Times. 1992. 17 Feb. P. 1; Current Digest of the Soviet Press. 1992. № 18. P. 8.
Именной указатель
Авдеев — 118
Авидов — 217
Александров Г. В. — 299
Алексеев В.В. — 5
Алексеев М.Н. - 101, 103, 105,
179, 216, 230, 244, 271, 304, 363,
380, 381, 391, 395-397, 403, 406 Алексеев — 341 Алексопулос Г. — 5 Ангелина П.Н. - 26, 139, 204,
306, 308, 311, 319, 386 Андреев А. А. — 112 Андреев Т.Ф. - 235 Андриевский Н. — 225 Анисимов Н.Н. - 389 Анохина Л.А. - 359, 373, 385,
397, 399, 406 Антонов А.С. — 315 Антонов С. — 363 Ануфриева О. — 250 Апполонова — 213 Арина А.Е. - 359, 395, 406 Арутюнян Ю.В. - 155, 359, 383,
388
Архипов — 326 Асеев Н.Н. - 385 Ауслендер Л. — 5
Базанова А. А. — 175
Балашев — 100
Балюк И.Д. - 295
Бандурин - 277
Баранов - 253
Барбюс А. - 296, 405
Барышев — 183
Бегалов — 340
Белов Ф. — см. Belov F.
Белова Е. - 279
Белоусов — 207
Беляков — 69
Бергсон А. — см. Bergson A.
Бердников К. Р. — 276
Березин И.И. - 156
Береснева — 191
Берсенев — 65
Богачкова А.В. — 165
Богораз (Богораз-Тан) В.Г. - 48,
373, 406 Бойер Дж. — 6 Бойко - 220 Боков - 74
Большаков A.M. — 372, 401 Большунов — 281 Бордюгов Г. А. — 5, 412 Бордзов — 277 Борисов А.Н. — 55 Борисов Ю.В. - 382 Ботенков - 290 Боун Дж. — 5 Бочков Н.В. - 383, 384 Брежнев Л.И. - 354 Брыкин Н. - 373 Бубнов А.С. - 257 Бударев А. — 391 Будягина З.С. - 311 Бухарин Н.И. — 331 Бушманова Е. — 394 Бушнелл Дж. — 5 Бюнгер — 263
В., крестьянин — 44 Вакуленко — 55 Василевский К.В. - 392 Васильев-Лаврентьев — 262, 263 Васильков — 212 Вдовин А.И. - 379, 380 Вернер Э. — 5 Веровойка — 404 Веселов А.П. - 406 Виола Л. — см. Viola L. Власенко Т. - 140, 145, 146 Волкогонов Д.Ф. — 409 Волконский П.П. — 59 Воробьев - 288 Воронов Н. - 278, 399 Ворошилов К.Е. - 138, 307, 308,
326
Вощанов П. - 374, 380 Вуколов А. - 267 Вылцан М.А. - 359, 383-390,
392, 394, 396, 400, 403, 407 Вышинский А.Я. - 333
414
Гаврилов — 263
Гагарин А. — 373
Гагарин, кн. — 218
Генкина Э.Б. - 390
Герасимов Е. - 103, 244, 245,
249, 363, 380, 385, 391, 394, 395,
399, 406
Гетти А. — см. Getty J.A. Гладков Ф.В. - 256, 294, 401 Глоссоп Н. — 5 Голицын М. - 280 Голубева Д. - 282 Голубева У. — 282 Голубых М. - 372, 373 Гольцев Я.Н. — 343 Горнов — 341 Городничева А. — 205 Горозанкин — 318 Горький М. - 285 Горшков — 206
Григоренко П.Г. - 81, 363, 377 Громыко М.М. — 371 Гумников В.З. - 280 Гумников Л.З. - 280 Гуревич К. — 5 Гусев К. - 249 Гутманн М. — 6 Гуха Р. — см. Guha R. Гущин Н.Я. - 359, 374, 377-
379, 384, 387, 389, 391, 392,
402, 406
Давыдов В. - 275
Данилов В.П. - 5, 360, 364, 371,
372, 380, 383 Данн С. - см. Dunn S.P. Данн Э. — см. Dunn E. Данос М. — 5 Дастон Л. — 5 Дегтярева П.О. - 394 Демченко М.С. - 26, 204, 319 Джапаков А. — 380 Дитрих — 315 Дольниченков Д. — 282 Дробижев В.З. - 5, 379, 380 Дружинин Ф. - 262 Дружников Ю. - 285, 403, 404 Дубковецкий Ф. - 363, 406 Дугин Н. - 396, 397 Дунаевский И.О. - 298, 299 Дьяченко В.П. - 387, 390, 394,
401 Дэвис Р.В. - см. Davies R.W.
Егоров В.В. - 71
Егоров В.И. - 71
Егоров И.В. - 71
Егоров СВ. - 71
Егорова Е.В. - 71
Ежов Н.И. - 137, 227, 314, 408
Екатерина II - 136
Елизарова Т. — 250
Емельях Л. И. - 373
Енишерлова М. — 374
Енукидзе А.С. - ПО
Ермаков — 281
Жаров М.В. - 235
Жданов А.А. - 133, 154, 313,
314, 365, 408 Живов М. - 405 Жидковы — 75 Жиромская В.Б. - 362, 389 Журавлев Е. - 282 Журавлев Н. - 282 Журавлев П. - 282
Заздравных — 221
Зайцев - 182
Зайцева - 251
Захаров А.С. - 284
Зверева А. - 132
Зеленин И.Е. - 359, 360, 381
Зеленов М. - 103, 104
Земсков В.Н. - 402
Зиновьев Г.Е. - 27, 326, 327, 330,
331 Зуев - 283
Иванов Вс. - 138
Иванова Е. - 282
Ивницкий Н.А. - 359, 360, 380
Игнатов - 202
Игнатович Б. - 307
Игошев — 70
Кабанков — 277
Кабанов - 339
Каганович Л.М. - 308, 379
Кажакин Т. - 138
Казаков - 192
Калинин М.И. - 27, 91, 104, 116,
119, 204, 308, 319, 324, 330, 334,
364, 365, 408 Каменев Л.Б. - 330, 331 Каплан С. — 5 Капустин А. — 5
415
Капустина А.Л. - 313
Карютина М. - 141, 213
Касинец Э. — 6
Катомина М. — 248
Кауфман А. — 391
Кац М. - 6
Кашкин — 339
Кинг Р. - 6
Кирин А. — 5
Киров СМ. - 27, 93, 304, 318,
324-327, 349, 385, 409 Кирюшин К. - 248 Киселев И.Н. - 362, 389 Киселев П.М. - 83 Кларк К. — см. Clark К. Климентьев — 55 Климов И. — 103 Клочко В.Ф. - 401 Коваль И.К. - 278 Кожевников Е.М. - 407, 408 Козлов В.А. - 5, 373 Козлов — 314 Колосков Г. — 234 Колоскова Ф. — 234 Комаров — 236 Конюхов — 267 Кондрашин В.В. - 360, 379 Конквест Р. — см. Conquest R. Коняева М. - 312 Копылов — 65 Кордин — 221 Коробцов Я.К. - 292 Коротан - 118 Коротков — 118 Коротченко — 337 Корчевский Д. - 138, 139, 385 Костина О. - 207 Котов Г. Г. - 359, 395 Котов П.Л. - 277 Коутсворт Дж. — 6 Кочетов - 338, 344 Кошелева Е.В. - 359, 384 Кошкаров — 224 Кошкин И.А. - 409 Кравцов Д. — 165 Кривошеева Е.П. — 325 Крупкин - 201 Крупская Н.К. - 245, 246 Кубышкин — 207 Кузин В - 273 Кукушкин А. - 193, 392 Кукушкин Ю.С. - 374, 376 Кулаков - 286
416
Кульба Е. - 139, 386 Куротия X. — 5
Лазарев А. - 139 Ларин Ю. - 37, 372, 388 Латышева - 345, 346, 349 Левин М. — см. Lewin M. Лебедевы — 232 Лебусенков — 280 Левченкова А. — 213 Лежепеков Я. — 225 Ленин В.И. - НО, 324 Леснов Е. - 101 Ливингстон У. — 6 Лидин В. - 385 Литвинов М.М. - 329 Лич Г. - 5-6 Лобанова — 300 Локшина — 100 Ломанн Э. — 6 Лосева К.В. - 359, 395 Лэйтин Д. - 5 Лукас К. - 5 Льюис О. — см. Lewis О.
Макаров И. - 240, 241
Макнил Р. - 369
Максимов А. — 280
Максимов — 281
Малафеев А.Н. - 375, 381
Маннинен — 342
Маркс К. - 324
Маслов А. - 192
Маслов С. - 353, 360, 386, 389
Маслов - 208
Массел Г. — см. Massel G.
Матюхин М.С. - 248
Мейзел Дж. — 6
Мельников — 267
Меркалов-отец — 277
Меркалов-сын — 277
Мерль С. — см. Merl S.
Мехта Дж. — 6
Микоян А.И. - 399
Миллар Дж.Р. — см. Millar J.R.
Миняев Н. - 103
Миронова Т. — 6
Мистостишхова Б.Ш. — 296
Митронов И. — 404
Митрошин С. — 194
Михалов — 118
Мичем С. — 6
Мишин В.Н. - 343
Можаев Б.А. - 363, 375, 386,
398, 399, 409 Молотов В.М. - 52, 68, 78, 94,
98, НО, 203, 209, 314, 318, 374,
394, 408 Монас С. — 6 Морозов Г. — 285 Морозов П. - 272, 278, 284, 285,
403, 404
Морозова А. — 249 Моросанова Е.И. — 234 Мошков Ю.А. - 379 Муралов А.И. - 181 Мурин В.А. - 373 Мэйс Дж. - 360 Мэннинг Р. — см. Manning R.
Наполеон 1 — 351 Наумов — 263 Никитенко — 220
Облезов В. - 248, 249
Овсянников Ю. — 410
Окулова Г.И. — 372
Окунева М. — 339
Op H. - 5
Орджоникидзе С. - 107, 307, 308,
326
Орехов М.Е. - 262 Ормрод Дж. — 6 Осокина Е.А. — 378 Останин — 70 Островский В.Б. - 389
Павленко П. - 266
Павлов, колхозник, бывший бригадир - 254
Павлов, колхозник, жертва доноса - 291
Панкратова A.M. — 382
Панкратова В. — 295
Панфилова A.M. - 373, 381
Папашвили — 55
Парихин М. - 280
Патрикеев - 207, 225
Паустовский К.П. - 139
Пекарникова П. — 248
Першин П.Н. - 383
Петр I - 14, 29, 320, 331
Петрин К. - 276
Петров - 280
Петрова - 308
Петрунина В. - 236
Пивовар Е.И. — 6 Пилюгин - 272, 273 Пискачев Н. - 169 Письменный Ф. — 276 Пичугина П. - 318 Пландуновский В. — 371 Поваров - 206 Покрасс, братья — 299 Поляков Ю.А. - 362, 371, 389,
391, 393, 397, 399, 400, 409 Поляков — 283 Полянский — 344 Попкин — см. Popkin S.L. Постышев П.П. - 90 Прамнек Е. — 398 Путинцев Ф. - 230 Пырьев И.А. - 298 Пэрриш У. — 5 Пятаков Г.Л. - 56
Радек К.Б. - 408 Радчук - 338
Редфилд Р. - см. Redfield R. Ригби Т.Х. - 5 Римский-Корсаков Н.А. — 298 Рогалина Н.Л. - 399, 405 Розенберг У. — см. Rosenberg W.G. Розницкий Н. - 372, 373 Романов — 263 Ромашкина А. - 248, 249 Ростоу У. — 6 Рубцов И. - 84 Румянцев И. - 281 Румянцев К.В. — 336 Русанов С.Ф. - 276, 277 Рябцев — 65
Салтыков-Щедрин М.Е. — 206
Сапожников Н.П. — 102
Сапрыженков — 267
Саутин И.В. - 362
Седов — 344
Семищев A.M. - 372
Семенихин — 338
Семкина А. — 55
Сен А. — см. Sen A.
Сенин Н. - 286
Сидоров Д. - 312
Сифман Р.И. - 400
Скворцов — 192
Скотт Дж. - см. Scott J.C.
Скромный Н. - 363, 380
Славко Т.И. - 6
417
Слезкин Ю. — 5
Смирнов В. - 74, 75
Смирнов С. — 74, 75
Смолкин — 248
Снегирев М.А. - 383
Соколов — 207
Солженицын А.И. - 335, 347, 410, 412
Соловей М.С. - 179
Соловей СП. - 179
Солодов А. - 138, 385
Соломон П. — 5, 361
Соломон С. — см. Solomon S.G.
Сонин М.Я. - 382, 412
Сорнов - 234, 398
Сталин И.В. - 7-10, 12, 26, 27, 40, 49, 50-52, 61, 62, 67, 70, 76, 77, 87, 90, 92-94, 98, 107, НО, ИЗ, 116, 119, 120, 136, 139-142, 147, 149, 153, 203, 209, 215, 227, 235, 269, 293, 300, 305, 307-311, 314, 316, 318 — 326, 330, 331, 334, 337, 348, 349, 364, 369, 372, 374, 376-379, 381, 382, 387, 394, 406, 408-410
Степанов М.П. - 181
Стецкий А.И. - 317
Столбнев А. - 262, 263'
Столбнев П. — 262
Столбнева М. — 262
Столыпин П.А. — 32, 33
Стригунов — 265
Суни Р. - 5
Суслова Е. — 266
Суханов - 292
Сверцов С. — 86
Сысоев В.Е. - 194
Сэнборн Дж. — 5
Твардовский А.Т. - 99, 100, 279,
363
Твардовский М.Т. - 99, 363, 380 Твардовский Т. — 99 Тепцов Н.В. - 360, 376, 377, 380,
397
Тильба А. Г. - 269 Тимашев Н. - 249 Тимшин М.А. — 70 Титов М. - 234 Тихон, патриарх — 46 Торнили Д. — см. Thorniley D. Трифонов М.Я. - 402
418
Троцкий Л.Д. - 69, 330, 331 Туоминен А. — см. Tuominen A. Тучин - 118 Тушнев — 278 Тюмина Н. — 236
Уайлдмен А. — см. Wildman А.К. Ульянов — 263 Ушакова К. - 69
Фадеев С. - 178, 179, 286 Федерякин Н.А. — 294 Федин А. - 234 Федосов - 220, 343 Феноменов М.Я. — 372 Физелер Б. — 5 Фицпатрик Д. — 5 Федотова — 142 Фомина П. - 312 Французов — 210 Фэррис Дж. — 5
Харитоненков М. — 282
Харламов Г.И. — 191
Харрис Дж. — 5
Хаф Дж.Ф. - см. Hough J.F.
Хелли Р. - 5
Хесслер Дж. — 5
Хиндус М. - 47, 363, 373
Ходаков М.Г. - 234
Хок С. - см. Hoch S.L.
Хрущев Н.С. - 26, 354
Цаплин В. В. - 378
Чарушин В.Г. - 359, 384 Чаянов А.В. - 40, 126 Чепмен Дж. — см. Chapman J. Черниченко Ю. — 104 Чернов М. - 136, 140, 141, 181,
214
Чернопицкий П.Г. - 374, 375, 377 Чирков П.М. - 394 Чугунков И. — 84 Чуев Ф. - 374 Чуриков — 52, 374
Шабурова М. — 205 Шалыпин Т.И. - 283, 405 Шаповалова Т.П. — 301 Шаповалова Т. — 312 Шарапов В.Ф. - 383 Шарова П.Н. - 375, 377
Шатохин - 179
Шафир Я. - 372, 373
Шахов М.С. - 389
Шашин - 118
Шашкин Д. - 225
Шебоддаев — 378
Шестопалов Н. — 138, 385
Шимотомаи Н. см. Shimotomai N.
Шишков - 290
Шмелева М.Н. - 359, 373, 385,
397, 399, 406
Шолохов М.А. - 50, 51, 90 Шуваев К.М. - 359, 389, 393, 404 Шумилкина Т. — 236
Щедров - 264
Щербаков П. - 100, 101, 202
Эйхе - 374 Эндрюс Дж. — 5
Юденков И. - 328 Юдина А. - 250, 251
Ягода Г. Г. - 98, 99
Яковлев А.Н. - 222
Яковлев (Эпштейн) Я.А. — 47, 107, 117, 133, 136, 140-145, 182, 212, 214, 218, 219, 268, 269, 373, 384, 385
Янов А. - 413
Ярославский Ем. — 74, 236, 365
Ярославцева С.Н. — 330
Ясны Н. — см. Jasny N.
Яцковы — 130
Adams A.E. - 413 Adams J.S. - 413 Anderson В.А. - 400 Atkinson D. - 372, 374
Belov F. - 363, 388 Benet S. - 359, 377 Bergson A. - 150, 387, 393 Bronson D.W. - 412 Bohac R. - 396 Burds J. - 392 Burke P. - 411
Сагг Е.Н. - 372-374, 393, 399,
407
Carstensen F.V. - 396 Chamberlin W.H. - 378
Chapman J. - 151, 387
Cherniavsky M. - 370
Clark K. - 5, 410
Coale A. - 400
Conquest R. - 360, 377, 404
Cox T. - 372
Curtiss J.S. - 397
Dallin A. - 410, 412
Davies R.W. - 360, 372, 375,
376-378, 380, 383, 387 Davis N.Z. - 411 Dunn E. - 231, 370, 389, 397,
399, 408 Dunn S.P. - 231, 370, 389, 397,
399
Eklof B. - 396, 401
Fainsod M. - 387
Feldbrugge FJ. - 412
Field D. - 371
Figes O. - 370, 371
Fitzpatrick S. - 360, 370, 372,
380, 384, 390, 399-402, 404,
405, 412
Fletcher W.C. - 397, 412 Foster G.M. - 370 Frank S. - 396 Frederickson G.M. - 370 Freeze G.L. - 373
Getty J.A. - 5, 170, 365, 389, 390,
403, 407, 408, 411 Grigorenko P.G. — см. Григорен-
ко П.Г.
Guha R. - 5, 370 Guroff G. - 396, 412
Haern E. - 400 Helgeson A.C. - 382 Hindus M. — см. Хиндус М. Hoch S.L. - 5, 161, 370, 386, 388,
400
Holzman F.D. - 387 Hough G.F. - 5, 360, 393, 394,
412 Hutchinson G.F. - 399
Ivanits L.J. - 398 Jasny N. - 360, 389
Kenez P. - 373, 406 Kingston-Mann E. - 392 Kravchenko V. - 363 Kriiger C.B. - 412
419
Lane A.J. - 370
Laird B.A. - 412
Laird R.D. - 412
Lasch С - 370
Lewin M. - 360, 370, 374, 386,
387, 413
Lewis O. - 23, 371 Leyda J. - 406 Linz S.G. - 412 Littlepage J.D. - 380 LopreatoJ. - 371, 380 Lorimer F. — 371 Luryi Yu. - 382, 413
Manning R. - 5, 360, 393, 401,
405, 411
Massell G. - 142, 386 Medvedev Zh.A. - 385, 413 Merl S. - 360, 361, 388 Millar J.R. - 360, 387, 394, 408 Miller F.J. - 409 Miller R.F. - 388 Mixter T. - 392
Narkiewicz O. - 381 Novak-Deker N.K. - 363, 391 Nove A. - 411
Popkin S.L. - 17, 370
Rabinowitch A. - 372, 402 Redfiedl R. - 23, 371 Rosenberg W.G. - 5, 380 Ryan M. - 413
Schwarz S.M. - 381
Scott J.C. - 12, 370, 380 Sen A. - 84, 378 Serebrennikov G.N. - 394, 395 Shanin T. - 370-372 Shimotomai N. - 361, 378, 379,
381
Siegelbaum L. - 380 Solomon S.G. - 5, 372, 399 Schroder G.E. - 412, 413 Spivak G.C. - 370 Starr S.F. - 393 Stevens J.A. - 399 Stites R. - 372, 402 Stuart R.C. - 413
Thompson E.P. - 370 Thorniley D. - 394 Timasheff N.S. - 400 Tuominen A. - 208, 321, 322, 363, 394, 399, 409
Viola L. - 5, 360, 374, 375, 377, 394, 395
Weber E. - 412 Weissman N.B. - 373, 401 Werth N. - 361, 373 Wesson R.G. - 374 Wheatcroft S.G. - 362 Wildman A.K. - 5, 371 Worobec CD. - 399, 400
Yang A. A. - 370, 409 Zaslavsky V. - 382, 413
Оглавление
От автора 5
ХРОНОЛОГИЯ 7
ВВЕДЕНИЕ 10
СТРАТЕГИИ СОПРОТИВЛЕНИЯ 12
ПОТЕМКИНСКАЯ ДЕРЕВНЯ 25
РАМКИ ИССЛЕДОВАНИЯ 27
1. СЕЛО В 20-Е гг 29
ОБЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ ДЕЛ 29
КУЛАЦКИЙ ВОПРОС 39
КОНФЛИКТ НА РЕЛИГИОЗНОЙ ПОЧВЕ 44
НАКАНУНЕ 49
СЛУХИ О КОНЦЕ СВЕТА 58
2. КОЛЛЕКТИВИЗАЦИЯ 61
ВАКХАНАЛИЯ 61
БОРЬБА 76
ГОЛОД 84
РЕПРЕССИИ 91
3. ИСХОД 96
ПУТИ ПЕРЕМЕЩЕНИЯ 97
РЕГУЛИРОВАНИЕ ПЕРЕМЕЩЕНИЯ 106
ЖИЗНЬ ПРИ ПАСПОРТНОЙ СИСТЕМЕ 112
4. КОЛЛЕКТИВИЗИРОВАННОЕ СЕЛО 120
ЗЕМЛЯ 121
ЧЛЕНСТВО В КОЛХОЗЕ 128
СЪЕЗД И УСТАВ 135
5. ВТОРОЕ КРЕПОСТНОЕ ПРАВО? 147
ОБЩЕСТВЕННОЕ И ЛИЧНОЕ 149
ТРАКТОР И ЛОШАДЬ 156
ТРУД И ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 159
ПРЕТЕНЗИИ КРЕСТЬЯН 169
6. НА ОБОЧИНЕ 173
ЕДИНОЛИЧНИКИ 174
КУСТАРИ 179
ХУТОРЯНЕ 185
ОТХОДНИКИ И ДРУГИЕ НАЕМНЫЕ РАБОТНИКИ 186
7. ВЛАСТЬ 196
СЕЛЬСКАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ 199
МУЖЧИНЫ, ЖЕНЩИНЫ И РУКОВОДЯЩИЙ ПОСТ 203
СТИЛЬ РУКОВОДСТВА 206
ПРЕДКОЛХОЗА 208
ПОСЛЕДСТВИЯ БОЛЬШОГО ТЕРРОРА 221
421
8. КУЛЬТУРА 229
РЕЛИГИЯ 229
БЫТ 240
РАСПАВШИЕСЯ СЕМЬИ 244
ОБРАЗОВАНИЕ 251
9. ЗЛОБА 261
ПРЕСТУПНОСТЬ И НАСИЛИЕ 261
ТЕНЬ КУЛАКА 267
ДЕРЕВЕНСКИЕ РАСПРИ 275
ДОНОСЫ 284
10. ПОТЕМКИНСКАЯ ДЕРЕВНЯ 293
ПОТЕМКИНСТВО 293
НОВАЯ СОВЕТСКАЯ КУЛЬТУРА 300
ЗНАТНЫЕ ЛЮДИ 304
ВЫБОРЫ 312
И. МЫШИ И КОТ 320
ОБРАЗ СТАЛИНА В ДЕРЕВЕНСКОЙ МОЛВЕ 321
КАК МЫШИ КОТА ХОРОНИЛИ 331
ПОСЛЕСЛОВИЕ 350
О БИБЛИОГРАФИИ И ИСТОЧНИКАХ 359
СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ 368
ПРИМЕЧАНИЯ 370


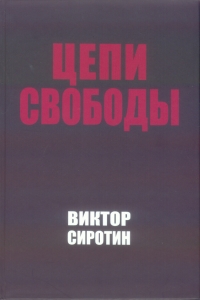


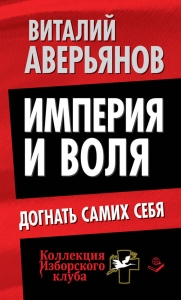


Комментарии к книге «Сталинские крестьяне. Социальная история Советской России в 30-е годы. Деревня», Шейла Фицпатрик
Всего 0 комментариев