Новые идеи в философии. Сборник № 3. Теория познания I
Предисловие
В течение последних пятидесяти лет гносеология занимает центральное место в философской литературе и становится наиболее разработанною философскою дисциплиною. Руководящее значение в современной гносеологической литературе имеют труды, резко отграничивающие психологическое и генетическое исследования от гносеологического и логического; таковы, например, труды Шуппе, Гуссерля, Риккерта и марбургской школы.
Стремление освободиться от тупика субъективного идеализма приводит к новым учениям о сознании, способным сыграть важную роль в дальнейшем развитии гносеологии; в самых разнообразных формах эти новые учения, стремящиеся обосновать знание о подлинном транссубъективном мире, осуществлены в эмпириокритицизме Авенариуса, в интуитивизме Бергсона, в мистицизме Соловьева и в интуитивизме Лосского.
В сборниках «Новых идей в философии» будут изложены все упомянутые теории. В дополнение к ним в качестве контрастирующего с ними явления будет дан также очерк прагматизма.
В предлагаемом вниманию читателей № 3 помещено изложение взглядов Шуппе, Авенариуса и Гуссерля. Интенционализму Гуссерля отведено в сборник сравнительно большое место потому, что взгляды этого философа, изобилующие сложными оттенками, с трудом поддаются краткому изложению, к тому же обширный второй том «Логических исследований» Гуссерля не имеется в русском переводе.
Между тем в развитии современной гносеологии труд Гуссерля имеет огромное значение, потому что в нем наиболее отчетливо проведено различение между психофизиологическим актом знания и идеальным смыслом знания.
РедакцияН. Лосский. Имманентная философия В. Шуппе
Гносеологические исследования В. Шуппе изложены главным образом в его обширной «Erkenntnisstheoretische Logik» (1878) и в кратком «Grundriss der Erkenntnisstheorie und Logik» (1894, 2 изд. 1911)1.
Приступая к исследованию истины, Шуппе отграничивает гносеологию и логику от психологии. «Мышление, как конкретный, т. е. совершающийся во времени процесс, всегда есть мышление индивидуума», говорит Шуппе, «тем не менее вопросы теории знания и логики всегда относятся к мышлению вообще, а вовсе не к индивидуальному мышлению как таковому».
Развитие индивидуального мышления, начиная с детского возраста, обстоятельства, содействующие или препятствующие ему, методы мышления, основанные на природе индивидуума как такового, составляют предмет исследования психологии. И все исследования психологии «всегда уже предполагают понятие мышления вообще (Denken überhaupt) и истины»2. Итак, необходимо исследовать родовые свойства мышления, чтобы узнать, что такое истинное знание.
Прежде всего, очевидно, что мышление не осуществимо без чего-либо мыслимого. Назовем то, что мыслится, объектом или содержанием (Inhalt) мышления, и формулируем сделанное открытие следующим образом: где есть мышление, там всегда есть две стороны, – во-первых, мышление и, во-вторых, объект его.
Эти две стороны, хотя они и глубоко отличаются друг от друга, неразрывно связаны друг с другом: мышление не может существовать без мыслимого и, наоборот, мыслимое (объект, содержание) не может существовать без мышления.
Содержание мышления есть не что иное, как бытие (Sein), действительность. В самом деле, всякое утверждение о мыслимом объекте («земля кругла» и т. п.) есть признание того, что он действительно существует.
«Понятие и сущность мышления состоит в том, что у мышления есть содержание или объект, а также в притязании на то, что это содержание есть действительно сущее»3.
Итак, неразрывная связь между мышлением и мыслимым объектом есть, иными словами, неразрывная связь между мышлением и бытием. Допустить реальное отделение мышления от бытия или бытия от мышления – это значит высказать нелепость.
В самом деле, «если устранить содержание, т. е. мыслимые вещи, то мышление, лишенное содержания, оказывается не только фактически невозможным, но даже и в понятии немыслимым (begrifflich undenkbar); с другой стороны, если устранить мышление, мыслящее вещи, то согласно реалистической теории существование никем не мыслимых вещей, правда, считается несомненным, однако, очевидно, лишь в том случае, когда я мыслю их, как никем не мыслимые»4, что противоречиво.
Ввиду нерасторжимости мышления и бытия нельзя представлять себе мышление как чисто субъективную деятельность, наподобие движения схватывающей руки, которое может быть произведено даже и в отсутствии схватываемых вещей. Нельзя поэтому построить такую логику, которая была бы учением о чистом мышлении; всякая логика должна быть наукою о мышлении, направленном на бытие, т. е. должна быть не формальною, а материальною. Она должна дать сведения о мышлении вообще (Denken überhaupt) и вместе с тем о сущем вообще (vom Seienden überhaupt), т. е. о высших родах бытия. Таким образом, логика есть вместе с тем онтология5.
Так как мышление и бытие составляют вместе единое, реально неразделимое целое сознания, то для изучения этих двух сторон сознания необходимо прибегнуть к мысленному обособлению их, т. е. к абстракции. Но, производя абстракцию, человеческий ум очень часто впадает в ошибку удвоения, приводящую к безвыходным затруднениям и противоречиям. Познакомимся с этою ошибкою сначала с помощью схемы и затем с помощью более простого примера, чем абстрагирование мышления от бытия. Положим, что АВ есть реально неразделимое целое, тогда задача правильной абстракции состоит в том, чтобы мысленно отделить начисто А от В; при этом, если АВ было конкретное наглядно представимое целое, то элементы, полученные после абстракции, А и В друг без друга не будут представимы наглядно, они будут только мыслимы в понятии (begrifflich). Ум, обладающей слабою способностью к абстракции, не справится с этою задачею и, пытаясь мыслить А, на деле наверное будет мыслить (вернее, по-прежнему наглядно представлять) его не в чистом виде, а в виде Ав; точно так же вместо В они будет мыслить АВ. Таким образом из АВ получаются после абстрагирования не элементы его, а удвоенное АВ. Так, например, если мы наглядно представляем себе красный куб и задаемся целью помыслить в отвлечении друг от друга цвет (чувственное качество) и протяженность, мы обыкновенно выполняем эту задачу следующим неправильным способом: представляем себе красноту в виде, например, красного пятна, и протяженность в виде куба, т. е. по прежнему в виде наглядного образа, заполненного, если не цветом, то все же каким-либо чувственным качеством, например, осязательными ощущениями или же линиями зрения (моторными ощущениями от движения глаза при рассматривании куба). Между тем правильная абстракция должна дать два элемента действительности, чувственное качество и протяженность, вовсе не представимые наглядно, а только мыслимые в понятии.
Описанную ошибку совершает человеческий ум тогда, когда, пытаясь отвлечь друг от друга мышление и бытие, он представляет себе, с одной стороны, бытие как систему вещей, а, с другой стороны, мышление как систему мысленных образов вещей. Здесь мир удвоен, и это удвоение получилось потому, что к составу бытия примешаны продукты мышления (порядок, отношения), а к составу мышления примешано бытие (мыслимые вещи, ошибочно истолкованные как образы вещей)6.
Следствия этой ошибки таковы. Если бы абстракция была произведена правильно, без удвоения, то мы ясно усматривали бы, что бытие и мышление не могут быть разъединены. Теперь же после удвоения мы не можем понять, как соединить их друг с другом: бытие, пропитанное мышлением, но ошибочно принятое за чистое бытие, не нуждается ни в чьем мышлении для того, чтобы существовать, и, наоборот, мышление, наполненное образами вещей, не нуждается в подлинных вещах. Отсюда являются три типа ложных теорий: 1) теории, отрицающие мышление, таков, например, тот вид материализма, который утверждает, что мышление есть движение; 2) теории, отрицающие бытие, например, система Беркли, превращающая объекты в состояния субъекта; 3) теории, утверждающие параллелизм или вообще какое-либо соответствие между формами мышления и формами бытия7(сюда относятся различные виды теоретического реализма, утверждающего, что трансцендентно всякому сознанию существует мир, более или менее сходный с миром, мыслимым и представляемым, т. е. имманентным сознанию).
Как сказано, все эти ложные теории возникают вследствие невозможности соединить мышление и бытие после того, как мы удвоили их. Между тем в действительности, как раз наоборот, невозможно разъединить их: нельзя найти мышление без объекта (бытия) и объект без мышления. Это сочетание мышления с тем, что не есть мышление, с бытием, никого не удивляет, когда речь идет о таких объектах, как чувства или желания, познаваемые путем самонаблюдения. Никто не сомневается в том, что чувства суть не мышление, а бытие, однако это не мешает им быть объектами мышления. Затруднения возникают с того момента, когда речь идет о познании «внешнего» бытия, например, о познании протяженности дерева. В этом случае нам кажется невозможным, чтобы наблюдаемая протяженность (имманентная сознанию) была самою действительностью. Почему это представляется невозможным? Очевидно не вследствие разнородности вообще между мышлением и бытием: выше было сказано, что разнородность между чувством и мышлением нисколько не мешает признать, что, мысля о своем чувстве, например, наблюдая свою радость, мы имеем дело с самою подлинною радостью, а не с замещающими ее мысленными образами, символами и т. п. Нетрудно заметить, что различное истолкование мышления о чувстве и о протяженном дереве обусловлено предвзятыми предпосылками, согласно которым чувство находится «внутри» мыслящего существа (внутри души), а протяженное дерево «вне» мыслящего существа, за границею я. Эти неясные, заимствованные из области пространственных отношений представления о границах я, отделяющих «внутренний» мир души от внешнего «мирa тел», приводят к роковым заблуждениям в теории знания: они являются источником ошибочного убеждения, будто мышление есть чисто субъективная деятельность, «состояние единичного мыслящего я»8, не выходящее «за границы» этого я и потому способное иметь дело только с таким бытием, только с такими объектами, которые также находятся уже внутри души, так что, познавая внешний мир, например, протяженное дерево, я могу наблюдать лишь свои субъективные ощущения, а не само дерево, существующее вне моего я.
Отсюда являются нелепые затруднения, приводящие к скептицизму или же решаемые с помощью искусственных теорий. Так, превращая все объекты, имманентные сознанию, в состояния души, подобно чувству удовольствия, эти теории задаются вопросом, почему такие объекты, как дерево, представляются существующими «вне» я, и развивают учение о проецировании ощущений наружу9.
Точно так же, превращая протяженные объекты в непротяженные психические состояния, они задаются неразрешимым вопросом, как создаются из таких психических состояний представления о пространстве10и т. п.
Отбросим, предлагает Шуппе, все эти гипотезы, перестанем ссылаться на трансцендентные всякому сознанию процессы в мозгу и нервной системе, допущенные на основании умозаключений, в особенности освободимся от предвзятых предпосылок и займемся исключительно анализом того, что фактически дано в сознании. Тогда мы увидим, как затруднения сами собою исчезнут, и рискованные гипотезы вовсе не понадобятся11. Беря факты как они есть, необходимо признать, что видимый мною цвет листьев дерева и его ствола находятся не внутри моего мозга или не в моей душе, а там, в двух, трех или более саженях от меня. «Он действительно целиком находится там, где, согласно прежней теории, он нам только кажется существующим и куда, по этой теории, его еще нужно проецировать»12.
Мало того, такой объект, как ствол дерева, представляется протяженным и он действительно протяжен. Не следует думать, будто в сознании есть только непротяженный образ дерева, а само протяженное дерево существует трансцендентно сознанию; нет, присутствующее в сознании дерево как содержание восприятия и есть само протяженное дерево; оно присутствует в сознании во всей своей телесности, так что нет никаких оснований говорить, будто оно есть «только представление», т. е. удваивать вещи, различая представления о вещах и сами вещи. «Содержание сознания есть ощущаемое содержание, точь-в-точь такое, каким оно себя заявляет, в своей настоящей осязаемой, наполняющей пространство действительности, а не преображенное или утонченное до степени лишь призрака, лишь субъективного ощущения». «Весь реальный мир, солнце, луна, звезды и эта земля с ее горными породами и животным миром, с ее огнедышащими горами и т. п., все это есть содержание сознания»13.
Если читатель думает: «Мне эти взгляды хорошо знакомы, я уже встречал их в философии Беркли», то он ошибается. Сходство между Беркли и Шуппе ограничивается лишь тем, что оба они считают весь так называемый материальный мир имманентным сознанию. Но строение этого сознания они понимают глубоко различным образом. Беркли считает реки, горы, моря и т. п. только представлениями познающего я, он превращает их в психические состояния познающего индивидуума вроде того, как радость или печаль считаются состояниями того или другого я. Шуппе, наоборот, настаивает на том, что горы, моря, реки, присутствуют в сознании со всею своею телесностью, непроницаемою, наполняющею громадные пространства и т. п., и вовсе не могут быть состояниями я. Тот, кто стал бы насмешливо возражать, что я, вмещающее в себе горы и моря, должно быть громадным, обнаружил бы, во-первых, непонимание теории Шуппе, а, кроме того, смутность своих представлений о я, в особенности об отношении между сознающим я и сознаваемым бытием. Если я есть сосуд, в который вложены сознаваемые вещи, то, конечно, объем сосуда должен быть больше объема вложенных вещей. Точно так же, если я есть точка (как граница пространства), а сознаваемые вещи суть состояния этой точки, то они должны быть непротяженными, как и сама точка. Но эти пространственные представления о я нелепы. Я не есть ни сосуд, ни точка в пространстве, оно ни в каком смысле слова не есть что-либо протяженное14.
Кроме того, неправильны представления о сознающем я и сознаваемом бытии, превращающие я в вещь, а сознаваемое – в состояния этой вещи. Традиционное учение о сознании именно таково, и задача Шуппе состоит в том, чтобы построить новое учение о сознании, опираясь исключительно на анализ фактов сознания, а вовсе не на выводы из предвзятых предпосылок о душе как замкнутой, отграниченной от остального мирa субстанции, или о материи как причине душевной жизни, и т. п.
Сознание всегда есть целое, в котором путем мысленного разложения, путем абстракции можно различить две стороны: я, т. е. субъект сознания, и содержание сознания. Конечно, кроме этих двух элементов необходимо еще нечто третье, именно отношение между ними, благодаря которому содержание сознается субъектом. Чтобы обозначить это отношение, у нас есть только образные выражения, вроде: «обладание в сознании» (im-Bewusstsein-haben), «усваивание», «удерживание». Конечно, под этими образными выражениями следует разуметь «только то, что требуется простым смыслом слова сознание, именно необходимое представление о связи между содержанием сознания и сознающим я, о связи, благодаря которой и в которой предмет или содержание впервые есть содержание сознания субъекта (des Ich)»15.
Эту связь между субъектом и объектом можно назвать мышлением в самом широком смысле слова. Благодаря этой связи сознаваемый объект можно назвать содержанием сознания, разумея под всеми этими словами, конечно, не пространственное, а исключительно объектное отношение (отношение объекта и субъекта). Объекты, будучи, благодаря мышлению, содержаниями сознания, вовсе не становятся вследствие этого частями или состояниями я16. Только о некоторых содержаниях сознания, таких, как, например, моя радость, мое желание, можно сказать, что они суть состояния я, вроде того, как зеленый цвет есть состояние какой-либо вещи, например, травы17. В большинстве же случаев, например, когда содержанием сознания служит дом, гора, река, эти содержания вовсе не суть состояния я, они только необходимо связаны с я.
Неопытный глаз может не заметить в этом учении Шуппе о сознании ничего оригинального. Между тем отклонение от традиционных взглядов у него громадно. Согласно общепринятым взглядам сознание определенного человека есть совокупность психических состояний этого человека, совершающихся в его душе или обусловленных наиболее сложными физиологическими процессами в его теле. По учению же Шуппе, сознавание чего-либо есть отношение между я и сознаваемым бытием; это отношение нерасторжимо (в каком смысле оно нерасторжимо, об этом будет сказано позже), но это не требует превращения всякого сознаваемого бытия в субъективный процесс, совершающийся в душе человека. Только некоторые содержания сознания: чувства, желания, акты мышления, близки к я настолько, что могут считаться его психическими состояниями, все же остальные содержания сознания человека (воспринимаемые горы, реки и т. п.) соединены с я этого человека только отношением «имения в сознании».
Посмотрим теперь, что такое это я или субъект сознания. Отбросим все содержания сознания, не только воспринимаемые реки, горы, но и чувства, желания, а также это определенное человеческое тело, которое также есть содержание сознания, и перед нами останется я как нечто не индивидуальное, я как общее понятие; найденное путем отвлечения от всякого содержания сознания, оно оказывается не конкретным существом, а только абстрактным моментом сознания. В конкретном целом сознания я есть непротяженный, абсолютно простой пункт единства18.
«Я», говорит Шуппе, «возникает и становится мыслимым впервые вместе с знанием о чем-либо; оно есть, правда, носитель (der tragende Grund) знания о чем-либо, но всегда находится более на заднем плане»19. В самом себе оно не имеет никакого содержания, и все бытие его сводится к «обладанию» объектами. Раньше уже было показано, что этот «обладатель» (субъект) не может существовать без обладаемого им (без объектов) и, наоборот, обладаемое не может существовать без обладателя: субъект и объект «суть только абстрактные моменты первоначального единого целого, которое именно и есть само бытие»20, и потому вопрос о том, как они встретились, как субъекту удалось овладеть объектом, не имеет смысла. Упомянутый выше теоретический реализм, стремящийся найти вне сознания причину появления в сознании таких содержаний, как, например, ощущение цвета, и находящий ее в изменениях глаза, нервов и мозга, не может быть оправдан. Глаз, нервы, мозг и т. п. сами суть уже содержание сознания, содержание восприятия, и потому в них видеть причину, объясняющую, каким образом впервые возникают содержания восприятия, нельзя. Из этого не вытекает, конечно, будто исследования физиологии о зависимости цветов, звуков и т. п. от изменений в зрительном, слуховом и т. п. аппаратах должны быть отвергнуты, их нужно только истолковать иначе, чем это делает теоретический реализм. В самом деле, физиология открывает законосообразную связь между одними и другими данными сознания, между одними и другими явлениями, а вовсе не между данными сознания и чем-то трансцендентным всякому сознанию21.
Субъект сознания, взятый в отвлечении от всякого содержания, лишен каких бы то ни было индивидуальных признаков; это есть не индивидуальное я, присущее не какому-нибудь индивидуальному сознанию, а всякому сознанию, т. е. «сознанию вообще» (Bewusstsein überhaupt). Чтобы это я было индивидуальным, необходимо присоединение к нему определенных пространственных и временных содержаний сознания, именно чувств, желаний и особенно тела, занимающего определенное пространство и время22. Следовательно, индивидуальные (конкретные) сознания состоят, с одной стороны, из различных индивидуальных состояний (чувств, желаний, тел), а, с другой стороны, содержат в себе и общую, всем им тождественную сторону – я как абстрактный субъект. Необходимо подчеркнуть, что это родовое я – «одно и то же во всех единичных я, а не находится в стольких экземплярах, сколько есть единичных я»23.
Кроме родового я, каждому индивидуальному сознанию присущи также состояния, характеризующие «сознание вообще», т. е. сознание как нечто родовое, надындивидуальное. «В том, что всякий находит в себе и знает только как свое восприятие, свою мысль, свое переживание, некоторые стороны могут принадлежать сознанию вообще, которое индивидуум также находит только в себе, а другие стороны получают если не существование вообще, то все же свой особый вид и окраску из индивидуальности и принадлежат к ее сфере. Последние элементы ео ipso не могут быть одними и теми же для всех индивидуумов, и даже при одинаковости содержания существуют в таком количестве экземпляров, сколько есть индивидуумов, находящих их в себе»24.
Итак, различные индивидуальные сознания имеют, несмотря на все свои индивидуальные особенности, также и общие стороны. Из этого строения сознания понятно, каким образом несколько наблюдателей могут воспринимать численно одну и ту же вещь, т. е. иметь в кругозоре своих сознаний буквально одно и то же содержание, в восприятии которого могут быть, однако, индивидуальные оттенки25. «Это есть не только факт опыта, но нам и понятно также, что лишь вследствие того человечество и возможно и основывается на том, что индивидуальные сознания имеют часть своих содержаний общую, а, с другой стороны, отличаются друг от друга не только различием отрезков мирa, сознаваемых каждым из них, но также индивидуальными различиями в окраске и способе понимания общей в их восприятии части мирa»26. «Общая и согласная часть содержаний сознания именно вследствие этого, очевидно, независима от индивидуумов как таковых. Зависимо от них и им принадлежит, (со) участвуя в их бытии, все то, что не связано необходимо с общею родовою сущностью и, как вытекающее из особенностей индивидуумов, отнесено нами выше к числу «субъективных черт», которыми индивидуумы отличаются друг от друга»27.
Исходя из этого учения о строении сознания, можно установить понятие первой ступени истины, именно понятие истины, основанной на чувственном восприятии. В составе чувственного восприятия внешнего мирa объективный характер имеет все то, что принадлежит «сознанию вообще», а субъективный – то, что принадлежит индивидуальному сознанию, причем в области субъективного находится и ложное, именно то, что обусловлено аномалиею телесных органов или психических функций индивидуума28.
Объективную сторону восприятия составляют вещи, независимые от индивидуальных сознаний; из этого, однако, не следует, будто они трансцендентны всякому сознанию: мир восприятия, «правда, независим от всех индивидуальных сознаний, но по своему понятию он мыслим только как объект сознания вообще» (als Object von Bewusstsein überhaupt)29.
Из учения Шуппе о строении сознания вытекает ряд весьма важных следствий. Во-первых, оно дает возможность устранить кантовское деление мирa на два царства – явлений и вещей в себе. Достроив высшее понятие своей теории, понятие «сознания вообще», Кант, по словам Шуппе, сделал ошибку, не использовав его метафизически, не обратив внимания на то, что «сознание вообще» есть нечто само по себе сущее (an sich Seiendes). Поэтому ему пришлось прибегнуть к допущению Бога и вещей в себе, причем явления превращаются в видимость. Между тем, если «сознание вообще» есть an sich, то оно и есть единственный носитель мирa существующих в восприятии вещей, за спиною которых нет никаких сверхчувственных ноуменов. Воспринимаемые вещи можно и при этом учении называть явлениями, но под этим словом следует разуметь лишь то, что они существуют не иначе, как для я, а не то, что они суть обнаружения вещи в себе30.
Такое преобразование теории Канта возможно для Шуппе потому, что носителем мирa воспринимаемых объектов он считает не индивидуальное, а родовое сознание («сознание вообще»).
Во-вторых, так как индивидуальное сознание состоит не только из индивидуальных переживаний, но и из элементов родового сознания, то не весь состав его есть психическое. Точнее выражая эту мысль в духе Шуппе, не весь состав индивидуального сознания есть предмет психологического исследования. Такие содержания сознания, как горы, реки, моря, независимые от индивидуальных я, не следует ставить на одну доску с переживаниями печали, радости и т. п. Предметом психологии могут быть не сами содержания восприятия внешнего мирa, a только вопрос, в силу каких законов в данный момент именно такой, а не иной отрезок внешнего мирa становится содержанием восприятия такого-то индивидуального сознания31.
Даже ощущения не суть сполна внутренние душевные состояния (innerseelische Zustände): «Они суть содержания или объекты индивидуального сознания, в которых, как и в других перечисленных объектах, следует различать сторону, принадлежащую индивидууму, и сторону, независимую от него»32.
Очевидно, имея в виду тех лиц, которые привыкли словом ощущение называть чисто индивидуальные содержания сознания, Шуппе даже отказывается считать содержания зрительных и слуховых восприятий ощущениями: «согласно первоначальному общему смыслу слова ощущение, при видении и слышании нет вообще никакого ощущения, но видимое и слышимое есть непосредственно со всею своею определенностью содержание сознания»33.
В-третьих, поскольку некоторые чувственно воспринимаемые вещи вполне независимы от индивидуального сознания, так что одна и та же вещь может быть предметом наблюдения нескольких индивидуумов, теория Шуппе обнаруживает важные черты сходства с наивным реализмом. Шуппе сам обращает внимание на это обстоятельство, но указывает, что его теория в отношении к наивному реализму есть возрождение реализма, освобожденное однако от наивности34. Конечно, делая это сопоставление, необходимо иметь в виду, что Шуппе, считая объекты внешнего восприятия независимыми от индивидуального сознания, тем не менее не допускает, чтобы они были трансцендентны всякому сознанию, и вносит их в состав «сознания вообще»35.
Рассматривая учение Шуппе, мы познакомились пока только с отношением между Я (субъектом) и объектами, узнали о существовании родового Я и индивидуальных я, а также о том, что и в содержаниях сознания есть не только индивидуальная, но и родовая сторона. О важнейшем же для теории знания вопросе, о том, что такое мышление, сказано до сих пор еще очень мало. Установлено только, что в самом широком смысле слова отношение между субъектом и объектом, которое обозначено образно словами «обладание в сознании» (im-Bewusstsein-haben) есть уже мышление.
Посмотрим теперь, нет ли еще других проявлений мышления, более специальных. Для этого отличим в объекте все, что дано, от всего, что привнесено обработкою данного, произведенною субъектом сознания. При решении этого вопроса можно наметить два противоположные учения. Во-первых, можно признать, что горы, реки, моря, одним словом, вся система природы есть нечто данное в сознании; в таком случае мышление состоит только в сознании и вещей и событий (Sich-ihrer-bewusst-sein), оно сводится лишь к описанному выше «обладанию» объектами в сознании. Во-вторых, можно утверждать что к области непосредственно данного принадлежат только пространственно-временные содержания ощущений, а все остальное, например, весь порядок ощущений, формирующий из них систему природы, есть продукт мышления36; в таком случае мышлению принадлежит выдающаяся роль в созидании природы.
Которое же из этих учений следует считать правильным? Для решения вопроса Шуппе предлагает следующий весьма интересный метод.
Как сказано выше, неразложимое содержание ощущений, их пространственность и временность несомненно относятся к области данного. Посмотрим теперь, что должно к этим данным присоединиться, чтобы они могли быть вообще сознаваемыми. Все, что играет роль условия возможности для каких бы то ни было данных быть сознаваемыми, есть мышление и, как общее условие, принадлежит не индивидуальному сознанию, а сознанию вообще.
Прежде всего, для сознаваемости какого бы то ни было а необходимо, чтобы в сознании была множественность данных а, b, с, d… которые отличены друг от друга. Различение же возможно лишь там, где возможно вместе с тем отожествление, т. е. там, где сравниваемые элементы а и b обладают фиксированною положительною определенностью, благодаря которой при многократном сознавании а оно признается за то же а.
Сознание возможно только при условии, что «всякое впечатление должно или совпадать по содержанию с другим впечатлением, или отличаться от него»37. Понятия «то же» и «не то же» непрестанно применяются к делу, они суть обнаружение принципа тожества, и так как для сознаваемости каких бы то ни было данных необходим этот принцип, то он и обусловленные им предикаты (тожества, не тожества) относятся к области мышления38.
Деятельностью отожествления и различения мышление не ограничивается. В самом деле, отожествлять и различать можно лишь такие данные, которые сопринадлежны (zusammengehörig), т. е. находятся в необходимой связи друг с другом. Так, говоря «дети – всегда дети» мы имеем в виду под одинаковыми словами различное, необходимо связанное друг с другом (возраст и неопытность, например) и содержащее в себе тожественную сторону. Условимся называть всякую необходимую связь какого либо а с b причинною связью, и формулируем предыдущую мысль следующим образом. Отожествление и различение возможны лишь там, где есть причинные связи. Следовательно, принцип причинности также есть условие сознаваемости какого бы то ни было а, и потому причинное связывание следует отнести к числу проявлений мышления. «Оба вида или принципа мышления, тожество и причинность (сопринадлежность), предполагают друг друга. Отожествления невозможны без предположения какого-либо вида сопринадлежности, точно так же, в свою очередь, понятием сопринадлежности, очевидно, предполагается различение и фиксирование различных положительных определенностей»39.
Если выделить мысленно из состава объектов все продукты мышления, т. е. отношения тожества, различия и причинной связи, то останется лишь первично данное, именно – безотносительное наполнение пространства и времени содержаниями ощущений40.
Это непосредственно данное характеризуется «как неразложимое и требующее, чтобы его просто приняли (einfach recipirt zu werden), не давая о себе никаких дальнейших сведений. Его требованию, мы, конечно, уступаем, так как оно навязывается нам, но всегда, при всякой рефлексии оно рассматривается как нечто в последней инстанции абсолютно непонятное, как нечто чуждое»41.
Понятность и ясность, говорит Шуппе, возникают впервые вместе с работою мышления, т. е. постольку, поскольку первично данное оформлено мышлением и превращено в мир вещей и событий42.
Непосредственно данное, т. е. такое, как, например, зеленое, соленое и т. п., можно назвать апостериорным, так как нельзя найти основания, из которого можно было бы наперед усмотреть, что такие содержания должны существовать. Наоборот, тожество, различие и причинная связь априорны, так как наперед известно, что какие бы новые содержания сознания в будущем ни появились, к ним будут приложимы эти предикаты. Апостериорные данные всегда суть ощущения43, тогда как априорное не есть ощущение, оно не относится к числу того, что обусловлено раздражением чувствительного нерва («nicht mit zu demjenigen gehört, was der Sinnesnerv bietet»)44.
Априорные определения, тожество, различие и причинную связь можно назвать также категориями. Категории сочетают данное в единство. Следовательно, акт мышления всегда есть акт суждения, именно сознание тожества, различия или причинной связи данного. В каждом суждении субъектом в логическом смысле служат данные сознания, а предикатом – категории тожества, различия или причинной связи45(например, суждение «от нагревания тела расширяются» можно, чтобы точно обозначить его логическое строение, выразить так: «нагревание и расширение тела причинно связаны друг с другом»).
Понятия и умозаключения не суть что-либо, по существу отличное от суждений. Понятие есть всегда сочетание признаков, установленное актом суждения. Точно так же умозаключение есть сложное суждение или, наоборот, суждение есть простейшее умозаключение. Связь субъекта с предикатом в каждом суждении имеет такой же необходимый и обоснованный характер, как и связь вывода с посылками. В этой необходимости связи состоит существо всякого мышления. «То, что отчетливо обнаруживается в суждении, как принуждение к сочетанию, и исключает представление о произвольной игре комбинирования, как не мышление (Nichtdenken), именно и составляет существенную особенность настоящих процессов мышления». «Сущность суждения состоит в том, что оно выступает как обоснованное»46.
Все умозаключения, например, «S есть М, М есть Р, следовательно, S есть Р», основываются на деятельности мышления и прежде всего на принципе тожества47. «Принцип причинности создает единства понятий, из которых состоят посылки, и заставляет образовать впервые действительно общие положения, но выводимость нового суждения дается исключительно принципом тожества»48.
Слова «деятельность» мышления, «оформление» данного и т. п. могут ввести в заблуждение, именно могут подать повод к мысли, будто, по Шуппе, познающий индивидуум имеет дело сначала с бесформенными данными и лишь постепенно, действуя на них своим мышлением, обрабатывает их. Конечно, это недоразумение.
Мышление не следует хронологически за бытием; непосредственно данное и мышление всегда существуют в сознании вместе, так что предикаты тожества, различия, причинной связи кажутся данными, кажутся наличными в объекте.
«Все, что мышление делает над своим материалом, первоначально не доходит до нашего сознания, как наше дело, но кажется содержащимся в данном. Ведь мы не сознаем мышление, как производимую нами деятельность в обычном смысле этого слова. Только при напряженном размышлении кажется, что мы наблюдаем в себе нечто подобное, но то, что мы замечаем, есть скорее утомление, напряжение вообще; что собственно мы делаем при этом, никто не может сказать, и в конце концов то, что мы можем привести, как продуманное или как имеющуюся мысль, есть результат, появившийся на поверхность как бы сам собою, совершенно без труда»49. «Без помощи рефлексии дело я не доходит, как таковое, до сознания, но представляется как нечто готовое, познанное в объекте»50. «Причинное отношение, подобно отношению тожества и различия, часто без ясного знания смысла его рассматривается как нечто наличное в объектах, т. е. как впечатление, просто дошедшее до сознания вместе со своими частями». Только присоединение рефлексии позволяет нам признать эту связь «как логический предикат, для которого а и b служат субъектом» (а и b – причинно связаны)51.
Неудивительно, что логические определения даны в сознании сразу вместе с ощущениями: ведь мышление, по Шуппе, есть дело родового, а вовсе не индивидуального сознания. Поэтому трудная для Канта проблема, как апостериорные данные подводятся под категории, проблема, для решения которой Кант создал свое ученее о схематизме чистых понятий рассудка, совершенно отпадает в гносеологии Шуппе. «Об особом акте применения этих понятий», говорит Шуппе, «не может быть речи. Кантовское подведение под них наглядно данного заключает в себе вновь всю проблему в нерешенном виде. Ведь эти понятия вообще вовсе не могут быть мыслимы без данного, следовательно, изначала существуют в нашем сознании только в качестве определений данного, определений того, что существует как тожественное и различное, как причинно связанное с чем-либо другим»52.
Надобно, однако, отметить существенное различие в том, как познается тожество и различие данных, с одной стороны, и причинная связь их, с другой стороны. Всякое данное в сравнении с другим данным тотчас же и без труда усматривается как тожественное или отличное, тогда как причинная связь познается не так легко. Наблюдая какое либо а, мы a priori знаем наверное, что оно имеет причину, но найти эту причину удается только путем рациональной индукции53. Раньше чем заняться вопросом о рациональной индукции, познакомимся подробнее с причинною связью как связью необходимою, и вообще рассмотрим понятие необходимости.
Чтобы выяснить понятие необходимости, нужно отграничить его от понятия возможности и случая. Но прежде всего нужно установить отношение его к понятию простого бытия, ассерторически высказываемого в единичном категорическом суждении54. Это простое бытие, включая сюда также и я (как условие мыслимости мирa), не обозначается в суждении как необходимое; из этого, однако, не следует, будто здесь нет необходимости; открытое утверждение необходимости совершается тогда, когда существует повод отвергнуть предположение о случайности чего-либо. Итак, возможно, что именно тогда понятие необходимости не подчеркивается, когда речь идет о первичной, непререкаемой необходимости, служащей источником всякой другой необходимости. И в самом деле, таково именно простое «это так» («es ist so») мирового бытия.
Правда, само бытие, т. е. то обстоятельство, что вообще что бы то ни было существует, не может быть выведено, как необходимое, ни из какого более первоначального принципа, но с другой стороны, в такой же мере немыслимо, чтобы мир возник случайно (понятие случая имеет смысл только внутри уже существующего мирa), а также немыслимо, чтобы вместо мирa было ничто55. «Таким образом понятие необходимого сводится к понятию бытия: «это должно быть так, или это необходимо таково» отожествляется с простым «это так». Конечно, такое «это так» следует мыслить не как восприятие, наполняющее данный момент, а безвременно, как восприятие, охватывающее единым взором картину мирa в прошлом и будущем»56. Эту необходимость всего мирового бытия вместе с его прочным сплошным порядком Шуппе называет первичною, так как она есть основание всякой другой необходимости. В виду этого всеохватывающего значения необходимости, ясно, что называть что-либо возможным или случайным можно только в известном отношении, причем не следует упускать из виду, что в другом отношении это возможное и случайное имеет характер необходимости57. В самом деле, возможным называется х в отношении к какому-либо а, или в том случае, когда оно не исключается этим а (возможность из равнодушия), или же в том случае, когда это а служит одним из условий возникновения х (возможность из условия)58. Случайным называется событие, возникшее благодаря встрече нескольких рядов обстоятельств, которые, что касается их качества, сами не требуют и не исключают друг друга, т. е. равнодушны друг к другу (например, взрыв, происшедший вследствие того, что летящая искра попала в бочку с порохом). Но само собою разумеется, такая встреча рядов в конечном итоге обусловлена первичным расположением последних простейших составных частей мирa и их первичным движением; а это распределение и движение, говорит Шуппе, «сводится к необходимости, которую я отожествил с бытием (конечно, как содержание сознания). В этом отношении всякое случайное событие оказывается опять необходимым»59.
Необходимость, совпадающая с «это так» мирового бытия, служит основанием необходимости в обычном смысле этого слова, именно той необходимости, которая выражается в постоянстве последовательностей и сосуществований. Шуппе называет ее вторичною необходимостью60.
Без нее не могут существовать данные опыта как данные сознания. Однако она не принадлежит к составу чувственного восприятия. «To, что воспринимается в чувственных данных как объективно наличное, есть все же всегда только определенное число одинаковых последовательностей». Описания того, как причина порождает действие, суть только образные выражения; это «как» остается для нас сокровенным; по крайней мере «что касается внешнего мирa, никогда не бывает и следа прямого знания о причинении». Знание причинной связи состоит лишь в том, что к восприятию временной последовательности присоединяется «непоколебимое ожидание отсутствия исключений»61, т. е. убеждение в том, что «где бы и когда бы ни встретилось а, должно встретиться также в». Следовательно, причинная связь есть связь, мыслимая как законосообразная, выразимая в виде общего суждения62.
Сама наблюдаемая в опыте временная последовательность а и в, конечно, не могла бы привести к допущению законосообразной связи между ними, если бы a priori не была готова мысль, что всякое данное сознания находится в необходимой, хотя бы и неисследованной нами еще связи с другими данными сознания, предшествующими и последующими63. Руководясь этим априорным принципом, мы должны, вследствие невоспринимаемости необходимой связи, прибегать к помощи рациональной индукции, чтобы открыть, какие именно данные сознания причинно связаны друг с другом. Индукция есть не что иное как силлогизм с разделительною большею посылкою (причина х есть или а, ила в, или с; но в и с не могут быть причиною х, как это видно из наблюдений, произведенных по методам согласия, различия и т. п.; следовательно, остается признать, что причиною служит а).
С помощью этого силлогизма удается путем исключения узнать, какое событие служит причиною х64.
Однако, не всегда приходится лишь таким окольным путем узнавать, какие явления связаны друг с другом причинно. «Факты внутренней жизни», по крайней мере в некоторых случаях, «могут быть сознаваемы вместе с их внутреннею связью»65. Так, например, «доходящее до сознания состояние хотения проявляется как нечто такое, что непосредственно из себя порождает действие»66. Поэтому, наблюдая психическую жизнь, часто вовсе не нужно прибегать к индукции, устанавливать сначала закон, т. е. общее правило и таким образом убеждаться в том, что связь а и в необходима. Здесь, как раз наоборот, «необходимость познается прежде всего и первоначально в единичном случае»67. Таким образом, не прибегая к методу исключения, т. е. к рациональной индукции, мы непосредственно узнаем, например, причины наших чувств, решений и т. п.68
Конечно, и здесь, думает Шуппе, «если есть налицо необходимость, должна существовать также всеобщность закона, и в чем же она может заключаться?»
Психические реакции обусловливаются не только наличным состоянием а, но и всем составом предыдущей душевной жизни, которая с каждым днем и часом обогащается новыми содержаниями; поэтому в душевной жизни невозможна однообразная повторяемость событий и к ней неприменима формула, пригодная для внешней природы, «где бы и когда бы ни возникло а, возникает также и в». Тем не менее Шуппе полагает, что и в душевной жизни необходимая связь событий имеет характер закона. «Как бы редко ни наблюдалась совершенно одинаковая реакция на одинаковые возбуждения, все же является неотразимым представление, что наступала бы всегда та же самая реакция, если бы промежуточные новые переживания не повысили или ослабили раздражимость, или вообще каким-либо образом не видоизменили направление реакции»69.
Причинная связь или необходимая сопринадлежность бывает трех видов: эмпирическая, элементарная и родовая (begriffliche). Познакомимся подробнее с этими видами связи; рассмотрение их откроет нам глубокие основы строения сознания и, кроме того, дополнит сведения о рациональной индукции.
Необходимою связью могут быть соединены пространственно-различные целые явления; связь между ними Шуппе называет эмпирическою. Второй вид необходимой связи есть сопринадлежность элементов явления. Чтобы познакомиться с ним, рассмотрим сначала, что такое – элемент явления.
Анализируя вещи, можно дойти до последних, т. е. неразложимых далее элементов; таковы чувственные качества (цвет, звук и т. п.), пространственная и временная определенность (где, когда). Каждый из этих элементов, взятый в отдельности, т. е. в абстракции (например, определенный оттенок красного цвета), не доступен восприятию, не представим, а только мыслим. В самом деле, каждый элемент, выделенный из целого явления, есть уже общее понятие. Так, всякое чувственное качество, отличается, правда, от всех остальных качеств и вообще от всех остальных элементов, но по своему понятию, оно может, будучи точь-в-точь тем же, находиться бесчисленное множество раз в различных местах и в различные времена70. «Только совокупность элементов в действительном явлении есть индивидуальное. Каждый же элемент, если мыслить его сам по себе, и притом без всякого изменения, так, как он явился в действительности, есть вид или видовое понятие»71.
Чтобы стать не только мыслимым, но и воспринимаемым, чтобы принадлежать не только к области понятий, но и к мирy явлений, каждый элемент должен быть связан по крайней мере с двумя другими элементами, именно чувственное качество должно быть связано с пространственною и временною определенностью и, наоборот, пространственно-временные определения должны быть наполнены каким-либо чувственным качеством72. Все три стороны всякого явления апостериорны, хотя, конечно, нельзя отрицать глубокого отличия пространства и времени от чувственных данных, состоящего, например, в однородности всех частей пространства и времени, также в неустранимости из пространства и времени ни одного места и ни одного момента73.
Необходимую сопринадлежность в каждом явлении трех перечисленных элементов сознания Шуппе называет «элементарною необходимостью». Как и всякую необходимую сопринадлежность, он называет ее причинною, однако иногда в виду упрочившейся в языке привычки придавать термину причинность более узкое значение74он называет необходимую связь сосуществования словами «обусловление» (Bedingen) или «функциональная зависимость» (Funktion) и говорит, что она мыслится более духовно, чем причинная связь, «на подобие силы договорного обязательства»75.
Чтобы установить существование необходимой сопринадлежности элементов, Шуппе прибегает к умственному эксперименту, который вряд ли однороден с описанною выше рациональною индукциею, хотя Шуппе не выделяет его в особую категории методов обоснования общих суждений. Образцом может служить его рассуждение о том, что чувственное качество необходимо занимает пространство. Отвлечем чувственное качество от занимаемого им пространства. «Хотя мы осуществили эту абстракцию первоначально только на основе одного единственного явления, все же выделенные элементы имеют природу общего понятия, и если мы пытаемся представить себе каждый из них в отдельности от других и замечаем, что это невозможно, то это эксперимент такой же ценности и столь же доказательный, как и всякий другой эксперимент. Он служит доказательством того, что это качество, т. е. не индивидуальное только что испытанное впечатление, а это качество, как общее понятие, не представимо без «где» и «когда». Следовательно, мысль, что эти элементы обусловливают друг друга взаимно, не есть индивидуальный опыт: причинная связь присуща здесь общему, и для ее общего значения не требуется никакого дальнейшего опыта»76.
С такими умственными экспериментами мы познакомились уже раньше. К ним прибегал Шуппе для того, чтобы открыть условия сознаваемости какого бы то ни было а; найдя с помощью описанного метода, что тожество и причинная связь суть условия сознаваемости чего бы то ни было, Шуппе рассматривает эти два глубочайшие принципа как установленные путем индукции77.
Третий вид необходимой сопринадлежности, связь видового признака с содержанием родового понятия, Шуппе называет «begriffliche Nothwendigkeit»; назовем ее по-русски «родовою необходимостью». Эта связь еще более тесна, чем связь элементов: члены этой связи не только непредставимы, но и немыслимы друг без друга. Так, мысля какой-либо вид цвета, например, красность, нельзя при этом не мыслить также содержание родового понятия «цвет», или, мысля треугольник, нельзя не мыслить фигуру78. «Родовой момент целиком существует не только фактически, но и по своему понятию лишь в виде, будучи внедренным в него так глубоко и столь проникая его во всех пунктах, что вид без родового момента немыслим». «Видовой момент является как осуществление родового, а родовой как носящее основание и внутренняя возможность всего видового»79. «Понятие общности рода состоит в этом причинном отношении, а не в том, что родовой момент действительно общ многому. Если предлежат многие данные, которым он общ, то (психологически) его легче найти, но если бы даже предлежало только одно данное, и если бы вследствие этого родовой момент не был добыть из нее нами (nicht herausgefunden würde), все же он был бы на лицо и был бы не менее общим»80.
От родового момента (например, понятия треугольник) зависит то, что существуют лишь такие-то определенные виды (например, прямоугольные, остроугольные, тупоугольные треугольники). Это отношение между родовым и видовым моментами служить основанием возможности классификаций, имеющих научную ценность81.
Конечно, все изложенное учение о связи между родовым и видовым моментом относится лишь к тем понятиям, которые можно назвать подлинными родами (eigentliche Gattung, οίχεϊον γένοξ)82. От них нужно отличать неподлинные роды и виды, получающиеся тогда, когда ограничение понятия, т. е. образование видов, достигается путем внешнего присоединения признаков. Таковы например, понятия «круглый предмет» и «красный круглый предмет»; таковы например, понятие вещи и присоединение к нему признака, указывающего на то, что вещь служит объектом какой-либо психической деятельности (например, яйцо и яйцо для пасхального подарка); таковы логические понятия, служащие выражением категориальной функции, например, понятие вещь, качество и т. п., – они суть неподлинные роды в отношении к подчиненным им понятиям эмпирических вещей, качеств и т. п.83
Хорошие образцы подлинных родов можно найти среди понятий, относящихся к «элементам» (цвет, тон и т. п.). Наоборот, примеры неподлинных родов и видов особенно легко найти, рассматривая понятия вещей. Является даже вопрос, могут ли понятия вещей содержать в себе подлинные роды84. На этот вопрос Шуппе отвечает утвердительно, указывая условия, при которых может быть достигнута научная классификация вещей. Вещь не есть простая сумма «элементов»; вещь есть совокупность определенных в пространстве и времени данных, причинно связанных между собою, что обнаруживается в совместном движении и покое их, а также в законосообразной, ограниченной рамками определенных возможностей смене качеств85. В составе понятия вещи важнейшую роль играет закон причинной связи частей, а не отдельные «элементы». Поэтому построение общих понятий о вещах, на основании отдельных «элементов», например, цвета, дает лишь неподлинные роды. Для установки подлинных родов вещей нужно отвлекать от их состава закон причинной связи их частей и образовать видовые понятия путем перечисления видоизменений основного закона. Для удачного выполнения этой задачи необходимо иметь знание или хотя бы какие-нибудь предположения о происхождении вещи86.
В предыдущем изложении уже намечено учение Шуппе о бытии общего. «Конкретно действительное индивидуально», говорит Шуппе, «тогда как абстрактное всегда есть общее понятие»87. Общее, принадлежащее многим, например, трем конкретным вещам, само не становится вследствие этого многим, например, не утраивается. Нам трудно понять это только потому, что мы, рассуждая об абстрактном моменте, не сохраняем его абстрактности и мысленно превращаем его в нечто конкретное. «Принимать красноту или цвет, воспринимаемые в трех местах, за три красноты или три цвета это значит трактовать абстракции краснота и цвет как нечто конкретное. И если мое заявление, что воспринимаемое в трех местах есть одна и та же краснота или цветность, возбуждает недоумение, если кто признает непонятным или противоречивым, чтобы одно и то же существовало или было воспринимаемо в трех местах, то это опять-таки происходит вследствие того, что абстрактную красноту или цвет трактуют, как нечто конкретное»88. Общее не есть субъективное понятие, оно реально, как и конкретное: «абстрактное есть составная часть действительности, и видимость, будто оно в противоположность действительному есть нечто лишь субъективное, возникает только потому, что оно вступает в сознание или удерживается в нем отдельно от остальных элементов или моментов, слагающих действительность»89. «Хотя само по себе в отдельности оно не имеет представимого содержания, тем не менее оно действительно содержится в воспринимаемом, оно совоспринимается»90. Из конкретного единичного, в котором оно находится, оно извлекается (herausabstrahirt wird) мышлением91. Само это единичное, индивидуальное есть не что иное, как комплекс общих элементов92. Отсюда становится понятною возможность описанных выше умственных экспериментов, дающих в результате одного наблюдения общее суждение93.
Учение о реальности общего должно быть применено также и к родовому я или родовому сознанию. Взятое в отвлечении от всякого содержания сознания, оно есть абстрактный момент, но этот момент содержится во всяком индивидуальном я, которое становится индивидуальным «этим я только потому, что обладает таким-то определенным в пространстве и времени содержанием сознания»94. Опасаясь упрека в гипостазировании понятий, Шуппе подчеркивает, что хотя он и признает реальность родового я, он не допускает самостоятельного, отдельного существования этого я: оно существует не иначе, как в связи с конкретными содержаниями сознания, т. е. лишь как момент индивидуальных я95.
Заканчивая изложение гносеологии Шуппе, рассмотрим, что он называет истиною. Бытия, трансцендентного сознанию, Шуппе не допускает, находя противоречие в этом понятии. Поэтому истина не может состоять в соответствии между суждением и действительностью, трансцендентною сознанию. Всякое мышление есть мышление бытия и, наоборот, всякое бытие есть бытие в мышлении. Отсюда является возможность утверждать, что истина есть суждение, «имеющее своим содержанием действительно сущее»96. Необходимо мыслимое и действительное совпадают97. Необходимое мышление есть мышление родовое, т. е. одно единственное мышление для всех индивидуальных я, точно так же и действительность есть одно единственное целое, не содержащее в себе никаких пробелов и противоречий98.
Противоречие между высказываниями, невозможность построить из них согласное, непротиворечивое целое всегда бывает обусловлено вмешательством субъективных факторов, ведущих к заблуждению99. Таковы «восприятия и суждения, которые принадлежат индивидуальным различиям единичных сознаний (зависящим от индивидуальных условий их развития, начиная с нуля в пространстве и времени), а не родовой сущности, и потому не могут быть объединены в совершенно свободное от противоречий целое не только с теми восприятиями и суждениями, которые происходят из этой родовой сущности, но также и с субъективными восприятиями других индивидуумов и даже с совокупностью субъективных восприятий того же субъекта»100. В случае столкновения двух мнений, противоречащих друг другу, узнать, которое из них есть заблуждение, и которое служит выражением действительности, можно только путем сопоставления их с системою остальных суждений, обнаруживающего, которое из них способно составлять с остальными суждениями согласное целое. Отсюда следует, что истинность суждения, признание его за выражение действительности основывается на отношении его к системе остальных суждений. По мере расширения системы согласных между собою суждений, разрабатываемой согласно «идее истины»101, возрастает и доверие к системе; но полная уверенность в обладании совершенною истиною была бы достигнута только при условии окончательного завершения знания, именно если бы была установлена «абсолютно согласная в себе система всего мыслимого и воспринимаемого»102.
Сочинения В. Шуппе103
Das menschliche Denken, Berl. 1870.
Erkenntnisstheoretische Logik, Bonn 1878.
Grundzüge der Ethik und Rechtsphilosophie, Breslau 1882.
Die Normen des Denkens, Vierteljahrsschr. für wissensch. Philos. VII, 4, 1883.
Die Bestätigung des naiven Realismus. Offener Brief an Herrn Prof. Dr. Avenarius. Там же XVII, 1893.
Das metaphysische Motiv und die Geschichte der Philosophie im Umrisse, речь, Breslau 1882.
Empfindung und Wahrnehmung, Zeitschr. für Philos. und philos. Kritik, 98. т.
Was sind Ideen? Там же 1883.
Begriff des subjectiven Rechts, Breslau 1887.
Das Gewohnheitsrecht, Breslau 1890.
Der Begriff des Rechts, Zeitschr. für das Privat– und öffentliche Recht der Gegenwart, X.
Grundriss der Erkenntnisstheorie und Logik, Berl. 1894, 2 изд. 1911.
Begriff und Grenzen der Psychologie, Zeitschr. für imm. Philos. I, 1896.
Die immanente Philosophie und W. Wundt, Zeitschr. f. imm. Ph., 1897.
Der Solipsismus, 1898.
Das System der Wissenschaften und das des Seienden, 1898. Was ist Bildung? Berl. 1900.
Der Zusammenhang von Leib und Seele, в Grenzfragen des Nerven– und Seelenlebens, XIII, 1902.
Сочинения о Шуппе
В. Herrmann, Schuppes Lehre vom Denken kritisch beleuchtet, диссертация, Greifswald 1894.
P. Natorp, Archiv für system. Philos. 1896.
Вундт, О наивном и критическом реализме, перев. Водена 1910, по-немецки в «Philosophische Studien» тт. XII и XIII.
Философские исследования, под редакц. Челпанова, т. I.
Борецкая. Имманентная философия и трансцендентная метафизика, Научн. Обозр. 1902, №№ 5 и 7.
Борецкая. Солипсизм и «сознание вообще» в имманентной философии. Научн. Обозр. 1902, № 8 и 9.
Armhеin, Kants Lehre vom «Bewusstsein überhaupt» und ihre Weiterbildung bis auf die Gegenwart. Ergänzungsheft № 10 к «Kantstudien».
Г. Ланц. Вильгельм Шуппе и идея универсальной имманентности. Вопр. фил. и псих., 1909, декабрь.
Представителями имманентной философии кроме Шуппе можно считать Р. Шуберт-Зольдерна (главное сочинение его «Grundlagen einer Erkenntnisstheorie, Lpz. 1884), А. Леклера (Leclair, на русский язык переведено А. Ремизовым в 1904 г. его сочинение «К монистической гносеологии») и М. Кауфмана (Max Kaufmann, Immanente Philosophie, I кн. (1893), бывшего издателем журнала школы имманентной философии «Zeitschrift für immanente Philosophie».
И. Ремке, которого обыкновенно причисляют к представителям имманентной философии и ставят рядом с В. Шуппе, в действительности занимает особое место в развитии современной гносеологии, так как, подобно интуитивизму, понимает область «данного» шире и придает «данному» гораздо большее значение, чем Шуппе.
Д. Викторов. Психологическая и философские воззрения Рихарда Авенариуса
Первый биограф бессмертного творца критической философии назвал «своего Канта» человеком правил. Будущий биограф основателя эмпириокритицизма назовет Авенариуса человеком формул. Непроизвольная потребность выражать все движения мысли в формулах составляет существенную черту умственного склада Авенариуса и столь наглядно проявляется во внешних особенностях его изложения.
Мы поступим в духе Авенариуса, если нижеследующую характеристику его психологических и философских воззрений приурочим к рассмотрению трех формул: формулы наименьшей меры сил, жизненного ряда и интроекции.
I
Формула наименьшей меры сил приводится уже в заглавии первой систематической работы Авенариуса, которая должна была служить пролегоменами к критике чистого опыта, «Философия как мышление о мире сообразно принципу наименьшей меры сил»104.
Взгляды Авенариуса за этот период его развития не имеют еще оригинальности позднейших воззрений его. В своей психологии он примыкает всецело к теории апперцепции Штейнталя, а в своем учении о познании находится отчасти, косвенным образом под влиянием английской эмпирической философии.
Не только усовершенствованные и производные понятия науки, например, понятие атома, но и первичные категории нашего повседневного мышления, например, категории причинности и субстанциальности, представляются Авенариусу искусственными орудиями, с помощью которых душа стремится овладеть материалом опыта. Если расплавить их в тигель психологического анализа, то окажется, что и те, и другие держатся на одном общем корне и вырастают из одного в глубине заложенного основания, именно все они порождаются действием принципа наименьшей меры сил. Благодаря своим естественным категориям и с помощью научных построений душа удовлетворяет своей коренной потребности в приспособлении организма к окружающей его среде, достигает наибольшего результата с наименьшей тратой сил. Таким образом получается «экономия мысли».
В развитии собственной философии Авенариуса рассматриваемый нами принцип имел только переходное и предварительное значение. Самую работу его, в заглавие которой вошел принцип наименьшей меры сил, можно было бы отнести к до-критическому периоду его философской деятельности. Но из числа выставленных Авенариусом формул формула «наименьшей меры сил» получила едва ли не наибольшее распространение. Через посредство известных работ Маха, Оствальда, французских, американских и английских прагматистов, пропедевтические идеи Авенариуса, набросанные им в общих, программных чертах, введены были в круг основоположений популярной в настоящее время «экономики мышления». Новейшее, чрезвычайно солидное применение принципа Авенариуса мы находим у комментатора Канта, Файгингера, в его «Philosophie des Als Ob». В своей отправной точке эта новейшая философия «Как если бы» открыто опирается на юношеское исследование Авенариуса. На протяжении своей обширной монографии Файгингер везде занят главным образом тем, чтобы показать, в какой значительной степени научная мысль питается одними фикциями, поскольку они согласуются с принципом наименьшей меры сил. С одной стороны, фикция характеризуется тем, что по своему составу она содержит в себе то или другое внутреннее противоречие, т. е. не соответствует действительности и не оправдывается законами логики; с другой стороны, фикция с принудительною силою обязывает сплошь да рядом нашу мысль. И объяснение этого парадоксального, в глазах строгого рационалиста, явления Файгингер видит как раз в том, что фикции несут службу целесообразного орудия, с помощью которого душа обрабатывает данные опыта согласно максимам экономного домоводства.
Мы не будем останавливаться более на этом хорошо известном ходе мыслей. Прежде чем перейти, однако, к подлинному эмпириокритицизму, мы коснемся здесь вопроса об отношении экономики мышления к постулату чистого опыта, в связи с теми возражениями, которые нередко выставляются критиками Авенариуса.
Кричащее противоречие философии чистого опыта усматривается обыкновенно в том, что сам основатель ее, вопреки собственному требованию чистого опыта и прямого описания, строил весьма сложные, отвлеченные теории, которых нельзя было бы «обрести» (vorfinden) ни в каком чистом опыте. Это справедливо, например, относительно его биомеханики, с такими фиктивными понятиями, как идеальная нервная система, максимум жизнесохранения и т. д. Кроме того, требование чистого опыта находится, по указанию этих критиков, также и в противоречии с выводами современной теории познания. Вспомогательные понятия, которыми пользуется наука, никогда не дают точной копии действительности; они вообще не бывают находимы в опыте, а продуцируются независимой и самостоятельной деятельностью творческой мысли и привносятся ею к материалу чистого опыта.
Таково вкратце распространенное возражение, приводимое против философии чистого опыта.
Если мы будем рассматривать эти доводы в свете непосредственных следствий, вытекающих из применения начал экономики мышления, то прежде всего мы должны будем предположить, что приведенные соображения и все, подобные им, не могли не быть хорошо известны Авенариусу. Действительно, в ряду современных гносеологов Авенариусу, не менее чем кому-либо другому, принадлежит важная заслуга выяснения того, какое преобладающее значение приходится на долю антропоморфизма в деле созидания научной мысли и в истории развития человеческого мышления. Тем не менее Авенариус не думал, чтобы, допустив неизбежность субъективных человеческих привнесений к опыту, мы вынуждены были отвергнуть идею чистого опыта. Напротив, именно для обоснования этой последней идеи и был им введен первоначально принцип наименьшей меры сил. Предлагая более точно разграничивать данный материал чистого опыта и инструментальные категории чистой мысли, которыми пользуется душа для успешного приспособления организма к среде, Авенариус тем самым предлагал относить вспомогательные мыслительные орудия не к конститутивным, а к регулятивным положениям. Другими словами, Авенариус тем самым признавал, что они не принадлежат к необходимым частям строения действительности, не могут притязать на какую-либо окончательную санкцию, выполняя лишь свое временное назначение.
Авенариус нисколько не обязывался выступать противником теории и теоретического объяснения, как таковых. Но он отрицал «теорию для теории» и допускал теорию не в качестве самоцели, а в качестве средства. Высказывавшаяся им надежда, что со временем проблемы будут возникать только на почве опыта и будут решаться только средствами чистого опыта, не стоит в прямом противоречии хотя бы с самой высокой оценкой теоретических объяснений. Всякие теории хороши, поскольку они приближают нас к достижению чистого опыта. Чистый опыт не есть готовое данное, а руководящий идеал, к которому постепенно приближается человеческое мышление, отграничивая более и более тщательно материал опыта от субъективных категорий.
II
Принцип наименьшей меры сил висел, так сказать, в воздухе. Авенариус не указал реальной биологической основы, которая могла бы служить опорой для него, и действия его не были подтверждены более подробным психологическим анализом. В «Критике чистого опыта» этот пропедевтический принцип уступил место другому универсальному жизненному началу, более определенному и в том, и в другом отношении, – биомеханическому закону жизненного ряда.
«Критика чистого опыта» есть то произведение Авенариуса, которое представляется нам наиболее важным. Будучи разработана им с наибольшею тщательностью, она в то же время составляет и самую ценную часть оставленного им духовного наследия.
Два разнородных дарования обнаруживает автор «Критики» с большим блеском: дар систематизации и диалектики и дар психологического наблюдения и живописания. В первом отношении Авенариус может быть смело сопоставлен с величайшими германскими идеалистами, а во втором отношении он несомненно превосходит крупнейшего современного германского психолога, своего ближайшего учителя, Вильгельма Вундта.
Весьма широкие перспективы рисовались перед умственным взором нашего философа, когда, напав на руководящую идею жизненного ряда, он приступал к разработке своей «Критики». Авенариус был совершенно убежден в том, что ему удалось открыть закон, который дает ключ к механизму всей жизни и деятельности человечества, и на основе этого закона он считал возможным построить своего рода универсальное человековедение, которое могло бы иметь, в свою очередь, разнообразнейшие применения.
Первые формулы и последующие теоремы подобного универсального человековедения должны быть выведены, по мнению Авенариуса, из законов механики центральной иннервации, т. е. из биомеханического закона, которым регулируются жизненные отправления центрального органа нашей нервной системы – нашего мозга. Центральному органу нервной системы, или, согласно символическому обозначению его, вводимому Авенариусом, системе С принадлежит во всем учении Авенариуса исключительный методологический приоритет, а у одного из его учеников, талантливого представителя философии чистого опыта, Петцольдта, система С возводится на степень космического первоначала. Такое исключительное положение, отводимое в философии чистого опыта системе С, объясняется, по-видимому, тем, что философская мысль Авенариуса была воспитана на представлениях физиологической, экспериментальной и биологической психологии. Вместе с тем, это обстоятельство послужило поводом к обвинениям в материализме, выдвигавшимся против эмпириокритицизма. Однако, некоторый налет материализма, заметный отчасти в общем направлении эмпириокритицизма, имеет своим источником, как нам кажется, не столько этот методологический приоритет системы С, сколько натуралистическое миропонимание, на почве которого вообще стоит Авенариус.
Для задуманного Авенариусом человековедения требовалась, таким образом, прежде всего какая-либо связная теория жизни мозга. В первом томе «Критики» Авенариус выставляет новую гипотезу о природе нервного процесса, привлекая при этом естественно-научные данные троякого рода: экспериментальные исследования, производившиеся в то время в области рефлексов; химические теории процессов, происходящих в живой субстанции, и некоторые биологические идеи динамического характера.
Всякое отдельное состояние нервной системы и всякий отдельный нервный процесс рассматриваются в новой теории как результат взаимодействия двух взаимно поглощающих друг друга энергий: ассимилирующей и диссимилирующей. Ассимилирующая энергия проявляется в процессах питания нервной системы, а диссимилирующая – в процессах работы. Так как продукты питания поглощаются работой, то можно в известном смысле считать одну из этих энергий-антагонистов положительной величиной, со знаком плюс, а другую – отрицательной, со знаком минус. От гармонического взаимодействия их будет зависеть жизнесохранение мозга.
Когда положительный и отрицательный жизненные факторы равны друг другу, когда действия их взаимно нейтрализуются, сумма их должна равняться нулю. Для выражения этого отношения Авенариус составил подходящее математическое уравнение. Если мы обозначим фактор питания символом f (S), фактор работы символом f (R), то сумма их, при условии равенства, получает следующее выражение:
f(S)+f(R) = O.
Такова основная формула жизни, из которой должны быть дедуцированы дальнейшие частные формулы. Ошибочно было бы придавать этому уравнению строго математический смысл. Тем не менее, в качестве наглядного и портативного выражения для взаимоотношения факторов, которые участвуют в образовании жизненного процесса, оно представляет известную ценность. Подвергая анализу это уравнение, Авенариус устанавливает понятие жизненного ряда и выводит возможные разновидности его.
При взаимном равенстве питания и работы, когда сумма их равняется нулю, нервная система пребывает в состоянии покоя, или находится в точке равновесия, в точке идеально максимального жизнесохранения. В действительной жизни мозга это идеальное равновесие постоянно нарушается, так как или количество работы превосходит запас питания, или, наоборот, запас питания перевешивает меру работы. Вследствие этого жизнь мозга проходит в постоянных колебаниях около точки идеального равновесия. При этом колебание, отдаляющее нервную систему от максимального жизнесохранения, составляет отрицательный момент в ее жизни, а колебание, снова возвращающее ее к утраченному равновесию, соответствует положительному моменту. Из совокупности процессов, протекающих между первым моментом уклонения от максимального жизнесохранения и последним моментом остановки колебания и возвращения к состоянию покоя, образуется отдельный жизненный ряд.
Каждый жизненный ряд может быть разложен на три отрезка. Начальный отрезок совпадает с моментом нарушенного равновесия. В так называемом психическом ряду соответствующее познавательное переживание характеризуется как постановка той или иной проблемы, или задачи. Средний отрезок слагается из процессов, которые вводятся для того, чтобы остановить начавшееся отрицательное колебание. В соответствующем познавательном ряду этот отрезок представлен в виде попыток найти решение возникшей проблемы. Конечный отрезок, которым жизненный ряд замыкается, отмечает восстановление утраченного равновесия. В познавательном ряду этот отрезок соответствует тому состоянию, когда решение считается найденным, проблема признается разрешенной и идеал осуществленным. Но каждый из этих отрезков может быть представлен или одним звеном, или может быть опять-таки составлен из многих членов. Поэтому жизненные ряды разнятся друг от друга по своей сложности. Однако схема жизненного процесса сама по себе, независимо от различной простоты или сложности протекающих жизненных рядов, остается везде одна и та же.
Простейшие рефлексы, наблюдаемые у обезглавленной лягушки, и жизненные процессы, совершавшиеся в нервной системе Канта, когда он в своем стремлении «спасти свободу» переходил от более простых к более сложным философским построениям, должны следовать одной и той же схеме жизненного ряда.
Таким образом, животный организм есть как бы динамическое производное, получающееся от сложения жизненных рядов его нервной системы. В органических формах воплощается динамическое равновесие жизненных энергий. Нарушения и восстановления динамического равновесия трактуются далее, в теории Авенариуса, как процессы автоматические или механические. Таково дальнейшее методологическое требование, выставляемое Авенариусом. Сообразно с этим методологическим приемом теория жизни, построяемая на законе жизненного ряда, называется биомеханикой. Жизненный процесс должен быть рассматриваем строго объективно, как если бы жизнь мозга протекала совершенно без сознания; физический ряд и так называемый психический должны изучаться обособленно. Если это методологическое требование нарушается, если объективная и субъективная точки зрения смешиваются, то физиология и психология впадают неизменно в метафизику самого дурного качества. Убедительные подтверждения этому дает история психофизических учений о мозговой локализации душевных отправлений. В описание объективного мозгового процесса вводятся при этом субъективные психологические категории, относящиеся к другому, несоизмеримому рассмотрению опыта. Наоборот, главная задача биомеханики выражается в однородных объективных терминах: требуется классифицировать периферические движения организма и свести их к центральному механизму жизненного ряда.
Биомеханические формулы, выведенные обособленно в первом томе «Критики», применяются во втором томе к рассмотрению явлений человеческого познания. Между физическим и так называемым психическим рядом предполагается функциональное отношение: физический ряд есть независимая переменная, а психический – зависимая переменная. Философский вопрос о природе физического и психического начала не решается, конечно, этим предположением. Окончательное решение его относится к области эмпириокритического миропонимания, характеристики которого будет посвящена следующая глава. Авенариус предостерегает здесь только от подчинения этого отношения закону каузальной связи.
Свою новую теорию познания Авенариус наделяет эпитетами «общая» и «формальная», противопоставляя ей школьную гносеологию, т. е. гносеологию немецкого критицизма и английского эмпиризма. Свойство общности должно указывать на то, что предпринимаемое исследование человеческого познания не будет ограничиваться пределами развитого научного мышления, а будет рассматривать естественную историю развития мышления в ее целом, на всех ее последовательных ступенях, начиная с зачаточных проявлений донаучного практического рассудка и кончая совершенными творениями теоретического разума. Свойство «формальности» нужно понимать в том смысле, что новая теория познания не входит в обсуждение по существу привлекаемых ею для своих целей воззрений и суждений, а относится к ним формально, не поднимая вопроса об их доказательности или ценности, подобно тому как психиатр ставит диагноз нравственного помешательства, не учиняя нравственного суда над своим пациентом.
Общая и формальная теория познания Авенариуса, как показывают приведенные нами определения, представляет собою систему антропологизма, проводимого при этом с небывалою дотоле последовательностью и совершенною оригинальностью. В качестве антропологизма она отграничивается от критической гносеологии. Авенариус выдерживает это разграничение с полным сознанием и строгою принципиальностью, так как он вполне усвоил себе мысль критического и трансцендентального метода, что на почве психологического рассмотрения мышления вообще не может возникать вопроса о логической расценке познаний. В этом отношении для общей и формальной теории познания все проявления человеческого мышления однородны. Ни природа математических истин, ни закон причинности не представляют для нее каких-либо особых принципиальных трудностей, так как в системе антропологизма соответствующие этим видам познания душевные переживания подлежат одинаково ведению психофизического эксперимента, наравне с прочими органическими реакциями. Своим последовательным проведением антропологического метода теория познания Авенариуса отличается также и от английского эмпиризма, так как в классических произведениях этого направления нередко перемешивались психологические и логические элементы. Индуктивная логика Милля служит образцовым примером смешения недостаточной психологии с ошибочной логикой. Различие между теорией познания Авенариуса и этими видами эмпиризма сказывается между прочим в том, как они относятся к понятию опыта. В учениях обычного эмпиризма «опыт» рассматривается с самого начала как определенный источник познания, между тем как эмпириокритическая теория познания устанавливает первоначально те условия, при которых высказываются суждения опыта, и описывает душевные переживания, которыми вызывается эта словесная реакция. Следовательно, для эмпиризма опыт есть данное, а для эмпириокритицизма – искомое.
Общие формы познания, которые имеет таким образом в виду эта новая система антропологизма, находят свое обнаружение в явлениях двоякого рода: в явлениях психологической окраски, присущей тем переживаниям, которые лежат в основе наших суждений, и в психофизических схемах, которым следует течение познавательных процессов. Все явления психологической окраски обнимаются одним общим наименованием «характера», а психофизическую схему познавательного процесса дает биомеханический закон жизненного ряда.
Понятие «характера», введение которого в психологию составляет одну из важных заслуг Авенариуса, получается благодаря чрезвычайному расширению понятия чувства. Подобно тому как в чувствах приятного и неприятного производится субъективная оценка получаемых нами впечатлений, так, по наблюдениям Авенариуса, существует очень широкий класс переживаний, в которых впечатления, через посредство привходящей окраски, оцениваются нами, но уже не в качестве приятных или неприятных, а характеризуются как сходные или различные, знакомые или неизвестные, достоверные или сомнительные, действительные или мнимые, существенные или второстепенные, как истина или заблуждение, проблема или решение, причина или следствие и т. д. В основе всякого суждения, утверждающего или отрицающего одно из перечисленных отношений, будет ли то непроизвольное восклицание, случайно вырвавшееся в непринужденной беседе, или же обдуманный вывод методически выполненного исследования, лежит всегда известная субъективная окраска впечатления, или просто субъективное впечатление, которое в соответствующем суждении описывается, высказывается или передается. Субъективные окраски или впечатления, описательным выражением которых служат наши суждения, подводятся Авенариусом под общее понятие характера. Авенариус описывает и классифицирует сначала немногие простейшие непроизводные характеры, к которым, как ему кажется, могут быть сведены все прочие субъективные психологические выражения познавательных явлений, затем подвергает анализу дальнейшие усложнения и видоизменения их и прослеживает эволюцию их в ходе жизненного ряда. Характеры, или субъективные впечатления, составляющие окраску познавательного переживания, сближают самые отдаленные ступени познания. Характер, или субъективное впечатление равенства описывается одинаково в суждении 2 х 2 = 5, стоящем в заглавии одной комедии, и в арифметическом суждении, освященном употреблением Канта, 5 + 7 = 12.
Во втором томе «Критики» Авенариус собрал богатый психологический материал, дающий наглядное представление о роли, которую играют характеры в образовании познавательных процессов. Искусные психологические анализы Авенариуса оставляют впечатление убедительности. Результаты произведенных им подробных наблюдений не поддаются, однако, воспроизведению в краткой передаче, так как они опираются на описание тонких оттенков, которые с большим искусством улавливает Авенариус в душевных переживаниях.
Если характеры служат общими формами психического выражения познавательных процессов, то жизненный ряд представляет собою общую форму течения их. В качестве общей формы человеческого познания биомеханический закон оказывается, в конце концов, биологическим законом упражнения или привычки. Оба фактора, из взаимоотношения которых складывается жизненный ряд, питание и работа, подчиняются в теории познания одному началу, началу привычки или принципу упражнения. Влияние питания и работы учитывается в психическом ряду, при отыскании зависимых душевных переживаний, не прямо, а косвенно, поскольку величина и отношение их устанавливаются постепенным упражнением. Для общей и формальной теории познания представляют интерес не питание и работа сами по себе, а привычки питания и работы, сложившиеся у данной системы С. Наряду с этой последней упражнение занимает важное место в эмпириокритической психологии и теории познания. С помощью принципа привычки в теории познания Авенариуса осуществляется как бы соглашение между биологизмом и онтологизмом. Привычки, усвояемые жизненными факторами, вырабатываются теми элементами субъективной и объективной действительности, или, на языке учения Авенариуса, теми элементами нервных систем и окружающей среды, которые всего чаще повторяются в них и обладают преимуществом наибольшей многократности. Естественно поэтому ожидать, что воззрения, понятия и суждения, соответствующие максимальному упражнению, будут иметь и биологическую устойчивость, и конститутивное, так сказать, значение для самой реальности.
Будучи общей формой течения познавательных процессов, закон жизненного ряда является также общей формой жизненной эволюции. Деятельность жизненных факторов стоит в прямой зависимости от окружающей среды, так как питание, работа и упражнение могут быть рассматриваемы как функции внешних раздражений. Каждый новый жизненный ряд, с достижением заключительного звена, свидетельствует о том, что организм поднялся на более высокую ступень в процессе приспособления к среде. Совокупность законченных жизненных рядов служит мерилом прочности и устойчивости приспособления, а, следовательно, и мерилом высоты развития. В ходе жизненных рядов отражается духовная эволюция человечества. Авенариус выставляет биологическую концепцию человеческого познания. В его общей и формальной теории познания мы имеем естественную историю возникновения, развития, выживания или вымирания проблем. Течением жизненных рядов определяется преемственность форм человеческого познания, приоритет одних форм перед другими. Судьба человеческих познаний, как научных, так и до-научных, определяется их жизненной приспособленностью или биологической прочностью. Всякая познавательная ценность получает правильное освещение лишь в соответствующем биологическом контексте. В этом смысле Авенариус принадлежит к сторонникам релятивизма, так как не допускает, в пределах своей теории познания, существования абсолютных познавательных ценностей, не признает чистой, безотносительной, самодовлеющей и независимой истины. Подобно прочим явлениям познавательного порядка, «истина» также относится к числу «характеров», поскольку и эта оценка служит описательным выражением субъективной окраски переживаний. Характеристика или впечатление истины всецело зависит от места, занимаемого данным переживанием в жизненном ряду. Если познавательное явление входит в состав заключительного звена жизненного ряда, с достижением которого восстановляется состояние покоя, оно имеет обыкновенно характеристику истины, производит впечатление истины. Но оно может очутиться в другом жизненном ряду, в другое время, в начальном отрезке и в этом положении имеет другую характеристику, характеризуется уже не как истина, а как проблема. Наконец, то же самое познавательное явление, передвинутое в среднюю полосу жизненного ряда, получает значение средства, орудия или способа решения проблемы. Выживание или вымирание воззрений, понятий, теорий будет зависеть от положения их в преемственности жизненных рядов, а так как в формах жизненного ряда осуществляется органическое приспособление и протекает духовное развитие, то устойчивость явлений познавательного порядка ставится, следовательно, в зависимость от биологической прочности форм жизненной организации. В окончательном итоге эволюции человечества биологически неотвратимое будет признано логически необходимым.
Конечное состояние духовной эволюции будет характеризоваться, с формальной стороны, по мнению Авенариуса, как чистый опыт. Из окончательного понятия о мире, которое должно обладать максимальной биологической прочностью, будет устранено все трансцендентное, метафизическое и мистическое.
Прежде чем перейти к характеристике этого понятия о мире со стороны его содержания, скажем несколько слов об отношении эмпириокритической теории познания к прагматизму.
Говоря о прагматизме, мы имеем в виду главным образом прагматизм Джемса, инструментальную логику Дьюи и гуманизм Шиллера.
Общее сходство и родство эмпириокритических и прагматических учений проистекает из того, что и Авенариус и представители прагматизма подходят к проблеме познания одинаково с биологическим и антропологическим мерилом. Этим объясняется принципиальное согласие их взглядов на природу и критерий истины, на зарождение и развитие форм мышления. Что касается более частных пунктов, то выше было уже указано на то значение, которое получили в прагматической литературе принцип наименьшей меры сил и экономика мышления. Далее, закон жизненного ряда имеет сторонника в лице английского психолога Стаута, психологические учения которого повлияли на прагматическую теорию знания. Точно также можно подметить некоторую аналогию между законом жизненного ряда как общей формой развития познания, и теорией жизненных кризисов, в которых зарождается рефлексивное мышление – теорией, разрабатываемой Дьюи и его сотрудниками. Общая и формальная теория познания Авенариуса и есть в сущности психологика, которая, по мнению гуманиста Шиллера, должна занять место формальной логики. Психологика есть новый термин, созданный Шиллером для обозначения психологии душевных переживаний, соответствующих логическим ценностям. Философия чистого опыта, с основными положениями которой нам предстоит познакомиться ниже, также предполагается отчасти прагматической гносеологией. Джемс, подобно Авенариусу, ограничивает пределы философского умозрения миром чистого опыта.
Но благодаря различию исторических условий, под воздействием которых складывались философские воззрения Авенариуса и влияние которых имело определяющее значение в развитии современной американской и английской философии, эти два родственные течения мысли, поскольку речь идет о биологической и антропологической теории познания, расходятся в конце концов в разные стороны.
Руководящие представители американского и английского прагматизма находятся под заметным влиянием немецкой идеалистической философии, в особенности Гегеля, в романтическом истолковании, между тем как в эмпириокритическом учении нельзя найти каких-либо следов подобного влияния. Поэтому в прагматизме обнаруживается решительное тяготение к романтизму, идеализму, телеологизму, субъективизму.
Наоборот, эмпириокритицизм не менее решительно склоняется в сторону позитивизма, натурализма, реализма и объективизма.
III
До сих пор мы имели дело преимущественно с психологическими воззрениями Авенариуса. Обращаясь к третьему эмпириокритическому принципу, к теории интроекции, мы переходим в область более широких вопросов эмпириокритического миропонимания. Этот отдел своего учения Авенариус называл «своей метафизикой».
В метафизике Авенариуса можно различать деструктивную и реконструктивную часть. В деструктивной части предпринимается критика метафизических и гносеологических предрассудков, которые возникают в истории философии в связи с метафизическим понятием сознания. Интроекция и есть важнейшая причина, под влиянием которой складываются все наши предрассудки. Поэтому интроекция подлежит устранению, и после предварительной работы разрушения в реконструктивной части восстановляется «естественное понятие о мире», которое остается за вычетом интроекции с ее порождениями.
Подход к теории интроекции следует искать опять-таки в современной Авенариусу психологии. Самый термин «интроекция» был образован им по аналогии с психологическим термином «проекция». Интроекция направлена прежде всего против этого известного в психологии воззрения.
И в психологии, и в физиологии существует убеждение, что ощущения помещаются первоначально где-то внутри нас, т. е. или внутри нашего организма, и в таком случае локализируются в мозгу, или же в душе, в сознании. Первоначально ощущения представляют собою как бы подкожные состояния, представляют собою внутренние и вполне субъективные явления, которые затем подвергаются особой психологической переработке, в результате которой они выносятся или проецируются во внешний мир. Субъективные дотоле ощущения становятся теперь объективными и своим содержанием заполняют внешний опыт.
По мнению Авенариуса, проекция есть не что иное как мнимое объяснение ложно поставленной проблемы. В действительном опыте мы не находим ни ощущений, которые помещались бы в мозгу, ни предполагаемого процесса вынесения их за пределы организма. Теория обратного вынесения ощущений во внешний мир возникает лишь благодаря предварительному ошибочному вложению их в нервную систему или в сознание. Этот процесс вложения духовного содержания в нервную систему или в сознание, вместе с порождаемыми им продуктами, был назван Авенариусом интроекцией. Мнимая проекция вводится таким образом для объяснения ложной интроекции.
Предположение о субъективном характере ощущений и о внутренней локализации их, от которого отправляется теория проекции, свойственно однако не одной только психологии. Сходные представления о внутренней локализации духа вообще, которые влекут за собою с неизбежностью целый ряд определенных выводов, присущи многим разновидностям метафизики и гносеологии, главным образом субъективному идеализму, а также спиритуалистической и материалистической метафизике. Метафизические и гносеологические системы, с которыми нас знакомит история философии, оперируют таким понятием сознания, которое интроекционно по своему происхождению. К числу проявлений интроекции относятся между прочим спиритуалистическое или материалистическое овеществление сознания или я, приоритет субъекта перед объектом, дуализм внутреннего и внешнего опыта, непосредственная данность сознания, субъективность чувственных качеств вещей, дуализм духа и тела, форм и содержания мышления и т. д. Критика интроекции превращается в критику истории философии вообще и идеалистической концепции мирa в частности.
Наиболее решительные удары, наносимые критикой Авенариуса, приходятся против субъективного идеализма и спиритуалистической метафизики.
Самая оригинальная черта учения Авенариуса об интроекции состоит в том, что возникновение интроекционных суждений приурочивается у него к истолкованию чужих душевных переживаний и приводится в связь с попытками непроизвольного объяснения чужого опыта. Пока мы не выходим за пределы личного, индивидуального опыта, мы не находим в нашем собственном опыте – таково наиболее оригинальное утверждение Авенариуса – решительно никаких данных, которые оправдывали бы интроекцию. Только при взаимодействии собственного и чужого опыта, когда выступает на сцену кооперативное начало, только тогда может возникать интроекция.
Человеческая кооперация, наша совместная с другими людьми деятельность, покоится на предположении, что другие люди такие же существа, как и я. Это значит, что их движения, кроме видимого чисто механического значения, должны иметь еще амеханический смысл, т. е. что их видимым движениям должны соответствовать мысли и чувства, которые выражаются или «высказываются» внешним образом в движениях. Показания чужого опыта не всегда, однако, совпадают с тем, что я нахожу в собственном опыте. Два человека, из которых один имеет нормальное зрение, а другой страдает цветовой слепотой, будут описывать различным образом один и тот же предмет. Дерево, зеленое для нормального глаза, не имеет того же цвета для глаза, страдающего дальтонизмом. Подобные расхождения моего и чужого опыта побуждают меня сначала производить расщепление воспринимаемой вещи на два элемента: самую вещь и ее восприятие. Поскольку я руковожусь данными своего собственного индивидуального опыта, восприятие и воспринимаемая вещь образуют для меня, думает Авенариус, одно нераздельное целое. Восприятие помещается для меня там же, где и воспринимаемая вещь. Но так как данные чужого опыта не совпадают с показаниями моего собственного опыта, я мало-помалу приучаюсь отъединять восприятие от вещи. При этом восприятиям отводится место где-то внутри человека; они заполнят его внутренний мир, человек становится носителем, субъектом своего внутреннего мирa, а восприятия получают характеристику духовного, бестелесного, непосредственно данного и внутреннего бытия. Отщепленная вещь становится объектом и противополагается субъекту, как бытие внешнее, материальное, опосредствованное. В таких ситуациях мы научаемся мало-помалу различать между многими аспектами окружающей нас действительности и несовпадающие части нашей картины мирa вкладываем, интроецируем во внутренний мир человека. В подобных переживаниях впервые зарождается представление о духе в отличие от тела, о субъекте в отличие от объекта, о внутреннем в отличие от внешнего.
Самовложение или автоинтроекция есть всегда вторичный процесс, предваряемый и облегчаемый практикой вложения душевных содержаний в других людей. И если интроекция сама по себе ошибочна, то автоинтроекция вдвойне ошибочна, так как при самовложении происходит смешение и совмещение в корне различных и несовместимых точек зрения. Действительно, в собственном опыте я нахожу самого себя и окружающую меня среду, и эта картина мирa соответствует реалистической концепции. Напротив, истолкование чужого опыта внушает мне, под влиянием интроекции, идеалистическую концепцию. Когда результаты интроекции переносятся с чужого опыта на личный опыт, реализм моего собственного опыта перетолковывается в духе гипотетической идеалистической концепции чужого опыта.
Авенариус особенно настаивает на подобном кооперативном возникновении интроекционного понятия сознания. Другие источники, из которых могли бы почерпаться аналогичные идеи, не кажутся ему первичными или достаточными для объяснения интроекции.
Сюда относится, во-первых, различие, находимое и проводимое в личном опыте между мыслями, или воспроизведенными состояниями, и вещами, или первичными впечатлениями. Дуалистические теории могли бы, по-видимому, опираться на показания личного опыта, поскольку мысли, как субъективные копии, противопоставляются внешним вещам. Авенариус отклоняет этот генезис. По его мнению, в пределах индивидуального опыта так называемые «мысли» отличаются, правда, от «вещей», однако они не ощущаются нами во всяком случае как внутреннее, субъективное, бестелесное и духовное бытие. Первоначально мысли о на-стоящем, прошлом и будущем противостоят мне так же, как и воспринимаемые вещи, и вместе с последними образуют единый нераздельный опыт. Характеристику внутреннего духовного бытия они приобретают косвенно, под влиянием интроекции. Научившись вкладывать в другого человека его восприятия и рассматривать их как духовное содержание его внутреннего опыта, я переношу на собственные мысли, усвоенные путем этой практики вложения, дуалистические противопоставления. Следует, впрочем, заметить, что в этом пункте изложение Авенариуса страдает значительной неясностью. Признание данного переживания за «вещь» или «мысль» Авенариус объявляет особой психологической характеристикой его, и, следовательно, самое различие между ними приравнивает к различию не в том, что дано, а в способе и характере данности. С другой стороны, характеры «вещей» и «мыслей» совсем не похожи в некоторых существенных отношениях на прочие характеристики, и различие между мыслями и вещами приближается к различию в материале опыта. Вообще, этот мало разработанный пункт эмпириокритического понятия о мире есть темное и уязвимое место в нем.
Во-вторых, появление в истории новой философии субъективно-идеалистических теорий познания совпадает со временем обоснования и пышного расцвета механической физики. Субъективный идеализм был тем философским выводом, который вытекал, казалось, из теории физиологии органов чувств, опиравшейся на механическую физику. В этом сказалось влияние картезианской физики на гносеологию. Равным образом и новое понятие о мире, идущее против гносеологического и метафизического субъективизма, одним из основателей которого мы должны признать Авенариуса, развивается отчасти попутно с новейшей критикой механической физики. Теория элементов, защищаемая Махом и во многом сближающаяся с эмпириокритическим понятием о мире, есть результат предпринятой этим философом-натуралистом критики метафизического гипостазирования категорий механической физики. Авенариус отвергает, однако, и этот исторический источник интроспекционизма. Субъективно-идеалистическая теория чувственных качеств вещей не была, по мнению Авенариуса основанием интроекции, а была одним из следствий ее. Сначала должно было возникнуть представление о духовном внутреннем бытии, чтобы возможно было использовать учение механической физики в интересах субъективного идеализма и в согласии с ним.
Отъединяя таким образом субъективный идеализм от реальных исторических условий его возникновения, Авенариус сближает идеалистическую метафизику, через посредство интроекции, с воззрениями первобытного анимизма, относящимися к первым ступеням первобытной культуры. В рудиментарных проявлениях первобытного анимизма Авенариус усматривает первое действие интроекции, а философский идеализм считает позднейшим и последним отпрыском его. Эту попытку Авенариуса объяснить возникновение идеализма из первобытного анимизма мы не считаем удавшейся, хотя и признаем культурно-историческое освещение философских систем в их генезисе плодотворным методом, к сожалению, не достаточно разработанным и мало применяемым. Можно с полным правом усомниться в том, чтобы Авенариус действительно проследил и восстановил промежуточные звенья, которые оправдывали бы защищаемую им генеалогию идеализма. Далее, мотивы, которые руководят метафизическим и философским творчеством, слишком сложны, чтобы столь упрощенный генезис его мог давать исчерпывающее объяснение. Наконец, первобытный анимизм принадлежит к воззрениям чисто реалистического типа, и в качеств такового первобытный анимизм не мог бы породить идеалистической концепции мирa.
Итак, понятие сознания, которым оперируют метафизика и гносеология, интроекционно по своему происхождению и составу. Подобно многим современным гносеологам, Авенариус приходит к глубоко скептическому убеждению относительно прочности метафизических и гносеологических сооружений, воздвигаемых на основе традиционного понятия сознания. Необходима фундаментальная перестройка философских понятий о мире. От философских теорий действительности, оперирующих традиционным понятием сознания, Авенариус предлагает обратиться и возвратиться к естественному понятию о мире, которое следует искать в наивном реализме простого человека, не зараженного ни варварской, ни цивилизованной философией, свойственном человеку от природы, составляющем как бы идиосинкразию человека. В наивном реализме есть здоровое зерно. Наивный реализм, будучи старше всех философских систем, служит почвой, на которой они произрастали и которая питает их. В наивном реализме дана, а не выведена реальность: наивный реализм есть естественный резервуар и питомник действительности. Если упустить действительность в ее первоисточнике, то затем нельзя вернуть ее никакими ухищрениями диалектики. Положительная задача эмпириокритической метафизики не есть конструкция, а реконструкция, не создание нового миропонимания, а восстановление естественного взгляда простого человека на мир. Нужно отрешиться от философских теорий действительности и удовольствоваться чистым, непредубежденным описанием того, что мы находим как данное, обретаемое. Нужно выделить принципиально здоровое зерно наивного реализма и перевести конкретное содержание естественного понятия о мире на языке отвлеченной мысли, без каких-либо привнесений, принципиально видоизменяющих, варьирующих естественную точку зрения.
Успешное выполнение этой задачи, которую ставит себе реконструктивная часть эмпириокритической метафизики, сопряжено, несомненно, с большими трудностями. Точка зрения наивного реализма, к которой намерен апеллировать Авенариус, есть воззрение расплывчатое и неустойчивое. Подтверждение этому мы имеем в том самом факте, что именно в лоне наивного реализма возникает интроекция возможная и неизбежная именно благодаря тому, что естественная точка зрения постоянно колеблется между реалистической и идеалистической гипотезой. Неизвестно в точности, что разумеется под наивным реализмом. Другая не меньшая трудность, преграждающая доступ к наивному реализму, сопряжена с необходимостью перевести наглядное содержание его на языке отвлеченной мысли. Нельзя поручиться за то, чтобы в самом процессе перевода не пристали к непосредственному переживанию чистого опыта философские реминисценции. В конце концов, остается не вполне выясненным, в какой мере естественное понятие о мире, восстановляемое Авенариусом, совпадает с воззрением наивного реализма. В эмпириокритическом миропонимании, совершенно так же, как и в наивном реализме, замечается колебание между реализмом и идеализмом, с решительным перевесом, однако же, в сторону первого. Авенариус не мог все-таки отрешиться от некоторых философских категорий, против которых устремлялась критика деструктивной части.
В следующих кратких чертах Авенариус описывает естественное понятие о мире.
Если мы будем брать переживание чистого опыта в том виде, как оно дается нам, и просто описывать его, то мы найдем в каждом переживании чистого опыта так называемое Я и окружающую его среду. Я и среда образуют принципиальную координацию. Оба члена координации одинаково необходимы для опыта. Оба они однородны и по составу, и по способу данности. Центральный член принципиальной координации, так называемое Я, отличается от противочлена, окружающей его среды, лишь большим богатством элементов. В прочих отношениях они одинаковы. Но в границах принципиальной координации каждый элемент опыта можно рассматривать с двух точек зрения: можно брать его в обособленном виде, абсолютно, или же относительно, в отношении его к центральному члену, к так называемому Я. При таком относительном рассмотрении элементы опыта становятся объектами психологии или психологическими объектами.
Чтобы квалифицировать естественное понятие о мире в терминах философской мысли, для этого необходимо более решительно выдвинуть некоторые частности утверждаемой им принципиальной координации так называемого Я и среды.
Координацией так называемого Я и среды должна устраняться субординация или подчинение объекта субъекту, проводимое в системах субъективного идеализма. Эмпириокритическое миропонимание отвергает приоритет Я перед Не-я, провозглашаемый субъективным идеализмом. Субъективные и объективные элементы опыта суть соотносительные и одинаково равноправные элементы действительности. По своему назначению принципиальная координация Авенариуса соответствует тому коррелятивизму субъекта и объекта, которому учил Лаас. В своем солидном труде об идеализме и позитивизме Лаас воспользовался тезисом полной соотносительности субъекта и объекта для уничтожающей критики «мечтательного идеализма» картезианской метафизики.
Координация так называемого Я и среды нерасторжима, т. е., другими словами, нет такой среды, которая не противостояла бы какому-нибудь Я, и нет такого Я, которое не было бы окружено какой-нибудь средой. Можно представить себе, говорит Авенариус, страну, которую не попирала еще ни одна человеческая стопа, но нельзя мыслить даже и такой страны, не присоединяя некоторого Я, мыслью которого она является в данном случае. Центрального члена координации, так называемого Я, нельзя «отмыслить». Эта мысленная неустранимость Я служит для Авенариуса средством, с помощью которого он хочет вытравить всякий след трансцендентности и абсолютности из понятия бытия. Но прибегая к этому средству, эмпириокритическое миропонимание приходит, по-видимому, в столкновение с наивным реализмом, так как нерефлективной естественной точке зрения едва ли свойственно сознание строгой «неотмыслимости» нашего Я. В то же время зарождается сомнение относительно того, не сказалось ли в данном случае влияние философской реминисценции, не вводится ли вместе с этим момент субъекта в естественное миропонимание.
Тот или другой выход из этих сомнений будет зависеть, очевидно, от того, какое содержание будет вкладываться в понятия Я и окружающей его среды. Старания Авенариуса направлены на то, чтобы в принципиальной координации центрального члена, так называемого Я, и противочлена, окружающей среды, не повторялось философское отношение субъекта к объекту. Понятия субъекта и объекта в философском взаимоотношении их характеризуются тем, что объекты считаются данными субъекту, и субъект есть условие данности объекта. Отношения данности не признает эмпириокритическая принципиальная координация. Авенариус отстаивает полную однородность Я и Не-я. Так называемое Я и среда совершенно одинаковы по способу данности. Обычное словоупотребление, согласно которому среда есть «мое данное», «дана мне», страдает неточностью. В действительности оба члена координации одинаково даны друг другу. Если можно говорить, что дерево дано мне, то последовательно было бы утверждать, что и я дан дереву. Таким путем момент субъекта, по-видимому, обходится в принципиальной координации.
Нелегко усвояемая мысль Авенариуса становится более понятной, если мы сравним эмпириокритическое миропонимание с тем видным течением современной гносеологии, которое направляется против традиционного понятия сознания, выдвигая новую «функциональную» теорию сознания.
Реальность отожествляется представителями этой теории с совокупностью непосредственных переживаний, которая образует единый чистый опыт. Чистый опыт представляет собою сеть однородных элементов, которые сами по себе ни субъективны, ни объективны, ни психические, ни физические. Когда такие нейтральные элементы вступают в известные отношения, когда они берут на себя выполнение известной функции, они получают соответственную характеристику субъективных или объективных, психических или физических. Все эти характеристики относительны и условны, они не запечатлены в природе вещей; нет постоянной границы, которая раз навсегда отделяла бы объективное от субъективного или психическое от физического. С изменением отношения, с переменой функции элементы утрачивают свои прежние характеристики и приобретают какие-либо новые. Равным образом, и то, что называется нашим Я, не содержит в себе материала, принципиально отличного от содержаний объективного опыта, и не отделено от них неподвижным барьером. Те же самые материалы представлены в нашем Я в новой группировке, в новом отборе, выполняют новые функции; пределы Я могут суживаться или расширяться. Как ближе описать эту группировку, каковы функции так называемого Я, – относительно этого Авенариус ограничивается, к сожалению, слишком лаконическими замечаниями. Точно также и между представителями функционального понятия сознания не достигнуто полного единогласия в этом пункте. Тем не менее важное значение имеет установление новой принципиальной точки зрения.
В заключение с целью дальнейшего уяснения этой новой точки зрения мы вкратце коснемся трех проблем, которые получают новую постановку в свете функциональной теории сознания и которые более других останавливали на себе внимание Авенариуса: проблемы познания, реальности чужого Я и отношения психического к физическому.
Проблема познания служит тем средоточием, около которого вращаются исследования Авенариуса, и своеобразным разрешением, которое она находит себе в философии чистого опыта, она обязана новому учению о природе сознания или опыта.
Выключая интроекцию, Авенариус направляет свои критические замечания против теории идей как непосредственного объекта познания и против традиционного философского воззрения, будто бы нашему познанию недоступны самые вещи, а только копии вещей. Одно из пагубных явлений интроекции представляет собою философская традиция, ведущая свое начало в новой философии от Декарта. Согласно ей, между внутренним и внешним опытом существует непримиримый дуализм, благодаря которому только во внутреннем опыте открывается нам клочок подлинной действительности, между тем как от внешнего объекта мы навсегда отделены неустранимой преградой субъективных переживаний. Картезианский идеализм обрекает человеческую мысль на безысходный субъективизм и должен приводить к агностицизму и скептицизму. Аналогия оригинала и копии, проводившаяся в теории познания для характеристики отношения, существующего между познаваемым объектом и познавательным процессом, отпадает в функциональной теории сознания. Человеческое познание не ставит себе задачей воспроизведение одних элементов опыта другими, а ищет решения иной жизненной задачи, стремится осуществить единство и гармонию опыта, вырабатывает устойчивые формы организации опыта.
Вместе с философским субъективизмом должен устраняться и теоретический солипсизм. Проблема реальности чужого Я, или так называемая проблема Ты, теряет свою загадочность, если подходить к ней с новым функциональным понятием сознания. Не следует смешивать, думает Авенариус, вопроса о реальности чужого опыта с внутренне противоречивой проблемой трансцендентного бытия. Когда заходит речь о трансцендентном бытии, под трансцендентным бытием разумеется такая реальность, к которой неприложимы никакие категории нашего опыта. Исторически признанными примерами строгой трансцендентности служат «Единое» Плотина, бесконечная субстанция Спинозы, вещь в себе Канта. Наоборот, допуская в естественном понятии о мире реальность чужого опыта, мы не вводим ничего такого, что не было бы содержанием нашего собственного опыта, допускаем лишь само-испытанное. Признавая реальность чужого Я, мы обязаны представлять себе природу чужого опыта по схеме собственной обретаемой действительности, по схеме координации так называемого Я и окружающей его среды.
Наконец, дуализм души и тела разрешается в двойственность метафизической обработки элементов опыта. Как уже было сказано, различие психического и физического не имеет онтологического или безусловного значения. Мир опыта покрыт сетью однородных элементов, нейтральных по своей природе. Мы можем брать отдельные элементы безотносительно к центральному члену принципиальной координации, в качестве общего и безотносительного достояния многих Я, и при таком рассмотрении элементы образуют мир физического и внешнего бытия. Или же мы можем приурочивать их к человеческому организму и рассматривать их в зависимости от его центральной нервной системы. Такова точка зрения психологии. В этой связи элементы получают значение психологических объектов. Правильнее было бы говорить о психологических объектах, чем о психических явлениях. Отсюда вытекает неизбежность и универсальность параллелизма в психологии. Приуроченность к нервной систем составляет как бы аналитический признак психологического объекта, и, следовательно, зависимость от нервной системы простирается на все сферы психологического исследования. В этом имеет свое оправдание метод, применявшийся в «Критике чистого опыта».
Этими краткими замечаниями мы можем закончить характеристику эмпириокритического миропонимания. Неоспоримо оригинальный и блестящий психолог, Авенариус выступил и на поприще чистой метафизики пытливым новатором. Тем не менее, сопоставляя эмпириокритическую психологию и эмпириокритическое миропонимание, мы находим, что метафизика философии чистого опыта производит все-таки впечатление некоторой недосказанности. Не без основания автор «Свойственного человеку понятия о мире» называл этот свой метафизический трактат непритязательными набросками, которые должны давать читателю не более, чем известное Anregung.
Формула интроекции может быть критикуема, помимо приведенных выше соображений, с двух точек зрения. Во-первых, в понятии интроекции соединяются столь различные вещи, как тот психологический механизм, который, по гипотезе Авенариуса, вырабатывает дуалистические системы, и все те многочисленные и сложные философская теории, которые подлежат устранению. Позволительно, очевидно, вместе с Авенариусом разделять его скептическое отношение к роковым философским традициям и в то же время не признавать безусловно исчерпывающим даваемого им объяснения интроекционного происхождения их. Во-вторых, формула интроекции имеет слишком общий характер. Проявления интроекции многообразны до такой степени, что они становятся даже необозримыми. Широта понятия интроекции обратно пропорциональна его определенности. Деструктивной части своей метафизики Авенариус уделил, к сожалению, гораздо больше внимания, чем реконструктивной. Предприняв реконструкцию естественного понятия о мире, Авенариус наметил скорее только контуры будущего сооружения. Сторонникам научно-философского мышления Авенариус оставил благодарную задачу продвинуть вперед начатое им восстановление естественного понятия о мире и показать, в какой мере оно работоспособно.
Д. ВикторовБ. В. Яковенко. Философия Эд. Гуссерля
Вступление
Начало 19-го столетия ознаменовано наступлением новой философской эпохи. Греческая философия, безраздельно царившая над философскою мыслью вплоть до Возрождения и только изредка и частично преодолеваемая отдельными умами 17-го и 18-го веков, была отвергнута немецким идеализмом в самом своем существе и на всем своем протяжении. Можно прямо-таки сказать, что «в немецком идеализме впервые превзойдены результаты греческого умозрения»105, и мир обогатился совершенно новым, небывалым еще способом философствования. Ибо здесь внутренне изменен был самый угол философского зрения, взят совершенно особенный исходный пункт философствования, чего никак нельзя сказать при сравнении с греческой философией ни о Патристике, ни о Схоластике, ни даже, в конце концов, о Декарте, Спинозе, Юме и Лейбнице.
Этот новый способ философского мышления характеризуется сосредоточием умственных интересов на проблеме познания, в то время как центром греческих спекуляций всегда был непосредственно данный и наивно воспринимаемый космос вещей и движений. Грек по складу своего ума был устремлен на природу в ее чувственной данности. И призыв Сократа к самопознанию не был в состоянии сколько-нибудь существенно изменить это прирожденное и глубоко заложенное устремление. Системы Аристотеля, стоиков, Филона и Плотина космичны до мозга костей, полагая в основание вселенной некоторую мировую силу и заставляя все содержание существующего, в том числе и познание с самопознанием, развиваться из нее. В противоположность этому немецкий идеализм постарался дать сущему познавательную оценку, отправляясь в своих рассуждениях от рассмотрения познавательного процесса и установления границ, правополномочий, ценности и сил познания. Этим он расчистил себе путь к критическому и сознательному опознанию сущности вещей и вселенной. Догматическое следование непосредственному восприятию природы, столь характерное для греков и в большей или меньшей степени для всей докантовской философии, волею Канта сменилось, наконец, прочной критической самоотчетностью и уразумением меры и диапазона познавательных сил. Греческий космизм уступил свое место немецкому гносеологизму.
Выступление немецкой философии было чрезвычайно ярко и могуче, но недолговечно. В противоположность медленному развитию греческого космизма, она на первый раз в несколько десятилетий исчерпала рядом гениальных построений свои, все же, неисчерпаемые силы. Как вихрь, повергающий все препятствия и несущийся прямо к своей цели, прошла она все этапы своей внутренней эволюции: от критического дуализма Канта чрез критический скептицизм Маймона и метафизический гносеологизм Фихте к монистически-диалектической философии чистого знания Гегеля. В этой последней немецкий идеализм нашел и свое высшее завершение и вместе с тем свой временный конец. Ибо, построив на почве критицизма новую метафизику, Гегель тем самым дал обнаружиться недочетам Кантовской философии. И из них самым важным и вместе предательским было забвение вещной сущности мирa за анализом познавательного процесса. Уже в сороковых годах 19-го столетия немецкому идеализму было брошено устами замечательного итальянского мыслителя, Джиоберти, обвинение в психологизме106. Отвергнув слепое устремление на природ, столь характерное для догматического космизма греков, немецкий идеализм ударился в обратную крайность: в основание своего гносеологического анализа познания он бессознательно (и тоже догматически) положил психологические схемы и, затем, при построении метафизической системы сущего в лице Гегеля насильственно подчинил этим схемам все содержание объективного мирa.
Это и побудило философские умы отвернуться от немецкого идеализма. Вполне естественно, что в погоне за утерянной, как им казалось, объективностью и вещностью они повернули сначала вспять и вновь испробовали различные формы греческого космизма: материализм, спиритуализм и своеобразную переделку материализма Ог. Контом и другими, носящую название позитивизма. Но грубый догматизм каждого из этих учений не смог уже после критики Канта сколько-нибудь удовлетворить запросы философского ума. Не прошло и четырех десятилетий, как была сознана необходимость возврата к Канту и пересмотра основоначал его гносеологизма в целях освобождения их от остаточных догм и предрассудков. Такой пересмотр и был выполнен в течете последних трех десятилетий 19-го столетия трудами, так называемого, неокантианского движения. Коген, Шуппе, Риль, Виндельбанд, Фолькельт, Ренувье, Кэрд, Кантони, – все старались так или иначе отграничить сферу критики познания от психологии, освободить теорию знания от субъективно-психологических предпосылок, чтобы тем достигнуть построения научной, независимой от догм теоретической философии. Это движение достигло своего высшего напряжения в самом начале 19-го столетия в лице Эдмунда Гуссерля, который снова – и на этот раз с особенной обстоятельностью и принципиальностью – поставил проблему психологизма, а в качестве основного требования для теоретической философии впервые выдвинул требование полнейшего антипсихологизма. Из этого совсем не следует того, чтобы Гуссерль был сам представителем неокантианского движения. Он вышел из рядов мыслителей совсем другой, даже враждебной неокантианству школы. Ученик Брентано, он долгое время был самым убежденным сторонником психологического обоснования логики и теории знания. Но углубление в соответствующие проблемы и ознакомление с замечательным трудом забытого чешского мыслителя Больцано107заставило его радикально переменить свои взгляды на существо теоретической философии и выступить ярым противником психологических предпосылок в логике и проповедником построения чистой, беспредпосылочной логической дисциплины. Тут то он и встретился с требованиями и запросами, идущими из сферы неокантианства, оказавшись совершенно неожиданно для себя во главе этого движения108.
До сих пор Гуссерль еще не дал какого-либо законченного систематического построения своей теоретической философии. Кроме критики различных форм психологизма и начертания общего ответа на вопрос о том, как избежать психологических предрассудков в теоретической философии и какой вид должна принять эта последняя при их полнейшем преодолении, он успел покамест разработать лишь несколько глав феноменологию познания, которая, по его мнению, одна только в состоянии подготовить почву для полнейшего и плодотворнейшего разъединения сфер логики и психологии и тем содействовать установлению подлинной адогматической философской науки. Соответственно этому данный очерк философских взглядов Гуссерля остановится сначала на его критическом разборе психологистических учений, затем перейдет к характеристике чистой логики и феноменологии и закончится изложением новой теории абстракции, новой теории сознания и интенционалистического учения о познании. В заключение будет дана краткая критика философской позиции Гуссерля.
Антипсихологизм
Свой вопрос относительно правомерности психологизма Гуссерль ставит определенно и резко. «Существуют собственно, говорит он, только две партии. Логика есть дисциплина теоретическая, от психологии независимая и в то же время формальная и демонстративная, – так утверждает одна из них. Для другой же логика является зависимым от психологии учением об искусстве, при чем само собою исключается возможность того, чтобы она носила характер формальной и демонстративной дисциплины в смысле арифметики, являющейся образцом в глазах представителей первой партии»109. И не менее определенен и резок ответ Гуссерля на предложенную дилемму: он всецело присоединяется к первой парии и столь же всецело отвергает позицию другой. При этом им отвергаются не одни только те мнения, которые, считая логику учешем об искусстве мышления, в то же время утверждают, что она «поскольку вообще есть наука, является частью или отраслью психологии»110, «отдельной психологической дисциплиной»111, «ничем иным, как психологией мышления»112, практической психологией очевидности»113, и т. п. Он идет последовательно дальше и с одинаковой решительностью отвергает все попытки построить логику, как не-психологическую, нормативную дисциплину «должного» мышления, раз только для такого построения необходимым фундаментом все же признается психологическое исследование114. Его аргументация сосредоточивается при этом в следующих четырех основных пунктах:
1. Признание логики частью психологии или какое-либо обоснование ее на психологии неизбежно сопряжено со смешением двух совершенно чуждых друг другу сфер познания. Психология исследует факты, совершающееся во времени, явления, претерпевающие изменение и эволюцию, между тем как логика своим предметом?) имеет смысл познавательных актов, внутренние связи смыслов друг с другом и их идеально-объективное единство, т. е. не само мышление, а то, что мыслится, – «мнимое» в мышлении. Предмет психологии есть нечто реальное; предмет логики – нечто идеальное, в себе неизменное и безвременное. Нужно проводить строгое различие между суждением, как сбывающимся душевным переживанием, и тем смыслом, который переживается в этом суждении и наиболее соответствующим образом обозначается, как содержащееся в нем идеально положение (Satz). Сумма операций, производящих умножение двух на два, не одно и тоже с самим положением: 2 х 2 = 4. Первая представляет собою связь познавательных переживаний, в которых наука субъективно осуществляется, в которых протекает деятельность математического счисления, при помощи которых выявляется истина: 2 х 2 = 4. Положение же 2 х 2 = 4 есть логическая связь, т. е. своеобразная связь теоретических идей, внутреннее единство самих чисел115. Точно такое же различие существует между психологическим законом и логическим основоначалом. Первый регулирует явления, получается из наблюдений над фактами и по природе своей эмпиричен, индуктивен, и только в большей или меньшей степени вероятен; например, закон ассоциации. Второе регулирует связи положений друг с другом, управляет идеальным единством познавательных содержаний; оно не имеет отношения ни к каким фактам, ибо логические связи не фактичны, а идеальны;
в равной мере оно и не подразумевает никаких фактов, так как по своей природе априорно и познается не индуктивно, а непосредственным усмотрением; например, закон тожества, который и нечего доказывать и нельзя никак доказать, индуцировать и т. п., он ручается сам за себя116. Точно таким же образом различаются между собой познавательное признайте чего-либо за истинное и сама истина, признаваемая, как таковая. Признание может осуществляться и не осуществляться; оно может быть интенсивнее и слабее, оно может изменить свою природу. Истина, наоборот, вечна и неизменна по самому своему смыслу. Что 2 х 2 = 4, не может перестать быть тем, что оно есть, ни при каких условиях. Оно не может ни существовать, ни не существовать, подобно факту признания. Оно имеет вечное значение, как некоторое обязательное «идеальное бытие»117. «Мы постигаем истину не как эмпирическое содержание, которое обнаруживается и снова исчезает в потоке психических переживаний; она не является феноменом среди феноменов, но она является переживанием в совершенно ином смысле, – в каком переживанием будет общее, идея»118. Если бы истина находилась в существенном отношении к мыслящим умам, к их умственным функциям и формам умственного движения, то она возникала бы и исчезала вместе с ними, и если не вместе с отдельными индивидуумами, то с родом»119. А это значило бы, что она совсем не истина, ибо по своей природе истина лежит вне сферы понятий возникновения и исчезновения, вне сферы времени: она «значит» (gilt), т. е. являет собою некоторое единство значимости в безвременном и абсолютном царстве идей120. Утверждать, что логика есть часть психологии или основывается на психологии, совершенно так же невозможно, как и утверждать то же самое по отношению к математике. Более того, утверждать, – это значило бы одновременно утверждать и про математику, что она является частью психологии или основывается на ней; ибо точно так же, как и логика, математика исследует идеальные связи обоснования познавательных содержаний. Чтобы раз навсегда обезопасить себя от этих абсурдных последствий, нужно старательно помнить, что акт познания и содержание познания не одно и то же, и что логика (как и математика) имеет дело только с последним121.
Не проводя этого необходимого различия, Милль принужден, например, видеть в законе противоречия «одно из наиболее ранних и естественных обобщений из опыта»122и интерпретировать его, как утверждение реально-психической несовместимости в нашем уме двух отрицающих друг друга суждений. Он явно смешивает при этом самый закон противоречия, который не только не является нашим обобщением, но по содержанию своему обусловливает собою всякое, даже наиболее раннее обобщение (всякий вообще опыт), с нашим опознанием его как закона, которое, действительно, не всегда существовало и хоть и не является обобщением из опыта, но возникло, несомненно, вместе с опытом. Излагая же закон противоречия, как психическую несовместимость двух суждений, он становится в забавное противоречие с действительностью, ибо психически нет ничего невозможного в том, чтобы одновременно признавать противоположное или отрицать и утверждать одно и то же; противоречие невозможно лишь логически, в содержании мышления, a не в психическом переживании мыслительного процесса123.
Равным образом и Гейманс, не проводя между актом и содержанием принципиального различия, приходит к мысли изложить силлогистические формы умозаключения, как эмпирические законы мышления. При этом он по существу дела оказывается лишенным возможности дать место понятно ошибочных умозаключений и объяснить исключение из числа силлогистических форм целого ряда умозаключений. Ибо психологически всякое умозаключение регулируется с одинаковой необходимостью законами мышления; и только логическая точка зрения, обращающаяся к содержанию умозаключений, может дать действительный критерий для различения истинного и ложного, значимого и незначимого124.
Тем же самым вызвано к жизни учете Зигварта о двух сторонах закона противоречия, – о том, что этот закон в одно и то же время является и естественным и нормативным законом. В действительности, это – два совершенно чуждых друг другу закона, из которых один эмпиричен и есть обобщение от психических фактов, а другой представляет собою идеальный принцип, безвременный и априорный. Стремление Зигварта различать их только в зависимости от того, предполагает ли закон противоречия эмпирическое или идеальное сознание, совершенно затемняет первичную природу значимости закона противоречия, независящую ни от какого сознания. Только как правило конкретного мышления, т. е. в своем нормативном употреблении, находится закон противоречия в отношении с сознанием. Но это ведь его производное значение, предполагающее его чисто логический смысл125.
Нужно строго различать сами логические законы и их нормативное употребление. Это последнее имеет связь с психически-обоснованными правилами мышления; сами же законы непосредственно от этого свободны126. «Расплывчатое выражение «нормативные законы мышления», которым обозначают также и их, содействует обычно тому, что их смешивают воедино с психологически-обоснованными правилами мышления»127. Этим объясняется и неудача борьбы нормативистов (например, Зигварта) с психологистами; ибо, сохраняя за логическими законами нормативистический характер, они этим непроизвольно сообщают лежащим в основе нормативности чисто-идеальным теоретическим связям привкус психологичности. Естественному закону противостоит, в действительности, не нормативный закон, а идеальный закон; чисто-психическому акту познания противостоит не мысленный акт, согласующейся с нормами, а содержание акта, обладающее чисто-логическим обоснованием128.
Из того же источника проистекают попытки формального или трансцендентального идеализма свести логические законы на «первичные формы» «или «функции рассудка, на «сознание вообще», как родовой разум» и т. п. Ибо, при этом, логическому предпосылается в виде некоторого условия – хотя и в весьма утонченной и неясной форме – человек или человечество, т. е. нечто фактическое и случайное129. «Отнесете к «нашей» психической организации или к «сознанию вообще»… определяет собою не чистую и подлинную, а грубо извращенную априорность»130. «Трансцендентальная психология есть, ведь, тоже психология»131. И она приносит с собою тот же самый психический момент, который убивает существо логического. Чистая логика (а с нею вместе и логика вообще) может утвердиться лишь при самом строгом и до конца идущем различении между «субъективно-антропологическим единством познания и объективно-идеальным единством познавательного содержания»132.
Наконец, и эмпириокритицизм, благодаря тому же смешению, приходит к подчиненно логики и логического содержания познания психологически-биологическому предписание экономии мышления или возможно наименьшей затраты умственных сил. Это предписание имеет, действительно, фундаментальное значение в сфере методологии научного исследования, в сфере конкретных стараний человеческого ума добиться наиболее адекватных, простых и всеобъемлющих знаний. «Безусловно, большим научным значением обладает намерение установить те психологические пути и средства, помощью которых развивается и укрепляется такая удовлетворяющая потребности жизни (потребности самосохранения) идея мирa, как предмета опыта, и, далее, выявить те психологические пути и средства, при помощи которых в уме научных исследователей и их поколений вырабатывается объективно соответственная идея строго закономерного опытного единства с его постепенно все более и более обогащающимся научным содержанием. Но гносеологически такое исследование безразлично»133. В то время, как «психология хочет уяснить себе, как образуются представления мирa… теория познания стремится понять, что составляет возможность проникновенного познания реального и возможность науки и познания вообще в объективно-реальном отношении134. Говорить в гносеологии о «законе, который толкует о стремлении добиться в том или другом направлении возможно наибольшего, бессмысленно. В чистой сфере фактов нет ничего возможно наибольшего, в сфере законности нет никакого стремления»135. Причина того, что в лице принципа экономии думают видеть логический принцип, заключается главным образом в смешении фактически данного с логически-идеальным, которое незаметно под него пододвигается. Нужно тщательно различать между двумя группами логических норм, между «логическими нормами и техническими правилами специфически человеческого искусства мышления»136: «одни, априорно руководя всяческим обоснованием, всякой аподиктической связью, имеют чисто-идеальную природу и, очевидно, лишь в переносном смысле могут быть относимы к человеческой науке; другие, которые мы смогли охарактеризовать также, как простые вспомогательные установления или суррогаты обоснования, эмпиричны и по существу своему относятся к специфически-человеческой стороне науки; они основываются, стало быть, на общей природе человека, и при этом отчасти (что имеет большее значение для учения об искусстве) на психической, а отчасти даже на физической его природе»137. Из них только вторые допускают психологическое обоснование; первые же опираются на чисто-логические законы, будучи «нормативными формулировками законов, принадлежащих к объективному или идеальному содержанию науки»138.
2. Признание логики частью психологии или дисциплиной, основывающейся на психологии, как на своем теоретическом фундаменте, приводить к чисто-эмпирическому истолкованию природы логической очевидности и к смешению ее двух принципиально различных форм. Милль, Зигварт, Вундт, Хöфлер с Мейнонгом и др. низводят очевидность на степень какого-то «добавочного чувства, которое случайно или с естественной необходимостью сопровождает определенные суждения»139. Это неправильно прежде всего уже потому, что логическое познание не эмпирично, не индуктивно и не ограничено простой вероятностью, как те познания, которые сопровождаются вышеозначенным чувством. «Не чрез индукцию, а чрез аподиктическую очевидность получают они (логические законы) обоснование и оправдание. Проникновенно оправдывается не простая вероятность их значения, а само это значение или сама истина»140. «Мы постигаем непосредственно не простую в вероятность, а самую истинность логических законов»141. И эта то истинность и переживается нами в противоположность всякой эмпирически-психологической вероятности именно, как очевидность. Но мало того, очевидными могут быть и такие утверждения, которые эмпирически или психологически совершенно невозможны, например, разрешение распространенной «проблемы трех тел» (скажем, «проблемы n тел») или операции с огромными числами, не говоря уже о целом ряде учений высшей математики. Не будучи психологической, очевидность здесь имеет чисто идеальный характер: она совсем не равна здесь «добавочному чувству», сопровождающему познание в чисто-психологическом порядке и по чисто-психологическим основаниям, а является непосредственным следствием самих логических законов. Это – чисто-логическая очевидность142. «Из каждого чисто-логического закона можно вывести при помощи априорно осуществимого преобразования определенные положения очевидности»143. В этом смысле очевидность является «не чем иным, как переживанием истины»144. «Истина есть идея, отдельный случай которой сказывается в очевидном суждении, как актуальное переживание»145; другими словами, «истина относится к очевидности подобно тому, как бытие индивидуального относится к адекватному его восприятию»146.
Разумеется, и идеальная (т. е. в собственном смысле слова) очевидность во многих случаях имеет свое психическое обнаружение, свою психическую полезность. В этих случаях она подчиняется также и определенным психологическим условиям. Но никогда не следует забывать о том, что это – практическая сторона познания. Теоретически же логическая очевидность подчиняется лишь идеальным условиям.
3. Признание логики частью психологии или на ней основанным учением об искусстве мышления в своем результате имеет ряд логических невозможностей и бессмыслиц. Так например, утверждение того, что логические законы суть в основе своей психологические законы умственной организации человека или человечества, ведет к признанию за этими законами права на такую же изменчивость, какою обладает человеческая психика. Между тем, подобная изменчивость, как и всякая фактическая изменчивость, должна управляться в свою очередь какими-либо законами, откуда и следует бессмысленное заключение, что логические законы изменяются согласно законам, – заключение, влекущее за собой еще вдобавок regressus in infinitum147. Так, Миллевское утверждение, что закон противоречия есть «одно из наиболее ранних и естественных обобщений из опыта», знаменует собою логический круг. Ибо это обобщение само может осуществиться только в том случае, если им в качестве одного из принципов будет руководить закон противоречия. Ведь всякое познавательное положение подразумевает закон противоречия, если и не в качестве предпосылки, то во всяком случае в качестве правила, согласно которому оно только и может быть высказано148. Так, эмпириокритическое утверждение, что высшей нормой мышления является психо-биологический принцип экономии мышления, представляет собою типичнейшее ΰστερον πρότεζον149. Ибо «мы должны уже знать, что преследует наука идеально, чем являются идеально законные связи, основоположения и производные законы, прежде чем мы будем в состоянии исследовать и подвергнуть оценке умственно-экономическую функцию их познания… Идеальная значимость нормы является предпосылкой всякого осмысленного трактования экономии мышления; потому она не может быть никак результатом учения об этой экономии150.
4. Наконец, признание логики частью психологии или обоснование ее на психологии как теоретическом фундаменте означает водворение той или другой формы релятивизма, а вместе с тем и скептицизма. Логические законы и истинность, будучи поставлены в зависимость от отдельного мыслящего индивидуума или от устройства мышления целого человеческого рода, получают относительный смысл и относительное значение: сомнение становится возможно повсюду в познании, и подлинная чисто-логическая сущность последнего разрушается. Ибо, при этом, нарушаются сами очевидные условия возможности всякого познания, всякой теории, всякого утверждения как в объективном, так и в субъективном отношении. Нельзя познавать, отрицая так или иначе самый существенный момент познания: истинность. Познание же, которое отрицает познание и в том числе себя самое, есть contradictio in adjecto151.
Что позиция индивидуалистического релятивизма, ставящего истину и логическое в зависимость от конкретного психического индивидуума и его личных переживаний, невозможна, – ясно само собою152. Зато не так очевидна абсурдность «родового» релятивизма, хотя и он, конечно, в принципе совершенно недопустим. И, во-первых, недопустимо и бессмысленно утверждать, что для каждого вида судящих существ истинно то, что представляется истинным согласно его законам мышления; ибо нет истин для существ того или другого порядка, нет, стало быть, таких истин, которые при известных условиях становятся вдруг ложными. Смысл понятия истинности требует постоянства: «то, что истинно, абсолютно, истинно «по себе»; истина тожественно едина, при чем безразлично, будет ли она опознаваться в суждении людьми или не людьми, ангелами или богами»153. Во-вторых, «природа вида есть факт; из фактов можно выводить только одни факты. Основывать истину релятивистически на природе вида значит в таком случае придавать ей характер факта. А это противоречит смыслу. Всякий факт индивидуален, стало быть, определен временно. По отношению же к истине говорить о временном определении осмысленно лишь, имея в виду полагаемый ею факт, а не ее самое. Мыслить истины, как причины или следствия, абсурдно… Не следует смешивать суждения, как содержания суждения, т. е. как идеального единства, с отдельным реальным актом суждения»154. В-третьих, если истина коренится исключительно в общечеловеческой природе, то в том случае, «если. эта природа не существовала бы, не существовало бы и истины». Но ведь заключение о том, что «не существовало бы истины», есть наличная истина, и эта наличная истина говорит, что истина не существует, – что явно бессмысленно155. Равным образом выходит так, как будто обосновывающая истину и, стало быть, существующая природа мышления должна, между прочим, обосновывать и истину своего собственного несуществования. Наконец, в-четвертых, «относительность истины влечет за собою и относительность существования мирa; ибо мир представляет собою не что иное, как совокупное предметное единство, которое соответствует идеальной системе всех фактических истин и от нее неотделимо». К этому мирy принадлежит, между тем, и само сознание со всеми его содержаниями. И выходит, что сознание утверждает относительность самого себя, что уже бессмыслица в пределе156.
Таким образом, релятивистически-скептические заключения психологизма присоединяют к вышеуказанным в пункте 3 невозможностям психологизма целый ряд, пожалуй, даже еще более тяжких и непростительных бессмыслиц. И, не говоря уже о трудах крайнего психологизма, достаточно образцовый материал в этом отношении дают труды умеренного, антропологического, нормативистического и трансцендентального психологизма. Так, например, труд Эрдманна с его утверждениями, что логические законы суть законы нашего, человеческого познания и для существ, одаренных иной мыслительной природой, будут лишены всякого значения; что наша умственная организация, как и все в мире, подлежит изменению, а вместе с нею должны неизбежно измениться и логические законы; что очевидность и истинность наших знаний – чисто человеческая, наша и никак не абсолютная, и т. п. Или труд Зигварта с его утверждениями, что априорность положений имеет лишь тот смысл, что и в них мы сознаем постоянную и обязательную функцию нашего мышления; что истинное суждение без того, чтобы его мыслил какой-либо ум, является чистой фикцией; что логическое основание, которого мы не знаем, знаменует собою прямое противоречие; что всякая логическая необходимость в конечном счете подразумевает наличного мыслящего субъекта; что, например, закон противоречия может стать психической силой; и что у существа, одаренного идеальным умом, нормативный принцип будет в то же время и естественно-психологическим законом157.
Чистая логика
Итак, психологическое обоснование логики и логического должно быть оставлено раз и навсегда: на психологической базе логика не может вырасти, как строгая, сущности своего предмета соответствующая и со своими собственными принципами в согласии находящаяся дисциплина. Однако, в равной мере не может она и оставаться чисто-нормативной дисциплиной, учением об искусстве мыслить. Психологическая подстилка нормативистической логики у Зигварта показывает с очевидностью, что такая логика требует в качестве своего фундамента какой либо теоретической, свободной от всякого практическая уклона дисциплины. И уже Лейбниц, Кант, а за ними Гербарт, Больцано и другие стремились построить логику прежде всего, как теоретическую, чисто-формальную науку. Действительно, «легко убедиться в том, что всякая нормативная и a fortiori всякая практическая дисциплина предполагает в качестве своего фундамента одну (или более) теоретическую дисциплину, которая должна обладать отрешимым от всякой нормировки теоретическим содержанием, имеющим свое естественное местопребывание в какой-либо теоретической науке, либо уже отграниченной, либо подлежащей еще отслойке158. Само собою разумеется, что после исключения психологии взять на себя задачу такой теоретической основы в данном случае может только дисциплина чисто-логического характера. И, опираясь на работу только что названных мыслителей и среди них особенно Больцано159, Гуссерль набрасывает следующую программу будущей чистой логики.
1. Чистая логика есть «наука о науке», «теория теории»: она задается вопросом об условиях возможности науки или теории вообще. Под наукой же или теорией при этом подразумевается не субъективно-антропологическая связь познавательных актов, суждений и методов, а объективная или идеальная связь истинных положений, являющаяся необходимым коррелятом связи самих вещей; другими словами, такая связь, которая создает объективное единство науки или теории160.
Эта связь характеризуется, как необходимая и абсолютно значимая в том смысл, что ею осуществляется закономерное познание из оснований. Она выявляется непосредственно в форме систематического единства родовых истин, дедуктивно подводящего эти истины под некоторую закономерность основоположения, в форме единства систематически-законченной теории, и представляет собою, поэтому, некоторое единство существенных принципов. Эта связь (наука или теория) должна носить поэтому название отвлеченной или номологической в противоположность связям, руководствующимся при построении своих познавательных единств внесущественными точками зрения и имеющими дело не с родовыми, а с более или менее индивидуальными истинами. Таковы конкретные или онтологическая и нормативный или практические науки и теории, носящие имя наук и теорий в более или менее переносном смысле, т. е. лишь постольку, поскольку в их основании тоже лежит вышеозначенное номологическое или отвлеченное единство; ибо только это последнее знаменует собою научность и осуществляет теоретическую систематичность познания161. «Ясно, что абстрактные или номологические науки суть основные науки в собственном смысле слова, из теоретического содержания которых конкретные науки должны почерпать все то, что делает их науками, т. е. теоретичность»162.
2. Согласно этому, вопрос об условиях возможности науки или теории есть по существу своему вопрос об условиях возможности истины или дедуктивного единства вообще. Причем, разумеется, дело идет не о реальных (субъективно-антропологических) его условиях, а в равной мере и не о тех идеальных условиях, которые обусловливают собою процесс познания в мыслящем субъекте и заслуживают имени ноэтических, но о чисто-логических условиях, коренящихся в самом «содержании» познания163. «Ясно, что дело идет здесь о тех априорных условиях познания, которые могут быть рассматриваемы и исследуемы независимо от всякого отношения к мыслящему субъекту и идее субъективности вообще»164. Это «приводит нас в результате к определенным законам, свое основание имеющим в самом содержании познания или же в тех категориальных понятиях, которым оно подчиняется, и до того абстрактным, что в них уже нет никакого остатка от познания, как акта какого-либо познающего субъекта»165. И теория, подлежащая этим законам, «слагается тогда не из актов, а из чисто-идеальных элементов, из истин, осуществляя это в чисто идеальных же формах, в формах основания и следствия»166.
В таком случае единственным смыслом такой «возможности» здесь может быть лишь «значимость» или, лучше, «сущностность»: условием возможности науки или теории является то, что составляет их идеальную сущность167. И соответствующий вопрос должен принять теперь следующую форму: «каковы те примитивные возможности, из которых слагается «возможность» теории; другими словами, – каковы те примитивные сущностные понятия, на которых вырастает сущностное тоже понятие теории. И далее, каковы те чистые законы, которые, свое основание имея в этих понятиях, сообщают каждой теории, как таковой, единство»168.
Таким образом, «логическое оправдание какой-либо данной теории, как таковой, (т. е. согласно ее форме), требует восхождения к сущности ее формы и, следовательно, восхождения к тем понятиям и законам, которые представляют собою идеальные составные моменты теории вообще («условия возможности») и априорно и дедуктивно регулируют всякую специализацию идеи теории в ее возможных видах»169. Дело идет, стало быть, «о систематических теориях, свое основание имеющих в сущности теории, или же об априорной теоретической номологической науке, которая имеет в виду идеальную сущность науки как таковой, и, следовательно, обращается к ней со стороны содержащихся в ней систематических теории при исключении ее эмпирической, антропологической стороны»170.
3. Как такая априорно-номологическая наука о науке, логика в общих чертах ставит себе три следующие задачи: а) Прежде всего она должна установить («научно уяснить») все те «примитивные понятия», которые обусловливают возможность объективной связи познания и слагаются в идею теоретического единства, другими словами, – все простейшие и первичнейшие категории смысла (ибо ведь «всякая наука по своему объективному содержанию слагается из этого однородного материала: она представляет идеальную совокупность смыслов in specie»)171. Эти категории принадлежат к двум классам. Они суть либо элементарные формы соединения, например, формы гипотетического, дизъюнктивного и т. п. соединения положений в новые положения, различные формы подлежащего, сказуемого и т. д., или они представляют собою чисто– или формально-предметные категории, как-то: понятия предмета, содержания, единства, множества, числа, отношения, связи и т. п.172
В обоих случаях дело идет о понятиях, совершенно независимых от особенностей какого-либо материала. И в обоих же случаях логическое исследование задается целью вскрыть логическое происхождение этих категорий, т. е. постигнуть их «сущность» и фиксировать их точное значение173.
б) Далее, чистая логика должна установить те законы, «которые свое основание имеют в указанных категориальных понятиях и касаются не только их усложнения, но, скорее, объективной значимости слагающихся из них теоретических единств174. Эти законы, в свою очередь, построяют теории: с одной стороны, теории умозаключений, например, силлогистики, с другой, – такие теории, как теория чистого множества, чистого числа и т. п. В конце-концов, они должны обосновывать собою одну всеохватывающую теорию, определяющую своею сущностью все остальные. Другими словами, эти законы образуют как бы тот идеальный фонд, из которого каждая определенная теория заимствует идеальные основания своей сущности: «это законы, согласно которым она осуществляется и от которых она, как значимая теория, может, в конце концов, со стороны своей формы получить оправдание175.
в) Наконец, чистая логика имеет еще добавочную задачу: установить a priori существенные виды (формы) теории и соответствующие законы их связи. «Так вырастает идея обширной науки о теории вообще, которая в своей основной части исследует существенные понятия и законы, конститутивные для идеи теории, а затем дифференцирует эту идею и исследует априорно вместо возможности теории, как таковой, сами возможные теории»176. Это – высшая и последняя цель теоретической науки о теории или наук вообще: она сообщает ей некоторую целостность и законченность. Вместе с тем чистая логика приобретает некоторое практически-методологическое значение, которого непосредственно лишена ее более элементарная часть. «Ибо с расширением дедуктивной и теоретической сферы вырастает также и свободная подвижность теоретического исследования, обилие и плодотворность методов»177.
Эта цель чистой логики отчасти уже нашла свое осуществление в лице, так называемой, «формальной математики» или «учения о множествах» (комплексах). «Самая общая идея учения о множествах заключается в стремлении сделаться наукой, с определенностью устанавливающей существенные типы возможных теории и исследующих их закономерное отношение друг к другу. Все наличные теории являются в таком случае специализациями, или же сингуляризациями соответствующих им теорийных форм подобно тому, как все теоретически-обработанные области познания суть отдельные множественности»178.
Из этого, однако, ни в коем случае не должно следовать смешения сфер философии и математики. «Конструкция теории, строгое и методическое разрешение всех формальных проблем навсегда останется настоящим делом математика»179. Но при этом математик не является все же теоретиком чистой воды: он не более, как изобретательный техник, т. е. практик в сфере дисциплины чрезвычайно высокой теоретической пробы. На чисто-теоретическую точку зрения может встать только философ, обращающейся к теориям не с инстинктивной потребностью в научном творчестве, а с «теоретико-познавательной рефлексией» над тем, что такое в сущности суть «вещи», «события», «законы природы», «теории», «наука» и т. п.». Только философское исследование дополняет научную работу естествоиспытателя и математика таким образом, что чистое и подлинно-теоретическое познание получает свое завершение»180.
4. Устанавливая самые общие идеальные условия возможности науки, чистая логика не заключает в себе, однако же, установления идеальных условий возможности опытной науки вообще, т. е. условные возможности объективного единства индивидуальных истин. Собственно говоря, опытная наука не владеет подлинной научностью и лишена подлинных теории, так как ее теории – только условные и предварительные теории, ее основоположения – только вероятные основоположения. Но при всем том, ее вероятные познания тоже определяются системой особых идеальных категорий и законов, образующих собою систему или единство вероятности. «Эта сфера чистой законности, которая относится не к идее теории или, выражаясь еще более общим образом, не к идее истины, а к идее эмпирического единства объяснения, другими словами, к идее вероятности, образует второй обширный фундамент логического учения об искусстве и входит в область чистой логики, если ее взять в соответственно более распространенном смысле»181.
Феноменология
Чтобы построить чистую логику по только что набросанной программе, необходима, однако, длительная и сопряженная подчас с чрезвычайными трудностями предварительная работа. Дело в том, что логическое, т. е. примитивные категории и законы мысли, – не говоря уже о чисто-идеальных теориях и их общем единстве, – не дано непосредственно, как таковое, во всей своей чистоте и своеобразности. Элементы и образования логического даны непосредственно в тесном сплетении с целым рядом иных явлений и феноменальных свойств. «Объекты, исследование которых является целые логики, даны прежде всего в грамматическом одеянии; точнее говоря, они даны, как вложенности в конкретные психические переживания, которые, исполняя функцию смысла или его осуществления… связаны с определенными обозначениями речи и образуют вместе с ними некоторое феноменологическое единство. Из таких сложных феноменологических единств логик должен выделить интересующие его составные элементы, значит, первым делом, тот актуальный характер, который носит осуществляющееся логическое представление, суждение, познание, и подвергнуть этот характер описательному анализу, поскольку это может быть полезно для разрешения его собственно-логических задач»182. Затем должна быть отделена грамматическая оболочка, так легко подменяющая собою чисто-логический смысл и этим порождающая безысходные эквивоки и двусмыслицы. «Ни в какой другой области познания эквивоки не оказывают столь рокового влияния, нигде не завладевали уже самим началом его, установлением его настоящих целей, как именно в сфере чистой логики»183. Все это указывает только на настоятельную надобность в точном описательном установлении содержания (как объективного, так и субъективного) непосредственно в познании данного и в опирающемся на это описание анализе составных частей этого содержания. Только тогда будет возможно выявить в чистоте логическое с его элементами и взаимоотношениями и путем теоретико-познавательного уяснения принципиально отделить его от всего ему постороннего. Такую задачу, по мнению Гуссерля, должна взять на себя феноменология.
1. Прежде всего, введением этой новой дисциплины будут навсегда уничтожены те поводы, которые толкали раньше и сейчас еще толкают логику к психологическому самообоснованию, а именно – потребность в предварительном анализе психической структуры ума. «Феноменология логических переживаний видит свою цель в том, чтобы дать нам описательное (а не генетически-психологическое) освещение этих психических переживаний, способное сообщить всем основным логическим понятиям определенное значение»184. Она представляет собою описательную психологию, т. е. научное старание передать данное так, как оно дается, и затем только явственнее отметить те различия, которые в нем непосредственно содержатся. Она чужда, стало быть, всякой теории, ибо знаменует собою дотеоретический момент исследования185. В этом смысл она предшествует не только логике, как теории логического, но также и психологии как теории психического. «Всякое мысленное переживание, как и всякое психическое переживание вообще, будучи рассматриваемо с точки зрения причинности, имеет свои причины и следствия, как-нибудь входить в сферу жизни и несет свои генетические функции. К сфере же феноменологии и прежде всего к сфере теории познания (как феноменологического уяснения идеальных единств мышления или познания) принадлежит только то, что мы мним, когда высказываемся; что составляет это мнение, как таковое, со стороны его смысла; как образуется оно из частичных мнений; что за существенные формы и различия оно обнаруживает, и т. д.»186. Другими словами, она должна описывать чистое сознание187, как таковое, не руководствуясь в своей работе никакими иными мотивами, кроме мотивов самой непосредственной данности. Она должна «брать феномены так, как они даются, т. е. как вот это текучее осознавание, мнение, обнаружение, – чем и являются феномены, будучи взяты, как вот это данное осознавание переднего или заднего плана сознавания; как вот это данное осознавание чего-либо, как настоящего и преднастоящего; как вымышленного или символического или отображенного; как наглядно или ненаглядно представляемого, и т. д.; и при этом брать все это, как нечто так или иначе образующееся и преобразующееся в смене тех или иных положений… Все это носит название «сознания о» и «имеет» «смысл» и «мнит» «предметное»…188. Только такого рода исследование может положить конец всякому психологизму, ибо, основываясь на нем, чистая логика не обусловливается никакой теорией, а лишь подготовляется беспристрастным анализом данного.
2. Равным образом, только чрез посредство феноменологии может чистая логика, а вместе с нею и теория познания, достигнуть принципиальной беспредпосылочности. Принципиальное требование этой последней, с такой настойчивостью подчеркиваемое современными гносеологами, может иметь только один смысл, а именно: «исключение всех тех предположений, которые не могут быть всецело осуществлены феноменологическим путем»189. Для этого теория знания должна держаться вдали от всяких метафизических вопросов и решений. Опираясь на феноменологии, она, собственно говоря, не является даже теорией или наукой в смысле «объяснения из оснований». Она дает лишь «общее разъяснение насчет идеальной сущности или смысла познающего мышления»190; она далека от всякой науки о реальном, равно и естествознания и генетической психологии. «Она стремится не объяснить познание, событие во времени, в психологическом или психофизическом смысле, а выявить идею познания со стороны его конституивных элементов или законов; не проследить реальные связи сосуществования и последовательности, в которые вовлечены познавательные акты, а уразуметь идеальный смысл специфических связей, в которых выражается объективность познания; она хочет сообщить ясность и отчетливость чистым формам и законам познания, обращаясь за помощью к адекватно-осуществляющему их созерцанию191. Словом, она должна быть критическим анализом понятий, найденных описательным путем феноменологии познания. Тогда она будет независима одинаково от предпосылок метафизических, физических и психологических; тогда она будет в подлинном смысле беспредпосылочна.
3. Как упоминалось уже, феноменология представляет собою предварительное исследование не только для логики и теории знания, но и для психологии. И эта последняя прежде, чем приступить к построению теории психических явлений, к установлению психологических (генетических) законов, нуждается в описательном анализе их свойств, моментов, составных частей и связей, в непосредственном опознании психически данного, психических переживаний192. Именно этого-то не понимает современная психология, под влиянием могущественных натуралистических предрассудков стараясь представить психическое в терминах и понятиях естествознания, т. е. в терминах и понятиях психофизических экспериментов. Этим она совершенно искажает подлинную природу психических переживаний и под видом строго-научного, экспериментального исследования психических феноменов преподносит наблюдения и теории, на три четверти совершенно чуждые подлинному познанию психического. Дело в том, что психические явления глубоко, принципиально отличны от явлений физических и вообще «естественнонаучных»193. Первым делом, психическое не познается в опыте, как являющееся, не познается восприятием, как нечто внешнее познавательному акту. Оно переживается и в то же время есть это переживание, «в рефлексии созерцательно усвояемое переживание»194. Далее, психическое бытие, как «феномен», принципиально не есть единство, которое познавалось бы индивидуально-тожественным во многих отдельных восприятиях… В психической сфере, другими словами, нет никакого различия между явлением и бытием»195. «Оно является, как полагающее само себя в абсолютном потоке, как только что зарождающееся и уже отмирающее». Связь и единство вносятся в сферу психического только самою осуществляющейся в нем сознательностью, единство самого потока или имманентного ему «времени»196. И познавать психическое – значит, уловлять эту непосредственную сознательность, это прямое сознавание «чего-либо», другими словами – уловлять сущность. Прямым методом всякого познания психического является, стало быть, созерцание сущности, как сущностного бытия, диаметрально противоположное восприятию, которое, постигает свой предмет, как нечто существующее197. И вот «чистая феноменология, как наука… может быть только исследованием сущности, а не исследованием существования; какое бы то ни было «самонаблюдение» и всякое суждение, основывающееся на таком «опыте», лежит за ее пределами. Отдельное в своей имманентности может быть полагаемо только, как вот то там совершающееся, вот это туда-то направляющееся восприятие, воспоминание, и т. п. и выражено лишь в строгих понятиях сущности, своим происхождением обязанных анализу сущности»198. И только на такой науке, исследующей прямо все психически-непосредственно-наличное, может вырасти подлинно-научная психология, свободная от засилья натуралистических предрассудков. Психофизика только тогда станет законной дисциплиной о психических явлениях, когда она будет ясно сознавать всю косвенность и приблизительность своих высказываний о психическом и сообразно этому произведет пересмотр своих натурализованных понятий199.
4. Но мало того! Феноменология является фундаментом, обязательным преддверием не только чистой логики, гносеологии и психологии, но и всей философии вообще. Становящееся рядом с восприятием существующего созерцание сущности представляет собою общий первоначальный познавательный орган всех философских дисциплин, общее познавательное начало философии духа200. «Феноменология сознания», в противоположность предрассудку «естествознания сознания», есть единственный путь построения строго научной философии, свободной от предрассудочных предпосылок, благодаря достигнутому ею, наконец, анализу первично-данного201.
Освобождая философское мышление от натурализма (напр., психологизма), только одна она способна освободить его и от историцизма, подобно психологизму разрешающегося в скептический релятивизм, и на место философствования, приспособляющегося к относительным и временным потребностям миросозерцания, поставить единую философию – науку202. «По самому своему существу, поскольку она направляется на последние начала, философия в своей научной работе принуждена двигаться в атмосфере прямой интуиции, и величайшим шагом, который должно сделать наше время, является признание того, что при философской в истинном смысле слова интуиции, при феноменологическом постижении сущности, открывается бесконечное поле работы и полагается начало такой науки, которая в состоянии получить массу точнейших и обладающих для всякой дальнейшей философии решающим значением познаний без всяких косвенно-символизирующих и математизирующих методов, без аппарата умозаключений и доказательств»203.
Новая теория абстракции
Вполне естественно, что первой фундаментальной проблемой феноменологии познания является, по мнению Гуссерля, проблема абстракции и абстрактного. «Ибо, во-первых, среди категориальных paзличий смыслов, на которые чистая логика должна обратить серьезное внимание, имеет место также и различие их, соответствующее противоположности индивидуальных и общих предметов. Во-вторых же, – и в особенности – потому, что смыслы – и именно смыслы в форме родовых единств – образуют сферу ведения чистой логики, и, следовательно, всякое извращение сущности рода должно отозваться и на ее собственном существе»204. Другими словами, если чистая логика действительно имеет соответствующий своим претензиям предмет, т. е. чисто идеальные родовые единства познания, то должно быть феноменологически показано, что такой предмет дан в познании и затем установлено, как он дан. Только тогда будет чистая логика вправе заняться этим предметом, его разновидностями и взаимоотношениями.
1. Всякое обыкновенное, нормальное познавательное переживание обнаруживает при феноменологическом его уразумении («сущностном», а не «рефлективном» или «опытном») следующие составные элементы: словесное обозначение, которое распадается на физическое явление звука и мышечных движений и психическое явление самого акта обозначивания; 2) психические переживания познающего, которые сообщаются этим обозначением (т. е. им соозначаются); 3) акт «мнения» этим обозначением на почве данных психических переживаний какого-либо «смысла»; 4) этот самый «смысл», непосредственно «мнимый» в познательном переживании, выражающемся в данном словесном обозначении; 5) «мнимый» через этот «смысл» предмет познания. Если познавательное переживание по своему содержание носит при этом созерцательный, не номинальный или чисто-мысленный характер, то к этому присоединяются еще: 6) акт созерцательного осуществления смысла и 7) само осуществление смысла в созерцании (т. е. приведение его к очевидности при помощи какой-либо действительной или придуманной иллюстрации205. Изо всех этих элементов только пять последних представляют действительный интерес для вырастающей из феноменологии критики познания. И, в свою очередь, среди пяти этих элементов центральное место для нее занимает элемент мысленно (или также еще и созерцательно) «мнимого» «смысла», ибо как раз в лице его находит свое выражение чисто логическая природа познания206.
Этот «смысл» должен быть строго отличаем от всех видов психических переживаний, ему предшествующих, за ним следующих и с ним связанных в одно общее феноменологическое единство переживания. Он представляет собою всегда тожественное «интенциональное единство»207, в то время как сопровождающие его психические явления множественны, изменчивы и индивидуальны. «Это подлинное тожество есть не что иное, как тожество рода. В таком и только в таком случае в состоянии оно охватить в себе разбегающуюся множественность индивидуальных отдельностей»208. И даже от актов «мнения» нужно строжайшим образом отделять этот смысл, как таковой: по отношению к множеству таких актов, «мнящих интенций» (Intentionen – направленностей), он обнаруживается, как «идеально-единое значение», что аналогично отношению, существующему между краснотою in specie и конкретными кусочками бумаги, которые все «имеют» одну и ту же красноту. Можно сказать, «что смыслы образуют класс понятий в духе «общих предметов» или родов (species – специй)»209.
Но, будучи взяты, как такие «общие предметы», смыслы не даны непосредственно в тех познавательных переживаниях, в которых они являют собою «мнимое». Высказываемое утверждение высказывается о каком-либо предмете, а не о смысле, ему присущем. Чтобы смыслы сами стали предметами, необходим особый уклон познания, особая «мнящая интенция». И осуществить ее в состоянии только такой рефлективный акт, который, являясь нормальным составным элементом всякого логического мышления, знаменует собою настоящее отвлечение логически-идеального от всего реально существующего210.
2. Все удостаивавшиеся до сих пор одобрения теории абстракции проходили мимо учения о смыслах, ибо росли на психологическом фундаменте и старались чисто генетически, причинно, объяснить все феноменологическое содержание познания.
а) Так, эмпиристическая теория абстракции устами Милля и Спенсера стремится свести внутреннее идеальное тожество смысла, «родовое тожество», к простому усмотрению подобия. Видя повсюду подобную окраску, говорят-де об одной и той же окраске, например, об одной и той же красноте. Но, ведь, для того, чтобы признать две вещи подобными, нужно понимать, в чем, в каком отношении они подобны. Тут то и лежит тожество, «родовое единство», которое в свою очередь не является простым подобием, так как в таком случае был бы неизбежен regressus in infinitum211. «Подобие есть отношение предметов, которые принадлежать к одному и тому же роду»212. Равным образом, нельзя объяснить образования общих понятий – тем более – самого общего, самих идей, самих родов, установлением общих имен по законам ассоциаций. Ибо ассоциативная общность знака, «эта общность психологической функции отнюдь не есть та общность, которая относится к интенциональному содержанию самих логических переживаний, или же, выражаясь объективно и идеально, к смыслам и их осуществлениям (в созерцании). Эта последняя общность ускользает от номинализма»213. Он упускает из виду своеобразное сознание, которое обнаруживается в непосредственно усвояемом смысле знака, в его актуальном уразумении, в понятном смысле высказывания, а с другой стороны – в коррелятивных актах осуществления, представляющих собою «настоящее» представление общего, другими словами, в актуальном отвлечении, в котором нам дано «само общее»214. Вместе с тем он страдает смешением различных форм логической общности, не различая между общностью простой неопределенности представления (какое-либо А), общностью универсальной формы самого акта познания (все А) и родовою общностью «мнимого» содержания (А вообще, A in specie)215.
б) Так, учение Локка об общих идеях, руководствующееся правильной мыслью о том, что факту объединения многих вещей под одним общим именем должна соответствовать общая идея, терпит крушение на предрассудке, будто идея эта является предметом внутреннего восприятия, а не особой «мнящей интенции», направленной не на изменчивые явления психического существования, а на вечную и неизменную сущность логического смысла. К этому присоединяется, далее, неразличение между смыслом как таковым и предметом «мнящей интенции» как таковым; его усугубляет еще смешение психического содержания познавательного акта с его логическим содержанием216.
в) Так, Беркли, в общем направляя теорию абстракции в правильное русло подчеркиванием того значения, которым обладает при абстрагировании внимание, прежде всего искажает сущность внимания тем, что объектом его считает психические явления, т. е. психические состав познавательного акта, а не так или иначе «мнимые» предметы. Ведь «когда мы представляем себе, например, лошадь и судим о ней, то мы имеем дело именно с лошадью, а не с нашими соответствующими этому ощущениями. Представляем себе эти последняя и судим о них мы, очевидно, лишь при психологической рефлексии»217. «Простое существование какого-либо содержания в психической связи отнюдь не является его «мнимостью». «Мнимым» это содержание становится только при его «отмечении», которое, как обращенность на это содержание, и является как раз его представлением»218. В связи с этим искажением стоит, далее, и то, что Беркли смешивает «основание абстракции с абстрагированным, отдельный конкретный случай, от которого сознание общности заимствует свою интуитивную полноту, с предметом мыслительной интенции. Беркли выражается так, как будто бы геометрическое доказательство велось для чернильного треугольника на бумаге или мелового треугольника на доске, и как будто бы подвертывающееся нам случайно при общем мышлении отдельные предметы были вообще не простой лишь опорой нашей мыслительной интенции, а ее объектами»219.
Между тем, в действительности, при геометрическом доказательстве в виду имеется не конкретный предмет созерцания и не какой-либо его момент (несамостоятельное «отвлеченное частичное содержание»), а «идея в смысле родового единства. Она является абстрактностью в логическом смысле; и сообразно этому логически или гносеологически под абстракцией нужно разуметь не простое выделение частичного содержания, а то своеобразное сознание, которое непосредственно уловляет родовое единство на интуитивном основании»220. Это смешение в связи с вышеозначенным искажением послужило побуждающим мотивом для установления теории замещения, рассматривающей отвлечете, как искусственную замену многих представлений одним из них, наиболее характерным и удобным221. Однако, этим мыслительная функция отвлечения снова разрешается в функции созерцания. Между тем, никакое созерцание не в состоянии осуществить смысла утверждения «все А». «Ибо созерцать мы можем только вот то или вот это. Сколько бы мы ни перебирали при этом отдельных случаев, как ревностно мы ни собирали бы их, – даже и в том случае, если бы удалось, действительно, исчерпать объем понятия и представить себе (постепенно) все А, при чем все же все А (сразу) не были бы представлены, логическое представление не осуществилось бы»222. «Все А» представляет собою особую логическую форму, особый логический смысл. Нельзя никак обойти необходимость рассматривать мыслительные акты, как то, что они есть, а именно, «как совершенно особенного характера акты, как новые по сравнению с непосредственным созерцанием «способы сознания». Представители «репрезентативной» теории впадают в глубочайшее заблуждение, когда «при феноменологическом анализе почти исключительно имеют в виду по отношению к мыслительному переживанию лишь то, что непосредственно осязательно, именно, названия и служащие примерами созерцания, не зная, что делать с самим свойством актуальности как раз потому, что оно не представляет собою ничего осязательного»223.
г) Так, Юм, сводя общность и абстрактность к общности наименования, которое благодаря определенным habitus, определенным бессознательным предрасположениям, по ассоциации распространяется на целый круг подобных между собою в определенном отношении представлений, впадает в те же самые ошибки, что и представители только что рассмотренных теорий224. Прежде всего, подобие не в состоянии объяснить общности, т. е. оснований выделения какого-либо отвлеченного признака или каких-либо отвлеченных отношений, ибо оно само предполагает подобие подобностей, и так in mfinitum. Далее, подобие совершенно не может заменить собою того, что представляет общность отвлеченного признака. «Различие между созерцанием красноты вот этого предмета и созерцанием какого-либо отношения подобия совершенно очевидно»225. Далее, ни в коем случае нельзя смешивать «психических содержаний» познавательного акта с его «интенциональными содержаниями» и пользоваться этим смешением в интересах сведения этих последних к вышеозначенным сферам подобия. Ибо «очевидность того, что единообразная окраска, форма и подобные им внутренние определения относятся к единству созерцания, как составляющее его моменты, не может никак быть отъинтерпретирована… Отъэлиминировать абстрактные содержания, а вместе с ними и абстрактные понятия – значит выдать за фиктивное то, что является в действительности предпосылкой всякого проникновенного мышления и уяснения вообще»226. Наконец, утверждение, что отвлеченные признаки не представляют собою подлинных смыслов, может быть перенесено и на конкретные признаки, ибо первоначально в созерцательном переживании мы имеем всегда нечто единое и только затем открываем в нем различия227. При последовательном развитии этого аргумента можно придти к полному отрицанию всякого деления переживания, к скептическому выводу, что «сознание есть нечто абсолютно единое, о котором мы, по меньшей мере, не в состоянии узнать, имеет ли оно вообще частичный содержания, обнаруживается ли оно вообще в каких-либо одновременных, либо во времени последовательных переживаниях»228. Такой скептицизм убивает и всякую психологию и самого себя.
д) Так, и Корнелиус, являясь наиболее последовательным представителем современного юмеанства и старательно развивая взгляды Юма на общность и отвлечение, повинен, в общем, во всех тех смешениях, которые так характерны для психологистически-номиналистической школы: «интенционального содержания» он не отличает от «интенционального предмета», а обоих их не отграничивает от психологической организации психических переживаний. Благодаря этому для Корнелиуса символ по ассоциации распространяющийся с какого-либо представления на круг ему подобных, есть уже общий символ; безразличное отношение понятия ко всему тому, что не относится к его содержанию, хоть и относится к его предмету, отожествляется с расплывчатостью образа воспоминания; а неточность памяти или спутанность и текучесть «неясно» воспроизведенных фантасм сливается с характером общности, присущим интенции представления, как форма ее акта, или же с неопределенностью в содержании интенции, которая являет собою определенный смысл неопределенного предмета, и т. п.229
3. Из всего этого рассмотрения вытекают с очевидностью три следующих фундаментальных для теории абстракции вывода. Во-первых, нужно раз и навсегда признать, что общее относится к сфере «мнения» и не может быть ни объясняемо из существования психических переживаний, совершающихся во время этого «мнения» и представляющих собою психический состав соответствующего познавательного акта, ни ставимо в какую-либо нефеноменологическую связь с этим составом, и затем, что акт «мнения», «интенционально» «мнящий» – это общее, представляет собою совершенно первородную, категориальную феноменологическую черту сознания, которая тоже не может быть хотя бы сколько-нибудь исчерпана генетическим объяснением ее из явлений ассоциативного характера. «Определять чистую переживаемость какого-либо содержания, как его представленность, и переносно именовать все переживаемые содержания вообще представлениями – значит вводить такое искажение понятий, которому вряд ли найдется в философии равное. Во всяком случае, число гносеологических и психологических ошибок, им причиняемых, – легион»230.
Во-вторых, нужно раз и навсегда помнить, что акт «мнения» общего (а равно и само это общее) принципиально отличен от акта созерцания, на котором он тем не менее психически держится. Созерцание есть акт индивидуальная «мнения», «мнящего» индивидуальные предметы. И потому «созерцать – значит, именно не мыслить»231. По отношению к мышление, т. е. «мнению» общего, созерцание может играть лишь роль чувственно осуществляющего смысл акта, иллюстрации, наглядного подтверждения, экземплификации. Мыслительный акт обладает по отношению к созерцанию полнейшей первичностью и самостоятельностью, выявляя «общие предметы», только феноменологически (а не существенно, т. е. не логически) опирающиеся на чувственно-созерцательный акт232. В-третьих, нужно раз и навсегда провести различие между отвлеченными или несамостоятельными признаками (чертами, содержащими, моментами) какого-нибудь предмета и родом (общим понятием, общей идеей, идеальным единством), как таковым, являющимся во всем своем целом отдельным «общим предметом». Соответственно необходимо различать между актами узрения отвлеченных черт предмета и актом узрения рода, как единой идеи. Этим вводится самое важное различие, господствующее в сфере понятий абстракции и абстрактного и вместе с тем выясняется подлинный и непосредственный их смысл. Собственно говоря, «мнение» несамостоятельных признаков есть только «выделение» или подчеркивание индивидуальных свойств предмета: оно не осуществляет настоящих общих понятий, не постигает рода в его целом. Настоящим актом абстракции является только акт, который «мнит» непосредственно само общее, как таковое. Только такая абстракция своим предметом имеет то логическое, о котором трактует чистая логика. И вместе с тем только она соответствует традиционному (хотя и столь оспаривавшемуся) взгляду на общее233.
4. Однако, и будучи взята, как «мнящая интенция», направленная на общее, абстракция не свободна при ближайшем ее рассмотрении от двусмысленности. Ибо не одно и то же, будет ли под нею разуметься тот акт, который только связывает непосредственно общее имя с родовым единством и в котором общее является только предметом сигнификативной, т. е. обозначительной интенции, т. е., так сказать, «замышляется», или же тот акт, в котором общее не только сигнификативно «задумано», но и осуществлено, т. е. «дано», «присутствует» с очевидностью. Лишь этот последний акт абстракции, представляющей собою идеирующую или генерализирующую абстракцию, является характерной чертой логического мышления. Общее в нем «мнится» уже не только чисто-мысленно, но мысленно-созерцательно, т. е. познавательно (в полном смысле этого слова)234. Разумеется, этим нисколько не нарушается вышеупомянутое противопоставление мышления и созерцания, ибо при идеирующей абстракции дело идет не о чувственном созерцании, способном служить ей лишь внешней базой ее осуществления, лишь внешней и случайной иллюстрацией ее предмета, а о сверхчувственном (общем, категориальном или идеальном) созерцании, о созерцании, так сказать, второго порядка, которое является непосредственным осуществлением «задуманного», адекватным его поставлением235. «В акте абстракции, который для своего свершения не требует непременно обозначения, данным для нас является само общее: мы мыслим его себе не чисто обозначительным путем, как в случае простого уразумения смысла общих имен, а схватываем его, созерцательно овладеваем им. И говорить здесь о созерцании или, точнее, о восприятии общего, поэтому, вполне позволительно»236. Идеация есть, значит, акт созерцательной мысли, акт подлинного сущностного постижения. И только в ней открывается познанию чисто-логическое, как таковое, в своих элементах-истинах и ими управляющих законах237.
Новая теория сознания
Второй важной проблемой, требующей от Гуссерля своего разрешения в самом начале феноменологического исследования познания, является проблема сознания. Ибо всякое познавательное переживание есть в то же время и сознательное переживание, и раз сознание по существу своему определяется логическим, т. е. чисто-идеальными единствами и их законами, раз существеннейшей его функцией является идеация, то очевидно, что эти особенности его должны находиться в совершенно определенном отношении к природе психического переживания вообще, а сознание – получить соответствующую им формулировку.
1. Для этого Гуссерль рассматривает четыре следующих определения сознания и путем их критического разбора устанавливает свое собственное его понятие:
а) Под сознанием разумеют часто феноменологическое единство личных переживаний. Поскольку при этом под переживанием будет разуметься только чисто-психическое содержание и всякое интенциональное содержание будет отъэлиминировано, такой взгляде на сознание правилен. В состав сознания входят лишь сами переживания, как таковые, а не то, что они «мнят»; например, только восприятие дерева, а не то, что воспринимается в этом восприятии, а также и не смысл выражающего это восприятие утверждения: вот дерево238.
б) Под сознанием понимают часто также внутреннее сознание в смысле внутреннего восприятия. Этот взгляд приводит к превращению сознания в определенного рода (именно адекватное) знание, а сознательных переживаний – в интенциональные содержания, т. е. к смешению двух совершенно различных сфер. Вместе с тем он впадает в regressus in infinitum, так как внутреннее восприятие, ведь, в свою очередь, есть переживание, т. е. переживание переживания, и т. д. без конца. Если же не отожествлять внутреннего сознания с знанием и под внутренним сознанием разуметь просто наличность тех или иных переживаний, то такое его понимание путем постепенного развития своего содержания должно непременно привести к первому определению239.
в) Некоторые мыслители, например, Наторп, толкуют сознание как «чистое Я» или чистую апперцепцию240. Но при феноменологическом анализе психических переживаний ничего подобного не встречается. Я сводится к «комплексу реальных переживаний»241; оно «не представляет собою ничего такого, что парило бы над множественностью переживаний»242; оно есть «реальное целое, реально слагающееся из своих многочисленных частей, и каждая часть обозначается, как нечто «пережитое». В этом смысле переживание и является тем, что переживается Я или сознанием»243. «Нет надобности ни в каком особом, все содержания поддерживающем, все их еще раз объединяющем личном принципе»244. Разумеется, непосредственными переживаниями содержание сознания не исчерпывается точно так же, как и внешний предмет не исчерпывается его в данный момент воспринимаемыми свойствами. Но этим нисколько не нарушается его эмпирически-феноменологическая природа, ибо эмпирически-феноменологический смысл его единства открывается уже в любом психическом состоянии245.
г) Некоторые психологи, и среди них в первую голову Брентано, определяют сферу сознания, как сферу интенциональных переживаний, как сферу психических актов. «Каждое психическое явление характеризуется тем, что средневековые схоластики называли интенциональной (а также умственной, ментальной) наличностью предмета и что мы, хоть и не без некоторой двусмысленности, будем называть отнесенностью к какому-либо содержанию, направленностью на какой-либо объект… или имманентной предметностью»246. – Этим собственно только и достигается, по мнению Гуссерля, действительная сущность сознания. Интенциональные переживания составляют его ядро и его внутреннюю характеристику. Сознание есть реальная совокупность актов, и все иные состояния психики получают свое значение в сознании только в связи с этой интенциональной актуальностью247. «Существо, которое было бы лишено подобных переживаний, которое содержало бы в себе лишь содержания вроде переживания ощущения и было бы неспособно их предметно истолковывать или как-либо еще иначе при их помощи сделать предметы представимыми, – стало быть, было бы совершенно неспособно ..направляться на предметы чрез посредство других актов, судить о них или делать предположения, радоваться по поводу них или печалиться, надеяться и бояться, жаждать и переживать отвращение, – такое существо никто не захотел бы называть психическим существом»248.
2. Это понятие о сознании легко может быть сделано бессмысленным. Достаточно только истолковать «интенциональную наличность» предмета в переживании или акте, как реальное отношение между двумя одинаковым образом в сознании находящимися вещами: объектом и актом. В действительности же, ничего подобного нет: «никаких двух вещей в наличности психически при этом не имеется: нет и тени того, чтобы рядом с переживающимся предметом еще переживался интенциональный акт, на него направляющийся; нет при этом и никаких двух вещей в смысле части и охватывающего ее целого; налична только одна вещь – интенциональное переживание, существенной дескриптивной чертой которого является соответствующая интенция»249. В интенциональном переживании «мнится» некоторый предмет. Это значит, во-первых, что можно переживать это переживание, и это – реальный момент в нем.
Во-вторых, это значит, что в нем нечто может быть интенционально «мнимо»; и это – идеальный его момент. Это «мнимое» нечто не переживается само, как психический момент; оно не содержится реально в переживании (а равно не может быть реально и вне его). Как «мнимое», оно вообще не существует, а именно только «мниться». В этом – его феноменологическая особенность, которая с существованием его или несуществованием непосредственно не имеет ничего общего. «Мнится» может в соответствующем акте так же легко что-либо в действительности несуществующее, например, бог Юпитер, как и самое наидействительнейшее, например, вот этот стол250.
3. Равным образом, предложенное понятие сознания становится бессмысленным и в том случае, когда интенция понимается, как настоящее отношение, в которое вступают между собою, с одной стороны, сознание, а с другой, – сознаваемая вещь. Тогда начинает казаться, будто сознание или Я «чрез посредство» акта или «в» нем направляется на предмет или достигает его, само являясь некоторой предпосылкой всякого акта, своего рода пунктом единства всех актов. Между тем на деле, когда мы «живем» в каком-либо акте, то о сознании или Я, как таком центре всех актов, нет феноменологически ни слуху, ни духу, равно как и о его реальной направленности на предмет. Непосредственно все исчерпывается здесь тем, что на этот последний идеально направляется данное переживание251. Правда, это переживание входит само реальной частью в тот общий комплекс переживаний, который именуется сознанием или я. Но это Я не «присутствует» непосредственно при переживании, и по отношению к нему «утверждения: Я представляет предмет, направляется в представлении на предмет, имеет его интенциональным объектом его представления – имеют совершенно тот же смысл, что и утверждение: в Я, в этой конкретной совокупности переживаний, реально присутствует определенное переживание, согласно своей специфической особенности именуемое «представлением соответствующего ему предмета». Точно также утверждение: Я судит о предмете, значит то же самое, что и утверждение: в нем налично так-то и так-то определенное переживание суждения»252. «Если какое-либо переживание, характеризующееся той или иной интенцией, налично в Я, то ео ipso и это последнее, как охватывающее его целое, становится обладателем этой интенции на подобие того, как физическая вещь обладает теми свойствами, которые составляют ее в качестве частичных содержаний»253. Так что и с этой стороны «направленность», «интенция», «мнение» лишены всякого реального смысла. «Мысль о деятельности должна быть совершенно оставлена»254. «Не как психические деятельности определяем мы акты, а как интенциональные переживания»255.
4. Не все, однако, входящее в психический состав сознания отличается чертою «активности» и интенциональности, само по себе, хотя, с другой стороны, и нет такого сознательного состояния, в котором бы эта черта отсутствовала. Так, интенции на предмет, а потому и всякой «осмысленности», всякого «мнения», лишено ощущение. В нем «ощущаемое есть не что иное, как само ощущение»256. «Ощущением мы называем тот факт, что в комплексе переживания налично некоторое чувственное содержание или же вообще некоторый не-акт»257. Но такой не-акт никогда не является в сознательном переживании одиноким элементом, никогда не переживается, как таковой. Он обнаруживается всегда в самой тесной связи с объективирующим его актов восприятия, благодаря которому и сам превращается в акт; так что ощущению, как переживанию, все же всегда соответствует нечто ощущаемое, как «мнимое». Ощущение цвета при восприятии и ощущаемый цвет воспринимаего предмета – феноменологически совершенно различные моменты258. – То же самое следует сказать и о так называемых «чувствительных ощущениях» (чувство удовольствия, боли и пр.). Они тоже лишены интенционального характера, чисто субъективны, но никогда не существуют в сознании изолированно, получая всегда объективное истолкование от вырастающих на них, как на своего рода психическом материале, актов259.
Зато чувства, волевые движения и пр. должны быть признаны настоящими актами, означающими собою совершенно особые формы интенции, совершенно особыми «способами сознания». Правда, они всегда обнаруживаются в тесной связи с более простыми актами-интенциями интеллектуального характера, имея их как бы своим фундаментом. Но этим нисколько не отменяется их собственная интенциональная своеобразность: к интенциям своего интеллектуального основания они присоединяют еще новые интенции260.
Интенционалистическое учение о познании
В полном соответствии с изложенными только что теориями абстракции и сознания строить Гуссерль свое учение о познании. При этом, разумеется, центральной проблемой для него является все та же проблема отношений между мышлением и созерцанием, между чувственными и сверхчувственными элементами познания, которая и до него всеми гносеологами полагалась во главу угла. Так что новаторство здесь у Гуссерля сказывается не в перемещении акцентуации с одной проблемы на другую, а в совершенно своеобразном освещении проблемы, всеми одинаково признаваемой за фундаментальную. Рамки данного очерка не позволяют хотя бы даже приблизительно исчерпать обилие устанавливаемых Гуссерлем при этом разграничений, моментов и связей. Осуществляемый Гуссерлем феноменологический анализ познания открывает целый новый мир ранее неведанных элементов и отношений и сулит прежней относительно-ограниченной гносеологической сфере необъятные размеры и неисчислимые открытия261. К сожалению, в дальнейшем придется ограничиться изложением только самых общих положений, а вместе с тем и только самых общих различений, вводимых новой «теорией» познания.
1. Все нормальные и самостоятельные психически переживания суть, как сказано, переживания интенциональные, т. е. акты. В связи с этим их основным характером необходимо тщательно проводить четыре следующих различия. Во-первых, нужно различать между феноменологическим или описательным их содержанием, состоящим из реально слагающих их частичных переживаний, и их интенциональным содержанием, означающим собою смысл актуальной направленности (т. е. то, что переживается) и в свою очередь распадающимся на «мнимый», «интендированный» предмет и то, как он «мнится» т. е. интенциональное содержание в узком смысле слова262. Во-вторых, нужно различать между актами обосновывающими и обоснованными, из которых первые являются характерными представителями всего класса, присутствуя во всяком интенциональном переживании, но нисколько тем не нарушают своеобразия вторых, хотя и вторичных, но сохраняющих по существу свою самостоятельность (такова, например, эмоциональная или волевая интенция)263. В-третьих, нужно различать между актами основными, определяющими собою физиономию данного переживания и в этом смысле выделёнными благодаря сосредоточию внимания на «мнимом» в них предмете, по сравнению с актами побочными, являющимися лишь более или менее случайным сопровождением первых264. И, наконец, в-четвертых, в самом интенциональном содержании актов нужно отличать общий характер актуальности, качество акта, от его материи, сообщающей общему характеру ту или иную специальную физиономию. Качество определяет только, в какой форме совершается «интенция», является ли акт познавательным, эмоциональным, волевым, и т. п. «Материя же должна быть рассматриваема как тот момент в акте, который ему сообщает вообще отношение к чему-либо предметному… Материя акта является виновницей того, что предмет обнаруживается в акте именно, как такой-то и такой-то, а не какой-либо другой»265. В своей совокупности качество и материя составляют то, что лучше всего обозначить, как интенциональную сущность акта266.
Существует и весьма распространено мнение, что всякое интенциональное переживание либо само является актом простого представления, либо имеет такой акт своим основанием267. Этот взгляд, однако, не соответствует действительности: внимательный феноменологический анализ показывает, что акт чистого представления не играет столь значительной роли даже в познавательной сфере, и что приписываемая ему функция – выявление интенциональной предметности – обычно выполняется рядом сопутствующих основным актам несамостоятельных переживаний268. Представление лишь в том случае является общим основанием всех актов, если под ним разуметь вышеупомянутую материю акта. Но в таком случае разбираемый взгляд будет страдать двусмысленностью, так как представление будет фигурировать в нем и как целый акт и как материальная часть акта269. Для того, чтобы восстановить его в его правоте, нужно придать понятно представления более широкий смысл, перестав понимать его, как чисто-номинальный акт, противополагающейся пропозициональным актам (суждениям). Это и достигается, если под представлением разуметь всякий объективирующий акт вообще; ибо, с одной стороны, объективирующими актами одинаково являются и чистые представления и суждения, различаясь уже в сфере этого общего признака, как номинально-безразличные и пропозиционально-полагающие акты; с другой же стороны, всякое интенциональное переживание, само не являющееся объективирующим актом например, желание, радость и т. п.) непременно подразумевает такой акт в качестве своего основания270. «Таким образом, объективирующее акты своей исключительной функцией имеют первоначальное представление предметности для всех остальных актов… Отношение к предметности устанавливается вообще в материи. Всякая же материя, так говорит наш закон, есть материя объективирующего акта и только чрез посредство этого последнего может стать материей нового, на нем основывающегося качества акта»271.
2. Как выше уже было упомянуто, в составь нормального психического переживания на ряду с другими элементами входят моменты «мнения» (интенции) и его «осуществления». Эти моменты находятся между собой в разнообразных взаимоотношениях в зависимости от того, что за психическое переживание они конституируют: познавательное ли, эмоциональное, или волевое, и т д.272Все объективирующие акты характеризуются совершенно определенной формой такого взаимоотношения: в них между «смыслом» интенции и «смыслом осуществления» устанавливается (или уничтожается) единство тожества. Другими словами, в объективирующих актах отожествляются (или расторгаются) между собой то, что «мнится», и то, что «дается», —отожествляются (расторгаются) в большей или меньшей степени: все объективирующее акты, будучи взяты во всей совокупности их моментов, суть акты большого или меньшего отожествления (расторжения)273.
Этим установлением в то же время отграничивается и сфера познания, ибо все познавательные акты в большей или меньшей степени суть объективирующие акты отожествления (расторжения) мышления с созерцанием, т. е. чистой «задуманности» с ее наглядным осуществлением. Прямой смысл всякого познавательного акта лежит в акте «адеквации», познавательного равенства, между тем, как предмет мысленно представляется, и тем, как он непосредственно (чувственно) дан274. При этом, с одной стороны, адеквация может быть либо статической, т. е. моментальной, как, например, в том случае, когда утверждают: этот предмет красный; ибо тут смысл обозначения красный и сам чувственно данный красный предмет (т. е. смысл чувственного созерцания) составляют непосредственное актуальное единство275. Либо адеквация будет динамической, т. е. постепенной, как в том случае, когда акт мысленного «мнения» не составляет с актом созерцательного «мнения» одного и того же акта и сопровождается им не сразу276. С другой стороны, адеквация имеет всевозможные степени, начиная от полного созерцательного осуществления мысленной интенции, когда предмет сам и целиком оказывается наличен в познании, и кончая тем полным ее неосуществлением, когда между мысленно «мнимым» и созерцательно «данным» не оказывается ничего общего и познание признается ложным, т. е. неосуществившимся277.
В связи с этими различиями стоит еще одно различиe, представляющее большую важность для феноменологического уяснения сущности познания. А именно, необходимо отличать адеквацию или осуществление в собственном смысле слова от адеквации или осуществления в несобственном их смысле. В последнем случае между мысленно «мнимым» и чувственно «данным» нет никакого внутреннего, необходимого отношения; чувственно «данное» служить лишь простой опорой, простой случайной базой для совершения акта мысленной интенции, которая потому остается «пуста», «бледна» и «неудовлетворенна»; подлинного интуитивного постижения мыслимого здесь не происходить; оно не отожествляется с предметом, как интуитивной, непосредственной данностью; интуиция играет здесь роль лишь излагающего или представительствующего содержания; таково положение дел при чисто обозначительных, сигнификативных (или сигнитивных) и номинальных актах. Наоборот, адеквация в собственном смысле слова характеризуется действительным удовлетворением мысленной интенции, заполнением пустоты определенным интуитивным содержанием, большим или меньшим выявлением самого предмета. Чувственно данное служить при этом не только опорой мысленного акта, не простой иллюстрацией его интенции, а более или менее совершенным осуществлением съинтенционированной мысленно предметности278.
Только в этом случае имеет вообще место действительный акт познания; только здесь можно в прямом смысле слова говорить о большей или меньшей идентификации мыслимого и созерцаемого. В этом случае, значит, интенциональная сущность акта содержит в себе некоторый плюс по сравнению с теми двумя элементами (качеством и материей акта), которые, как было указано, присущи интенциональному содержанию всякого переживания. Плюс этот есть большее или меньшее интуитивное «обилие» познавательного акта279. Идеалом обилия было бы согласно этому такое представление, которое заключало бы весь свой предмет целиком в своем феноменологическом содержании280. Отсюда ясно, что «каждый конкретно полный объективирующей акт имеет три составных момента: качество, материю и представительствующее содержание»281. Но только в том случае, если это последнее будет находиться в тесной внутренней связи с материей, если оно будет интуитивным осуществлением той интенции, которую эта материя собою знаменует, только тогда можно говорить о полном познавательном акте282. В этом случае три указанных момента составляют в своей совокупности познавательную сущность объективирующего акта283.
3) После всего сказанного совершенно ясно, что степень осуществления мысленной интенции или же достоинство познавательной сущности объектирующего акта зависит от качества интуитивной «полноты» объективации, т. е. от того, до какой степени совершенна наличность предмета в познающем его акте.
Вполне понятно, что сфера познания принимает с этой точки зрения вид лестницы, внизу которой стоят чисто обозначительного характера акты, а вверху которой помещается идеал адеквации, как заключительная цель всякого «осуществления»284. «Интуитивным содержанием такого заключительная представления является абсолютная сумма всякой полноты; интуитивным представителем является сам предмет, как он есть сам по себе. Представляемое и представляющее содержание здесь одно и то же. И где какая-либо интенция представления достигает чрез посредство такого идеально-совершенного восприятия завершительного осуществления, там устанавливается подлинное adaequatio rei et intellectus: предметное здесь «дано» или действительно «налично» именно как такое, в качестве какового оно интендировано; тут нет более такой частичной интенции, которой недоставало бы осуществления»285.
Этим устанавливается внутренний смысл понятий очевидности и истины. Истина есть «полное согласование между замысленным и данным как таковым. Это согласование переживается в очевидности, поскольку очевидность является актуальным свершением адекватнейшего синтеза осуществления»286. Очевидность представляет собою акт «совершеннейшего синтеза осуществления» или «синтеза совпадения», в то время как истина есть сам синтез, само совершенство совпадения в его объективном смысле, в его идеальном бытии287.
4. Такая формулировка сущности познания, видящая его совершенство в полном совпадении мышления с созерцанием (мыслимого с созерцательно-данным), требует, однако, расширения понятия созерцания, о котором уже упоминалось выше. Ибо в чувственном созерцании может свое осуществление найти лишь такая интенция, которая направляется на отдельный, конкретный предмет. Интенция же, присущая актам отвлеченного сознания, может воспользоваться чувственным созерцанием едва лишь, как случайной базой своего совершения, или как отдаленной иллюстрацией. Так, например, понятие бытия не может быть реализовано актами обыкновенного восприятия, ибо бытие как таковое не есть что-либо реальное и не является даже реальным предикатом. В равной мере – и сознание тожества. Между тем, более или менее адекватное познание таких отвлеченных предметов (предметов «высшего порядка») не подлежит никакому сомнению. Это подтверждается самым простым чувственным восприятием, в котором не трудно обнаружить общие, категориального характера моменты. К тому же подтверждением служит отвлеченное познание хотя бы целого ряда математических областей, не имеющих даже и самого отдаленного соприкосновения со сферой чувственного восприятия. В учении, например, о множествах математикой достигается, несомненно, адекватнейшее познание. И, тем не менее, «данность» предмета здесь явственно отграничена от чувственности и совершенно лишена присущих этой последней характеров. Таким образом, необходимо признать наличность общего, родового, идеального или категориального созерцания, осуществляющего «данность» чисто категориальных и идеальных предметов288. При этом самым трудным вопросом относительно такого созерцания является вопрос о «представителе» интенции, который должен быть выявлен созерцанием и более или менее отожествлен с категориальным предметом интенции; ибо, подобно всему категориальному акту познания, он имеет вторичную природу, является так или иначе обоснованным на созерцании чувственного характера и должен быть выэлиминирован из общего комплекса чувственного «представительства»289. Существенным свойством этого категориального «представителя» (т. е. носителя полноты осуществления категориальной интенции) является то, что «при всей изменчивости обосновывающих актов… представительствующее содержание для каждого вида обоснованных актов бывает единственно»290, соответствуя тем единственности представляемого им и благодаря этому созерцательно осознаваемого категориального предмета, чему примером может служить любая логическая форма. Вполне понятно, потому, что не в сфере «внешней» чувственности следует искать «категориальных представителей», а лишь в сфере вторичной («внешнюю» чувственность предполагающей) «внутренней» чувственности, в сфере «рефлективных содержаний»291. «Психическая связь, которая переживается в актуальном (т. е. подлинном, интуитивном) отожествлении или соединении и т. п., может быть, как нам кажется, сведена путем сравнительного рассмотрения к некоторой всесторонней общности, которую нужно мыслить отдельно от качества и смысла (материи) познания, и которая при таком сведении являет в своем лице представителя, специально присущего моменту категориальной формы»292. Например, «представителем» объективного тожества является отвлеченный от отдельных актов отожествления и по своей сущности единственный психический момент отожествления293.
5. Все предметы чистой логики, как это было выше установлено, отличаются подлинно идеальным, сверхчувственным характером: они суть «чисто-логические предметы», категории или формы, законы взаимоотношений между категориями и формами и теории, вырастающие из них на основании этих законов. Вполне понятно, что чувственная абстракция не в состоянии познавательно овладеть ими. Для этого необходима сверхчувственная, идеирующая или категориальная абстракция, постигающая свой предмет не как искусственно выделяемую реальную «часть» реального же предмета, а как целый, совершенно своеобразный по своей природе совершенно чуждый всякой реальности предмет: как «идеальное бытие». Такой идеирующей абстракцией и является сверхчувственное, идеальное созерцание, представляющее собою не что иное, как осуществление «подлинного мышления» или познания всего сверхчувственного294. – «Категориальные созерцания функционируют в теоретическом мышлении, как действительные или возможные осуществления или (отрешения) интенций, и сообщают утверждениям сообразно своим функциям логическое значение истины (либо лжи)»295. Значит, «способность постигать, идеируя в отдельном общее, в эмпирическом представлении понятие и овладевать в повторном представливании тожеством интенции понятия является предпосылкой возможности познания и мышления»296.
Послесловие
Если беспристрастно взглянуть на все то, что уже до сих пор сделано Гуссерлем, и поставить его достижения в непосредственную связь со всем как ближайшим, так и далеким прошлым философии, то нельзя будет не признать того, что им сделано дело великой важности. Помимо отмеченного уже в начале краеугольного значения его антипсихологистической пропаганды, заставляющего видеть в его лице, если и не основополагателя, то, во всяком случае, несомненного вожака надвигающейся, по-видимому, новой эпохи философского мышления, – чрезвычайно важны два положительных результата его «логических исследований». Во-первых, утверждение, что логическое имеет такую же бытийную сущность, как и обыкновенные предметы, являя собою только не реальную предметность, а идеальную, не реальное бытие, а идеальное. Во-вторых, бесповоротное установление того, что познание не сводится на рассудочное мышление и чувственное созерцание, и что самая существенная роль в нем, как познании, принадлежит сверхчувственному созерцанию. Этим, с одной стороны, чисто гносеологически (критически) обоснована действительная наличность особой сферы бытия той самой сферы, обоснование которой до сих пор обычно велось в терминах спиритуализма, апеллирующего к непосредственным показаниям внутреннего чувства и облекающего содержимое этой сферы в догматические одежды понятий метафизической психологии. С другой стороны, этим дано, наконец, исчерпывающее психологическое доказательство действительной наличности того акта, который был полагаем в основание философского познания всеми великими представителями положительного философского творчества и с особой энергией был выдвинут немецким идеализмом, а именно, акта «интеллектуальной интуиции». Но только в то время, как до сих пор этот акт был лишь догматически утверждаем в своей необходимости, у Гуссерля ему дано обстоятельное и критически-обставленное конкретное описание.
Однако же, несмотря на всю принципиальную важность этих достижений, философская работа Гуссерля далеко не свободна от недостатков, обладающих не менее принципиальным значением. – И, прежде всего, обоснование чистой логики совершенно не удовлетворяет требование полного антипсихологизма, ибо феноменологическое исследование, как его характеризует Гуссерль, есть в конечном счете, все же, особенное психологическое исследование: его подлинным предметом является непосредственное переживание, т. е. психическое в его первичной данности. Сообразно этому, все старания Гуссерля освободить феноменологию от современной, «натурализованной» психологии (психофизики) и отграничить от возможной в будущем на ее базе «генетической» психологии сводятся к тому, чтобы установить, наконец, независимую от наук о внешнем мире, первичную (originäre) науку о психическом297. Для этого именно и введены им понятия «чистого сознания», «сущностного созерцания» и пр. Они совсем не так чужды старому понятию «внутреннего восприятия», как это кажется Гуссерлю. Наоборот, они-то и выявляют его непосредственный, от натурализма освобожденный смысл: смысл такого познания, в котором познание и познаваемое слагаются в едином переживании. Феноменология Гуссерля хочет быть не чем иным, как «чистой» психологией сознания. Но, ведь, и чистая психология есть тоже психология, – на каковое утверждение Гуссерль дает сам право своим аналогичным утверждением: «трансцендентальная психология есть тоже психология»298. Ведь, и чистая психология посвящает свои силы своеобразному, от физических феноменов существенно отличному, но благодаря этому своей несомненной реальной наличности нисколько не теряющему феномену чисто-психологического переживания. Но в таком случае предварение чистой логики феноменологией не означает ли собою предварения чисто-логического чисто-психическим? И не есть ли это возвращение к психологизму? Тому, что это действительно так, приходится, к сожалению, поверить, слыша из уст Гуссерля следующую фразу: «выступивший со времени Локка на авансцену психологизм был, собственно говоря, лишь затемненной формой, из которой должна была выработаться единственно правильная философская тенденция, направленная на феноменологическое обоснование философии»299. При таком обосновании и философии «можно будет, полагает Гуссерль, снова согласиться с тем, «что психология находится к философии в близком, даже в ближайшем отношении»300. Sic transit gloria mundi!
Далее, обоснование чистой логики на феноменологии совершенно не удовлетворяет требованию ее непредвзятости и беспредпосылочности. II это так прежде всего потому, что, как сказано, такое обоснование знаменует собою насаждение своеобразного психологизма. Но есть и еще две важных причины, содействующих этому. Во-первых, феноменология отнюдь не является чистым описанием, как того хочется Гуссерлю. Чистое описание вообще, nonsens, ибо всякий акт познания, по словам самого Гуссерля, имеет определенную тенденцию (интенцию) и заключает в себе, стало быть, категориальные формы. Так что чисто описательный акт, если бы даже такой вообще был возможен, своим чисто описательным характером реализовал бы, собственно говоря, уже некоторую предвзятость тенденции и тем обнаруживал свою неописательную в действительности природу. Чистое описание может быть рассматриваемо лишь как один из видов теории, или как несовершенное состояние теории. Феноменология Гуссерля стоит под целым рядом определенных категорий психического бытия, оперирует определенным методом образования понятий и представляет собою примерную теоретическую науку. Кроме того, она предполагает еще наличность психического бытия как такового. Обосновывать логику на такой дисциплине, значит предпосылать ей весьма сложный аппарат теоретических положений. – Во-вторых, феноменологическое исследование Гуссерля имеет еще одну предпосылку чисто-внешнего характера: оно, таким образом, заранее направлено, чтобы послужить выявление чисто-логических значимостей, чтобы «уяснить идею познания со стороны его конституивных элементов или законов»301. Между тем это – та самая предвзятость, за которую Гуссерль вполне справедливо обвинил эмпириокритицизм в ΰστερον πρότερον. Он только позабыл об одном, – о том, что и к самому себе нужно предъявлять те же самые требования!
Далее, феноменологическое обоснование чистой логики наталкивается на две следующих фундаментальных трудности. Во-первых, как может исследование психического путем беспристрастного анализа его состава придти к выявлению чего-либо чисто логического? Для этого необходимо, с одной стороны, чтобы феноменологический метод характеризовался не одной только устремленностью на свой непосредственный предмет, чтобы образование феноменологических понятий не было тщательно приурочено к психическим переживаниям, но чтобы психологическое исследование с самого же начала было как-либо смешано с логическим исследованием. С другой стороны, для этого нужна наличность какой-либо связи между психическим и логическим (хотя бы связи сосуществования в одном и том же феноменологическом комплексе). Между тем оба эти условия нарушают независимую природу чисто-логического, так как всякая связь предполагает в связуемых ею звеньях наличность хотя бы некоторой (в каком-либо смысле действительной) однородности, и всякое методическое смешение есть нарушение логической чистоты понятий. Для того, чтобы феноменологический анализ мог в сфере психического переживания открыть момент чисто-логического, у этого последнего должна быть отнята та исключительная природа его, которою его наделяет с такой энергией сам Гуссерль. И так часто практикуемая нынче попытка победить это затруднение при помощи учения о двух точках зрения (психологической и логической) на одно и то же изначальное переживание не может принести никакой пользы, будучи раз и навсегда отвергнута самим Гуссерлем на примере Зигварта: логический закон ни в каком отношении и ни с какой стороны не подлежит ведению анализа психики, ни в каком отношении и ни с какой стороны не может стать ни на минуту чем-либо психическим302. – Во-вторых, как установить действительную внутреннюю сосуществуемость в феномене интенции интендирующего акта, его интенционального смысла и интендированного им через этот смысл предмета, т. е. ту внутреннюю связность этих элементов, которая является основою всего учения Гуссерля о познании? Ведь сам же он утверждает следующее: «когда воспринимается внешний предмет (дом), то наличные в этом восприятии ощущения не воспринимаются, а переживаются… Если же, затем, мы обратим свое внимание на эти содержания (т. е. ощущения)… и возьмем их просто так, как они суть, то, разумеется, мы их воспримем, но не воспримем при этом чрез их посредство внешнего предмета»303. Это значит, что в первом случае мы знаем лишь о наличности предмета, а во втором – лишь о наличности переживания (акта восприятия); это значит, что в первом случае мы ничего не знаем о переживании, а во втором – ничего не знаем о предмете. Как же убедиться в том, что оба эти элемента связаны между собою необходимою внутренней сосуществуемостью? Говорят: путем непосредственного переживания. Но такое переживание либо есть, в свою очередь, некоторое знание и может быть обращено в данном случае или на внешний предмет, или на переживание восприятия, и тогда апелляция к переживанию будет означать собою progressus in infinitum. Либо переживание будет выдвинуто как некоторая конечная инстанция, о пояснении которой и нельзя и грешно спрашивать. В таком случае самый важный и существенный пункт останется неосвещенным и в основание всего учения о познании будет положено понятие с совершенно темным содержанием или, вернее, будет положено несколько замаскированное сознание в собственном незнании и даже более того, – в полной неспособности ясного уразумения. А это – крушение всякого исследования, ибо «где в нашем мышлении обнаруживается нерешенная загадка, там нами допущена ошибка»304. – Не является ли, таким образом, Гуссерлевская теория интенционализма совершенно произвольной, а его учение о познании, опирающееся всецело на эту теорию, совершенно несостоятельным?
Наконец, нельзя не отметить и еще одного фундаментального недостатка концепции Гуссерля, на этот раз касающегося непосредственно чистой логики. Эта последняя сближается с математикой, и дело доходит даже до утверждения, будто в своем учении о множествах математика выполнила уже отчасти работу, предстоящую чистой логике. Вместе с тем чистая логика объявляется логикой формальной, всякое содержание из нее беспощадно удаляется, а современным логикам ставится в вину то, что они недостаточно внимательны к традиционной чисто-формальной логике и слишком презрительно относятся к современным попыткам ее обновления. – Делая подобные утверждения, Гуссерль, несомненно, противоречит своим же собственным представлениям. Ибо, во-первых, чистая логика есть наука о науке вообще: вся математика, включая самые общие ее отделы, представляет, потому, для логика лишь предмет исследования или материал для обработки. Учение о множествах представляет собою специально-математическую теорию и по существу своему не может дать теории больше, чем любая другая (уже сложившаяся) специально-научная теория. Что касается до формальной логики, то либо она целиком разрешается в отдел теории знания, как то показано еще Гегелем и окончательно утверждено Зигвартом и Шуппе, либо она принимает «количественный» характер и становится одною (хотя и чрезвычайно общею) из специально-математических дисциплин, как и обстоит дело в настоящий момент с так называемой, «логистикой». Если Гуссерль, тем не менее, выступаете сторонником крайнего формализма, а в известном смысле даже и математизма, в логике, то причина тому лежит в том, что он переносит все содержание теории познания, только и способной в действительности быть наукой о науке и дать подлинную теорию теории, в сферу своей феноменологии, т. е. в сферу осуществления вышеупомянутого психологизма « чистой психологии». – Во-вторых, чистая логика есть, по словам самого Гуссерля, наука об «идеальном бытии». Как и всякое бытие, идеальное быте имеет свое «содержание» и не ограничивается одною лишь формальной стороной: идеальный предмет есть тоже предмет и имеет свою специальную предметную физиономию. Соответственно этому он не только мысленно «мнится», но, как то показано раз навсегда самим Гуссерлем, дан в сверхчувственном созерцании. Другими словами, он есть нечто большее, чем «голая» форма, он есть некоторая «осуществленность», некоторая «заполненность», своеобразная идеальная «вещь». И чистая логика обязана столько же иметь в виду эту идеально-материальную сторону своего предмета, сколько и его узко-формальный аспект. В этом отношении Гегель давно уже утвердил в лице своей «Логики» норму для всякого логического исследования: истинная логика должна быть логикой (а потому и онтологией) всего бытия.
1
В. Шуппе родился в 1830 г., был профессором в Грейфсвальде. Список его сочинений приложен в конце статьи.
(обратно)2
Schuppe, Grundriss der Erkenntnisstheorie und Logik, стр. 3.
(обратно)3
Там же, стр. 7.
(обратно)4
Schuppe, Erkenntnistheoretische Logik, стр. 26.
(обратно)5
Grundr., стр. 4.
(обратно)6
Erk. Log., стр. 15—19.
(обратно)7
Там же, стр. 28.
(обратно)8
Там же, стр. 30.
(обратно)9
Там же, стр. 52.
(обратно)10
Там же стр. 65.
(обратно)11
Там же стр. 56, 62; Grundr., стр. 15.
(обратно)12
Erk. Log., стр. 65.
(обратно)13
Там же, стр. 69.
(обратно)14
Gr., стр. 24; Erk. Log. 70—76.
(обратно)15
Erk. Log., стр. 89.
(обратно)16
Там же, 72; Gr., 18.
(обратно)17
Gr., 140.
(обратно)18
Gr., 19, 24.
(обратно)19
Erk. Log., стр. 94.
(обратно)20
Gr., 23; Erk. Log., 69.
(обратно)21
Erk. Log., 60—68; Gr. 23 стр.
(обратно)22
Gr., 18, 25, 27.
(обратно)23
Schuppe, Begriff und Grenzen der Psychologie. Zeitschrift für imm. Philosophie, I, 1896, стр. 46. В переводе на русский язык эта статья Шуппе помещена в IV сборнике «Новых идей в философии». цитата со стр. 13.
(обратно)24
Там же, стр. 48; по-русски, IV сб. «Новых идей в философии», стр. 14.
(обратно)25
Gr. 30; Erk. Log., 77 с.
(обратно)26
Gr., 31, 30.
(обратно)27
Gr., 32.
(обратно)28
Gr., 32.
(обратно)29
Gr., 34.
(обратно)30
Schuppe, «Das metaphysische Motiv».
(обратно)31
Schuppe, Begr. und Grenzen der Psychologie, Zeitschr. f. imm. Ph., I, 1896, стр. 37—76; по-русски, IV сб. «Новых идей в философии», стр. 1—49.
(обратно)32
Там же стр. 70; в IV сб. «Новых идей в философии», стр. 42 сл.
(обратно)33
Erk. Log., стр. 68.
(обратно)34
Schuppe, Die Bestätigung des naiven Realismus, Vierteljahrsschr. für wiss. Philos., 17, 1893.
(обратно)35
Gr. 34.
(обратно)36
Erk. Log. 91 с; Gr. 37 с.
(обратно)37
Gr. 40.
(обратно)38
Gr. 39 с; Erk. Log. 91 с.
(обратно)39
Gr. 45.
(обратно)40
Gr. 35, 38.
(обратно)41
Erk. Log. 91 с.
(обратно)42
Там же 92.
(обратно)43
Gr. 35.
(обратно)44
Gr. 36.
(обратно)45
Erk. Log. стр. 98.
(обратно)46
Erk. Log. 124 с; Gr. 38.
(обратно)47
Gr. 48—50.
(обратно)48
Gr. 50.
(обратно)49
Erk. Log. 95.
(обратно)50
Там же 148.
(обратно)51
Erk. Log. 158.
(обратно)52
Gr. 37.
(обратно)53
Erk. Log. 161.
(обратно)54
Gr. 64; Erk. Log. 197.
(обратно)55
Gr. 64; Erk. Log. 194—200.
(обратно)56
Erk. Log. 199 с.
(обратно)57
Erk. Log. 200; Gr. 65.
(обратно)58
Erk. Log. 207 с.
(обратно)59
Там же 221.
(обратно)60
Там же 199, 206.
(обратно)61
Там же, 185.
(обратно)62
Там же, 201—203.
(обратно)63
Там же, 185.
(обратно)64
Gr. 53 с.; Erk. Log. 250 с; 311.
(обратно)65
Gr. 63, 75; Erk. Log. 186? 242—252.
(обратно)66
Erk. Log. 252.
(обратно)67
Erk. Log. 242.
(обратно)68
Erk. Log. 251; Gr. 75.
(обратно)69
Erk. Log. 244.
(обратно)70
Gr. 79 с.
(обратно)71
Erk. Log. 169.
(обратно)72
Там же 166.
(обратно)73
Erk. Log. 173—175; Gr. 85—89.
(обратно)74
Gr. 60.
(обратно)75
Erk. Log. 188.
(обратно)76
Erk. Log. 171, 325.
(обратно)77
Erk. Log. 324; Gr. 58.
(обратно)78
Erk. Log. 181 с; Gr. 90—93.
(обратно)79
Erk. Log. 182.
(обратно)80
Gr. 91; Erk. Log. 204.
(обратно)81
Gr. 91.
(обратно)82
Gr. 91.
(обратно)83
Erk. Log. 564—576; Gr. 146—148.
(обратно)84
Erk. Log. 181.
(обратно)85
Erk. Log. 559.
(обратно)86
Gr. 148– 154; Erk. Log. 581.
(обратно)87
Gr. 79.
(обратно)88
Begriff und Grenzen der Psychologie, Zeitschr. für imm. Ph. 1896, I, 4, стр. 42, в IV сб. «Новых идей в философии», стр. 7. Gr. 80; Grundzüge der Ethik und Rechtsphilosophie, 211.
(обратно)89
Gr. 92; Gr. der Ethik, 210.
(обратно)90
Gr. 91.
(обратно)91
Erk. Log. 204 с.
(обратно)92
Там же, 169, 608.
(обратно)93
Там же, 322.
(обратно)94
Gr. 19, 27; Begr. und Gr. der Psych., 46 с.; Gr. der Ethik, 136.
(обратно)95
Schuppе, Das metaphysische Motiv.
(обратно)96
Gr. 169.
(обратно)97
Erk. Log. 177.
(обратно)98
Gr. 169; Erk. Log. 650.
(обратно)99
Gr. 170; Erk. Log. 651.
(обратно)100
Gr. 171.
(обратно)101
Schuppe, Was sind Ideen? Zeitschrift für Philos. und philos. Kritik, 1883, 82 том.
(обратно)102
Erk. Log. 670 c; Gr. 170 c, 172—174.
(обратно)103
Список не полон, пропущены главным образом некоторые сочинения Шуппе по юриспруденции.
(обратно)104
Русский перевод в изд. «Образование». Прим. ред.
(обратно)105
См. кн. С.Н. Трубецкой. Собр. соч. т. II, стр. 186.
(обратно)106
См. Gioberti: Introduzione allo studio della filosofia II (1846) p. 61 ss., 121 ss.; cp. также. Della protologia I (1861) p. 44 ss.
(обратно)107
См. Bolzano: Wissenschaftslehre (1837); особенное значение имеют: I s. 69—428, II s. 3—91, 327—390, III s. 5—292. IV s. 647 ff.
(обратно)108
Несмотря на это, довольно странное впечатление производит полное умолчание Гуссерля о Шуппе. С одной стороны, этот последний в своих статьях: «Begriff und Grenzen der Psychologie» и «Das System der Wissenschaften und das des Seienden» (в Zeitschrift für immanente Philosophie I (1895) s. 37 ff. и III (1898) s. 71 ff.) высказал едва ли не столь же энергичное требование отграничения от психологии учения о знании и бытии, не формулировав только этого в терминах антипсихологизма. С другой стороны, уже в своей замечательной «Erkenntnisstheoretische Logik» (1878 см. особенно s. 554-700) Шуппе старался чутьем критического описания и анализа познания подготовить основание для чисто онтологического учения о сущем, по своим аспирациям совершенно совпадающего с чистой логикой значимостей Гуссерля. Равным образом, этим последним слишком мимоходно упомянуто имя Фреге (ср. Log. Unters. I s. 169 Anm.), который уже в предисловии к первому тому своих «Grundgesetze der Arithmetik» (1893 s. V-XXVI) с чрезвычайной ясностью высказался о сущности чистой логики.
При изложении взглядов Гуссерля данный очерк не будет иметь в виду работ Гуссерля, относящихся к психологистическому периоду его мышления и развивающих точку зрения, оставленную ее автором. Изложение будет опираться, стало быть, на «Logische Untersuchungen» (I (1900), II (1901) – есть русский перевод 1-го тома. (Изд. «Образование». Спб. 1909) – и статью в Логосе (1911 кн. I) «Философия как строгая наука».
Литература о Гуссерле невелика: см. Schuppe: Zum Psychologismus und zum Normcharakter der Logik, в Archiv f. system. Philosophie (1901) Bd. VII S. 1-22; Natorp: Zur Frage nach der logischen Methode в Kantstudien. Bd. VI (1901); Heim: Psychologismus oder Antipsychologismus? (1901); Palágyi: Kant und Bolzano (1902) и Die Logik auf dem Scheidewege (1903); Ierusalem: Der kritische Idealismus und die reine Logik (1905); Ssalagoff: Vom Begriff des Geltens in der modernen Logik в Zeitschrift f. Philosophie u. philos. Kritik (1910); Delbos: Husserl (Sa critique du Psychologisme et sa concertion d'une Logique pure) в Revue de Metaphysique et deM orale (1911 45). В русской литературе можно указать только следующее: Ланц: «Гуссерль и психологисты наших дней» в «Вопросах философии и психологии» кн. 98 (1909); В. Яковенко: «О современном состоянии немецкой философии» в «Логосе» (1910 кн. 1-ая), Берман: Сущность прагматизма (1911) стр. 173 и сл.; Лосский. «Теория познания и проблема происхождения познания» в «Вопросах фил. и псих.» кн. 109 (1911).
(обратно)109
См. Husserl: Logische Untersuchungen I (1900) s. 7.
(обратно)110
J. S. Mill: An Examination of Sir William Hamilton's Philosophy
(обратно)111
Lipps: Grundsätze der Logik (1893, neu abgedr. 1912) s. 2.
(обратно)112
Heymans: Die Gezetze und Elemente des wissenschaftlichen Denkens
(обратно)113
Höfler und Meinong: Logik (1890) s. 16 ff.
(обратно)114
Ср. напр. Sigwart: Logik3 (1903) I s. 10—22.
(обратно)115
См. Husserl: Logische Untersuchungen I s. 66 ff., 119, 128 ff., 142, 150 f., 174 f., 178 f., 188 ff.; II (1901) s. '1' 5. 94. 100 f., 463 ff.
(обратно)116
Ibid I s. 62 ff., 69 ff., 128 f., 180—191.
(обратно)117
Ibid. s. 117 ff., 128 ff., 142 f.. 190, 230 ff.
(обратно)118
Ibid. s. 128.
(обратно)119
Ibid. s. 131.
(обратно)120
Ibid. s. 129 f.
(обратно)121
Ibid. s. 167—180.
(обратно)122
Дж. Ст. Милль: «Система логики» (перев. Ивановского) стр. 221 и сл.
(обратно)123
Husserl: ibid. s. 78—92, 138—149.
(обратно)124
Ibid. s. 102—109.
(обратно)125
Ibid. s. 92—101. – Ср. к этому Sigwart: Logik
(обратно)126
Husserl: ibid. s. 158 f.
(обратно)127
Ibid. s. 149.
(обратно)128
Ibid. s. 164 f.
(обратно)129
Ibid. s. 123 f., 88 f., 100 f.
(обратно)130
Ibid. II s. 669.
(обратно)131
Ibid. 1 s. 93.
(обратно)132
Ibid. s. 173—174.
(обратно)133
Ibid. s. 205.
(обратно)134
Ibid. s. 206.
(обратно)135
Ibid. s. 204.
(обратно)136
Ibid. s. 159, ст. также 206.
(обратно)137
Ibid. s. 163 f.
(обратно)138
Ibid. s. 158.
(обратно)139
Ibid. s. 189, ср. также 180 ff.
(обратно)140
Ibid. s. 62.
(обратно)141
Ibid. s. 63.
(обратно)142
Ibid. s. 185.
(обратно)143
Ibid. s. 183.
(обратно)144
Ibid. s. 190.
(обратно)145
Ibid.
(обратно)146
Ibid.
(обратно)147
Ibid. s. 77.
(обратно)148
Ibid. s. 86, 115 ff., 166 f.; ср. также s. 58.
(обратно)149
Ibid. s. 208.
(обратно)150
Ibid. s. 209.
(обратно)151
Ibid. s. 110 ff., 117 ff.
(обратно)152
Ibid. s. 115 f.
(обратно)153
Ibid. s. 117 f.
(обратно)154
Ibid. s. 119.
(обратно)155
Ibid. s. 119—120.
(обратно)156
Ibid. s. 121.
(обратно)157
Ibid. s. 136—154 и 125—136. Ответ Зигварта Гуссерлю см. Sigwart: Logik3 I s. 23 f. Anm. Ответ ему Эрдманна см. В. Erdmann: Logik2 (1907) s. 532 f. Anm. Особенно характерен и беден ответ Эрдманна. Он сводится к утверждению, что будущие поколения решат, кто из них прав, и кто находится в заблуждении.
(обратно)158
Ibid. s. 47—48.
(обратно)159
Husserl. Ibid. s. 213—227.
(обратно)160
Ibid. s. 25, 243, 228, 237 ff.
(обратно)161
Ibid. s. 231—237.
(обратно)162
Ibid. s. 235—236.
(обратно)163
Ibid. s. 238.
(обратно)164
Ibid. s. 239.
(обратно)165
Ibid. s. 240.
(обратно)166
Ibid. s. 241.
(обратно)167
Ibid.
(обратно)168
Ibid. s. 241—242.
(обратно)169
Ibid. s. 242.
(обратно)170
Ibid. s. 243.
(обратно)171
Ibid. II s. 95.
(обратно)172
Ibid. I. s. 243—245.
(обратно)173
Ibid. s. 245.
(обратно)174
Ibid. s. 246.
(обратно)175
Ibid.
(обратно)176
Ibid. s. 247.
(обратно)177
Ibid. s. 248.
(обратно)178
Ibid. s. 249.
(обратно)179
Ibid. s. 252. ff.
(обратно)180
Ibid. s. 254.
(обратно)181
Ibid. s. 257.
(обратно)182
Ibid. II, s. 5.
(обратно)183
Ibid. I. s. 245.
(обратно)184
Ibid. II, s. 8.
(обратно)185
Ibid. s. 4 f., 16, 18, 20 f., ср. I s. 212 Anm.
(обратно)186
Ibid. II, s. 144.
(обратно)187
См. Гуссерль: «Философия как строгая наука». («Логос» 1911, кн. 1), стр. 14.
(обратно)188
Ibid. стр. 27.
(обратно)189
Husserl: Log. Untersuchungen II s. 19.
(обратно)190
Ibid. s. 20.
(обратно)191
Ibid. s. 21; ср. s. 144 f., 336 ff.
(обратно)192
Ibid. s. 4, 18, 144 f.
(обратно)193
Гуссерль: «Философия…» и т. д. стр. 9—27, 33 и сл.
(обратно)194
Ibid. стр. 26.
(обратно)195
Ibid. стр. 25.
(обратно)196
Ibid. стр. 26.
(обратно)197
Ibid. стр. 28 и сл.
(обратно)198
Ibid. стр. 32.
(обратно)199
Ibid. стр. 28, 33—36.
(обратно)200
Ibid. стр. 42.
(обратно)201
Ibid. стр. 14, 28 и сл.
(обратно)202
Ibid. стр. 36—56.
(обратно)203
Ibid. стр. 56.
(обратно)204
L. Unt. II s. 107.
(обратно)205
Ibid. s. 37 —52, 97—105; ср. 480 ff.
(обратно)206
Ibid. s. 92 ff.
(обратно)207
Ibid. s. 97.
(обратно)208
Ibid. s. 100 – 101.
(обратно)209
Ibid. s. 101.
(обратно)210
Ibid. s. 102 – 104.
(обратно)211
Ibid. s. 108 – 120.
(обратно)212
Ibid. s. 113.
(обратно)213
Ibid. s. 145.
(обратно)214
Ibid. 144.
(обратно)215
Ibid. s. 146 ff., 163.
(обратно)216
Ibid. s. 125—149.
(обратно)217
Ibid. s. 160.
(обратно)218
Ibid. s. 184.
(обратно)219
Ibid. s. 155.
(обратно)220
Ibid. s. 156.
(обратно)221
Ibid. s. 165– 183.
(обратно)222
Ibid. s. 172.
(обратно)223
Ibid. s. 181.
(обратно)224
Ibid. s. 191 ff.
(обратно)225
Ibid. s. 196.
(обратно)226
Ibid. s. 198.
(обратно)227
Ibid. s. 201 ff.
(обратно)228
Ibid. s. 203.
(обратно)229
Ibid. s. 205– 213.
(обратно)230
Ibid. s. 164—165.
(обратно)231
Ibid. s. 167.
(обратно)232
Ibid. s. 130 ff., 162 ff., 164 ff., 170 ff.
(обратно)233
Ibid. s. 214 – 222.
(обратно)234
Ibid. s. 221; см. также 103, 392, 577, 634, 641, 655, 661, 673, s. 100 f., 129; «Философия» … и т. д. стр. 29.
(обратно)235
Husserl: II s. 600—636.
(обратно)236
Ibid. s. 634.
(обратно)237
Ibid. s. 103, 641; I s. 128 f.
(обратно)238
Ibid. s. 326– 332.
(обратно)239
Ibid. s. 332 —336.
(обратно)240
Ibid. s. 340 ff.
(обратно)241
Ibid. s. 331.
(обратно)242
Ibid.
(обратно)243
Ibid. s. 330.
(обратно)244
Ibid. s. 332.
(обратно)245
Ibid. s. 339, 342.
(обратно)246
Fr. Brentano: Psychologie vom empirischen Standpunkte I (1874) s. 115.
(обратно)247
Husserl: ibid. s. 342 ff., 357 ff.
(обратно)248
Ibid. s. 345.
(обратно)249
Ibid. s. 352.
(обратно)250
Ibid. s. 352—354.
(обратно)251
Ibid. s. 355 f.; ср. s. 329 ff. 336, 342.
(обратно)252
Ibid. s. 356.
(обратно)253
Ibid.
(обратно)254
Ibid. s. 358.
(обратно)255
Ibid. s. 359 Anm.
(обратно)256
Ibid. s. 330.
(обратно)257
Ibid. s. 714 Anm. ср. 707.
(обратно)258
Ibid. s. 327, 529, 706 ff.
(обратно)259
Ibid. s. 370 ff.
(обратно)260
Ibid. s. 365—374, 418 ff.
(обратно)261
«Философия»… и т. д. стр. 14 и сл., 28, 32, 34 и сл., 42, 56.
(обратно)262
Husserl: II s. 374 – 378.
(обратно)263
Ibid. s. 378 ff.
(обратно)264
Ibid. s. 381 ff.
(обратно)265
Ibid. s. 390, ср. 386—391.
(обратно)266
Ibid. p. 391—396.
(обратно)267
Ср., напр., Brentano: Psychologie s. 111.
(обратно)268
Husserl: II s. 425.
(обратно)269
Ibid. s. 425 ff.
(обратно)270
Ibid. s. 447 —463; ср. 429 ff.
(обратно)271
Ibid. s. 459; op. 462 f.
(обратно)272
Ibid. s. 480 —520.
(обратно)273
Ibid. s. 506 f., 513—520, 523 f., 536 f., 594 f.
(обратно)274
Ibid. s. 507, 594.
(обратно)275
Ibid. s. 495 ff.
(обратно)276
Ibid. s. 504 ff.
(обратно)277
Ibid. s. 513—520, 536—558.
(обратно)278
Ibid. s. 544 ff., – 550 ff., 560 f.
(обратно)279
Ibid. s. 547 ff., 550 ff., 558 f.
(обратно)280
Ibid. s. 579.
(обратно)281
Ibid. s. 562.
(обратно)282
Ibid. s. 564 f.
(обратно)283
Ibid. s. 568 f.
(обратно)284
Ibid. s. 523 f., 528 ff., 536 ff., 551 ff., 569 ff., 588 ff.
(обратно)285
Ibid. s. 590.
(обратно)286
Ibid. s. 594.
(обратно)287
Ibid. s. 593 f.
(обратно)288
Ibid. s. 600—636, 654—663.
(обратно)289
Ibid. s. 639 ff.
(обратно)290
Ibid. s. 642.
(обратно)291
Ibid. s. 644 ff., 651 f.
(обратно)292
Ibid s. 645.
(обратно)293
Ibid s. 650—651.
(обратно)294
Ibid. s. 653—675; ср. 577 f. I s. 128 ff. 190 f.
(обратно)295
Ibid. II s. 663.
(обратно)296
Ibid. I s. 101.
(обратно)297
Гуссерль: «Философия…» и т. д., стр. 16.
(обратно)298
Husserl: L. U. I. s. 93.
(обратно)299
Гуссерль: «Философия…» и т. д., стр. 36.
(обратно)300
Ibid. стр. 35; ср. стр. 15.
(обратно)301
Husserl: L. U. II, s. 21.
(обратно)302
Ср., напр., Rickert: Gegenstand der Erkenntniss
(обратно)303
Husserl: L. U. II. s. 709.
(обратно)304
Schuppe: Erkenntnisstheoretische Logik (1878) s. 670.
(обратно)


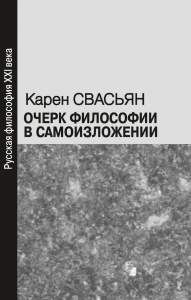
Комментарии к книге «Новые идеи в философии. Сборник номер 3», Коллектив авторов
Всего 0 комментариев