Виктор Молчанов Исследования по феноменологии сознания
ОПЫТ И КОММУНИКАЦИЯ. ОТ ИЗОЛЯЦИИ К РАЗНООБРАЗИЮ СООБЩЕСТВ (вместо предисловия)
Продумывать мысли других, чтобы их усваивать, и свои, чтобы их отчуждать – это предполагает сообщество и даже многообразие сообществ, составляющих, так сказать, внешнее Apriori «одинокой душевной жизни», а, проще говоря, фактически предшествующих ей. Последняя, однако, имеет автономию, свое внутреннее Apriori, свои границы и свой собственный опыт, который, в свою очередь, может стать парадигмой для новых сообществ. Палитра опыта, несомненно, бледнеет в сфере суждений, но на гомогенном фоне логоса опять могут проявиться различия опыта.
Сообщества, как известно, не вечны, и, понимая феноменологию как способ мышления, Хайдеггер отмечал, что ее время как школы прошло. Однако феноменологический способ мышления реализовался и реализуется до сих пор в самых различных сообществах и школах.
Мышление и сообщество не поддаются взаимной редукции, эта несводимость принимает конкретные формы опыта, изменяющиеся в зависимости от исследовательских и педагогических задач, с одной стороны, и принадлежности к различным философским и нефилософским сообществам – с другой. Различие и колебание между одиночеством мысли и чувства и коммуникацией суждений – одно из основных различий, характеризующих не только философскую и научную, но и человеческую жизнь вообще.
История феноменологической философии и феноменологических сообществ в России не так, конечно, богата событиями, как история европейской или даже американской феноменологии. Пока это только эпизоды интерсубъективности, некоторые из которых стали фактами моей биографии. Само собой разумеется, что первые влияния и мои первые философские сообщества не могли быть в 60-е годы феноменологическими, однако они не были и всецело догматическими, хотя «пробуждение от догматического сна», модификацией которого была моя вера в то, что после Гегеля – лишь эпигоны (исключая, конечно, марксизм) все же потребовалось. Это произошло на третьем курсе философского факультета МГУ благодаря контрасту чрезвычайной ясности постановки проблем и почти абсолютной непонятности излагаемого содержания. Такой диссонанс понятности и непонятности сыграл для меня не последнюю роль в приобретении опыта восприятия и анализа философских идей.
Его виновники со стороны ясности – Николай Федорович Овчинников и Карл Поппер, со стороны неясности – Мераб Константинович Мамардашвили и Г. В. Ф. Гегель. Η. Ф. Овчинников – мой первый учитель в философии, и общение с ним продолжается уже почти 40 лет – знакомил тогда слушателей своего спецкурса не только с современной философией науки (в частности, с философией К. Поппера, доклад которого «Эпистемология без познающего субъекта» я прочитал по-английски уже в 1969 г., т. е. почти сразу же после его опубликования в материалах Амстердамского конгресса по философии науки в 1968 г., и тогда это была невиданная быстрота распространения философских знаний!). Он учил нас отделять реальные проблемы от надуманных, вопросы – от досужего любопытства, формы знания – от идеологем. Пожалуй, это решающие различия для «ориентации в мышлении».
На спецкурсе М. К. Мамардашвили по «Феноменологии духа» Гегеля обстановка была совсем другая. Шесть-семь студентов внимали гладкой русской речи, которая воспринималась как речь на иностранном языке, еще не вполне освоенном слушателями. И все же что-то привлекало, притягивало в этой попытке разъяснять Гегеля не на гегелевском языке. Сама эта установка была вполне понятна, однако восприятие различия языков, да еще на материале гегелевской «Феноменологии», создавало ощущение предела понимания.
Разумеется, осознание и осмысление этого продуктивного контраста пришло позднее, когда я столкнулся с оппозицией понятности и непонятности у Гуссерля и Хайдеггера. Речь, конечно, не о понятности текстов – Гуссерля иной раз труднее понять, чем Хайдеггера, – но о различии изначальных установок феноменологии сознания и герменевтики фактичности. Вопрос Хайдеггера, обращенный к Гуссерлю: «Как возможна непонятность сущего?» – ставил под вопрос универсальный характер конституирования и смыслообразующих функций сознания. Истоки смысла нужно было искать не в сфере очевидности, но в смутной и усредненной повседневности. Именно повседневность должна была стать сферой беспредпосылочности. Именно здесь человеческое бытие должно было раскрыть себя, по Хайдеггеру, до всякой теории и мировоззрений. Еще до Хайдеггера аналогичные возражения Гуссерлю выдвигал Г. Шпет: смысл предмета должен быть понят из его предназначения, из его социальной функции, благодаря герменевтическим актам, а не только из эмпирической или идеальной интуиции. Аналогичная критика не замедлила явиться и после Хайдеггера: Сартр, Ингарден, Левинас, если назвать самых известных критиков. Гуссерль как бы придумал для своих учеников игру: найти неподвластные рефлексии конституенты мира и попытаться их эксплицировать. Найти оказалось легче, чем эксплицировать: понадобился полухудожественный – полуфилософский язык, претендующий на статус, равный самому бытию, спонтанности сознания, социальной реальности и т. д. Однако вещи никак не хотели «самоэксплицироваться», являться вне определенного опыта, который все-таки предполагал свою собственную дескрипцию, а не только дескрипцию вещей.
По мере освоения феноменологии это проблемное напряжение постепенно становилось одним из постоянных предметов моих размышлений. Различие между самим опытом и тем, что явлено в опыте, или тем, что показывает себя в опыте, представлялось мне все же необходимым.
Однако до размышлений о феноменологии было еще далеко. Прежде были годы учебы на старших курсах, и наша студенческая группа, объединявшая малочисленных логиков и малочисленных «философов естествознания», стала моим первым философским сообществом. При этом дело было не только в высоком интеллектуальном потенциале группы (в этом отношении с нами могла конкурировать только группа историков философии, где учился, в частности, А. Ф. Грязнов), но в разнообразии характеров и талантов.
В 1971 г., сразу же после окончания МГУ, минуя аспирантуру, я начал свою преподавательскую деятельность на кафедре философии Ростовского госуниверситета, как его принято было тогда называть. Первые 8–9 лет приходилось преподавать диалектический и исторический материализм.
Моими первыми студентами были математики, и с ними мы старательно обходили стороной, насколько это было возможно, материалистическую диалектику и другие шедевры советского марксизма, сосредоточиваясь на истории философии, методологии науки, экзистенциализме, а позже – феноменологии. Математики, как правило, – интеллектуальная элита университета, и таких хороших студентов у меня не было затем довольно долгое время.
Партийные органы полагались на самоконтроль, но я, отчасти по беспечности, не оправдывал их ожиданий. Диамат сводился у меня в основном к истории понятий; истмат я комбинировал из «Экономико-философских рукописей» Маркса, «Немецкой идеологии» и «Нового индустриального общества» Гэлбрейта, – книги, которую я с большим интересом прочитал летом 1971 г. Кроме того, такие темы, как «Философия общественного сознания», позволяли вообще забыть о «базисе и надстройке». В общем-то, я продолжал традицию нормальных людей; в МГУ нам везло в этом смысле на преподавателей. Именно на семинарских занятиях по истмату я узнал о существовании М. К. Петрова. Молодой преподаватель Дряхлов (имени и отчества, к сожалению, не помню), к которому наша студенческая группа прониклась уважением, излагал нам основы различных социологических учений, и на каждом занятии говорил: «А Петров из Ростова считает так-то и так-то».
С М. К. Петровым я познакомился только в 1975 г.; в то время он уже был лишен права преподавания, работал дома, «в стол»; и лишь с начала 90-х годов начали выходить его книги. Для меня было большой удачей иметь возможность в течение 10 лет, до моего отъезда в Москву, в докторантуру (1985), беседовать с этим ярким, глубоко образованным человеком, имевшим свое собственное видение философии и социальности. Вернувшись из Москвы в 1987 г., я уже, к моему прискорбию, не застал его в живых.
К числу людей, способствовавших формированию моих философских интересов, принадлежал и Георгий Васильевич Чефранов, преподававший философию в Таганрогском радиотехническом институте. Школьные годы я провел в Таганроге, и в последних классах мы с приятелями иногда заходили послушать его лекции в вечернем университете марксизма-ленинизма, где он увлеченно толковал слушателям, что концепции современной физики никак не согласуются с теорией отражения. Г. В. Чефранов был, пожалуй, первым на моем пути нормальным человеком, т. е. не затронутым и не деформированным ни идеологией, ни повседневной жизнью. Так сказать, остров нормы в море аномалий. После окончания университета он угадал мои дальнейшие занятия и подарил мне библиографическую редкость – первый том «Логических исследований» Гуссерля (СПб., 1909). Примерно в то же время, в силу случайных обстоятельств, в мои руки попали гуссерлевские «Лекции по феноменологии внутреннего сознания времени». Таким образом, я начал изучение Гуссерля не с «системных» «Идей I» и даже не с II тома «Логических исследований», но с феноменологии времени и критики психологизма. Это во многом определило как предмет моих многолетних штудий, так и характер моих дальнейших философских занятий в целом. Наряду с усвоением учений и воззрений меня всегда интересовала содержательная сторона, рассмотрение вопроса по существу, или, как говорят немцы, sachlich. Тема сознания времени и темпоральности сознания стала для меня основной, и к мысли о том, что время – это основа смыслообразования, я возвращался снова и снова.
В «погоне за смыслом» я штудировал Канта, Гуссерля, Хайдеггера, и формальное сходство было налицо: в схематизме чистых рассудочных понятий и схемах времени речь шла о приобретении предметного смысла, в хайдеггеровской интерпретации Канта время и чистое воображение практически отождествлялись, у Гуссерля темпоральные фазы представляли собой конститутивные фазы восприятия; абсолютный поток сознания открывал, как казалось, то, что наиболее глубокий предельный слой сознания – это временность, темпоральность. Наконец, у Хайдеггера смысл бытия должен раскрываться в горизонте времени, и «забота» – смысл бытия Dasein – истолковывалась как взаимопроникновение трех модусов времени.
Однако содержательная сторона проблемы оставалась для меня не вполне ясной. Время как посредник чувственности и рассудка у Канта, как конститутивный, но не конституируемый поток сознания у Гуссерля, как «экстасисы» у Хайдеггера, как «сеть интенциональностей» у Мерло-Понти представлялось мне двояким: как необходимое и как неуловимое, как не реализуемое в непосредственном опыте. Отсюда и возник, видимо, вопрос об опыте как опыте, а не об условиях его возможности; этот вопрос предполагал и предполагает не косвенный, но прямой, своего рода перформативный ответ. Иными словами, речь должна идти не об указаниях, из чего состоит опыт, что является его источником и т. д., но о возможности непосредственного осуществления такого опыта, который пронизывает или, если угодно, лежит в основе, всех видов опыта.
К прямому вопросу об опыте подталкивали и два существенных замечания Хайдеггера об интенциональности. На первое я натолкнулся уже при изучении упомянутых лекций Гуссерля по феноменологии времени. В предисловии редактора Хайдеггер отмечал, что интенциональность – это не пароль, который все объясняет, но основная проблема. В «Марбургских лекциях» (Пролегомены к истории понятия времени) Хайдеггер выделяет, как известно, три основных открытия феноменологии: интенциональность, Apriori и категориальное созерцание. Однако само основание интенциональности было поставлено под вопрос. Если интенциональность – существенное свойство сознания, то свойством чего она является? Позже я попытался дать прямой ответ на этот вопрос.
В первые годы работы в Ростове-на-Дону обнаружилось еще одно различие между опытом и коммуникацией. С коллегами у меня сложились в основном хорошие, с некоторыми – дружеские отношения. Мой отец, который, несомненно, оказал решающее влияние на формирование моих интеллектуальных интересов в юности, преподавал в 60-е годы философию в Ростовском мединституте; он умер в 1968 г., и мое появление в Ростове было воспринято как продолжение и восполнение. Кроме того, мне не нужно было адаптироваться к преподавательской среде, ибо я вырос в ней и ощущал ее как свою: мой дед по матери, моя мать и отчим – все были преподавателями.
Совсем иначе обстояло дело с направленностью моих научных интересов. Здесь я оказался в полной изоляции, да еще при полном отсутствии необходимых книг в ростовских библиотеках. Помогали однокурсники, работавшие в ИНИОНе, межбиблиотечный абонемент и проч. За редким исключением моя профессиональная библиотека долгие годы состояла из ксерокопий.
Первая работа, которую я представил на суд общественности, был текст доклада «К уточнению понятия априорного познания» на теоретическом семинаре в Институте повышения квалификации при РГУ, куда я был послан учиться через 3 года работы, т. е. в 1974 г. Это была моя первая попытка разобраться с различиями в понимании априоризма. Я уже не помню содержание доклада, но хорошо помню положительную оценку моих усилий со стороны руководителя семинара проф. Голованова. Для человека, находящегося в состоянии невесомости, это была существенная опора. Несколько позже такого же рода поддержку мне оказала Пиама Павловна Гайденко. Только в 1977 мне удалось завершить текст «Априорность времени у Канта и Гуссерля», который я представил Нелли Васильевне Мотрошиловой, оказавшей мне существенную помощь в его структурировании и превращении в диссертацию.
Моей первой публикацией была статья «Априорное познание у Канта и Гуссерля» в «Вопросах философии» (№ 10, 1978), что в те времена для сравнительно молодого преподавателя имело большое значение. Однако, несмотря на все мои успехи, защититься в Институте философии мне так и не удалось и, как выяснилось позднее, к счастью. В Ростове Совета по истории философии не было, в ИФ Совет то открывали, то закрывали. Осенью 1979 г. Н. В. Мотрошилова пришла к выводу, что Рига – более подходящее место для защиты. В декабре того же года я принял участие в конференции в Латвийском университете, и уже в июне 1980 г. благополучно защитился и, не в последнюю очередь, благодаря рекомендации Н. В. Мотрошиловой и моему оппоненту – А. Ф. Зотову, который, кстати сказать, тоже оказал на меня немалое влияние, и к которому я отношусь с большим уважением, начиная со студенческих лет.
Мое «феноменологическое затворничество» в Ростове в 70-е годы сменилось в 80-е интенсивным общением с молодыми коллегами из Риги и Вильнюса. В Риге задавали тон Мара Рубене и Андрис Рубенис, Майя Кулэ и Рихард Кулис, Юрис Розенвальд, Ансис Зунде, в Вильнюсе – Арунас Свердиолас, Томас Содейка и Альгис Дегутис (мой «напарник» по защите), Совместными усилиями и при деятельной поддержке Н. В. Мотрошиловой мы издали с 1981 по 1991 пять сборников по феноменологии и герменевтике. Почти каждый год я участвовал в тех или иных философских предприятиях в Риге или Вильнюсе – конференциях, семинарах, летних школах.
В 1980 г., после защиты, я обрел еще одно благоприятное для себя сообщество. Стараниями Ю.Р. Тищенко на кафедре истории философии философского факультета РГУ диамат и истмат сменился для меня историей западной философии XIX–XX вв., о которой рассказывал не только нашим, но и немецким студентам из ГДР. Правда, уже с 1978 г. я читал по этой кафедре спецкурс «Феноменология Гуссерля». Читался ли такой спецкурс на каком-либо философском факультете нашей страны в эти годы, кроме ростовского?
Затем, в середине 80-х, энергичная Анна-Тереза Тыменецка обратила внимание на нашу феноменологическую группу, и благодаря ей многие из нас приобрели опыт участия в международных конференциях за рубежом и опубликовали свои статьи в Analecta Husserliana.
Столетний юбилей Хайдеггера направил мои «коммуникативные стратегии» все же в сторону родины феноменологической философии. На международной конференции в Москве (1989 г.) иностранные участники имели возможность прочитать немецкий текст моего доклада. Известный исследователь философии и издатель книг Хайдеггера проф. Ф.-В. Херрманн, несмотря на критическую направленность моего доклада в отношении Хайдеггера (см.: Философия Хайдеггера и современность. М., 1991), оценил его весьма положительно и пригласил меня во Фрайбург. Однако сразу реализовать это не удалось.
В 1988 г. в издательстве «Высшая школа» вышла моя книга «Время и сознание. Критика феноменологической философии». Рукопись поступила в издательство в 1979 г. Десятилетняя отсрочка (тоже своего рода коммуникация) позволила мне значительно расширить и переработать текст. Для настоящего издания были сделаны исправления только корректорского плана и оставлены те пассажи, которые несут на себе печать времени. К рассуждениям об «умном идеализме» и проч. можно относиться по-разному, в том числе иронически. Вопрос в том, как отнестись к перестройке «глупого материализма» в материализм грубый?
В 1989–1990 гг. завершился определенный цикл моей жизни: рижско-вильнюсский кружок, докторантура, выход книги, защита докторской диссертации, теперь уже в Институте философии в Москве (времена и в Риге, и в Москве изменились), и наметились тенденции будущего.
90-е годы прошли в основном под знаком «Логоса», стажировок в Германии, переводческой деятельности и, не в последнюю очередь, создания на философском факультете Российского государственного гуманитарного университета, где я начал работать в 1996 г., Центра феноменологической философии (1998).
Молодым людям, тогда еще студентам философского факультета МГУ – Валерию Анашвили, Олегу Никифорову и Игорю Чубарову принадлежит честь первой, и во многом удачной, попытки институализации феноменологической философии в России. Содержательно феноменология давно уже перестала быть разделом «критики современной буржуазной философии». Начало этому было положено еще в книгах К. С. Бакрадзе (1960), П. П. Гайденко (1963), З. М. Какабадзе (1965), Н. В. Мотрошиловой (1969), а затем, после перерыва в 70-е годы, рижско-вильнюсский кружок довершил дело. Однако не было ни организующего центра, ни периодического издания.
Летом 1989 г., в Подмосковье, меня нашли Валерий Анашвили и Игорь Чубаров (с О. Никифоровым я познакомился позднее) – и предложили участвовать в издании нового философского журнала «Логос», который должен был следовать двум направлениям: феноменология и русская философия. В свою очередь, я пригласил всех троих на конференцию в Ригу (1990), где мы более детально обсудили проект журнала. Таким образом, «историческая преемственность» была налицо. Моим первым вкладом в журнал был перевод статьи Гуссерля «Феноменология», написанной им для Британской энциклопедии, а затем и большинство моих статей 90-х годов было опубликовано в «Логосе». Сейчас уже трудно представить философский ландшафт России 90-х без «Логоса», без его круга авторов и читателей. Феноменология в России приобрела новый импульс и новый статус. Пусть «Русское феноменологическое общество», созданное, по существу, теми же молодыми людьми, оказалось недолговечным (еще и сегодня мы не вполне созрели для Российского феноменологического общества), но это был первый прорыв в номенклатурной советской институализации. Вместе с обществом началась работа издательства «Гнозис», в котором вышел в 1994 г. мой перевод той самой моей «первой книжки» Гуссерля – «Лекций по феноменологии внутреннего сознания времени». Финансовую поддержку здесь оказали швейцарские коллеги и, прежде всего, проф. Изо Керн и Эдуард Марбах, с которыми я познакомился во время чтения лекций о Г. Шпете в университете г. Фрибурга.
Стараниями команды «Логоса» в 1992 г. меня пригласили прочитать курс лекций по феноменологии на философском факультете МГУ. Несмотря на теплый прием и, как говорится, владение материалом, эти лекции давались мне с трудом. Какая-то новая, еще не оформившаяся в суждении мысль, препятствовала изложению основ феноменологии. Именно тогда я попытался ответить на прямой вопрос, «что такое опыт?», который стал для меня равнозначным вопросу «что такое сознание?».
Ответ пришел неожиданно: сознание – это различение, сознавать – значит различать. Опыт – иерархия различений, различение различий. В этом отличительная черта человеческого сознания; именно в этом отличается человеческое сознание от психики животных. «Опыт» и «сознание» – эти слова стали для меня взаимозаменяемыми, от каждого из них можно было отказаться, но я предпочел сохранить оба этих слова в сочетании опыт сознания, что не нахожу сейчас особенно удачным. Некоторое время мне казалось, что проблема сознания нашла свое окончательное разрешение, что теперь можно дать исчерпывающую классификацию типов опыта и т. п. В действительности, как я это сейчас понимаю, не проблема была разрешена, но был все же сделан существенный шаг в превращении загадки сознания в проблему. Ибо загадка состояла и состоит в том, что все модусы сознания можно осуществить в опыте: восприятие, память, воображение и т. д., но сама «субстанция» в опыте не дана. Сознание как нечто загадочное парит над своими модусами и обычно «приземляется» в виде знаковых систем, нейрофизиологических структур, общественных отношений. Понимание сознания как различения ставит проблему сознания на дескриптивную основу (описание всегда предполагает различение) и лишает отношение «субстанция – модусы» атмосферы таинственности.
В 1992 г. в журнале «Логос» (№ 3) была опубликована моя статья «Парадигмы сознания и структуры опыта». Над этой довольно большой статьей я трудился с воодушевлением, которое, видимо, помешало мне избавиться от «груза прошлого», лучше сказать, избавиться от времени. Миф о Кроносе, пожирающем своих детей, приобрел для меня новый смысл.
Сопоставляя различение, синтез и идентификацию как основные функции сознания в широком смысле, я пытался дескриптивно показать, что различение – это первичный опыт сознания, что синтез и идентификация уже предполагают различение. Тем не менее, первым различием, характеризующим акт сознания, оказалось, «независимо от моего сознания», временное различие, а в основу классификации видов опыта была положена временность, или темпоральность. Первичный опыт сознания был охарактеризован следующим образом: Apriori distinctionis; формирование смысла; время – поток различий. Однако любое формирование – это уже синтетическая структура, а время, по крайней мере, у Канта и Гуссерля, соответствующие труды которых я особенно усердно изучал, – средоточие всех синтезов. «Время – поток различий» – это звучало неплохо, хотя и слегка претенциозно. Но сейчас, я полагаю, что это, мягко говоря, не совсем так. Время и «поток» действительно нужно понимать и истолковывать через различие, но не время через поток. Метафора потока, и не только по отношению к времени, но и психическому вообще («поток сознания»), нанесла, в конечном итоге, больше вреда, чем принесла пользы. Для «освобождения сознания», для выделения психики и сознания в качестве самостоятельного региона бытия, в качестве жизненности и жизни как таковой, она была полезной, и даже необходимой в XIX – начале XX века, однако впоследствии, при попытке поставить философские исследования на почву действительного, а не воображаемого опыта, при тематизации мира и пространственности, телесности и интерсубъективности, конечности и фактичности, а также кризиса европейской культуры, метафора вступила в конфликт с дескрипцией. Гуссерль, понимая, что «поток сознания» – это метафора (в «Бернауэрских рукописях» он это прямо формулирует), тем не менее, продолжал использовать эту метафору в качестве предмета описания.
Сейчас я полагаю, что время – это, скорее, полезная фикция, нежели основа или условие возможности человеческого опыта. Если «история – самый вредный продукт химии интеллекта», то время (если продолжить химико-технологическое сравнение П. Валери) – катализатор этой «химии». Разумеется, фикция – это не ничто. Напротив, фикция может завоевать реальность, стать на ее место, подчинить себе и даже уничтожить ее. Таково «время» в Новое и новейшее время, а также в настоящее время. «Время» вытеснило космос и Бога, подчинило себе пространство, стало синонимом реальности.
Разумеется, после аргументов Августина, Канта и Гуссерля объективное время уже трудно считать чем-то субстанциальным. Однако остается вопрос о внутреннем времени и внутреннем сознании времени, о потоке сознания и т. д. Отличить здесь метафору от дескрипции и от фикции дело нелегкое. Я думаю, что аристотелевское определение времени как числа движения в отношении раньше и позже открывает в этой связи определенные возможности. Во всяком случае, здесь неявно проведено различие между временем как измерением пространства (число движения) и нередуцируемым временным различием «раньше/позже».
В настоящее время (употребляя эту полезную фикцию, я стараюсь не забывать о таком ее статусе) мне кажется более перспективной в проблемном отношении феноменология пространства, нежели времени. Именно пространство, или пространственность, составляет основу жизненного мира. Но что составляет основу самого пространства? Видимо, априорность пространства – это не форма внешнего опыта и не фундаментальные для человеческого мира движения земли – вокруг солнца и вокруг своей оси, и даже не «земля», которая, по мысли Гуссерля, не движется и не покоится, если ее рассматривать не как одно из небесных тел, т. е. извне, но как исходное основание человеческого опыта. Априорность пространства характеризует, скорее, первичный опыт различений. Различения и различения различий есть первичное пространство, это первичный простор опыта, в котором может быть реализовано многообразие иерархий различений, а также синтезов и идентификаций.
К осознанию дисбаланса между феноменологией времени и пространства я пришел сравнительно недавно. Однако уже после написания статьи 1992 г. тема времени как бы повисла в воздухе, она фактически перестала быть основной. На первый план вышла тема сознания, или опыта, как различения, а затем – поиски соответствующих коррелятов. Гуссерлевское различие акта сознания, содержания сознания и предмета предполагает, что акт сознания – это синтез, а предмет – нечто уже идентифицированное. Нерешенность вопроса об идентификации, а, точнее, неявное предположение, что нечто представленное, нечто обсуждаемое и нечто эмоционально переживаемое может быть одним и тем же предметом, поставили для меня под вопрос само понятие интенциональности. Как бы ни интерпретировали интенциональность, никто не обращал внимания на то, что у Брентано и Гуссерля интенциональность вводится посредством аргумента самотождественной предметности или несуществования предмета.
Отказавшись от предположения предметного тождества и одновременно от понимания первичного опыта как синтетического акта сознания, нужно было, не отказываясь от самой идеи корреляции, найти замену «предмету», или «объекту», которая соответствовала бы «акту» различения. В этих поисках мной руководила идея избыточности человеческого опыта: установление смысла, или конституирование, я пытался понять не как складывание по кусочкам, т. е. возведение целого из элементов, но как отсечение ненужного, лишнего, по образцу действий резчика по дереву или скульптора и т. п. В этом смысле объект, или предмет (здесь нет необходимости их различения) обретает свои контуры благодаря приостановке различений, а место терминов «объект», «предмет» и «предметность» может занять термин «различенное». Таким образом, корреляция «различение – различенное» отодвинула на задний план гуссерлевскую корреляцию акта – предметного смысла – предмета, а также корреляцию ноэсиса и ноэмы.
Если, однако, скульптор высекает свое произведение из глыбы мрамора, то какова же материя, из которой опыт различений извлекает различенное; какова «материя мира», причем не мира как совокупности предметов, даже если под предметом понимать различенное, и не мира как связи отсылок, хотя именно хайдеггеровская «мирскость мира» послужила для меня отправной точкой поисков мирской «первоматерии». Хайдеггеровский мир, скроенный по мерке «мира труда», казался мне, однако, слишком прагматичным, выпавшим из проведенного Гуссерлем важного различия между доказательством и указанием (отсылкой). В хайдеггеровском мире нет ни доказательств, ни природы, это скорее безжизненный мир инструментов, использующих человека для своего взаимодействия. Жизненный мир у Гуссерля, напротив, слишком антропоцентричен; его базисная структура – восприятие – должна уже соотноситься со структурой мира, но не заявлять себя в качестве таковой. Ведь в таком случае теряется изначальное феноменологическое различие между восприятием (как «актом») и воспринятым.
Впрочем, не дилемма между «озабоченной безжизненностью» и жизненным антропоцентричным миром, скроенным по образцу трансцендентальной субъективности, но поиски «мирской» структуры, коррелятивной опыту различений, привели меня к «различенности» и «границам». Коррелятивность опыта, предметности и мира приняла теперь вид корреляции различения, различенного и различенности. Первичная различенность – это различенность границ и пространства. Границы между землей и небом (горизонт), между светом и звуком, между передним и задним планами восприятия, а на языке первоначал – между четырьмя элементами мира – водой, землей, огнем и воздухом и т. д. суть иерархические структуры мира, определяющие пространства различенного.
Различенности (границы «и» пространства) суть структуры пред-значимости, априорные структуры, благодаря которым становятся возможными значимость и значение. Гетерогенная материя мира – это неощущаемые и неделимые границы и различаемые пространства как иерархии различий. (В частности, различенность света и звука открывает не две субстанции, но две различные иерархии различий.)
«Различенное» и «различенность» пришли ко мне, однако, гораздо позднее, чем «опыт различений». После того как диссертации были защищены, после статьи 1992 г. снова начались, как ни странно, годы моего ученичества. Во Фрайбурге и Вуппертале, двух немецких центрах феноменологии, я учился по-новому, а именно, неконцептуально, читать феноменологические тексты. В гуссерлевском архиве Фрайбурга новый взгляд на работу философа мне открыли гуссерлевские рукописи, а в беседах с проф. Ф.-В. фон Херрманном я пытался, и тогда безуспешно, преодолеть хайдеггеровские языковые бастионы при попытке подвергнуть критике элиминацию проблемы сознания у Хайдеггера. Неоценимый опыт я приобрел в дальнейшем в Вуппертале, особенно при посещении (три семестра) Феноменологического коллоквиума, который вели совместно проф. Клаус Хельд и проф. Генрих Хюни. В течение семестра мы обычно читали 10–20 страниц текста: интенсивное обсуждение каждой фразы, каждого абзаца, ведение протокола и обсуждение его в начале каждого следующего семинара, приводило к эффекту отстранения от общей концепции автора. Разумеется, работа состояла в толковании мельчайших деталей, но все действие в целом приближало к идеалу Ницше: читать текст как текст, не перемежая толкованиями. Такого рода соприкосновение с текстами Гуссерля и Хайдеггера имело для меня важные результаты. Непосредственно это оказало мне существенную помощь в работе над переводами «Картезианских медитаций» и второго тома «Логических исследований».
Здесь я хотел бы упомянуть еще об одном сообществе, возникшем благодаря INTAS – проекту по переводу трудов Гуссерля и Хайдеггера на русский язык, руководителем которого был проф. Клаус Хельд, а координатором и блестящим организатором – д-р Ханс Райнер Зепп. Проект объединил исследователей (и среди них известных философов) из Германии, Испании, Италии, России, Чехии. Благодаря этому я познакомился не только со многими зарубежными коллегами, но и с А. Г. Черняковым и H.A. Печерской из Петербурга, полезное сотрудничество с которыми продолжилось и после проекта. На конференциях в рамках проекта (во Фрайбурге, Праге, Петербурге и Москве), в которых участвовали также феноменологи из США и Швейцарии, преобладала рабочая обстановка: во Фрайбурге (1995), к примеру, вчерашний студент В. В. Анашвили мог вступить в спор с одним из самых известных феноменологов – проф. Изо Керном и доказывать ему, правда, без особого успеха, что брентановский термин intentionale Inexistenz можно переводить как «интенциональное несуществование». Этот эпизод получил интересное продолжение: В. В. Анашвили нашел перевод этого термина в книге Ланге «История материализма» (видимо, это перевод В. С. Соловьева, хотя он указан только как редактор перевода). Там этот термин передан, с одной стороны, весьма забавно, а с другой – довольно грустно: «намеренное несуществование». Не о судьбах ли философии в России размышлял тогда философ?
После доброжелательной атмосферы Вупперталя я оказался в не менее доброжелательной и даже дружеской атмосфере философского факультета РГГУ. Вместе с моим коллегой доц. В. В. Калиниченко мы провели организационную работу по созданию Центра феноменологической философии (в нее входила, среди прочего, организация крупной международной конференции в 1997 г. – «Бытие и время М. Хайдеггера – 70 лет»). Если я не ошибаюсь, это была вторая попытка институализации феноменологии в России, которая через несколько лет приобрела международное признание. В Праге, в 2003, в качестве руководителя Центра я стал участником учредительной конференции Организации феноменологических организаций, куда в настоящее время входят более 120 феноменологических обществ, центров, архивов и т. п. многих стран мира. В Центр пришли работать молодые люди нового поколения – талантливые образованные, энергичные. Это, прежде всего, В. А. Куренной и А. В. Михайловский. Нынешние докторанты и аспиранты также позволяют надеяться на упрочение и расширение феноменологических исследований и философской коммуникации в нашей стране. (См. сайт Центра: )
Возвращаясь к вуппертальским «медленным чтениям», нужно отметить еще один, и притом более важный, результат, чем помощь в переводческой работе. Речь идет о проведении различия между анализом и интерпретацией, которое, как я полагаю, является одним из важнейших различий метода, причем не только при исследовании текстов. Мне всегда казалось сомнительным утверждение о том, что любой перевод – это интерпретация. Неопределенность этого утверждения состоит в пропуске «кванторов»: или перевод всецело интерпретация, или отчасти. В первом случае мы должны были бы иметь дело не с текстом автора, но только с переводом, читать по-русски не Шекспира, Гете и Пруста, но только соответствующих переводчиков, что само по себе абсурдно. Впрочем, при плохом переводе мы действительно имеем дело с переводчиком, но как раз потому, что плохой перевод – уже не перевод. Если перевод лишь отчасти интерпретация, то тогда возникает вопрос, что остается на долю другой, не интерпретируемой части? Это нечто, не поддающееся толкованиям, есть не что иное, как выраженный в тексте опыт, воспроизвести который можно лишь аналитически. В самом общем смысле воспроизведение чужого опыта, выраженного или не выраженного в тексте, это, прежде всего, воспроизведение осуществленных различений, а затем также синтезов и идентификаций. Интерпретация предполагает обратный порядок: идентифицированный предмет рассматривается как нечто, что можно толковать по-разному. Однако житейская мудрость: «на это можно взглянуть по-иному» ничего не говорит нам о том, как «это» стало именно «этим», т. е. каким образом и благодаря чему предмет становится самотождественным, «одним и тем же», «этим самым», которое может затем получать различные толкования.
Различие анализа и интерпретации, принадлежащее анализу, но не интерпретации, является исходным в моем критическом анализе «Логических исследований» Гуссерля и «Бытия и времени» Хайдеггера. Анализ произведения Гуссерля представлен в настоящем издании, анализ основной работы Хайдеггера (гораздо более скромный по объему) опубликован пока только на немецком языке (Analyse und Interpretation: Alltäglichkeit, Zeitlichkeit und Erfahrung/Hermeneutische Phänomenologie – phänomenologische Hermeneutik. Reihe der Österreichischen Gesellschaft für Phänomenologie Bd. 10, 2005. Ha русском языке эта статья должна появиться в первом выпуске Ежегодника по феноменологической философии, выход в свет которого запланирован на 2008 г.
Еще одна важная, быть может, важнейшая тема, которая явно и неявно направляла мои труды – возможность неагрессивного сознания. В книге, которая составляет вторую часть настоящего издания – Различение и опыт. Феноменология неагрессивного сознания. М.: Три квадрата, 2004, – фундаментальный феномен различения дескриптивно представлен как неагрессивный опыт. Дело здесь не в поисках психологических или социальных причин агрессивности, но в различии неагрессивного, различающего сознания и сознания агрессивного – синтезирующего и идентифицирующего. Различение – это истинный опыт, который по своей сути не может быть агрессивным. Различение – в отличие от синтеза и идентификации – никому ничего не навязывает, ничего не угнетает, никого ни с кем не уравнивает. Различение – это опыт, открывающий нам дальнейший, неагрессивный путь различений.
Сопоставление (точнее, различение) различения и синтеза привело меня снова к Канту. Хитросплетения трансцендентальной эстетики и аналитики – схематизм чистого рассудка, синтезы аппрегензии, воспроизведения и рекогниции, и проч., к изучению которых я возвращался не раз, предстали для меня совсем иначе, чем прежде. При изучении в начале 80-х годов хайдеггеровской интерпретации «Критики чистого разума» у меня все же не возникло убежденности в правомерности «онтологизации» Канта. Тогда я полагал, что речь идет все же о теории познания, хотя и не в традиционном смысле слова. Сближение синтеза, агрессивности и субъективизма (тема субъективизма стала одной из основных для меня в середине 90-х годов) позволило мне преодолеть это заблуждение. Не с онтологией, но и не с теорией познания имеем мы дело в «Критике чистого разума», но с чистой прагматикой, с теорией чистой деятельности, с парадигмой господства над природой, в том числе и над природой человека. Трансцендентальную эстетику и трансцендентальную аналитику можно интерпретировать (и я отдаю себе отчет, что это интерпретация) как модель производства, где ощущения – это перерабатываемое сырье, пространство и время (априорные формы чувственности) – обрабатывающие машины и механизмы, а категории (чистые синтезы) – различные проекты, которые могут найти свое эмпирическое применение. Схематизм чистых рассудочных понятий, в основе которого время как трансцендентальная схема, – это конкретная разработка проектов. Всю эту гигантскую машинерию – от перерабатываемого сырья до проективной синтетической деятельности – приводит в действие трансцендентальная сила продуктивного воображения. У Канта каждая вводимая абстракция-сила является средством для последующей: ощущение – средство для созерцания, созерцание – для мышления, материя – для формы, мышление и созерцание – средства для трансцендентальной силы воображения. Очевидно, что это не описание опыта, но описание структуры деятельности на основе особым образом понятого опыта.
Сказанное не отменяет необходимости деятельности, но ставит под вопрос понимание сознания как обрабатывающего инструмента. Кант недаром жаловался на трудности дедукции категорий, ведь он делал двойную работу: как философ он отделял сферу познания, связывая ее с опытом, однако структурировал он эту сферу – как инженер! (Подробнее см. мою статью в сб. Кант: наследие и проект. М., 2007.)
Позже мне вновь пришлось обратиться к Канту, а именно, к детальному изучению «Паралогизмов чистого разума». Именно в «трансцендентальной диалектике» и в «паралогизмах», при постановке проблемы неустранимости иллюзий, проявилась гениальность и глубина мысли философа. Насколько связана неустранимость иллюзий с избыточной обрабатывающей деятельностью познающего субъекта – этот вопрос – как и содержательно, так и «кантоведчески» – пока открыт.
Особый интерес к «паралогизмам» возник у меня в связи с тем, что тема «Я» стала в последние два-три года одной из основных. Этому я обязан отчасти еще одному сообществу, а именно, участию в проекте «„Личность“ и „субъект“ в русско-немецких культурных связях», руководителем которого является проф. Александр Хаардт (Рурский университет Бохума), а вдохновителем и координатором – д-р Николай Плотников, который убедил меня в необходимости семантически-терминологического исследования проблемы Я. Это оказалось нелегким делом, однако усилия не пропали даром: сама проблема Я, которая интересовала меня ранее только в связи с кантовской «трансцендентальной апперцепцией» и изменением гуссерлевской позиции в отношении чистого Я, предстала в своей многогранности и чрезвычайной сложности.
Что касается русской философии, то моя установка на интерпретацию, реализованная в статье «Феноменология в России» отступила на задний план (статья была написана для Encyclopaedia of Phenomenology, Kluwer 1997, но на русском языке появилась ранее в словаре «Русская философия. Малый энциклопедический словарь». М., 1996). На передний план выступила аналитическая работа. Если ранее речь шла только об интерпретации учений о сознании М. И. Каринского, С. Н. Трубецкого, В. С. Соловьева и др., и, в частности, как феноменологии до феноменологии, то теперь я подверг эти учения критическому анализу, как содержательному, так и терминологическому. Особое внимание в этом плане я уделил «Теоретической философии» В. С. Соловьева, критический анализ которой составил статью достаточно большого объема.
Сочетание (и различие!) концептуально-аналитической и терминологической работы привело меня к следующим результатам. «Единство» и «Я» – антагонисты и корреляты, полезные фикции, сопряженные с опытом различений и деформирующие его. Гипертрофия единства и гипертрофия Я как раз ставят под вопрос полезность этих фикций, заслоняя собой само различие опыта и фикции. Различие, однако, следует отличать, во-первых, от разделения и разрыва, когда передний и задний планы становятся самостоятельными, самотождественными «сущностями», а во-вторых – от сравнения, предполагающего тождество как «основание для сравнения». В первом случае тождество – это результат, во втором – исходный пункт. Различие нормы и аномалии, опыта и его деформации, неагрессивного и агрессивного не означает проведение между ними абсолютной границы, но и не предполагает какого-либо нейтрального общего, т. е. некоторого посредника. Аномалия – это всегда отклонение от определенной нормы, а норма подразумевает возможность не каких угодно, но только определенных аномалий. Эти тривиальности (тривиальности, правда, как заметил однажды Гуссерль, – предмет философии) трудно даются, однако, не только обыденному сознанию. Отстранение от фикций (принцип беспредпосылочности, эпохе, «сами вещи», бытие сущего и т. д.) ведет все же к отказу от исследования фикций, их происхождения и функционирования. С другой стороны, было бы опрометчиво объявлять все симулякрами, копиями, повторениями. Старый добрый регресс в бесконечность, причем в бесконечность фикций, поджидает такого рода утверждения. По существу, это один из вариантов конца философии, который время от времени объявляется в немецкой и французской философии, что свидетельствует лишь о завершении определенного цикла.
Различие реального (действительного, подлинного и т. п.) и фиктивного, их взаимопереходы и трансформации есть неизменная тема философии, если угодно, ее неисчерпаемый предмет.
Виктор Молчанов,
июнь-июль 2007
ВРЕМЯ И СОЗНАНИЕ: КРИТИКА ФЕНОМЕНОЛОГИЧЕСКОЙ ФИЛОСОФИИ
Памяти Михаила Константиновича Петрова
Введение
Проблема времени, одна из самых древних и вместе с тем актуальных проблем, привлекает сейчас внимание не только философов, но и специалистов самых различных областей естественнонаучного и гуманитарного знания. Объективной основой возрастания интереса к проблеме времени является процесс дифференциации знания: благодаря этому процессу значительно увеличилось количество контекстов, в которых функционирует понятие времени.
В советской философской литературе были высказаны важные методологические идеи относительно качественно различных форм времени. Около тридцати лет назад Ю. А. Урманцев и Ю. П. Трусов привлекли внимание к проблеме специфики пространственных и временных отношений в живой природе[1]. Рассматривая основные принципы системного подхода, И. В. Блауберг и Э. Г. Юдин указали на «неоднородность» времени в системах различной природы[2]. Уже достаточно утвердилось мнение о необходимости изучения времени не ограничиваясь философскими вопросами естествознания. «Экзистенциализм, полагая, что бытие – это прежде всего существование человека, – писал П. В. Копнин, – сделал категорию времени центральной. Правда, он абсолютно абстрагируется от данных современного естествознания. Не лучше поступаем и мы, философы-марксисты, когда при разработке данной категории, как, впрочем, и других, почти не интересуемся опытом наук о человеке»[3]. В последние годы положение изменилось: значительно возрос интерес к проблеме времени в области психологии, истории культуры, литературы и искусства, а также к проблеме социального времени.
Рассмотрение проблемы времени в рамках определенной области познания или искусства предусматривает прежде всего выявление связи между понятием времени и фундаментальными понятиями или структурами конкретной сферы человеческого понимания или художественного творчества. Поиск такой связи свидетельствует о том, что в данной области назрела необходимость философского самоосмысления, ибо постановка проблемы времени есть один из основных способов проникновения философской и, более определенно, гносеологической проблематики в сферу научных исследований или художественного творчества. Однако, несмотря на все увеличивающийся интерес к проблеме времени, несмотря на то что время становится сейчас предметом междисциплинарных исследований (а может быть, именно благодаря этому), философское рассмотрение проблемы времени, которое предусматривает анализ связи понятий времени и сознания, все больше оттесняется на второй план. Между тем необходимым условием интеграции различных аспектов проблемы времени является пересечение и взаимопроникновение проблемы времени и проблемы сознания.
Взаимопроникновение этих проблем позволяет поставить вопросы по крайней мере трех типов или уровней, причем каждый из них содержит в себе историческую перспективу. Вопросы первого уровня: какова роль понятия времени в той или иной системе научных абстракций и какова специфика темпоральных отношений в том или ином художественном произведении? Вопросы второго уровня касаются уже самого исследования науки и искусства: какова специфика понятия времени в методологии науки и искусствознании? Предметом исследования является, скажем, понимание времени у Эйнштейна или Фолкнера, но уже в самом методологическом исследовании понятие времени играет свою специфическую роль. Вопросы третьего уровня касаются связи понятий времени и сознания, времени и рефлексии, времени и бытия.
Основной целью нашего исследования является постановка и рассмотрение вопросов третьего уровня в контексте критического анализа феноменологической философии.
Проблема времени имеет давнюю историко-философскую традицию. Если историю учений о времени в европейской философии рассматривать с точки зрения связи проблемы времени и проблемы сознания, то в докантовской философии можно выделить две основные тенденции. Первая тенденция связывает вопрос «что есть время?» с вопросами: как связаны время и движение; относительно или абсолютно время; что есть настоящее, прошлое и будущее; реально или феноменально время; дискретно оно или непрерывно? Эти вопросы имплицитно содержат в себе стремление непосредственно ответить на первый вопрос: что есть время? – и тем самым вольно или невольно превратить время в некоторый интуитивно данный предмет, который обладает теми или иными свойствами. Вторая тенденция связана с вопросами другого типа: как мы осознаем время; каков источник наших представлений о времени, о настоящем, прошлом и будущем? Именно во второй тенденции, основными представителями которой были Августин, Локк и Юм, проблема времени рассматривалась в контексте проблемы сознания. Однако и здесь сохраняется скрытая субстантивация времени, поскольку вопрос «как мы осознаем время?» подразумевает наличие хотя бы наглядного образа времени.
Августин, пожалуй, впервые обрисовал специфические трудности, связанные с пониманием времени: когда никто меня не спрашивает, что такое время – я знаю; когда же просят объяснить – не знаю. Значение этих слов трудно переоценить. Августин впервые обратил внимание на то, что наиболее привычное оказывается наименее известным. Впервые вместо ответа на вопрос «что есть время?» философ зафиксировал факт незнания и недоумения, возникающего при этом вопросе.
Имплицитно слова Августина содержат в себе вопросы, которые уже выходят за рамки второй тенденции: почему так трудно ответить на вопросы относительно того, что нам наиболее привычно? почему самым привычным для нас оказывается время? почему мы задаем вопрос о времени? какова ментальная необходимость постоянно возобновлять этот вопрос? Тем самым в учении Августина намечается новая перспектива взаимосвязи проблемы времени и проблемы сознания. Однако контуры этой перспективы стали отчетливыми только благодаря коперниковскому перевороту Канта.
Кант рассматривает не проблему времени в контексте проблемы сознания, но проблему сознания в контексте проблемы времени. Канта интересует не то, как мы осознаем время, но то, какие функции время выполняет в структуре познавательной способности. Время оказывается уже не изначальным предметом исследования, но средством структурирования познавательной способности, средством описания сознания. Не «измерять время в душе», но измерить в темпоральных описаниях глубину возможного описания синтезов сознания – такова новая задача, поставленная Кантом.
Философия Канта, как известно, оказала громадное влияние на последующую философию. «Почти все разновидности современного философствования, – отмечает А. В. Гулыга, – так или иначе восходят к Канту»[4]. Не являются здесь исключением и философские учения Гуссерля и Хайдеггера – основных представителей феноменологической философии. Однако задача состоит в том, чтобы определить конкретную тенденцию философии Канта, которая обнаруживает не столько непосредственное влияние, сколько содержательное сходство с феноменологией в постановке проблем сознания и времени. В этом аспекте цель нашей работы состоит в том, чтобы показать близость кантовской и гуссерлевской методологий при рассмотрении взаимосвязи понятий времени, сознания и рефлексии и дать критику хайдеггеровской интерпретации основного произведения Канта, которая по существу навязывает кантовской философии проблемы «фундаментальной онтологии».
В настоящее время нет необходимости обосновывать актуальность критического анализа современной буржуазной философии, тем более что количество ее различных течений, тенденций и школ продолжает возрастать. Среди этих многочисленных течений феноменология заслуживает особого внимания. Наряду с аналитической философией феноменология – крупнейшее течение в современной западной философской мысли. Возникнув в самом начале XX в., феноменология Эдмунда Гуссерля (1859–1938) не только оказала влияние на многие течения и школы последующей философии, но «в известной степени стала базой их взаимодействия и синтеза»[5].
Количество исследований по феноменологии, вышедших на Западе, стало сейчас уже практически необозримым. Продолжается публикация Собрания сочинений Гуссерля (к 1984 г. – 24 тома) и Полного собрания сочинений Хайдеггера в 57 томах. В послегуссерлевской феноменологии идет интенсивный поиск методологической релевантности феноменологии в отношении многих дисциплин гуманитарного и естественнонаучного знания. В последние годы расширению сферы влияния феноменологии в западной философии и культуре способствует деятельность Международного института феноменологических исследований (США), президентом которого является профессор Анна-Тереза Тыменецка. С 1971 г. результаты международных конгрессов, организованных институтом, составили уже более 20 объемистых томов[6].
В нашей стране критическому анализу феноменологической философии в той или иной степени уделяли внимание многие советские философы: В. Ф. Асмус, В. У. Бабушкин, К. С. Бакрадзе, А. Ф. Бегиашвили, А. С. Богомолов, А. Т. Бочоришвили, П. П. Гайденко, 3. М. Какабадзе, М. А. Киссель, Т. А. Кузьмина, М. К. Мамардашвили, Ю. К. Мельвиль, А. А. Михайлов, Н. В. Мотрошилова, А. П. Огурцов, Т. И. Ойзерман, Э. Ю. Соловьев, Г. М. Тавризян и другие. В трудах советских специалистов были критически определены основные черты феноменологического метода, даны принципиальные оценки феноменологической философии. Вместе с тем критический анализ центральных проблем феноменологической философии-взаимосвязи времени и сознания, времени и рефлексии, времени и онтологии – еще не был предпринят в систематической форме. В нашей работе взаимосвязь времени, сознания и рефлексии впервые рассматривается как конститутивный принцип феноменологии, на основе которого формируется феноменологическое понимание онтологии.
Особую актуальность представляет собой в этом контексте сравнительный анализ учений Гуссерля и Хайдеггера[7], в которых проблема сознания и проблема бытия раскрываются через понятия феномена и времени. Эти понятия у Гуссерля и Хайдеггера взаимосвязаны. Онтологичность как независимость сознания и человеческой экзистенции от любых внешних факторов предполагает их самопроявление или феноменологическое описание. В свою очередь самопроявление и феноменологичность означает отказ от любых форм субстантивации, при этом роль бытия как в первом, так и во втором случае принимает на себя время. Тем не менее имеют место существенные различия между феноменологией Гуссерля и феноменологией Хайдеггера. Выявление этих различий на уровне самообоснования феноменологии – одна из основных целей нашей работы.
В. И. Ленин подчеркивал необходимость изучения «умного идеализма», в рамках которого могут быть поставлены актуальные проблемы познания и практики. В аспекте познания особого внимания заслуживает рассмотрение проблемы времени в феноменологической философии. «Важным вкладом в более глубокое освещение некоторых аспектов опыта и понятийного мышления представляются гуссерлевские анализы переживания времени, – полагает чехословацкий философ И. Зелены. – Если отбросить их идеалистическую онтологизацию… то мы найдем в них много инспирирующего и применимого для диалектико-материалистической теории познания[8].
Глубокие социальные преобразования в нашей стране выдвинули на одно из первых мест проблемы ответственности и внутренней убежденности: перестройка и демократизация невозможны без нравственного и духовного обновления нашего общества.
В этой связи также заслуживают внимания проблемы, которые феноменология выдвигает на первый план. В сфере социальной практики проблемы самосознания и рефлексии, проблемы описания различных форм и уровней деятельности сознания, проблемы очевидности и «собственного бытия» преломляются как проблемы выбора социальных ориентиров на основе внутреннего убеждения и определения своей позиции на уровне самоотчета, как проблемы самовоспитания и духовного измерения человеческого бытия, выявить конституенты которого не менее важно, чем верно указать критерии удовлетворения материальных потребностей.
Глава I КОНЦЕПЦИЯ ВРЕМЕНИ И СОЗНАНИЯ В ТРАНСЦЕНДЕНТАЛЬНОЙ ФИЛОСОФИИ И. КАНТА
§ 1. Рефлексия и трансцендентальная философия
Одной из особенностей кантовского трансцендентализма является тематизация рефлексии. Кант не только делает своим предметом априорное познание как сущностную возможность познания, но и выделяет способность, благодаря которой сравнение понятий можно соотносить с различными источниками познания, т. е. с чувственностью и рассудком. «Действие, посредством которого я устанавливаю прочную связь между сравнением представлений вообще и познавательной силой, в которой проведено сравнение, и благодаря чему я различаю, сравниваются ли представления друг с другом как принадлежащие к чистому рассудку или к чувственному созерцанию, я называю трансцендентальной рефлексией», – пишет Кант (А 261; Т. 3, 314)[9] Отличается ли эта рефлексия от трансцендентального познания, которое Кант определяет как «познание, занимающееся не столько предметами, сколько способом нашего познания предметов, поскольку это познание должно быть возможным a priori» (В 25; Т. 3, 121)? «Рефлексия (reflexio) не имеет дела с самими предметами, – пишет Кант, – чтобы получать понятия прямо из них, но есть такое состояние души, которое нас прежде всего побуждает к тому, чтобы открыть субъективные условия, при которых мы можем добраться до понятий» (А 260; Т. 3, 314). Отметим, во-первых, что рефлексия, так же как трансцендентальное познание, не имеет дела непосредственно с самими предметами, и во-вторых, что рефлексия, по Канту, есть особое состояние души (Gemüt).
Рассмотрение рефлексии и рефлективных понятий дано в качестве приложения к «Трансцендентальной аналитике». Исходя из этого, можно было бы считать трансцендентальную рефлексию спецификацией трансцендентального познания. В известном смысле это верно, однако проблема здесь не только в этом.
Введение и отказ от параграфов в структуре раздела «Аналитика понятий» составляют, как известно, особенность построения «Критики чистого разума» и его изменения во втором издании. С одной стороны, Кант обозначает параграфами разделы, а с другой – оставляет некоторые параграфы без названия; остальное же изложение структурируется иначе. Во втором издании Кант делит на параграфы всю «Аналитику понятий», исключение составляют лишь ее начало и итоги.
На наш взгляд, глубокий смысл заключается в том, что в «Критике чистого разума» – одном из величайших философских произведений – отсутствует однотипное упорядочивание разделов, глав и параграфов. Это говорит о внутренней борьбе кантовского мышления, борьбе между попыткой осуществления рефлексии, попыткой выявления условий возможности человеческого познания и систематизацией изложения. Не случайно во втором издании структура «Аналитики понятий» становится однотипной: Кант уже основывается на результатах трансцендентального наблюдения, зафиксированного в первом издании. Иначе говоря, опыт «Критики чистого разума» показал, что системность мышления не предполагает однозначной систематизации трансцендентальных условий его возможности. Тем самым Кант, быть может, вопреки своим намерениям, указал на невозможность абстрактного априори, на невозможность раз и навсегда зафиксировать внутреннюю структуру познавательной способности.
Рассмотрение рефлексии в Приложении к «Трансцендентальной логике» указывает не столько на то, что рефлексия есть спецификация трансцендентального познания (это имеет основание, так как здесь Кант рассматривает сравнение понятий по отношению к источнику их образования, но не сами источники в их возможной взаимосвязи), сколько на то, что само трансцендентальное познание есть один из уровней рефлексии, которые можно выделить в кантовской философии. То, что сам Кант называет рефлексией, и то, что можно выделить только в качестве третьего ее уровня, опять-таки «не поместилось» в систему трансцендентальной логики. Для рефлексии не нашлось ни параграфа, ни раздела, а ведь «трансцендентальная рефлексия есть обязанность, от которой никто не может отказаться, если он хочет нечто высказать о вещах а priori» (А 263; Т. 3, 316).
Если, воспользовавшись определением Локка, понимать под рефлексией «наблюдение ума над своей собственной деятельностью», то в философии Канта целесообразно выделить по крайней мере три уровня рефлексии. В самом широком смысле (первый уровень) рефлексия тождественна критике разума, поскольку Кант понимает под этим «не критику книг и систем, а критику способности разума вообще, принимая во внимание все познания, к которым он может стремиться независимо от всякого опыта, и, следовательно, решение вопроса о возможности или невозможности метафизики вообще и определение как источников, так и объема и границ ее, причем все это на основании принципов» (А XII; Т. 3, 76). Такая критика ставит перед собой задачу выявить и отделить функции разума в познании от функций разума вне опыта и вне познания. Убеждение Канта в примате практического разума над теоретическим обусловливает одну из главных целей философской рефлексии – определить сферу человеческого познания и тем самым выделить сферу морали, принципы которой уже не основываются на возможности опыта.
В «Критике чистого разума» Кант стремится выделить область чисто теоретическую, указывая, что практическое так или иначе имеет дело с предметами нашего чувства. Разум в чисто теоретическом, чисто спекулятивном движении должен натолкнуться на предел чисто теоретической и чисто спекулятивной сферы. Этот предел заключается в осознании того, что в отношении свободы воли, бессмертия души и бытия бога «спекулятивный интерес разума очень незначителен» и что «если эти три кардинальных положения вовсе не нужны нам для знания, но тем не менее настойчиво рекомендуются нашим разумом, тогда их значение должно касаться, собственно, только практического» (А 799–800; Т. 3, 658).
Однако разум должен пройти этот путь, который Кант называет «трансцендентальной философией». Кант дважды повторяет, что в нее не включаются высшие основоположения моральности, поскольку хоть и косвенно, но практическое имеет отношение к эмпирическому. Как совместить это с тем, что моральные законы ни в коем случае не являются, по Канту, эмпирически обусловленными? Кант, однако, не противоречит самому себе. Разум необходимо должен пройти спекулятивный путь, чтобы совершенно а priori определить чисто практические законы.
Иначе говоря, примат практического разума не означает, что философская рефлексия должна начинать с рассмотрения практического (в этом случае она неизбежно вовлекается в рассмотрение мотивов, связанных с чувствами), напротив, интересы практического разума требуют, чтобы разум в чисто теоретической сфере натолкнулся на такие вопросы, которые уже выходили бы из сферы познания, но необходимость которых не отменялась. Переход к практическому и определение чистых практических законов должны осуществиться из чисто теоретической сферы через нахождение ее пределов как предельных вопросов всякого спекулятивного мышления.
Второй уровень рефлексии есть, собственно, трансцендентальная философия, или трансцендентальное познание, поскольку последнее служит основой построения системы понятий первой. Кант, как известно, отличает критику чистого разума, которую он считает лишь пропедевтикой к системе чистого разума, и трансцендентальную философию, которая, по замыслу Канта, должна быть этой системой. Весьма важно то, что Кант обнаруживает определенное колебание в выборе основания для различия. С одной стороны, Кант отличает критику как метод от системы самой науки, однако замечает, что в трактате о методе «содержится полный очерк метафизики, касающейся вопроса и о ее границах, и о всем внутреннем ее строении» (В XXII–XXIII; Т. 3, 91). В этом случае различие касается систематизации и объема. Это подтверждается и во введении ко второму изданию, где Кант пишет о том, что система понятий трансцендентальной философии была бы слишком велика для первоначальных усилий, поскольку «такая наука должна была бы содержать в полном объеме как аналитическое, так и априорное синтетическое познание…» (B 25; Т.3, 121).
Однако уже здесь возникает вопрос: если критика дает только негативную пользу, как пишет Кант несколькими строками выше указанного места, т. е. только предохраняет от заблуждений, то возможна ли «положительная польза» от трансцендентальной философии?
Другими словами, имеет ли трансцендентальная философия самостоятельное содержание, которое не сводилось бы к ограничению спекулятивных возможностей разума? Казалось бы, ответ очевиден: трансцендентальное познание выявляет условия возможности математического и естественнонаучного познания. Однако это также поддается двоякому пониманию: или это только теория познания, устанавливающая строгие границы познанию в качестве объективного применения категорий, или же в трансцендентальной философии кроется учение о сознании, лучше сказать, понимание сознания, которое уже не трактует, но показывает сознание не только как «математическое» или «естественнонаучное». Другое основание для различия подтверждает последнее предположение: «…к критике чистого разума относится все, из чего состоит трансцендентальная философия: она есть полная идея трансцендентальной философии, но еще не сама эта наука, потому что в анализ она углубляется лишь настолько, насколько это необходимо для полной оценки априорного синтетического знания» (В 28; Т. 3, 123). Критерием различия является здесь глубина исследования, которое не ограничивается собственно критикой.
Основным и, пожалуй, единственным предметом рефлексии второго уровня, рефлексии как трансцендентального познания является взаимоотношение чувственности и рассудка в познании. Кульминационным пунктом здесь является трансцендентальная дедукция категорий – самое важное, по мнению Канта, исследование, которое стоило Канту, по его свидетельству, наибольшего труда.
В предисловии к первому изданию Кант отмечает, что «это достаточно глубоко задуманное исследование имеет, однако, две стороны». Кант пишет: «Одна относится к предметам чистого рассудка и должна показать и разъяснить объективную значимость его априорных понятий; именно поэтому она входит в мои планы. Другая рассчитана на то, чтобы рассмотреть сам чистый рассудок в отношении его возможности и познавательных сил, на которых он основывается, следовательно, рассмотреть его в субъективном отношении; и хотя это рассмотрение, принимая во внимание мою главную цель, обладает огромной важностью, оно все же не входит в нее по существу, ибо основной вопрос остается в том, что и насколько могут рассудок и разум познать независимо от всякого опыта, но не в том, как возможна способность к самому мышлению?» (А XVI–XXIII; Т. 3, 78).
Различие между «объективной» и «субъективной» дедукцией выражает различие между критикой как методом преодоления заблуждений и самостоятельным значением трансцендентальной философии. Объективная дедукция соответствует запросу практического разума, который требует исследования того, «что и насколько могут рассудок и разум познать независимо от всякого опыта». Субъективная дедукция свободна от этого требования. Ее предметом является сознание как «причина к данному действию», т. е. к действию, раскрываемому в объективной дедукции.
Другими словами, субъективная дедукция есть попытка выявить самые глубинные слои сознания, или, в кантовской терминологии, возможность самого чистого рассудка, т. е. возможность чистого синтеза. Это не означает, однако, что объективная и субъективная дедукции суть два разных исследования; они две стороны одного и того же исследования и поэтому невозможны одна без другой. Способность самого мышления невозможно рассмотреть без предметности мышления, а предметное применение категорий невозможно рассмотреть без основания категориального синтеза. Но все же возможны различные акценты и тенденции в исследовании, которые существенно изменяют не только его характер, но и глубину.
Субъективная дедукция задумана, по существу, как испытание возможной глубины изучения сознания, как нахождение последнего «фундамента» сознания, как поиск предельной возможности анализа чистого синтеза. Вопрос в том, осуществил ли Кант субъективную дедукцию.
«Субъективная сторона трансцендентальной дедукции никогда не может отсутствовать, – пишет Хайдеггер, – но, пожалуй, ее эксплицитная разработка может быть отложена»[10]. Хайдеггер считает, что «Кант не осуществил субъективную дедукцию» и «субъективность субъекта» не раскрылась поэтому в новом свете.
Различая первое и второе издания «Критики чистого разума» по роли трансцендентальной силы воображения и времени, Хайдеггер тем не менее не усматривает различия между изданиями в отношении двух сторон дедукции. Между тем последнее различие глубже, чем первое, и определяет его. Именно в первом издании Кант предпринял попытку эксплицировать субъективную сторону дедукции, тогда как во втором Кант действительно отказался от этого.
Экспликация субъективной дедукции концентрируется, по нашему мнению, в рассмотрении трех синтезов (схватывания в восприятии, воспроизведения в воображении и рекогниции в понятии). Однако и в дальнейшем изложении дедукции в первом издании акцент сделан Кантом на ее субъективной стороне[11]. Хайдеггер не связывает изменения во втором издании с двумя сторонами дедукции именно потому, что ему пришлось бы признать в таком случае наличие субъективной дедукции в первом издании.
Субъективная дедукция выходит за пределы чисто критических целей (предохранения от заблуждений, т. е. доказательства, что в познании категории могут иметь только предметное применение). Кант раскрывает здесь необходимое взаимопроникновение восприятия, воображения, памяти и предметного отношения сознания. Такое исследование явно выходит за рамки теории познания, цель которой состоит в выявлении условий возможности естественнонаучного познания и ограничения сферы познания в целом.
§ 2. Время и субъективная дедукция
Кант описывает взаимосвязь синтезов аппрегензии (схватывания)[12] в созерцании, воспроизведения в воображении и рекогниции в понятии и выявляет четвертый синтез, необходимо лежащий в основе каждого из них и в основе их взаимосвязи, – продуктивный синтез воображения. Непосредственно Кант приходит к выводу о необходимости этого синтеза, рассматривая синтез воспроизведения в воображении. «Нужно допустить, – пишет Кант, – существование чистого трансцендентального синтеза силы воображения; который лежит в основе самой возможности всякого опыта…» (А 101–102; Т. 3, 703). Более определенно: «А priori, однако, может иметь место только продуктивный синтез силы воображения, так как репродуктивный синтез опирается на условия опыта» (А 118; Т. 3, 712).
Синтез воображения лежит в основе не только синтеза воспроизведения, но и синтеза схватывания. «…B нас есть деятельная способность синтеза этого многообразного, которую мы называем силой воображения; его деятельность, направленную непосредственно на восприятия, я называю аппрегензией», – пишет Кант и добавляет в примечании: «Что сила воображения есть необходимая составная часть самого восприятия, об этом, пожалуй, еще не думал ни один психолог» (А 120; Т. 3, 713).
Доказательство связи синтезов схватывания и воспроизведения возможно и без содержательной стороны дела (она изложена у Канта), однако приведение соответствующих цитат оказалось необходимым для демонстрации наличия субъективной дедукции. Сложнее дело обстоит с синтезом рекогниции в понятии. Уже сам термин «рекогниция» должен быть интерпретирован. Для этого мы восстановим слово, пропущенное Кантом в названии всех синтезов. Это слово – «многообразное». Таким образом, мы имеем, во-первых, синтез схватывания многообразного в созерцании, синтез воспроизведения многообразного в воображении и синтез рекогниции многообразного в понятии. Уже название последнего синтеза показывает, что рекогниция не есть узнавание или опознавание многообразного. Многообразное нуждается не в опознании, но в особом понятийном синтезе, который выражает предметность сознания. По существу, в третьем синтезе объективная и субъективная стороны дедукции совпадают.
В восприятии многообразное схватывается, благодаря действию воображения оно удерживается и может быть воспроизведено. Однако два первых синтеза не выявляют принципа отношения сознания к предмету. Кант раскрывает это отношение следующим рассуждением. С одной стороны, «предмет, который соответствует познанию и, следовательно, отличается от него… должно мыслить только как нечто вообще = X..» (А 104; Т. 3, 704). С другой стороны, этот X есть нечто сопротивляющееся тому, чтобы наше познание было произвольным. Иначе говоря, предмет есть нечто противоположное хаосу, и в этом заключается момент необходимости в отношении познания к предмету. Отсюда Кант делает вывод, что «единство, которое предмет делает необходимым, может быть лишь формальным единством сознания в синтезе многообразного представлений» (А 105; Т. 3, 704). Многообразное уже связано в созерцании, и синтез рекогниции вносит в эту связь единство правила. Здесь Кант считает необходимым подчеркнуть, что рекогниция неразрывно связана с воспроизведением: «Понятие по своей форме всегда есть нечто общее, служащее правилом… Но правилом созерцаний это может быть только в силу того, что оно представляет в данных явлениях необходимое воспроизведение их многообразного, следовательно, синтетическое единство в осознании их» (А 106; Т. 3, 705). То, что синтез рекогниции присутствует в двух первых синтезах, означает, что отношение к предметности как законосообразной имеет место и в синтезе схватывания (аппрегензии), и в синтезе воспроизведения.
Рекогниция есть предметное удостоверение многообразного, многообразное признается существующим по правилам, т. е. законосообразным. В то же время рекогниция есть удостоверение сознания в законосообразной предметности, сознание удостоверяет свое единство в схватывании и воспроизведении многообразного, или признает себя тождественным в каждом конкретном отношении к предметности. Здесь сознание достигает понятийного уровня, ибо определения отношения сознания к предметности суть не что иное, как категории. Рекогниция в понятии есть, собственно говоря, основа различия субъекта и объекта в познании, поскольку рекогниция есть выделение двух необходимых полюсов – единства сознания и «связи представлений согласно законам». Рекогниция в понятии может быть также названа схватыванием или постижением в понятии, однако, в отличие от схватывания, в созерцании понятие[13] «объединяет в одно представление многообразное, постепенно (nach und nach) даваемое в созерцании, а затем там же воспроизведенное» (А 103; Т. 3, 704). Необходимое объединение многообразного в одно представление указывает на трансцендентальное условие, которое «есть не что иное, как трансцендентальная апперцепция» (А 106–107; Т.3, 705).
Существенным отличием первого издания, где акцент был сделан Кантом на субъективной дедукции, является то, что Кант постепенно приходит к необходимости трансцендентальной апперцепции, осуществляя реальное наблюдение за работой сознания. Во втором издании, где основные усилия Кант сосредоточивает на объективной дедукции, т. е. где основной проблемой становится предметное содержание сознания, трансцендентальная апперцепция сразу же вводится в трансцендентальной дедукции категорий как основа всякой связи вообще и приобретает в большинстве интерпретаций статус не только самой фундаментальной, но и, по существу, единственной структуры познающего сознания[14].
Рассмотрение трансцендентальной апперцепции вне синтезов схватывания и воспроизведения есть не что иное, как дуализм рассудка и чувственности, который в полной мере может быть приписан Канту только при ориентации на второе издание. Изоляция трансцендентальной апперцепции в объективной дедукции приводит к тому, что на второй план отходит основная, согласно Канту, проблема познания: как возможны синтетические суждения a priori. Поскольку трансцендентальная апперцепция не есть искомый посредник всех синтетических суждений, она не может быть единственной структурой, лежащей в основе творческой активности сознания.
Иначе говоря, трансцендентальная апперцепция необходима, но недостаточна для решения проблемы возникновения нового знания.
Такое тривиальное заключение ведет к нетривиальному, на наш взгляд, следствию о необходимости субъективной дедукции для решения этой проблемы. Речь идет не о том, чтобы открыть причину творчества, но о том, чтобы в описании работы сознания указать на слой в сознании, который представлял бы субъективную необходимость творчества, вынужденность творческой активности в познании. У Канта этот слой – продуктивный синтез воображения.
Таким образом, рассмотрение «познавательной способности» в «Критике чистого разума» принципиально не сводится к предохранению познания от заблуждений, т. е. к критике. В основе теории познания Канта лежит определенное понимание сознания, которое эксплицируется в виде очерка о взаимопроникновении трех видов синтеза и о необходимости продуктивного синтеза, лежащего в их основе.
Этот очерк – одно из следствий того, что Кант отказывается, с одной стороны, от натурализма, т. е. от рассмотрения процесса познания как обусловленного природой, а с другой стороны, от априоризма предшествующего рационализма с его явным или неявным допущением актуальной бесконечности знания. Кант не принимает воззрений философии XVI–XVII вв., согласно которым природа – это книга, уже написанная божественным интеллектом (по Галилею, в частности, на языке математики), и задача состоит в том, чтобы прочитать ее. Согласно Канту человек сам пишет эту книгу и главным орудием его является продуктивное воображение.
Время в субъективной дедукции есть средство описания синтезов и, следовательно, средство измерения глубины сознания. Парадокс состоит в том, что само средство описания оказывается наиболее фундаментальным слоем описываемого «предмета», т. е. сознания. Сознание, однако, нельзя назвать даже предметом особого рода, оно квазипредмет, описание которого воссоздает или актуализирует то, что намечалось описать. Иначе говоря, описание какого-либо «свойства» сознания подразумевает уже его осуществление, а средствами описания сознания могут быть только существенные его характеристики. Кант впервые осуществил процедуру темпорального описания синтезов сознания, полагая время в качестве фундаментального слоя сознания и подтверждая это в описании.
«Откуда бы ни происходили наши представления, – пишет Кант, – …они как модификации души принадлежат к внутреннему чувству и как таковые все наши познания в конце концов подчинены формальному условию внутреннего чувства, а именно времени, в котором они в целом должны быть упорядочены, связаны и соотнесены» (А 98–99; Т.3, 701). «Это общее замечание, – указывает Кант, – должно быть положено в основу при дальнейшем изложении» (там же).
Синтез схватывания Кант раскрывает как единство последовательности: созерцание возможно благодаря различию времени в следовании впечатлений друг за другом. Созерцание возможно благодаря тому, что многообразное просматривается или обозревается как последовательность впечатлений. Последовательность, таким образом, для Канта – одно из различий времени, которое представляет собой последнюю отсылку в объяснении возможности созерцания или восприятия. В дальнейшем Гуссерль поставит вопрос о возможности сознания последовательности и речь пойдет уже об объяснении возможности восприятия самой последовательности с помощью более тонких временных структур.
Вторая необходимая сторона синтеза аппрегензии заключается в том, чтобы собрать многообразное вместе, т. е. как содержащееся в одном представлении. Это уже действие синтеза рекогниции, необходимо присутствующего в синтезе схватывания, который придает последовательности просмотра (Durchlaufen) многообразного предметный характер. В отношении времени это означает: схватить последовательность в моментальном временном срезе, представить моменты последовательности в качестве одновременно существующих.
Синтез воспроизведения также рассматривается Кантом как схватывание одновременности и последовательности в воображении, т. е. без непосредственного присутствия предмета. Описание синтеза воображения вводится Кантом на временном языке: «…Представления, часто (курсив мой. – В. М.) следовавшие друг за другом или сопутствовавшие друг другу, в конце концов ассоциируются (vergesellschaften)…» (А 100; Т.3, 702). Таким образом, ассоциация, или «обобществление» представлений, становится возможной благодаря частоте (временная характеристика) их появления в сознании. Одновременность и последовательность характеризуют здесь уже не единство впечатлений в созерцании, но возможность воспроизвести определенный порядок следования одних и тех же представлений.
Иначе говоря, если в описании первого синтеза речь идет об идентификации многообразного как предмета созерцания, то в описании второго синтеза говорится об идентификации представлений, которая позволяет воспроизводить ранее воспринятые предметы. Одновременность и последовательность в первых двух синтезах находятся как бы на разных уровнях, хотя у Канта нет четкого отличия этих уровней, поскольку это не входило в его задачу.
Проблема возможности схватывания в сознании самой последовательности и одновременности, т. е. проблема возможности схватывания самих временных различий, привела Гуссерля к необходимости по-другому различать временные структуры восприятия и памяти. Гуссерль сделал акцент не на рассмотрении предметности восприятия, а на его временности, темпоральной протяжности. Гуссерль подчеркивал невозможность единичного восприятия (понятие горизонта) и в качестве предмета феноменологического описания рассматривал «поток» восприятий, оформленный структурой «ретенция-теперь-протенция».
Если у Канта восприятие «собирает» из впечатлений представление, а память «собирает» из представлений ассоциацию, то у Гуссерля структура памяти формально тождественна структуре восприятия, т. е. структуре первичных временных фаз. Указанное различие обусловлено, конечно, разными исходными проблемами, и в частности тем, что Кант рассматривает память как воспроизведение в сознании тех же самых предметов, но уже без их присутствия, а Гуссерль рассматривает возможность воспроизведения переживания восприятия, т. е. того контекста, в который восприятие было первоначально погружено.
Однако сравнение, которое предвосхищает рассмотрение гуссерлевского учения о времени, позволяет сделать весьма существенный вывод: Гуссерль, в отличие от Канта, говорит о времени на языке времени, т. е. рассматривает возможность схватывания временных различий на языке первичных временных фаз – «ретенции-теперь-протенции». Кант говорит о синтезах схватывания в созерцании и воспроизведении в воображении на языке времени, но говоря о самом времени, Кант не использует временной язык и определяет время функционально – по той роли, которую время играет в структуре познавательной способности. Иначе говоря, Кант замыкает круг «слишком рано», рассматривая соединение чувственности и рассудка как временные синтезы, а время – как посредник чувственности и рассудка.
Рассматривает ли Кант синтез рекогниции в понятии как временной синтез? Форма таким образом поставленного вопроса предусматривает отрицательный или положительный ответ. Первый дают неокантианцы, второй – Хайдеггер. Однако этот спор вызван некорректной постановкой вопроса, которая неявно содержит в себе допущение самостоятельного существования синтеза рекогниции[15].
Синтез рекогниции в понятии выделяется, как известно, Кантом в качестве одного из трех синтезов, но они не есть синтезы одного уровня. Синтезы восприятия и воображения – это синтезы, самостоятельность которых констатируется эмпирически. Другими словами, существует принципиальная возможность отделить в «эмпирическом сознании» восприятие от памяти, память от воображения и т. д. Критерием самостоятельности, таким образом, является эмпирическая осуществимость того или иного синтеза. Синтез рекогниции не есть один из синтезов наряду с восприятием, памятью и воображением, он участвует в построении каждого из эмпирически осуществимых синтезов и придает им предметный характер. Благодаря синтезу рекогниции в понятии восприятие и воображение получают статус познания. Рекогниция в понятии радикально отличается от гегелевского познания в понятиях. Описание синтеза рекогниции раскрывает принципиальную несамостоятельность понятий в познании: понятие придает единство схватыванию в восприятии и воспроизведению в воображении. Синтез рекогниции, или трансцендентальная апперцепция, есть, таким образом, неустранимый элемент в субъективной дедукции категорий. Во втором издании Кант сделал этот элемент главным и, по существу, единственным в дедукции категорий, и это дало возможность, реализованную неокантианцами, истолковывать трансцендентальную апперцепцию как вневременное чистое мышление, понимая чистое мышление скорее по-гегелевски. Ошибочность такой интерпретации заключается в том, что трансцендентальная апперцепция рассматривается в ней как логическая структура, а синтетическое единство апперцепции понимается как основа творческой силы логического мышления. Одной из причин такой субстантивации апперцепции было то, что вне поля зрения неокантианцев оказался способ, каким Кант вводит в рассмотрение трансцендентальную апперцепцию в первое издание. Кант начинает рассмотрение синтеза рекогниции в понятии, описывая синтез воспроизведения: «Без сознания, что то, что мы мыслим, есть именно то, что мы мыслили в мгновение до этого, всякое воспроизведение в ряду представлений было бы тщетным» (А 103; Т. 3, 703)[16]. Синтез рекогниции раскрывается Кантом как необходимое условие синтеза воспроизведения, который неразрывно связан с синтезом схватывания и в свою очередь является необходимым условием возможности последнего.
Субстантивация трансцендентальной апперцепции является результатом того, что в неокантианстве этот термин употребляется в несколько ином, чем у Канта, контексте. У Канта речь идет о возможности опыта, исходным моментом которого является именно синтез схватывания в созерцании, который, согласно Канту, «составляет трансцендентальную основу возможности всех познаний вообще (не только эмпирических, но также чистых a priori)…» (А 102; Т. 3, 703). Трансцендентальная апперцепция не есть, таким образом, чистое мышление, развивающееся независимо от чувственного опыта. Она есть независимое от опыта условие возможности созерцания и условие возможности воспроизведения созерцаний.
Таким образом, синтез схватывания предусматривает возможность воспроизвести схватывание, воспроизведение предусматривает тождество воспроизводимого с самим собой. Тождество в созерцании делает возможным представление о предметах, тождество в воспроизведении «создает из всех возможных явлений, могущих находиться вместе в одном опыте, связь этих представлений согласно законам» (А 108; Т. 3, 706). Предметность и законосообразность представлений означают в субъективном отношении необходимость логической формы всякого познания. Однако именно рассмотрение трансцендентальной апперцепции как тождества в созерцании и воспроизведении говорит о том, что логическая форма есть необходимый, но недостаточный и даже не высший принцип познания. Неразрывная связь трех синтезов конкретно раскрывает мысль Канта о невозможности чисто интеллектуального познания. Рассмотрение взаимосвязи синтезов доказывает, что выделение функций чувственности и рассудка в познании имеет целью не отделение их друг от друга, но преодоление их обособленности.
Вопрос, является ли синтез рекогниции в понятии временным, или, иначе говоря, обладает ли трансцендентальная апперцепция темпоральными характеристиками, должен быть переформулирован следующим образом: характеризует ли синтез рекогниции сознание как темпорально организованное?
Утвердительный ответ на этот вопрос очевиден: трансцендентальная апперцепция участвует, во-первых, в осуществлении созерцания, придавая единство последовательности впечатлений, а во-вторых, в осуществлении воспроизведения, придавая не только тождество воспроизводимым представлениям, но и закономерный характер последовательности представлений. Иными словами, если время, по Канту, есть упорядочение представлений, то апперцепция есть необходимый компонент этого упорядочения. Это опять-таки означает не темпоральность апперцепции, но прежде всего то, что время есть конкретное единство чувственных созерцаний и рассудочных понятий, причем ни первые, ни вторые не существуют в познании обособленно.
В трансцендентальной дедукции категорий (в том виде, в котором она представлена в первом издании) Кант исследует условия возможности действительного опыта, т. е. приводит описание необходимых характеристик эмпирически осуществляемых восприятия и воспроизведения. Эти необходимые характеристики выявляются как темпоральные. Кант не описывает какое-либо определенное восприятие, но описание темпоральных характеристик восприятия и воспроизведения есть результат рефлексии на определенные единичные восприятия (и воспроизведения) или на их комплексы. Синтез рекогниции, или трансцендентальная апперцепция, также вводится в рассмотрение, как мы уже показали, через описание темпоральных характеристик опыта. Кант вводит чистую апперцепцию как необходимую функцию сознания в последовательности представлений: «Я мыслю должно быть способно сопровождать все мои представления…» (В 131; Т.3, 191). Чистая апперцепция сопровождает представления, и если синтез присоединяет одно представление к другому, то единство синтеза, или правило, благодаря которому последовательность представлений предстает законосообразной, а последовательность впечатлений обретает предметные контуры, составляет противоположную последовательности, но необходимую темпоральную характеристику сознания – одновременность.
Правило есть не что иное, как удержание определенных представлений, синтетически присоединяющихся друг к другу в качестве существующих «всегда вместе», т. е. одновременно. Иначе говоря, правило есть закрепление определенных последовательностей представлений в устойчивые формы, в которых представления существуют одновременно. В этом смысле правило, по которому мы рисуем треугольник, есть закрепление синтеза представлений при построении треугольника в форме треугольника, где последовательные при построении представления существуют одновременно.
Субъективным коррелятом предметности представлений, т. е. закреплением представлений в определенные воспроизводимые формы, является необходимость отнесения всех представлений к одному и тому же сознанию представляющего. Другими словами, предметность представлений имеет своим коррелятом «Я мыслю». Взаимосвязь синтезов восприятия, воспроизведения и рекогниции показывает, что «Я» у Канта не представляет собой субстанции, полагаемой в качестве основы сознания. «Я» или «Я мыслю» вводится Кантом только на определенном уровне рассмотрения возможности опыта. «Я» возникает как необходимый коррелят предметности, как необходимый коррелят устойчивых форм в понятийном синтезе. В отношении «Я» верно то же самое, что и в отношении его объективного коррелята – трансцендентальной апперцепции: «Я» не есть ни темпоральная, ни внетемпоральная структура, однако «Я» есть необходимое условие темпоральности сознания.
Описание сознания как взаимопроникновения трех синтезов есть результат осуществления Кантом реальной рефлексии на реальную деятельность сознания. Это говорит о том, что у Канта нет противопоставления трансцендентального и эмпирического. Было бы заблуждением считать, что трансцендентальная философия исследует нечто независимое от опыта или априорное.
Только с точки зрения трансцендентального, возможно, по Канту, противопоставление априорного и эмпирического. Трансцендентальное познание рассматривает возможность априорного познания и тем самым возможность эмпирического познания, поскольку априорное оказывается формой опыта и тем самым необходимо для опыта.
Предметом трансцендентального познания является единство априорного и эмпирического, т. е. процесс познания, который начинается с опыта, постоянно соотнесен с опытом, но который к опыту не сводится. Целью трансцендентального познания является отделение формы опыта от его содержания, что, собственно говоря, доказывает, согласно Канту, существование априорных условий возможного опыта и тем самым несводимость познания к опыту.
§ 3. Время и рефлексия. Различия между первым и вторым изданиями «Критики чистого разума»
Предмет, цели и выводы кантовского трансцендентализма неоднократно подвергались интерпретации. Однако, насколько нам известно, средства осуществления трансцендентального познания еще не попадали в поле зрения исследователей кантовской философии. Как бы ни интерпретировалась кантовская философия, трансцендентализм понимается как умозрительная конструкция, схема взаимодействия чувственности, рассудка и разума, принципов их соединения и разграничения. При таком понимании кантовский трансцендентализм предстает только как методологическая конструкция, т. е. как определенный ряд логически связанных принципов-результатов.
Рассмотрение взаимосвязи временных характеристик трех кантовских синтезов позволяет сделать вывод о том, что рефлексия как реальное наблюдение за реальными действиями сознания (восприятие, воспроизведение и т. п.) является центральной точкой трансцендентальной дедукции категорий, наиболее важной, согласно Канту, части исследования познавательной способности.
Кант дважды сетует на трудности дедукции категорий, и оба раза – в первом издании. На первый взгляд кажется, что в предисловии Кант пишет только о субъективных трудностях, отмечая, что дедукция чистых рассудочных понятий стоила ему «наибольшего труда» (А XVI; Т. 3, 78). Однако здесь же Кант оценивает задуманное им исследование как достаточно глубокое, и это указывает на объективный характер трудностей. В предварительном замечании к рассмотрению синтезов Кант пишет уже исключительно об объективных трудностях: «Дедукция категорий связана с таким множеством трудностей и вынуждает так глубоко проникать в первые основания возможности нашего познания…» (А 98; Т. 3, 701).
Кант фиксирует неизбежные трудности в исследовании познавательной способности, но это не те трудности, которые встретились ему как человеку, обладающему определенными психологическими особенностями, а другому, скажем, более талантливому или удачливому исследователю могут и не встретиться. Речь идет о трудностях, на которые наталкивается философская рефлексия при наблюдении за неразложимыми в анализе действиями сознания, такими как единство последовательности и одновременности в восприятии и воспроизведении.
Такого рода «трудности» есть признак того, что философская рефлексия выходит за пределы метода, подражающего естествознанию. Субъективные источники познания (чувство, воображение и апперцепция) Кант рассматривает сначала в эмпирическом аспекте, описывая синтезы, а затем уже делает «трансцендентальные допущения» о существовании соответствующих априорных синтезов. В описании синтезов исследование наталкивается на такой слой сознания, который полностью соответствует способу описания.
Более того, слой сознания, на который наталкивается рефлексия, а именно первичные темпоральные отношения (последовательность и одновременность), предопределяет способ своего описания. Последовательность не может быть описана иначе как последовательность, одновременность – как одновременность. Это первичные структуры сознания, которые являются как предметом, так и средством описания. Способ описания сознания приходит в соприкосновение с таким слоем сознания, который, с одной стороны, выявляется только в описании, а с другой стороны, не только не зависит от способа описания, но и навязывает единственно возможный, темпоральный, способ. Иначе говоря, описание темпоральных характеристик восприятия, воспроизведения и предметности сознания (рекогниции) не есть лишь один из возможных способов описания сознания. Кант показывает необходимость описания единства последовательности и одновременности при описании синтезов, понятых как субъективные источники познания. Описание сознания приходит в соприкосновение с реальной, независимой от способа описания работой сознания (спонтанность сознания), но эта реальность становится реальностью для сознания только в описании и благодаря описанию. Сознание как предмет исследования существенно отличается тем самым от предмета естествознания, в котором, согласно Канту, разум видит то, что первоначально в него вложил. Если рассудок предписывает законы природе, то рефлексия не предписывает законы сознанию, но выявляет и проясняет эти законы, выявляя и проясняя при этом свою собственную специфику.
Важно отметить, что Кант говорит лишь о подражании методу естествознания, поскольку эксперимент с объектами положений чистого разума невозможен, особенно когда они выходят за пределы всякого опыта. Согласно Канту необходимо подвергнуть испытанию разделение чистого априорного познания на два весьма разнородных элемента – познание вещей как явлений и самих вещей в себе. Если при этом разделении и, следовательно, двояком рассмотрении одних и тех же предметов, с одной стороны, как предметов чувств и рассудка для опыта, с другой стороны, как предметов, которые мы только мыслим и которые существуют только для изолированного и стремящегося за пределы опыта разума, имеет место согласие с принципом чистого разума – идеей безусловного, а при рассмотрении лишь с одной точки зрения возникает противоречие разума с самим собой (безусловное нельзя мыслить без противоречия, если предположить, что приобретенное опытом знание сообразуется с вещами в себе), то эксперимент подтверждает правильность первоначального разделения (B XIX – B XXII; Т.3, 88–91).
Таким образом, Кант применяет метод, подражающий естествознанию, прежде всего для того, чтобы убедиться в правильности кардинального различения своей философии – между явлениями и вещами в себе. Однако при раскрытии структуры познавательной способности, имеющей дело с явлениями, на такой метод накладывается существенное ограничение: рефлексия может воспроизвести предполагаемые структуры сознания и тем самым подтвердить свои гипотезы, но сам характер этих гипотез, т. е. сам тип рефлексии, обусловлен определенными структурами сознания.
Выделение третьего уровня рефлексии – отнесения данных представлений к источникам познания – указывает на необходимость элемента ретроспективности в трансцендентализме. Философская рефлексия не есть создание теоретических схем, проверяемых на опыте.
Рефлексия выявляет прежде всего свой предмет, поскольку предметом рефлексии является не сознание вообще, не сознание, взятое абстрактно, но уже определенным образом понятое сознание. Это первичное понимание сознания не зависит от рефлексии, определяет способ рефлексии, но в то же время оно само может быть выявлено только в рефлексии.
Круг «рефлексия-сознание» принадлежит к существенным чертам кантовского трансцендентализма. Первичное понимание сознания для Канта – это продуктивное воображение и априорные синтезы. Основным предметом философской рефлексии является у Канта возможность синтетических суждений a priori. Продуктивное воображение не зависит от рефлексии и определяет способ ее осуществления – рефлексия принимает форму трансцендентальной дедукции категорий, в ней чистая сила воображения раскрывается как «основная способность человеческой души, которая лежит в основе всего познания a priori» (А 124; Т. 3, 716). Таким образом, независимая от рефлексии сила воображения выявляет свои фундаментальные функции только в рефлексии.
Необходимым элементом круга «сознание-рефлексия» является время. Собственно говоря, это есть круг «сознание-время-рефлексия». Все наши представления упорядочиваются благодаря форме внутреннего чувства, т. е. времени, и рефлексия направлена на описание сущностных возможностей этого упорядочения.
Третий уровень рефлексии – рассмотрение «амфиболии рефлексивных понятий» – подтверждает то, что время есть основное средство трансцендентальной рефлексии. Понятия материи и формы «лежат в основе всякой другой рефлексии, до такой степени они неразрывно связаны со всяким применением рассудка» (А 266; Т. 3, 318). Кант указывает, по существу, что основной шаг, предохраняющий от смешения эмпирического применения рассудка с трансцендентальным состоит в выделении формы чувственности как первоначального условия всякого восприятия.
Таким образом, исходным моментом философской рефлексии является, по Канту, отделение формы чувственности от ее материи, которое дает возможность поставить вопрос о форме опыта. Амфиболия рефлексивных понятий подтверждает, собственно говоря, необходимость трансцендентальной эстетики как исходного пункта трансцендентальной философии.
Время не есть у Канта исходный предмет исследования. Кант отказывается от вопроса «Что такое время?» и тем самым отказывается от непосредственного ответа на этот вопрос. Однако при постановке и решении проблем возможности опыта и возможности синтетических суждений a priori именно время становится основным предметом рефлексивного описания. Хотя «Критика чистого разума» не трактат о времени, исследование познавательной способности приводит Канта к необходимости не только придать времени ключевые функции (формы чувственности и трансцендентальной схемы), но и сделать предметом описания временные характеристики взаимной необходимости синтезов восприятия, воспроизведения и рекогниции.
Трудности, с которыми столкнулся Кант в дедукции категорий, не субъективные, или психологические. Трудности понимания, о которых Кант предупреждал читателя, также не сводятся к риторическому приему. Кант зафиксировал здесь, по существу, отличие философских затруднений от естественнонаучных. Трудности, которые ощутил Кант, связаны с попыткой систематизации результатов исследования, которые не были получены методом экспериментального естествознания (в кантовском понимании последнего). Иначе говоря, эти трудности связаны с систематизацией того, что разум не вложил в предмет заранее. Это трудности не теоретического характера, но специфически философские трудности[17]. Рефлексия в описании темпоральных характеристик сознания наталкивается на свой собственный предел и тем самым выявляет характеристики сознания, независимые от заранее принятых в отношении сознания схем. Эта независимость не является безусловной и представляет собой, как мы уже показали, не редуцируемое к другим звено в круге «рефлексия-время-сознание». Здесь, однако, существенно подчеркнуть другое: описание временных характеристик сознания, выделение ключевых функций времени в познавательной способности, сближение времени с продуктивным воображением не столько подкрепляет, сколько разрушает первично принятую схему разделения познавательной способности на чувственность и рассудок. Принимая это разделение в качестве исходного момента рассмотрения познания, Кант затем показывает, что в познании их нет как таковых.
Изменения, которые внес Кант во второе издание «Критики чистого разума», касаются в основном «трансцендентальной дедукции категорий». Кант делает здесь акцент на объективной дедукции; единственной проблемой дедукции становится предметность категорий. Трансцендентальная рефлексия превращается в методологическую конструкцию, стержнем которой становится трансцендентальная апперцепция. Каково происхождение этой конструкции?
Очевидно, что дедукция, как она представлена во втором издании, не имеет самостоятельного рефлексивного источника, т. е. не возникает в результате рефлексии на определенные способы эмпирических действий сознания. Источником дедукции во втором издании являются результаты дедукции первого издания, добытые посредством реальной рефлексии. Дедукция второго издания есть систематизация дедукции первого издания, в которой полностью элиминировано изложение реального рефлексивного наблюдения. Во втором издании Кант максимально приближает способ осуществления дедукции к экспериментальному методу естествознания. Основой кантовских рассуждений становится понятие связи, которую мы привносим в предмет.
Изменяются ли кардинально функции времени и воображения, претерпевает ли кардинальное изменение учение Канта в целом?
Время и воображение сохраняют центральное место в трансцендентальной философии и во втором издании. Однако структурные изменения, которые произвел Кант, исключили из рассмотрения взаимосвязь восприятия, воспроизведения, апперцепции и воображения. Самым существенным моментом здесь является изъятие репродуктивной способности воображения из числа трансцендентальных способностей души. Во втором издании синтез репродуктивной способности воображения Кант относит не к трансцендентальной философии, а к психологии (В 152; Т. 3, 205). Не продуктивное, но репродуктивное воображение теряет свои функции при отказе от субъективной стороны дедукции. В первом издании Кантом была предпринята попытка выявить конститутивную, «созидающую» функцию рефлексии. Синтез воспроизведения в воображении содержит в себе не только и не столько возможность ретроспективного воспроизведения опыта, сколько возможность его дальнейшего осуществления. Во втором издании рефлексия утрачивает свои конститутивные свойства – возможность следовать за созданием новых горизонтов опыта. Рефлексия превращается в статичную методологическую конструкцию именно потому, что Кант убирает звено, связывавшее восприятие и апперцепцию, – звено, благодаря которому опыт раскрывался как воспроизводимый и воспроизводящийся, т. е. как темпорально протяженный.
Во втором издании Кант подчеркивает объективную сторону дедукции. При этом он вынужден исходить не из трех субъективных источников познания (чувство, воображение и апперцепция), но из двух необходимых начал или элементов познания – чувственности и рассудка. Если результатом субъективной дедукции явилось взаимопроникновение синтезов восприятия, воспроизведения и рекогниции на основе синтеза продуктивного воображения, то результатом объективной дедукции явилось конкретное единство чувственности и рассудка, которое воплотилось опять-таки в трансцендентальном синтезе воображения. Иначе говоря, если в субъективной дедукции воображение есть исходный пункт рефлексии (как репродуктивный синтез и как продуктивный синтез, лежащий в основе всех трех синтезов), то в объективной дедукции воображение есть результат построения системы абстракций, смыкающих чувственность и рассудок. Акцент на рассмотрении объективной дедукции способствовал тому, что трансцендентальная эстетика и трансцендентальная аналитика превратились в последовательно разворачиваемую систему абстракций, конечной целью которой является смыкание в конкретном единстве выделенных исходных моментов.
В § 10, который не претерпел изменений во втором издании, Кант пишет: «Синтез вообще, как мы увидим это дальше, есть исключительно действие силы воображения, слепой, хотя и необходимой функции души, без которой мы не имели бы никакого познания, хотя мы редко осознаем ее. Однако задача привести этот синтез к понятиям есть функция, которая подобает рассудку, лишь благодаря чему он добывает нам познание в собственном смысле слова» (А 78; Т. 3, 173).
Из приведенной цитаты ясно, что Кант различает здесь силу воображения и функцию рассудка, которая в дальнейшем примет название апперцепции. В первом издании Кант говорит о том, что чистая апперцепция дает принцип синтетического единства многообразного во всех возможных созерцаниях, но это синтетическое единство предполагает синтез или заключает его в себе. «Следовательно, – пишет Кант, – принцип необходимого единства чистого (продуктивного) синтеза силы воображения до апперцепции есть основание возможности всякого познания, особенно опыта» (А 118; Т. 3, 712).
В объективной дедукции второго издания Кант сразу же вводит понятие синтетического единства апперцепции, своеобразный гибрид продуктивного синтеза воображения и единства апперцепции. Синтез эксплицируется Кантом только как привнесение связи в многообразное созерцаний. Сила воображения подразумевается, но не рассматривается как основа единства апперцепции. Логика объективной дедукции не позволяет Канту выделять воображение в качестве самостоятельного источника познания. Уже не воображение связывает рассудок и чувственность, как в первом издании (А 124–125; Т. 3, 716), но рассудок принимает название синтеза воображения. Единство чувственности и рассудка доказывается не при помощи рефлексивного наблюдения взаимопроникновения трех синтезов, но при помощи принятия новых обозначений. Иначе говоря, единство чувственности и рассудка доказывается не посредством реально осуществляемого круга «рефлексия-время-сознание», но посредством вербального круга. Кант пишет: «Он (рассудок. – В. М.), под именем трансцендентального синтеза силы воображения оказывает на пассивный субъект, способностью которого он является, такое действие, о чем мы с полным правом говорим, что вследствие этого аффицируется внутреннее чувство» (В 153–154; Т. 3, 206). Круг совершается чисто терминологически: имеет место пассивный субъект, т. е. субъект, взятый абстрактно, вне познания; рассудок есть одна из способностей этого субъекта (Кант иногда вообще отождествляет рассудок со способностью познания); в процессе познания рассудок должен вступить во взаимодействие с чувственностью, т. е. аффицировать внутреннее чувство, привнести в него связь, придать смысл многообразию чувственных созерцаний, создать смысловой образ; такое действие рассудка на пассивный субъект, т. е. на чувственность, которая является другой его способностью, называется трансцендентальным синтезом воображения.
Результаты субъективной дедукции первого издания и результаты объективной дедукции второго издания совпадают, как мы видим, в отношении синтеза воображения как основной функции познавательной способности. Однако способы достижения одного и того же результата весьма различны, и это изменяет проблемную ситуацию в трансцендентальной философии Канта.
Как возможно, однако, при анализе сознания отделение результата от способа его получения?
Дело в том, что способ, по существу, один: это рефлексивное исследование взаимопроникновения трех синтезов. Другой способ установления синтеза воображения в качестве конкретного единства чувственности и рассудка есть способ изложения и систематизации рефлексивного наблюдения. Существенной особенностью этой систематизации является то, что она не включает в себя синтез воспроизведения, который является необходимым элементом как сознания, так и рефлексии. Тем самым систематизация объективной дедукции превращается в жесткий методологический каркас, в то время как в систематизации субъективной дедукции рефлексивное наблюдение сохраняет свое присутствие.
Однако и в объективной дедукции второго издания сохраняются следы рефлексии, раскрытой в первом издании: «Мы не можем мыслить линию без того, чтобы не провести ее мысленно… и даже время мы не можем представить без того, чтобы при проведении прямой линии (которая должна быть внешним образным представлением времени) не обратить внимание на действие синтеза многообразного, благодаря которому мы последовательно определяем внутреннее чувство и благодаря которому мы обращаем внимание на последовательность этого определения в том же самом [внутреннем чувстве]. Движение как действие субъекта (не как определение объекта)… вначале порождает даже понятие последовательности» (В 154–155; Т. 3, 206–207). И хотя здесь Кант делает вывод, что рассудок создает связь многообразного, воздействуя на внутреннее чувство, т. е. в определенном смысле противопоставляет их, он ведет описание на уровне субъективной дедукции, где такого противопоставления нет. Говоря о возможности наглядного представления времени, Кант описывает «движение субъекта» посредством последовательности – мы последовательно определяем внутреннее чувство – и тем самым замыкает круг, ибо последовательность есть одна из модификаций формы внутреннего чувства, т. е. времени. Изначальное порождение действием субъекта понятия последовательности означает, что последовательность как средство описания имеет своим источником последовательность как первичную форму внутреннего чувства.
Необходимость явного (первое издание) и неявного (второе издание) присутствия субъективной дедукции подтверждается тем, что «Аналитика основоположений» и особенно учение о схематизме являются естественным продолжением субъективной дедукции первого издания. Это свидетельствует о том, что объективная дедукция невозможна без субъективной дедукции, или, иначе говоря, критика как ограничение сферы познания невозможна без того, чтобы первичное понимание сознания не эксплицировалось бы в рефлексии.
§ 4. Время и сознание. Единство основных функций времени
В учении о схематизме сохраняется главное направление кантовской мысли, содержащейся в субъективной дедукции первого издания. Если в последней сознание рассматривалось как система взаимосвязанных фундаментальных синтезов, то в схематизме категориальное познание, или, более определенно, естественнонаучное познание, рассматривается Кантом как система темпоральных синтезов.
Функционирование категорий в познании Кант раскрывает как временные схемы. Речь идет у Канта не о том, что в познании имеет место ряд категорий, схемы которых есть применение категорий к предметам. Вне ограничивающего условия чувственности, т. е. без схем, категориям остается, по Канту, «только логическое значение исключительно единства представлений, которые, однако, не имеют никакого предмета и, следовательно, значения, которое могло бы дать понятие об объекте» (А 147; Т. 3, 227). В познании категории суть не что иное, как схемы, а схемы – «включения» категорий в познание.
Язык, на котором Кант перечисляет схемы «согласно порядку категорий», является субстанциалистским. Кант пишет о схеме количества, о схеме субстанции и т. д. Такой язык ориентирует на то, чтобы понимать схему и категорию как разные вещи. Однако кантовское разъяснение схем категорий показывает, что это не так. Схема категории – это функционирование категории в процессе познания. Покажем это на примере. «Схема действительности есть существование в определенное время», – пишет Кант (А 145; Т. 3, 225). Это означает, что в познании категория действительности функционирует как схватывание или понимание того, что предмет существует в определенное время. Но и в этой формулировке присутствует еще остаток субстанциализма, который можно убрать следующим образом: схватывание того, что предмет существует в определенное время, мы называем действительностью этого предмета. Аналогичным образом, схватывание того, что имеет место последовательность многообразного, подчиненная правилу, мы называем каузальностью; или схватывание того, что предмет существует во всякое время, мы называем необходимостью предмета.
Описание функционирования каждой категории (описание схем) осуществляется Кантом так же, как и описание трех синтезов: спонтанная деятельность рассудка (категории суть синтезы!) раскрывается при помощи первичных временных определений.
Кант дает темпоральные характеристики не только каждой категории, но и группам категорий: схема количества есть порождение (синтез) самого времени в последовательном схватывании предмета; схема качества есть синтез ощущения (восприятия) с представлением времени, т. е. наполнение времени; схема отношения – это соотношение восприятий между собой в любое время (т. е. по правилу временного определения); схема модальности – само время как коррелят определения предмета, принадлежит ли он и каким образом ко времени.
Из этого перечисления видно, что наиболее фундаментальным временным определением является для Канта последовательность, благодаря которой синтезируется само время и становится возможным его наполнение, т. е. схема качества. Схема качества раскрывается уже как единство последовательности и одновременности; по существу, схема качества у Канта аналогична гуссерлевской «поперечной интенциональности», поскольку здесь речь идет об идентификации определенного восприятия во временном ряду.
Схема отношения в свою очередь зависит от схемы качества, поскольку субстанция (первая категория в группе отношения) определяется как постоянность реального во времени, т. е. постоянность определенного наполнения времени. Схема причинности определяется как реальное, за которым следует нечто другое, а схема взаимодействия как «взаимная причинность» неявно содержит понятие реального. В целом схема отношения есть также единство последовательности и одновременности, однако функция одновременности выдвигается здесь на первый план, ибо речь идет об установлении различных типов упорядоченности восприятий «во всякое время».
Категория субстанции как постоянство реального во времени есть коррелят самого времени, которое, по Канту, есть неизменное и пребывающее. «Проходит не время, а существование изменчивого во времени», – замечает Кант (А 144; Т.3, 225). Согласно Канту только на основе субстанции можно определить последовательность и одновременность явлений по времени. Это означает, что если количество есть синтез времени как последовательности, а качество требует добавления одновременности, то субстанция дает представление о времени как о полноправном единстве последовательности и одновременности. Время неизменно в том смысле, что неизменно единство фундаментальных временных характеристик – последовательности и одновременности, которое определяют все виды существования (Dasein), «проходящего во времени». Схема субстанции, согласно Канту, есть представление реального как субстрата эмпирического временного определения. Иными словами, реальное есть первичный слой, или первичный материал, с которым оперирует эмпирическое временное определение. Речь идет у Канта не о том, чтобы эмпирически определить время, но об определении упорядоченности реального согласно временному определению. Причинность определяется как реальное, за которым следует нечто другое; взаимодействие – как взаимная причинность.
Субстанция и время (время как единство последовательности и одновременности) – корреляты, и это означает, что субстанция не есть у Канта нечто вневременное, а с другой стороны, время не есть нечто релятивное, возникающее и исчезающее в зависимости от того или иного объекта.
Схема субстанции наиболее отчетливо показывает, что все схемы у Канта есть движение в круге: с одной стороны, время характеризуется посредством субстанции – как неизменное и сохраняющееся, но с другой стороны, постоянность реального во времени уже подразумевает неизменные характеристики времени – последовательность и одновременность. Схема модальности также есть круг, поскольку схемы модальности и ее категорий содержат и делают представимым само время как коррелят определения предмета, а именно: является ли предмет временным (принадлежит ли он времени) и каким способом предмет «подключается» к времени (в какое-либо время – возможность, в определенное время – действительность, во всякое время – необходимость). Круг здесь заключается в том, что «само время» содержит в себе различия («когда-либо», «тогда-то», «всегда»), которые являются модальными характеристиками предмета, и наоборот, выделение указанных временных различий уже подразумевает такие характеристики предмета, как возможность, действительность, необходимость.
Наличие круга в раскрытии схем категорий показывает, что в познании категории не имеют, согласно Канту, какого-либо другого содержания, кроме определенных временных отношений. «Схемы суть не что иное, как временные определения a priori согласно правилам, и последние соответствуют по порядку категорий временному ряду, временному содержанию, временному порядку и, наконец, временной совокупности в отношении всех возможных предметов» (А 145; Т. 3, 226). Правила временных определений, таким образом, суть правила временного ряда, временного содержания, временного порядка и временной совокупности.
В учении о схематизме, как было показано выше, Кант использует ту же самую методологию, что и в субъективной дедукции первого издания, – синтетическая деятельность рассудка раскрывается посредством временных характеристик. Однако в схематизме Кант достигает существенно нового результата: дело не только в том, что Кант дает временные характеристики каждой категории, а не только трем фундаментальным синтезам сознания. В учении о схематизме Кант раскрывает самую глубокую функцию времени – придавать категориям значение. «…Схемы чистых понятий рассудка суть истинные и единственные условия, придающие этим понятиям отношение к объектам и тем самым значение…» (А 145–146; Т.3, 226). Таким образом, схемы как продукты чистого воображения суть временные определения и тем самым носители значений. Если не различать смысл (Sinn) и значение (Bedeutung), то главную функцию времени можно назвать смыслообразующей функцией.
Кантовский схематизм категорий свидетельствует о том, что попытки определить время через нечто другое не приводят к успеху, поскольку это другое оказывается уже подчиненным временному определению. Время, однако, не есть некоторое нейтральное по отношению к чувственности и рассудку бытие. Время есть необходимый посредник между ними, посредник, который соединяет в себе рассудочное (интеллектуальное) и чувственное. Именно такова, по Канту, трансцендентальная схема или трансцендентальное временное определение.
Другим важным результатом кантовского учения о схематизме является установленная здесь необходимая связь между сознанием и языком.
Известно, что еще Гаман и Гердер критиковали Канта за то, что он не сделал язык предметом специального анализа. Известно также и то, что В. Гумбольдт, принимая кантовскую точку зрения на процесс познания, указывал, что процесс формирования представления невозможен без помощи языка: «Деятельность органов чувств должна вступить в синтетическую связь с внутренним процессом деятельности духа; и лишь эта связь обусловливает возникновение представления, которое становится объектом, противопоставляясь субъективной силе, и, будучи заново воспринято в качестве такового, опять возвращается в сферу субъекта. Все это может происходить только при помощи языка. С его помощью духовное стремление прокладывает себе путь через уста во внешний мир, и затем, в результате этого стремления, воплощенного в слове, слово возвращается к уху говорящего. Таким образом, представление объективизируется, не отрываясь в то же время от субъекта, и весь этот процесс возможен только благодаря языку»[18]. Именно язык, согласно Гумбольдту, лежит в основе круга, который возвращает «духовное стремление» к себе самому.
Советский лингвист Г. В. Рамишвили справедливо отмечает, что в этих словах Гумбольдта воплотились две линии влияния: с одной стороны, Канта, когда Гумбольдт говорит о «синтетической связи», а с другой стороны, Гамана и Гердера, когда Гумбольдт говорит об обязательном участии языка в преобразовании субъективного в объективное[19].
Означает ли это, однако, что Кант полностью игнорировал проблему языка в «Критике чистого разума»? Конечно, Кант не рассматривал язык как посредника синтетической связи; естественный язык (о котором речь идет у Гумбольдта) не был предметом кантовских размышлений, тем более Кант не наделял его самостоятельной творческой силой. Эксплицитно вопрос о языке у Канта не стоит, но имплицитно он имеет место в рамках поставленного Кантом вопроса: «Как возможно чистое естествознание?»
Кант ставит вопрос противоположным образом: речь идет не о языке как средстве осуществления мышления, но о мышлении как средстве привести в движение язык[20]. Известное положение Канта о том, что рассудок есть способность составлять суждения, подтверждает это. Такой постановке вопроса соответствует кантовское ограничение – рассматривать суждения, в которых выражается научное знание. Иначе говоря, язык, который мышление должно привести в движение, есть язык теоретического естествознания, каркасом которого является кантовская таблица суждений.
Кант ставит в соответствие каждому виду суждений определенное чистое рассудочное понятие как гносеологическую основу суждения, а затем показывает возможность и необходимость применение категорий к явлениям. Тем самым Кант показывает возможность предметного воплощения чисто логических форм суждения. Поскольку схемы категорий суть временные определения, предметный язык, т. е. язык, в котором фиксируется связь явлений, есть язык временных определений. Язык при этом уже не играет роль пассивного материала, из которого рассудок составляет суждения. Сущностная связь категорий, соответствующих формам суждений, с временем и воображением позволяет сделать вывод о сущностной связи языка и времени в познании. Время как посредник между рассудком и чувственностью, время как носитель значений функционально сближается с языком, с помощью которого, как утверждал Гумбольдт, объективируется представление. Используя излюбленный кантовский способ выражения, можно сказать, что язык под названием времени объективирует представления, но не отрывает их от субъекта. Язык, так же как время, предстает у Канта то как пассивный материал, то как активный процесс. С одной стороны, язык предстает как таблица суждений, с другой стороны, терминологически Кант фиксирует активную роль языка в познании, когда говорит о синтетических суждениях a priori.
Способность составлять суждения – исходная характеристика рассудка и исходный момент трансцендентальной логики. Конечной ее задачей является ответ на вопрос, как возможны синтетические суждения a priori. Для этого Кант предпринимает «расчленение самой способности рассудка», в ходе которого оказывается, что уже не рассудок составляет синтетические суждения a priori, но они возможны благодаря единству чувственности и рассудка – времени. Именно время представляет собой опосредствующее звено (Medium) всех синтетических суждений, именно время как форма внутреннего чувства (а оно содержит все наши представления!) есть то, благодаря чему мы можем «выйти из данного понятия, чтобы рассмотреть в отношении с ним нечто совершенно другое, нежели то, что мыслилось в нем» (А 154; Т.3, 232). Время есть, таким образом, основа предметности языка и мышления, основа единства их творческой силы, при этом время не есть субстанция, существующая вне мышления и языка.
Функции времени суть основные средства в осуществлении целей кантовского трансцендентализма: показать предметность независимых от опыта понятий и показать сущностные возможности производства нового знания, т. е. творчества.
Время выполняет смыслообразующую функцию в познании. Это не означает, что, следуя Канту, мы должны искать смысл времени; наоборот, экспликация любого смысла подразумевает описание данного контекста во временных составляющих. При этом мы оговорили, что в этой формулировке не учитывается различие между смыслом и значением. Двойственная функция времени и функциональная близость времени и языка позволяют сделать попытку различить смысл и значение вне логических или лингвистических целей. Иначе говоря, различие проводится не в отношении логических или лингвистических объектов, например суждений, но в отношении сознания, различные функции которого раскрываются как функции времени. Речь идет, таким образом, не о смысле и значении суждений, но об их гносеологических коррелятах, или, говоря кантовским языком, об условиях возможности смысла и значения.
В данном контексте смысл можно определить как оформленное «чувственное данное». Суждение (или слово) имеет смысл, если ему, говоря кантовским языком, соответствует нечто в созерцании. Время, выполняя смыслообразующую функцию, выполняет тем самым предметную функцию. Значение, в отличие от смысла, указывает уже не только на возможность смысловой оформленности предметности, но на предоформленность смысла или на предоснову этой оформленности. Время как значение выполняет вторую свою функцию: время здесь уже основа возможности получения нового знания с помощью категорий.
У Канта значение понятий отождествляется с их отношением к объектам, т. е. значение связывается с эмпирическим применением категорий. Однако именно в эмпирическом применении категорий выявляется вторая фундаментальная роль времени, поскольку основой эмпирического применения является продуктивное воображение.
Значение и смысл не существуют отдельно друг от друга, их различие есть коррелят неотделимых друг от друга функций времени и априоризма в целом. Значение и смысл не являются в данном контексте характеристиками суждений, они суть характеристики сознания, «силы» двух взаимозависимых, но все же различных функций сознания.
Время как основа возможности получения нового знания содержит в себе активный и пассивный моменты, т. е. расщепляется еще на два функциональных компонента. В своей активной ипостаси время сближается с продуктивным воображением, которое является основой связи трех временных синтезов; в своей пассивной ипостаси время предстает уже не только как вместилище впечатлений, но и как неисчерпаемый резервуар значений, актуализирующийся синтезом воспроизведения. Эта функция времени есть выражение одной их главных функций любого, в том числе кантовского, априоризма – выявление необходимости традиции в познании и деятельности сознания вообще[21].
Различие между смыслом и значением как различие функций времени позволяет сопоставить в определенном аспекте кантовское учение о времени и сознании с современной философской герменевтикой (Гадамер).
Язык приобретает в герменевтике онтологический статус; язык уже не только объект и средство исследования, язык тождествен миру, если под миром понимать совокупность традиций, в которые вовлечен действующий и познающий человек. Основной проблемой в герменевтике как философском течении становится проблема понимания, основным средством достижения понимания – истолкование. По Гадамеру, например, понимание имеет место в сплавлении горизонтов интерпретируемого (текста) и интерпретатора. Иначе говоря, понимание есть воспроизведение определенной традиции (свершение традиции), причем в это воспроизведение необходимо вплетается горизонт исследователя.
Предпонимание, согласно современной герменевтике, есть необходимая предпосылка понимания, причем как в отношении горизонта текста, так и в отношении своего собственного горизонта.
У Канта нет термина «предпонимание», Кант не ставил проблему понимания так, как она поставлена в герменевтике. Хотя проблема традиций культуры и познания весьма важна для Канта, о чем говорит, в частности, эпиграф к «Критике чистого разума» и понятие мировой философии, все же она не стоит у Канта на первом плане.
Тем не менее «герменевтическая тема» представлена у Канта весьма своеобразно и глубоко. Кант выявил такие глубинные слои сознания, благодаря которым становится возможным предпонимание и понимание и тем самым «свершение традиции». Сознание предстает у Канта как неисчерпаемый запас значений, первично актуализирующийся во взаимопроникновении синтезов схватывания, воспроизведения и рекогниции и обретающий предметную значимость в схематизме. Время как форма внутреннего чувства есть первичное упорядочение впечатлений как потенциальных значений; время как трансцендентальная схема, т. е. основа применения категорий к эмпирическим созерцаниям, есть определенное осуществление значений.
Односторонность современной герменевтики, в сравнении с Кантом, состоит в том, что онтологизация (в хайдеггеровском смысле) предпонимания и понимания делает бесплодными разговоры о том, как войти в герменевтический круг. Проблема герменевтического, т. е. вопрошающе-ответствующего, круга невозможна без постановки проблемы сознания, без анализа тех структур сознания, которые делают возможным предпонимание и истолкование. Это явилось, на наш взгляд, одной из причин того, почему реальная проблема понимания не нашла в философской герменевтике своего адекватного разрешения.
Различие между смыслом и значением как различие функций времени показывает, что конструктивизм и активизм не являются единственными характеристиками кантовской познавательной способности. «Конструкция смысла» есть определенный результат категориальной схемы, т. е. определенное применение определенной категории к определенному эмпирическому созерцанию. В основе каждой такой конструкции лежит бесконечная вариантность смысла; схемы придают категориям не определенный смысл-конструкцию, схемы придают категориям значение – каркас бесконечных возможностей осуществления определенных конструкций. Учение о схематизме категорий говорит не о том, что существуют некие заданные схемы – категории, которые описываются при помощи временных различий. Наоборот, Кант показывает, что в основе процесса познания лежат определенные временные зависимости, которые традиционно носят название определенных категорий. Иначе говоря, не причинность как некая сущность описывается как последовательность многообразного, подчиненная правилу, но наоборот, последовательность многообразного, подчиненная правилу, есть то, что традиционно называется причинностью.
Для Канта значение категории есть определенное временное отношение, которое может наполняться бесконечно многообразным содержанием-смыслом. Это означает, что Кант первым в истории мысли показал возможность изменения содержания категорий, причем глубина кантовского мышления состоит в том, что он опять-таки показал гносеологическую основу такой возможности. Другими словами, Кант сделал очевидным, что в самой сущности процесса познания коренится возможность изменения достигнутых в познании результатов.
Время пронизывает все абстракции, составляющие каркас познавательной способности, но не тождественно ни одной из них. Каждая из структур познавательной способности обладает темпоральным фоном, задним планом, который оказывается необходимым для воссоздания целостной структуры сознания. Не в самой апперцепции заключается время, как это хочет представить Хайдеггер, но необходимым условием действий сознания, которые Кант называет апперцепцией, является временной фон – взаимодействие трех синтезов. Иначе говоря, синтез рекогниции (это и есть, собственно, апперцепция) не сам в себе содержит время или одно из направлений времени – будущее, но приобретает временной характер только во взаимодействии с синтезом схватывания и воспроизведения. Не в самом воображении коренится время, но воображение отождествляется с временем при рассмотрении проблемы возникновения нового знания.
В «Критике чистого разума» время не предстает некой неуловимой сущностью, о которой каждый раз возникает вопрос, реальна ли она. Вопрос о реальности или нереальности времени, также как и о его смысле, оказывается псевдовопросом, и в этом один из замечательных результатов кантовского главного произведения. Дело состоит не в понимании времени (как особой сущности, будь то ньютоновское абсолютное время или хайдеггеровское изначальное время), но в необходимости времени как условии любого понимания. Время есть субъективное условие познания и понимания, и познание времени – это выявление различных уровней субъективных условий познания, что является задачей трансцендентальной философии. Парадокс трансцендентализма состоит именно в том, что, отказываясь от вопроса «Что такое время?», трансцендентальная философия необходимо делает своим предметом время и временные отношения.
Априорность времени соединяет три основные цели кантовского априоризма: 1. Обоснование предметности независимого от опыта мышления. 2. Обоснование возможности творчества. 3. Обоснование необходимости традиции в познании и необходимости определенных «автоматизмов» для деятельности сознания вообще. Единство этих трех фундаментальных функций времени есть не что иное, как единство настоящего (1), будущего (2) и прошлого (3). В свою очередь, это единство может быть истолковано как единство обусловленности и самоопределяемости сознания. Предметность мышления или возможность опыта есть критерий связи традиций и творчества, автоматизмов сознания и свободного поиска, или, говоря кантовским языком, восприимчивости чувственности и спонтанности синтезов рассудка.
Истолкование времени как смыслообразующей структуры познавательной способности дает возможность наметить тему связи времени и разума как высшей познавательной способности. Утверждение Канта о постоянстве разума во всех проявлениях означает, что разум не есть явление, подчиненное временному условию, или, иначе говоря, разум вне эмпирических последовательностей. Однако в учении о разуме Кант указывает на то, что человек – прирожденный «метафизик», который всегда стремится выйти за пределы опыта и тем самым за пределы методологических конструкций, обосновывающих возможность опыта. Разум есть постоянное беспокойство познавательной способности, побуждающее задавать вопросы, которые «превосходят возможности человеческого разума» (А VIII; Т. 3, 73). Согласно Канту необходимо, чтобы разум заново взялся за труднейшее из своих занятий – самопознание. Разум должен учредить суд над собой, чтобы отделить свои справедливые требования от своих же необоснованных притязаний. Такой суд разума над самим собой есть не что иное, как критика самого чистого разума (A XI–XII; Т. 3, 75–76).
Разум, концентрируя в себе все функции и уровни рефлексии, создает «единство правил рассудка по принципам» и тем самым конституирует «свои справедливые требования». Реальным инструментом самопознания разума являются здесь время и его основные функции. Критика разума есть своего рода уравновешивание трех указанных моментов априорности времени. Она представляет собой конституирование единства будущего – творческой силы познания, настоящего – предметности познания, и прошлого – предзаданности материала познания.
Проблематика трех измерений может быть выделена у Канта только после содержательной интерпретации основных функций времени. Время не есть бессодержательная абстракция, которая характеризуется тремя моментами – прошлым, настоящим и будущим.
Время не есть, с другой стороны, субстанция с тремя соответствующими модусами. Сами понятия прошлого, настоящего и будущего суть вторичные темпоральные характеристики по сравнению с последовательностью и одновременностью. Прошлое, настоящее и будущее есть, собственно говоря, субстантивация таких первичных временных характеристик, как «сейчас», «уже не», «еще не», «раньше», «позже» и т. д.
Равным образом бессодержательно определять прошлое, настоящее или будущее как моменты времени или время как единство этих моментов. Необходимо еще показать и доказать темпоральность прошлого, настоящего и будущего, выявив их конкретный смысл и смысл их единства в контексте конкретных проблем. Выявление этого смысла есть темпорализация прошлого, настоящего и будущего, которая, собственно говоря, превращает их в моменты времени.
Таким образом, методология, которая была лишь намечена в трансцендентальной философии Канта и которая получила полное воплощение в феноменологии Гуссерля, заключается в том, что сознание раскрывается через временные характеристики, а время – через определенные функции сознания.
Кант ставит и решает проблемы трансцендентальной философии в основном «внутри» круга «рефлексия-время-сознание». Вопрос об источниках содержания знания, о социальных и культурологических предпосылках познавательной деятельности в рамках критически-трансцендентальной методологии не возникает. Во-первых, такая задача в период творческой деятельности Канта исторически еще не ставится, во-вторых, сам поворот от геоцентрического мировоззрения эмпиризма, с одной стороны, и догматической метафизики – с другой, к гелиоцентрическому трансцендентализму Канта – Коперника был слишком крут, и Кант направляет свои усилия исследователя на «внутреннюю жизнь сознания». Кант говорит, конечно, о том, что предметы воздействуют на чувственность, что познание может быть только познанием предметов, однако предметность сознания Кант рассматривает только в аспекте его априорной структуры.
Проблематика познания и сознания остается у Канта первичной, однако не потому, что она более важна, чем проблематика морали и долга, но потому, что она может быть исследована самостоятельно и независимо от проблематики практического разума. Кант раскрывает познание как неотъемлемое свойство человека как человека, как атрибут «человеческой субстанции». Человеческая свобода не только не противоречит познанию, но и внутренне ему присуща. Исследование принципов познания необходимо, таким образом, для ответа на главные вопросы Канта: «Что есть человек?» и «Как возможна свобода?»
Основной проблемой и основным конституирующим философию Канта противоречием является проблема природы и свободы, или противопоставленность и необходимая связь между обусловленностью и самоопределяемостью как в сфере познания, так и в сфере морали.
Предельно широким выражением этого противоречия в кантовской философии является понятие вещи в себе. В сфере познания вещь в себе как разграничивающее понятие указывает на обусловленность познания опытом, который придает познанию момент случайности. Однако обусловленность опытом, как это ни парадоксально, открывает возможность свободы. «Если явления суть вещи в себе, – пишет Кант, – то свободу спасти нельзя» (А 536; Т. 3, 480). Если бы познание было обусловлено вещами в себе, т. е. вещи в себе непосредственно открывались бы познанию, то это, во-первых, означало бы, что в мире нет ничего, кроме сцепления причин и действий, и во-вторых, познающее сознание не нуждалось бы в творческой активности и познание лишилось бы своего основного признака – способности к расширению знаний. «Только с точки зрения человека» Кант рассматривает познание, в сфере которого это противоречие обусловленности и самоопределяемости еще не принимает осознанного характера, а свобода предстает как сила воображения, «слепая, хотя и необходимая функция души».
На другом, так сказать, ноуменальном, полюсе вещь в себе как трансцендентальная свобода выражает чистую самоопределяемость. Однако свобода и природа и здесь не только не вступают в противоречие, т. е. не исключают друг друга; чистой самоопределяемости соответствует определенная обусловленность, правда, иного рода, чем обусловленность познания опытом. Но поскольку, по Канту, человек уже по природной склонности метафизик, эта его природа принуждает выходить за пределы опыта, вынуждает мыслить ноуменальный мир наряду с миром, познаваемым в опыте.
Свобода не может быть доказана, согласно Канту, теоретически. Но это не означает, что возможность свободы не может быть показана трансцендентально. Если теоретический разум не находит в природе ничего, кроме сцепления причин и действий, то трансцендентальное познание указывает на такие структуры познавательной способности, которые могут полагать начало новому ряду явлений, а именно, создавать в познании новые контексты.
Критика, различающая явления и вещи в себе, есть негативный способ указания на возможность свободы, т. е. на то, что свободу можно мыслить без противоречия механизму природы. Позитивным способом раскрытия возможности свободы является у Канта трансцендентальная философия, показывающая спонтанно творческую природу сознания. Тем самым учение о сознании и времени (априорность времени) есть необходимое условие «спасения свободы». Иными словами, кантовскому пониманию свободы соответствует определенное понимание сознания.
Не является ли такое соответствие необходимым элементом философии? Не является ли определенное понимание свободы и определенное понимание сознания необходимыми коррелятами в любом философском мировоззрении?
Глава II КРИТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ПОНЯТИЙ ВРЕМЕНИ, СОЗНАНИЯ И РЕФЛЕКСИИ В ФЕНОМЕНОЛОГИИ Э. ГУССЕРЛЯ
§ 1. Рефлексия и интенциональность. Феноменологическая постановка проблемы времени
Понятия рефлексии и интенциональности являются основными понятиями феноменологического учения о сознании. Проблема взаимосвязи рефлексии и сознания, которая наметилась в рамках кантовской философии, приобретает в феноменологии Эдмунда Гуссерля (1859–1938) первостепенную значимость, поскольку, с точки зрения Гуссерля, рефлексия – это единственно возможный метод феноменологического исследования сознания.
Проблема взаимосвязи рефлексии и сознания заключается в том, что рефлексия, будучи определенной процедурой изучения сознания, является в то же время его свойством. Рефлексивное изучение сознания уже подразумевает его определенное внерефлексивное понимание, которое определяет способ осуществления рефлексии, но которое в свою очередь может быть эксплицировано только благодаря рефлексии.
Когда Локк, например, определяет рефлексию как «наблюдение ума за своей собственной деятельностью», то у него уже есть определенное понимание деятельности ума, образующего сложные идеи из простых, и т. д. С другой стороны, очевидно, что такое понимание деятельности ума эксплицируется благодаря определенному способу рефлексивного наблюдения.
Кантовское понимание рефлексии – «осознание отношения данных представлений к различным источникам познания» – уже зависит от выделения источников познания, т. е. чувственности и рассудка. Познавательная способность, по Канту, есть синтетическая деятельность сознания, обеспечивающая возможность получения нового знания. Рефлексия есть тогда не что иное, как трансцендентальное познание, воссоздающее связь чувственности и рассудка и выявляющее фундаментальную роль продуктивного воображения и времени в априорном познании.
Если Локк только фиксирует способность к рефлексии наряду с «деятельностью ума», то у Канта уже отчетливо видна связь между сознанием и рефлексией, между априорным и трансцендентальным познанием. Время и продуктивное воображение выполняют здесь как раз связующую функцию: время есть как предмет трансцендентального познания (априорная форма чувственности и трансцендентальная схема), так и средство описания синтезов сознания.
Гуссерль понимает сознание как процесс смыслообразования и конституирования и, соответственно, рефлексию как описание ноэтико-ноэматической структуры сознания и выявление различных уровней конституирования. Согласно Гуссерлю, сознание есть «обобщающее название для любых «психических актов» или интенциональных переживаний»[22]. Соответственно, акты рефлексии есть не что иное, как переживания особого рода, акты, «в которых поток переживаний вместе со всеми своими многообразными событиями (моментами переживания, интенциональностями) может быть схвачен и проанализирован с очевидностью»[23]. Сознание, по Гуссерлю, есть имманентная темпоральность, соответственно, рефлексия как схватывание временного потока сама является темпоральной.
Проблема связи рефлексии и сознания приобретает в феноменологии Гуссерля особую остроту. Если рефлексия зависит от определенного понимания сознания, то каковы истоки этого «первичного понимания»? Если оно внерефлексивного происхождения, то может ли быть феноменологический метод всецело рефлексивным? С другой стороны, каковы истоки самой рефлексии? Если они коренятся в нерефлексирующем сознании, не означает ли это, что рефлексия имеет внерефлексивный фундамент? В этом случае на всеобщность рефлексии накладываются существенные ограничения.
На первый взгляд кажется, что Гуссерль, фактически имея дело в феноменологических описаниях с кругом «сознание-рефлексия», стремится избежать его на уровне методологии и представить свою методологию как строгий монизм рефлексии. По замыслу Гуссерля, с началом феноменологической работы, т. е. с осуществлением феноменологической редукции, должно исчезнуть различие между познанием и самопознанием: «Нужно сначала потерять мир в эпохе, чтобы восстановить его в универсальном самоосмыслении»[24]. Единственно возможный метод самоосмысления и самоисследования представляет собой рефлексию: «Феноменологический метод всецело движется в актах рефлексии»[25]. Рефлексия находит в сознании свои собственные условия возможности и тем самым выполняет функцию обоснования, или, лучше сказать, самообоснования феноменологии.
Самодостаточность рефлексии говорит о том, что она направлена на сознание, которое уже потенциально рефлексивно. Ибо только в таком сознании могут быть выявлены условия возможности рефлексии.
В связи с этим возникают, во-первых, проблема возможности перехода от «наивной» точки зрения к феноменологической установке, или, иначе говоря, проблема поворота к рефлексии, и, во-вторых, проблема статуса феноменологии как исследования. Эти проблемы взаимосвязаны, ибо рассмотрение проблемы поворота к рефлексии, т. е. проблемы возможности феноменологической редукции, лежит в основе решения вопроса о том, может ли феноменология изучать нефеноменологическое сознание, не превращается ли она в замкнутую сферу философствования, которая не может выйти за рамки своих внутренних проблем. Гуссерль, правда, указывает, что «любого рода «рефлексия» имеет характер модификации сознания, и притом такой модификации, которую принципиально может претерпеть любое сознание»[26]. Однако то, что любое сознание содержит в себе возможность рефлексии, еще не означает, что сознание в рефлексивной установке может исследовать сознание, в котором рефлексивная модификация не произведена[27]. Решение этого вопроса зависит, во-первых, от того, как понимать феноменологическую рефлексию – является ли она чисто ретроспективной процедурой или же носит конститутивный характер, и во-вторых, от того, как и насколько возможно объяснить сам поворот к рефлексии.
Известно, что Гуссерль настойчиво рекомендовал Л. Шестову читать Киркегора. «Как случилось, – спрашивает Шестов, – что человек, всю свою жизнь положивший на прославление разума, мог толкать меня к Киркегарду, слагавшему гимн Абсурду?»[28] Шестов нашел ответ в адресованных ему словах Гуссерля: «Ваши пути – не мои пути, но вашу проблематику я понимаю и ценю»[29]. Эти слова Гуссерля требуют расшифровки, и Шестов удовлетворился ответом лишь потому, что соотносил собственную позицию с позицией Гуссерля, но не задавал вопрос, почему сам Гуссерль изучал и ценил Киркегора – мыслителя, которого обычно не причисляют к предшественникам феноменологии.
Пути Киркегора и Шестова – пути религии абсурда и откровения, исходная проблематика – прыжок к абсолюту, непосредственное единство с абсолютом, поиск абсолютно внутреннего, экзистенциального. Пути Гуссерля – к философии как строгой науке, однако Гуссерль не случайно сравнивает в «Кризисе европейских наук» феноменологическое эпохе с религиозным обращением[30], не вкладывая в эпохе религиозного содержания – переход на феноменологическую позицию происходит причинно необъяснимым скачком. Напротив, сам этот скачок служит исходным феноменологическим принципом, который может быть прояснен только в непосредственном осуществлении. Между естественной и феноменологической установкой нет промежуточных позиций, здесь действует принцип Киркегора: или – или. Если для Киркегора философия – это прежде всего гегелевская философия и непосредственное отношение индивида к абсолютному достигается не в философии, а в религии откровения, то Гуссерль создает новую форму идеалистической философии, где это отношение реализуется в самоявленном духовном опыте, в основе которого – феноменологическая рефлексия.
В отличие от любых видов феноменализма, так или иначе отождествляющих феномен и данные сознания, феномен у Гуссерля – это процесс и результат специфической деятельности, или особой настроенности сознания. Однако феномен – это не только завершение феноменологической работы, но и в определенном смысле ее исходный пункт. Для того чтобы достичь феномена, необходимо уже находиться внутри феноменологической установки: «Прослеживая поток явлений в имманентном созерцании, мы переходим от феномена к феномену… и никогда не приходим ни к чему, кроме феноменов»[31].
Признание невозможности причинного и в целом теоретического объяснения перехода на феноменологическую позицию является важным моментом самой этой позиции. Согласно Гуссерлю феноменология не должна принимать в качестве исходного пункта какие-либо теоретические схемы. Не теории, но императивы являются ее исходными моментами. Императивы Гуссерля: «Учиться видеть!», «Назад, к самим предметам!» – ориентируют на усилия по достижению так называемого эйдетического созерцания, т. е. созерцания переживаемого смыслового образа предмета, или, иначе говоря, смыслового горизонта переживания. Это и есть, согласно Гуссерлю, рефлексия, которую он, в частности, определяет как перемену взгляда от предмета на его переживание. Уже отсюда ясно, что феноменологическая рефлексия должна носить конститутивный характер, ибо она направлена не на сознание как нечто законченное и застывшее, но на сам процесс формирования и сущностной взаимосвязи переживаний. Рефлексия, таким образом, есть необходимое условие формирования феноменологического данного, феномена.
Отказ от теоретического объяснения поворота к рефлексии не означает отказа от понимания этого перехода. Если усилия, заданные императивно, не могут быть объяснены, то, во всяком случае, может быть предпринята попытка их описания. В этом состоит, собственно, не только исходный, но и основной момент феноменологического метода. Предметом феноменологического исследования является, согласно Гуссерлю, сознание как процесс смыслообразования, как процесс придания смысла-контекста определенному предмету, обстоятельству дел и т. п. Это подразумевает отказ объяснения сознания через нечто другое, что сознанием не является, так как в этом другом уже нет самого процесса формирования смысла. По Гуссерлю, методом исследования таким образом понятого сознания может быть только дескрипция.
В любом описании средства должны быть адекватны предмету. В этом смысле особенностью феноменологической дескрипции является то, что ее средства должны быть найдены в самом сознании. Иначе говоря, средством феноменологической дескрипции должны быть существенные свойства сознания. Сущностное соответствие свойств сознания и его описания возможно, с точки зрения Гуссерля, только на основе временности или темпоральности сознания. То, что у Канта наметилось лишь в качестве тенденции, которую сам Кант к тому же не считал основной, Гуссерль сознательно ставит в центр своей методологии.
Временность сознания – лейтмотив феноменологии, Гуссерль подчеркивает это и в своих ранних, и в поздних работах. В течение зимнего семестра 1904/05 г. Гуссерль читает в Геттингенском университете лекции по феноменологии внутреннего времени-сознания[32], в которых, с одной стороны, раскрываются различные формы переживания времени, а с другой – темпоральный характер переживаний. В первой книге «Идеи к чистой феноменологии и феноменологической философии» (1913) Гуссерль отождествляет феноменологическую сферу со сферой сконституированной временности[33], а в 1936 г. в «Кризисе европейских наук» он определяет центральное ядро своего метода: «Конституирование каждого вида и уровня существующего есть темпорализация (Zeitigung), которая каждому своеобразному значению существующего придает в конститутивной системе его собственную временную форму»[34]. В отличие от Канта, Гуссерль стремится более конкретно раскрыть понятие времени. «Мы стараемся прояснить априорность времени, – формулирует он задачу, – исследуя время-сознание, выявляя его сущностное конституирование…»[35].
Гуссерлевское учение о времени обосновывает, по существу, феноменологическое понимание рефлексии и интенциональности, поэтому мы ставим перед собой задачу структурно соотнести основные моменты феноменологического понимания рефлексии с основными моментами феноменологического учения о времени.
В гуссерлевском понимании рефлексии можно выделить четыре основных аспекта:
1. Определение начала и специфики феноменологической рефлексии (рефлексия и феноменологическая редукция).
2. Выявление структуры сознания, благодаря которой осуществляется рефлексия.
3. Проблема сущностного тождества неотрефлектированного и отрефлектированного переживаний.
4. Проблема предела анализа сознания.
Гуссерль не ставит перед собой задачу выработать всеобъемлющую дефиницию рефлексии: основной метод изучения рефлексии заключается в описании различных ее видов. Гуссерль указывает, что рефлексия – это определенное переживание, которое как таковое может послужить основой для новой рефлексии и т. д. Разъясняя сущность рефлексии, Гуссерль апеллирует к внутреннему опыту читателя, как бы предлагая проделать рефлексивное наблюдение. Описания у Гуссерля тем не менее упорядочены, и он выделяет определенные типы и виды рефлексии.
Гуссерль различает прежде всего рефлексию, взятую с естественной точки зрения (или психологическую рефлексию), и феноменологическую рефлексию. Пользуясь другим критерием различения, а именно исследуя определенные модусы сознания, Гуссерль выделяет рефлексию в актуальном восприятии, рефлексию в памяти, в фантазии, в ожидании и т. д.
Наш анализ будет осуществляться, таким образом, в двух планах: с одной стороны, рассматривая постановку проблемы времени в феноменологии, мы тем самым обнаружим общую основу возможности рефлексии в гуссерлевском понимании, с другой стороны, рассматривая конкретные механизмы осуществления рефлексии, мы покажем специфику феноменологического подхода к изучению восприятия, памяти и фантазии. И наконец, два последних выделенных нами аспекта в анализе рефлексии мы рассмотрим в контексте гуссерлевского понятия абсолютного темпорального конститутивного потока сознания.
В качестве исходной точки анализа понятия рефлексии в контексте феноменологического учения о времени нам послужит гуссерлевское различие между психологической и феноменологической рефлексией. Если психологическая рефлексия ограничена, с точки зрения Гуссерля, лишь фиксацией определенных переживаний в различных модусах сознания – в памяти, в восприятии и т. д., то феноменологическая рефлексия дает возможность не только проанализировать сущность этих модусов сознания, но и обратить внимание на данность определенных факторов, которые производят то или иное переживание.
В процессе психологической рефлексии можно, например, обратить внимание на переживание удовольствия и указать его причину (пример Гуссерля – удовольствие от плодотворного теоретического размышления). В процессе феноменологической рефлексии можно, согласно Гуссерлю, посмотреть на самого себя в акте удовольствия и обратить внимание на само удовольствие, которое определенным образом протекает в сознании[36].
Для того чтобы перейти от рефлексии с естественной точки зрения к феноменологической, необходимо, по Гуссерлю, привести в действие феноменологическую редукцию, и тогда результаты первой рефлексии «преобразуются в случаи, которые иллюстрируют сущностные всеобщности…»[37].
Психологическая рефлексия как регистрация причин определенных переживаний относит тем самым переживания к их предметному источнику. Для перехода к феноменологической рефлексии необходимо изменить привычные способы идентификации предметов, поскольку предметами феноменологического анализа являются сами переживания. Мы поясним это, рассмотрев пример Гуссерля в ином аспекте. Представим себе, что мы получили удовольствие от теоретического исследования, сидя за письменным столом в полдень определенного числа, месяца и года. Вспоминая об этом, мы будем идентифицировать удовольствие и его причину по объективным пространственно-временным факторам. Если же мы хотим направить внимание на то, каким образом протекает в сознании сам процесс удовольствия, мы должны выбрать другие средства – средства упорядочения фаз переживания удовольствия. Такими средствами, согласно Гуссерлю, являются внутренние временные различия – осознание «теперь», «раньше», «позже», «только-что», «еще-не» и т. д. Таким образом прояснение того, как возможна рефлексия с феноменологической точки зрения, ведет к рассмотрению проблемы времени в феноменологии.
В лекциях по феноменологии внутреннего времени-сознания[38] понятие рефлексии не является специальным предметом рассмотрения, поскольку Гуссерль ставит перед собой другую задачу: объяснить то, каким образом можно осознать различные временные факторы – длительность, одновременность, последовательность и т. д. Гуссерль ставит реальные проблемы, которые сохраняют свое значение вне обоснования феноменологии – для современных исследований времени в гносеологическом аспекте.
Несомненно, мы осознаем длительность какого-либо предмета прежде всего потому, что предмет в его временной протяженности объективно существует. Мы можем измерить длительность предмета различного рода хронометрами, выделить объективно существующие интервалы длительности и т. д. Однако хронометры не помогут нам в выяснении того, каким образом мы воспримем длительность как целостность, каким образом мы можем осознавать то, что воспринимаемый предмет наделен временными характеристиками, каким образом мы можем вспомнить и сам предмет, и его длительность и т. д. Видимо, для ответа на эти вопросы необходимо обращаться не только к исследованию временных изменений объективно существующего предмета, но и к размышлению над различными способами осознания этих изменений.
Для того чтобы изучить основные условия осознания временных различий, необходимо, по Гуссерлю, полное исключение любых предположений, условностей и соглашений, касающихся объективного времени. Гуссерль ставит перед собой задачу проанализировать время с феноменологической точки зрения, т. е. дать феноменологический анализ времени-сознания[39]. Причем его интересуют не субъективные условия возможности познания объективного времени, а «имманентное время потока сознания»: «Как реальная вещь и реальный мир, так и мировое время, реальное время, время природы в смысле естественных наук, а также психологии как естественной науки о психическом не являются феноменологическими данными»[40]. Таким образом, феноменологическая редукция, т. е. «исключение объективного времени», играет решающую роль в его исследовании.
Для того чтобы пояснить смысл исключения объективного времени, Гуссерль проводит аналогию с пространством. Он считает, что, абстрагируясь от объективного взаимоположения вещей, которое дано в зрительном восприятии, можно рассмотреть само поле зрения. В сфере квазипространственного поля зрения можно выделить тогда такие отношения, как соприкосновение, положение и т. д., но они не являются объективно пространственными. «Не имеет смысла говорить, – замечает Гуссерль, – что точка зрительного поля находится в одном метре от угла этого стола, или около, или над ним и т. д.»[41].
Точно так же во внутреннем времени не существует ни секунд, ни тысячелетий. Феноменологические данные времени, согласно Гуссерлю, – это, с одной стороны, переживания, в которых проявляется временное в объективном смысле, а с другой стороны, моменты переживаний, которые устанавливают постижение времени как такового. Для феноменологического исследования эти переживания берутся сами по себе, а не как моменты объективного времени. Подобно тому как поле зрения не является частью объективного пространства, «первичное временное поле» не представляет собой часть объективного времени – объективное пространство и объективное время трансцендентны. Гуссерль подчеркивает, однако, что, с феноменологической точки зрения, «пространство и действительность не трансцендентны в мистическом смысле, как «вещи-в-себе», но представляют собой феноменальное пространство, феноменальную пространственно-временную реальность, являющуюся пространственную форму, являющуюся временную форму»[42].
Феноменологическая редукция времени необходима, согласно Гуссерлю, для того чтобы исследовать время как субъективную реальность (временность), чтобы объяснить, каким образом конституируется ощущение последовательности, понимание объекта как временного или, наоборот, вневременного, конституируется само время на различных его уровнях.
Поворот от объективного времени к субъективному Гуссерль иллюстрирует на простом примере: «Давайте посмотрим на кусок мела. Мы закрываем и открываем глаза. Тогда у нас два восприятия. При этом мы говорим: мы видим один и тот же кусок мела дважды. При этом мы имеем содержания, которые темпорально разделены»[43].
Постановка Гуссерлем вопроса об отличии зрительного поля и внутреннего времени от объективного пространства и времени содержит, с нашей точки зрения, некоторые позитивные моменты. В самом деле, в «квазипространственном поле зрения» и во «внутреннем времени» невозможно установить объективные пространственно-временные различия. Подобно тому как нет ни грана вещества предмета в отраженном образе, в образе предмета нет тех метров и секунд, с помощью которых мы оцениваем положение предмета. Образ, конечно, также длится, и мы можем измерить его длительность, скажем, в минутах. Однако есть и другой аспект проблемы: попытаться определить специфику той деятельности сознания, которая позволяет иметь образы не только, к примеру, формы предмета, но и его длительности и движения. Другими словами, ставится вопрос не о том, чтобы определить, сколько времени длится образ, а о том, благодаря каким всеобщим структурам и актам сознания мы переживаем время.
Приводя пример с мелом, Гуссерль отмечает, что можно абстрагироваться от объективных временных различий, дважды обращая внимание только на качество предмета. В данном случае исследователь не фиксирует объективные временные факторы, они, конечно, присущи объекту, но феноменолога, согласно Гуссерлю, должно интересовать только то, что перед ним, например, кусок мела, а не медная пепельница. Фиксация качественного тождества дважды воспринятого предмета позволяет обратить внимание на темпоральную последовательность восприятий, относительно которой можно задать далее вопрос: каким образом она осознается? Такое исследование, очевидно, нуждается не в приборах, измеряющих время, а в рефлексивном наблюдении, поворот к которому и является операцией, которую Гуссерль обозначил как феноменологическую редукцию. «С действительностью мы должны иметь дело только в той мере, – пишет Гуссерль, – в какой она есть полагаемая, представленная, созерцаемая и понятийно осмысленная действительность. В отношении проблемы времени это означает: нас интересуют определенные переживания времени. То, что они сами определены темпорально в объективном смысле, то, что они принадлежат к миру вещей и психических субъектов и имеют свое место в нем, свою действенность, свое эмпирическое бытие и происхождение, это нас не касается, мы об этом ничего не знаем. Напротив, нас интересует то, что в этих переживаниях имеются в виду «объективно-временные» данные»[44]. Эти слова Гуссерля весьма показательны: он не отрицает существования объективного времени, но ставит вопрос о строгом различии объективного и субъективного времени.
В самом деле, Гуссерль ставит реальную проблему, ибо, исследуя длительность раздражителей, вызывающих ощущение, можно, конечно, узнать, какова длительность ощущения, но этим еще не будет дан ответ на вопрос, каким образом ощущение осознается как длящееся. Длительность ощущения мы можем измерить и выразить в секундах, минутах и т. д.; что касается отражения самой длительности, образа временной протяженности, то для его изучения требуются не часы, а рефлексивное наблюдение над способом формирования этого образа.
Таким образом, Гуссерль описывает редукцию определенного предмета исследования – времени, и в этом заключается особая ценность лекций Гуссерля по феноменологии времени, ибо здесь феноменологический метод раскрывается изнутри, что позволяет нам вычленить его позитивное содержание. Такого рода исследование помогает понять, что редукция направлена не на уничтожение рассматриваемого предмета – объективное время остается таким, каким оно было, – а на перемену установки сознания. Редуцируется не предмет, а позиция исследователя по отношению к предмету. Согласно Гуссерлю благодаря редукции объективного времени происходит сведение многообразных форм деятельности сознания к первичным формам сознания – к перцепции, памяти, ожиданию, фантазии и т. д.
На первый взгляд, взаимосвязь предмета исследования (времени) и редукции у Гуссерля можно представить весьма просто: имеет место предмет – время, само имение в виду этого предмета редуцируется таким образом, чтобы можно было выявить первичные формы осознания времени. Однако отношение между временем и редукцией сложнее: временная редукция – это не только один из видов редукции, но и основа всякой редукции у Гуссерля. Другими словами, сущность «внутреннего времени», которое отождествляется Гуссерлем с глубинными слоями сознания, не столько объясняется исключением объективного времени, сколько дальнейшее исследование организации времени-сознания объясняет тот уровень и сферу, в которой, согласно Гуссерлю, возможна феноменологическая работа, т. е. феноменологическая рефлексия.
Понятие интенциональности замыкает круг «время-рефлексия-сознание»: специфика феноменологической рефлексии уже предопределена гуссерлевским пониманием первичной, интенциональной структуры сознания. Отказ от методов исследования сознания через не-сознание коренится в самой сущности интенциональности. При рассмотрении этого понятия необходимо, на наш взгляд, отодвинуть на второй план «неопределенно позитивное» определение интенциональности как «сознание о…» и рассмотреть классическое определение интенциональности Ф. Брентано, которое Гуссерль почти дословно воспроизвел в «Логических исследованиях»: «В представлении нечто представляется, в суждении нечто признается или отвергается, в любви любится, в ненависти ненавидится, в желании желается и т. д.»[45]. Несомненно, что первое определение интенциональности может рассматриваться как сокращение второго, однако лишь это второе определение указывает на то, что «нечто» может быть одним и тем же предметом, который дан или в акте представления, или в акте суждения, или в акте сомнения. Только в таком случае может быть поставлен вопрос о различии этих актов на основе их внутренних характеристик без ссылки на различия интендируемых предметов.
Понятие интенциональности необходимо рассматривать как систему определенных запретов или ограничений. Основой феноменологического учения о сознании является описание «конечных элементов» сознания, которые конституируют сознание как смыслообразующую структуру, продуцирующую горизонты значения, или смысла. Запрет, который имплицитно содержится в понятии интенциональности, – это отрицание возможности получать значения, или смыслы, извне. Существуют, конечно, материальные, чувственно воспринимаемые предметы, которые служат средством трансляции смысла, но сами предметы этим смыслом не обладают. Когда нам сообщают ту или иную систему значений, мы не можем получить ее в готовом виде – так, как это происходит в случае передачи материального предмета. Мы не получаем значения извне, но воспроизводим их, встраиваем их «конфигурации» в свой собственный горизонт значений благодаря структурам смыслообразования и понимания.
Этому запрету может быть придан несколько другой смысловой оттенок: никто не может понять что-либо за другого или вместо другого. Это утверждение не тождественно и даже в определенном смысле противоположно утверждению обыденного релятивизма: «Каждый понимает по-своему». Последнее лишь констатирует взаимное непонимание, первое указывает на наличие общих структур смыслообразования и понимания, которые не сводимы к каким-либо материально-вещественным формам или знаковым системам и которые «приводятся в действие» на основе индивидуального опыта жизни, образования и культуры.
В понятии интенциональности не заложено рецепта понимания. Это понятие указывает лишь на то, что существуют определенные «линии» понимания и смыслообразования, определенные корреляции интенционального акта и интенционального содержания, нарушение которых приводит к ошибкам и заблуждениям. В этом аспекте интенциональность представляет собой запрет смешения акта одного типа с актом другого типа, причем как в «горизонтальной» так и в «вертикальной» плоскости. В первом случае речь идет о смешении актов суждения и оценки, сомнения и предположения, представления и желания и т. д. Р. Ингарден остроумно заметил, что мы не можем слышать цвета или нюхать утверждение теоремы Пифагора[46]. Однако различие между актами и возникающая корреляция между актом и содержанием очевидны лишь в очень простых случаях, к тому же Р. Ингарден провел здесь различие соответственно определенным органам чувств, что не является вполне корректным. В реальной жизни сознания сосуществуют суждение и оценка, радость и сомнение, восприятие и предположение и т. д.
Во втором случае речь идет о смешении эмпирического и категориального созерцания, т. е. интендирования индивидуального или общего, идеального предмета. В основе гуссерлевской теории абстракций также лежит определенный запрет – отрицание возможности извлекать общий предмет из индивидуальных интенций. Категориальное созерцание не существует без эмпирического – без чувственной опоры, фундирующей акты созерцания общего, однако чувственная опора может быть произвольной и усмотрение общего не зависит от ее конкретной формы.
Сознание обладает не структурой высказывания, но структурой переживания. Переживание совпадения мыслимого и данного, полагаемого и созерцаемого есть бытие сознания, которое нельзя объективировать как таковое, но которое лежит в основе любой объективации. Бытие сознания – это интенционально структурированные горизонты значений, существование которых тождественно их описанию. Бытие сознания – это дескриптивное бытие, бытие, которое возникает в рефлективном описании и не возникает вне дескрипции и рефлексии.
Структура интенциональности раскрывается Гуссерлем как система функциональных различий, выражающих определенные моменты смыслообразования. В отличие от Брентано, интенциональность не является у Гуссерля понятием, разграничивающим психические и физические феномены. Согласно Гуссерлю не все психические феномены суть интенциональные акты, с другой стороны, часть того, что Брентано относил к физическим феноменам, суть психические феномены. Гуссерль предпочитает вообще отказаться от термина «психический феномен» и ввести термин «интенциональное переживание». Согласно Гуссерлю необходимо, во-первых, разделить переживания на акты и не-акты, т. е. на интенциональные (смыслообразующие) и не-интенциональные переживания (ощущения)[47], и во-вторых, разделить являющиеся или феноменальные предметы на явления вещей (это, как выражался Гуссерль, предметы, принадлежащие к Я-сознанию)[48] и сами являющиеся вещи.
Одним из важнейших феноменологических различий, которые проводит Гуссерль, является различие между реальным и интенциональным содержанием сознания. Это различие носит проблемный и функциональный характер. В случае реального содержания сознания речь идет о различии и взаимосвязи интенциональных и неинтенциональных переживаний, речь идет как бы о «субъективной» стороне сознания; в случае интенционального содержания речь идет об «объективном», или «предметном», аспекте сознания. Само различие между реальным и интенциональным содержанием нацелено на то, чтобы устранить представление об интенциональном содержании, или интенциональном предмете как «имманентном объекте».
Выражения, которые использовал Брентано для описания интенциональности, являются двусмысленными, с точки зрения Гуссерля. Воспринятые, сфантазированные предметы «входят в сознание», «сознание вступает в отношение к ним», интенциональное переживание «содержит в себе нечто в качестве объекта» и т. д. – все эти выражения можно, во-первых, истолковать так, как будто речь идет о реальном процессе как о реальном отношении, которое имеет место между сознанием и «осознанной» вещью, во-вторых, так, как будто речь идет об отношении двух реально (reell) находящихся в сознании вещей – акта и интенционального объекта.
Термина «отношение» вряд ли можно избежать, считает Гуссерль, однако следует указать, что речь идет не о двух различных вещах, не о части и целом, но только о том, что имеют место переживания, которые обладают характером интенции, т. е. характером представляющей, судящей, желающей интенции. Ошибочно полагать, что переживается предмет и наряду с ним интенциональное переживание, которое на него направлено. Интенциональное переживание «имеет в виду», «полагает», «мнит», «подразумевает» предмет. Это означает, что само полагание, или имение в виду, предмета есть переживание, причем предмет может вообще не существовать.
В «Логических исследованиях» Гуссерль пишет о различии реального и интенционального содержания интенционального акта. В «Идеях I» Гуссерль изменяет терминологию с целью избежать неверного истолкования термина «акт», который объединял в себе как собственно акт (смыслообразующую форму), так и интенциональный предмет. В «Идеях I» Гуссерль различает интенциональные и неинтенциональные переживания (реальный аспект) как «интенциональную форму» и «чувственную материю» (hyle), различие между реальным и интенциональным содержанием выражается как различие между ноэсисом и ноэмой. В «Идеях I» Гуссерль делает акцент не на описании интенциональной структуры сознания, а на проблеме рефлексии, проблеме перехода от естественной установки к феноменологической. Терминология унифицируется Гуссерлем в соответствии с поставленной целью: обрисовать феноменологическую сферу исследований как сферу рефлексивных исследований смыслообразования.
С феноменологической точки зрения, сознание не может быть ничем иным, как процессом придания смысла и построением смыслового горизонта предметности. «Обладать смыслом, или нечто „иметь в определенном смысле“, – пишет Гуссерль, – есть фундаментальная черта любого сознания, которое поэтому является не только вообще переживанием, но осмысленным, „ноэтическим“»[49].
Термин «ноэтическое переживание» указывает на то, что под интенциональным актом Гуссерль понимает не психический акт, но структуру любого психического акта, которая делает этот акт означивающим. Именно это позволяет Гуссерлю избежать психологизма: акт придания смысла, или значения (Гуссерль предпочитает их не различать), который лежит в основе любого акта сознания, не зависит ни от одного из них. Тем более не зависит от какого бы то ни было психического акта предметный смысл, или ноэма, – ноэматические моменты переживания Гуссерль называет «нереальными», чтобы подчеркнуть их «не-актовый» характер. «Каждая ноэма, – пишет Гуссерль, – имеет „содержание“, именно свой „смысл“ и относится посредством него к „своему“ предмету»[50]. Ноэма обозначает, таким образом, структуру сознания, благодаря которой возможно удерживать различные смыслы, или значения, предмета, выделять их инвариант при построении смыслового горизонта. Не предмет, согласно Гуссерлю, характеризует ноэму, но структура ноэмы раскрывается таким образом, что при этом указывается на необходимый момент отнесения сознания к предметности. Гуссерль отличает этот момент от так называемого ядра ноэмы, т. е. от смыслового ядерного слоя-инварианта, который группирует вокруг себя все возможные усматриваемые сознанием смыслы, образующие полную ноэму. Гуссерль называет этот внутренний момент центральной точкой ядра, носителем его специфических ноэматических особенностей. В отношении ноэмы к предмету можно таким образом, выделить, во-первых, предмет в определенном модусе данности и, во-вторых, «просто предмет» – «чистый X в абстракции от всех предикатов»[51]. Согласно замыслу Гуссерля, это показывает, что при осознании любого смыслового содержания необходимо возникает представление о предметности как таковой, без примеси каких-либо субъективных характеристик. Это чистое «Что» должно дополнить предметное «Как» и быть необходимым внутренним моментом модуса данности предмета. Описание полной структуры интенционального содержания, существенным моментом которого является представление о предметности как таковой, – один из наиболее важных аспектов раскрытия основного тезиса феноменологии: «Переживание есть всегда сознание о…»[52].
Специфика феноменологии состоит не в том, что Гуссерль постулирует интенциональность как направленность сознания на предметы; особенностью учения Гуссерля о сознании является то, что он описывает структуру интенциональности как структуру смыслообразования. Именно потому, что интенциональность – это процесс формирования и удержания смысла, сознание всегда содержит возможность рефлексии. Ибо рефлексия, с точки зрения Гуссерля, – это схватывание не каких-либо произвольных свойств познавательных, эстетических и других актов, но схватывание смыслов, или значений, сформированных в этих актах.
Различные виды интенционального анализа превращаются у Гуссерля в различные модели сознания. Воспринимающее, помнящее, сомневающееся сознание – каждое из них имеет, по Гуссерлю, свою особую структуру и в то же время должно найти свое место в более общей ноэтико-ноэматической, смыслообразующей модели сознания. Структура сознания, которая представляет собой многообразие корреляций, каждый раз особых, ноэсиса и ноэмы, есть структура контекстуально работающего сознания. Собственно говоря, о структуре как устойчивой связи элементов «внутри» сознания вообще здесь можно говорить лишь условно. В отличие от Канта, у которого, несмотря на антисубстанциалистские тенденции в понимании сознания, познавательная способность все же предстает как единство познавательных сил, у Гуссерля структура сознания тождественна структуре смысловых горизонтов, т. е. связи ноэматических содержаний предмета. Аналогом гуссерлевской ноэтико-ноэматической структуры сознания может послужить учение о языке позднего Витгенштейна. Также как языковые игры, ноэтико-ноэматические корреляции принципально контекстуальны и обладают лишь семейным сходством. Некоторые из них весьма близки друг к другу, например, ноэтико-ноэматические корреляции в рамках восприятия и памяти; некоторые достаточно далеки, например, корреляции в рамках памяти и категориального созерцания. Сознание предстает у Гуссерля как ноэтико-ноэматический плюрализм, однако в основе описания различных форм ноэсиса и ноэмы лежит структура внутреннего времени-сознания.
Гуссерль отождествляет ноэтические, смыслообразующие фазы сознания с темпоральными фазами. Это не означает, что ноэматические фазы не-темпоральны. Спонтанная темпоральность ноэсиса формирует ноэмата[53], которые являются как бы смысловыми слепками непрерывно варьирующихся первичных временных фаз. С феноменологической точки зрения описать восприятие или любое другое переживание означает описать процесс переживания определенного смысла. Средствами описания «протекания» смысла могут быть только первичные временные различия, которые являются средствами непсихологического описания сознания: при темпоральном описании сознания ведется не описание психики как совокупности актов и состояний сознания, обусловленных внешними или внутренними «обстоятельствами», но воссоздается первичная структура сознания, т. е., с точки зрения Гуссерля, структура смыслообразования.
Само собой разумеется, что определенное значение, или смысл, возникает всегда в связи с определенным обстоятельством, ситуацией, событием или, в самом широком смысле, положением дел. Однако это не означает, что само положение дел содержит в себе смысл, который может быть передан сознанию непосредственно. Напротив, принцип интенциональности состоит как раз в том, что любое положение дел выступает для нас как положение дел, когда ему придан определенный спектр смыслов, в том числе, возможно, и тот, что такое положение дел существует объективно, независимо от нашей воли или желания. Иными словами, между определенным положением дел и определенным смыслом, усмотренным в нем, нет причинной зависимости. Неосмысленное положение дел, положение дел, которому не придан определенный смысл, не может породить определенный смысл без «наличия» конститутивной смыслообразующей «системы» – сознания человека, вовлеченного в события, ситуации, обстоятельства.
Принцип интенциональности: «Всякое сознание есть сознание о…» – должен рассматриваться не только как характеристика сознания, но в равной степени и как принцип, определяющий направление исследования сознания. Сознание не есть субстанция, отделимая от предметов, на которые оно направлено. Однако описание смысла не должно сводиться к описанию положения дел, в связи с которыми возник этот смысл.
Смыслообразующая функция времени заключается не в том, что некая абстрактная сущность – время – производит значения, или смыслы. Речь идет о том, что любая фиксация смысла есть как бы приостановка темпорального потока сознания, эскиз определенной темпоральной конфигурации. Смысл тем самым есть «приостановленное время».
Смысл не существует вне его схватывания или понимания. Ноэма, с одной стороны, выражает предметную отнесенность смысла, с другой – необходимую связь смысла с интенциональным актом, который отождествляется Гуссерлем с первичным темпоральным многообразием. Ноэма не есть, однако, нечто среднее между ноэтическими, смыслообразующими фазами сознания и предметностью вне сознания. В феноменологии речь идет не об описании смысла через предметность, которая уже получила определенный смысл в обыденном, научном, эстетическом опыте, но об описании сознания, конституирующего определенную предметность, т. е. придающего этой предметности тот или иной смысл. Описание конституирующего сознания есть описание определенной ритмики сознания, определенного сочетания первичных временных фаз. Каждый из первичных модусов сознания обладает своей собственной темпоральной структурой. Соответственно этому исследование таких модусов, как восприятие, память фантазия и т. д., Гуссерль осуществляет на основе темпоральной модели сознания, которая, с одной стороны, является более конкретной, а с другой – в аспекте описания – лежит в основе ноэтико-ноэматических структур. Эта модель разворачивается Гуссерлем по принципу: предмет, взятый в феноменологической установке, постепенно превращается в субъективные условия познания этого предмета. Иначе говоря, исходя из определенного предмета исследования – сознания времени, Гуссерль строит модель сознания, которая основана на времени. Исследование времени выходит тем самым за пределы своего первоначального предназначения и оказывается основным и наиболее конкретно разработанным в феноменологии способом описания сознания.
Временность есть, таким образом, необходимый посредник между сознанием и рефлексией. Временность есть то, в чем совпадают структура феномена и способ его описания. Именно благодаря этому совпадению возможно, с точки зрения Гуссерля, феноменологическое видение: феномен как предмет рефлексии есть ее отличительный признак; феноменологическая рефлексия не есть простая регистрация впечатлений, или интроспекция. В рефлексии схватывается в единстве поток сознания, следовательно, рефлексия конституирует сознание как поток. По замыслу Гуссерля, феноменологическая рефлексия должна освободить сознание от непосредственной каузальности внешних предметов, феноменологическая рефлексия не убивает живую самость сознания, напротив, она является условием возможности живой темпоральности сознания. Согласно Гуссерлю сознание темпорально, но необходимым условием оживления и поддержания темпоральности является феноменологическая рефлексия, которая, с одной стороны, «темпорализует темпоральность», а с другой – сама темпорализуется дорефлексивным потоком сознания.
Специфика феноменологического учения о сознании состоит в том, что вопрос о сознании может быть задан только косвенно – как вопрос о времени; с другой стороны, специфика феноменологического учения о времени состоит в том, что вопрос о природе времени может быть поставлен только косвенно – как вопрос о сознании. Иными словами, задать вопрос о времени означает задать вопрос не только об определенных формах осознания времени, но и об определенных временных формах того или иного модуса сознания, того или иного вида интенциональности. Задать вопрос о сознании означает задать вопрос о сосуществовании переживаний или содержаний сознания в единстве темпорального потока сознания.
То же самое относится и к рефлексии. Поставить вопрос о природе феноменологической рефлексии означает уже явно или неявно принять определенное понимание сознания и времени. Поставить вопрос о сознании означает поставить вопрос о связи рефлексии и времени, ибо только через темпоральные характеристики рефлексия получает доступ к сознанию: феноменология ищет доступ к сознанию «в-себе» средствами самого сознания (посредством рефлексии). Зеркалом, в котором сознание видит свою «сущность», является время, причем это зеркало, говоря кантовским языком, обладает «трансцендентальной идеальностью», т. е. само по себе, «если отвлечься от субъективных условий», «абсолютно ничего собой не представляет».
§ 2. Сознание времени и временность сознания. Рефлексия и структура внутреннего времени
Исходным моментом гуссерлевского анализа времени-сознания является изложение и критика учения о времени Ф. Брентано[54].
Согласно Гуссерлю «феноменологическим зерном» учения Ф.Брентано является то, что, пытаясь ответить на вопрос, каков источник наших ощущений последовательности и длительности, каков источник самого представления о времени, Брентано отказался от сведения представлений о последовательности и длительности к объективной длительности самого психического акта или последовательности актов.
Психологи, за исключением Брентано, отмечает Гуссерль, безуспешно пытаются установить источники представлений о времени по той причине, что они смешивают объективное и субъективное время. «Длительность ощущения и ощущение длительности различны», – подчеркивает Гуссерль[55]. Брентано полагал, что источником наших переживаний различных модусов времени является фантазия-представление (первичная ассоциация), которая присоединяется к первичному ощущению после того, как перестает действовать вызвавший его стимул. «Таким образом, – заключает Гуссерль, – фантазия оказывается здесь особым образом продуктивной. Здесь налицо единственный случай, когда фантазия воистину творит момент представления, а именно временной момент»[56].
Тем не менее Гуссерль подвергает критике брентановский «закон первичных ассоциаций». Согласно Брентано только настоящее («теперь») реально, представления о прошлом или будущем создаются первичными ассоциациями, которые превращают реальное в нереальное. Гуссерль указывает на то, что следствием этой теории будет отрицание первичной данности последовательности или длительности. Это, в свою очередь, означает, что первичная темпоральность сознания не принимается в качестве исходного предмета описания, но конструируется с помощью особого психического акта – фантазии, временность которого упускается из виду. Гуссерль указывает: «Брентано не проводил различия между актом и содержанием, или между актом, содержанием схватывания и схватываемым предметом»[57]. Поэтому Брентано не мог ответить на вопрос, принадлежит ли временной момент, производимый первичной ассоциацией, к самому акту схватывания или же к объекту схватывания, скажем, к звуку в его временном бытии. Гуссерль полагает, что первичные временные характеристики – последовательность и одновременность – относятся не только к первичным содержаниям схватывания, но также к схватываемым объектам и схватывающим актам. Анализ времени должен, таким образом, учитывать все эти уровни.
Согласно Гуссерлю одной из предпосылок учения Брентано является так называемая догма о моментальности сознавания целого, которая состоит в том, что для схватывания последовательности представлений необходимо, чтобы они присутствовали как одновременные в одном акте сознания. Такая постановка вопроса снова приводит к объяснению осознания последовательности посредством некоторой вневременной структуры и, следовательно, препятствует признанию того, что сознание последовательности и длительности есть изначально данное сознание.
И все же основным отличием брентановской теории от феноменологии времени Гуссерль считает то, что эта теория, которую он называет психологической, «работает на основе трансцендентных предпосылок с существующими временными объектами, которые совершают „раздражения“ и „вызывают“ в нас ощущения и т. п.»[58]
Сфера феноменологического исследования как сфера описания не должна, согласно Гуссерлю, включать ничего трансцендентного в кантовском смысле. И хотя термин «трансцендентный» можно встретить у Гуссерля в лекциях по феноменологии времени, Гуссерль употребляет его в другом смысле, нежели Кант. Гуссерль говорит о трансцендентном восприятии (что, по Канту, само по себе противоречиво) как о восприятии, которое имеет своим объектом внешний предмет. С некоторым упрощением можно отождествить трансцендентное восприятие с кантовским пространством как формой внешнего восприятия. Соответственно, трансцендентный объект – это предмет, который осознается как внешний по отношению к сознанию. В этом смысле объективное время и время самих предметов трансцендентно. Гуссерль отделяет вопрос о том, каким образом конституируются трансцендентные временные объекты от вопроса о конституировании временных имманентных объектов, т. е. о конституировании акта восприятия посредством первичных временных фаз. При описании имманентного объекта мы должны, по Гуссерлю, «заключить в скобки» вопрос об эмпирическом происхождении предмета (например, звука), его физической основы и т. д. Мы должны взять предмет только так, как он дан сознанию, и описать эту данность.
Метод, которым пользуется Гуссерль для изучения времени, является, по существу, трансцендентальным в самом широком смысле. Этот метод сводится в основном к двум процедурам: во-первых, к особому наблюдению над различными длящимися объектами, длительностями, последовательностями и т. д., т. е. к наблюдению над данными в сознании временными различиями, и во-вторых, к фиксации определенной структуры сознания, благодаря которой может осуществиться осознание того или иного временного фактора. Другими словами, Гуссерль создает такую модель сознания, которая должна иметь дело с осознанием временных различий.
Для описания восприятия временных объектов и временных различий Гуссерль стремится выбрать удобные для этой цели объекты, такие как тон и мелодия, чтобы устранить возможные пространственные ассоциации. Тон начинается и прекращается, и мы можем зафиксировать единство его продолжительности. Само звучание постепенно затихает, но пока мы его удерживаем в сознании, тон имеет свою собственную временность. В течение всей своей продолжительности тон является тем же самым тоном, несмотря на изменения в интенсивности. Первая точка этой продолжительности-начало тона – предстает как точка настоящего, точка «теперь». Тон осознается как настоящий, как «теперешний», поскольку каждая его фаза осознается как «теперь». Если, однако, следуя Гуссерлю, мы выделим некоторую временную фазу, которая не совпадает с начальной точкой, в качестве актуального «теперь», то мы можем осознать законченный интервал временной продолжительности от начальной точки до «теперь-точки». Оставшийся интервал и всю последовательность целиком мы осознаем в конечной точке, причем саму точку осознаем как точку «теперь». «Полный интервал продолжительности тона, или тон в его протяженности, – пишет Гуссерль, – имеется в наличии как нечто, так сказать, мертвое, себя более не оживляющее порождение, формация, не оживляемая продуктивной точкой «теперь», формация, которая, однако, постоянно модифицируется и погружается в пустоту»[59]. Следует отметить, что описать способ, каким имманентно-временной объект является в непрерывном потоке, не означает описать саму продолжительность, которая, конечно, предполагается в описании. Когда тон длится, эта продолжительность сама является настоящей, самопорождающей, и «конец-точка» превращает ее в законченную продолжительность, которую можно воспроизвести в воспоминании. Кроме того, что мы можем описать начало, продолжительность и конец тона, мы также можем обратить внимание на тот способ, посредством которого мы осознаем различия в явлении имманентного тона. Однако Гуссерль предупреждает, что эти явления – явления имманентных объектов – особого рода. С точки зрения Гуссерля, лучше говорить о «протекающих феноменах» (Ablaufsphänomen) или о способах «временной ориентации», а в отношении самих имманентных объектов – об их «протекающих характеристиках» (например, «теперь», «прошлое»). «О протекающем феномене мы знаем, – пишет Гуссерль, – что он представляет собой непрерывность постоянных изменений, которые формируют неделимое единство, не делимое на части, которые могли бы существовать сами по себе…»[60]. Однако, по Гуссерлю, можно абстрактно выделить некоторые отрезки продолжительности и, что еще более важно, выделить отдельные уникальные, неповторяющиеся точки (начало, конец и т. д.). Следующая диаграмма времени иллюстрирует наблюдения Гуссерля[61].
Точка А обозначает первичную «точку-источник», начиная с которой имеет место протекание имманентного времени объекта. Эта точка характеризуется как «теперь». Линия АЕ обозначает ряд «теперь-точек», точек, в которых мы удерживаем тон как настоящий. Однако тон как протекающий феномен погружается в прошлое, и это погружение иллюстрируется линией АА'. Каждая «теперь-точка» существует не самостоятельно, а вместе со своим погружением: EА'» характеризует именно такой континуум фаз – «теперь-точку» с горизонтом прошлого. Гуссерль подчеркивает, что каждая фаза протекания, которая следует за первичной «точкой-источником», является сама по себе непрерывностью, и эта непрерывность, постоянно расширяясь, является непрерывностью прошедших фаз. Само протекание постоянно модифицируется, и точки продолжительности постоянно отступают в прошлое.
На нижнем рисунке сплошная горизонтальная линия обозначает интервал модусов протекания длящегося объекта, имеющего конечную «теперь-точку», начиная с которой ряд «теперь-точек» (Е→) будет относиться к другим объектам. В «конце-точке» продолжительность теряет свою действительность и становится прошлой продолжительностью, которая все глубже погружается в прошлое. Диаграмма времени служит только иллюстрацией описания соотношения временных фаз. Для самого описания этих соотношений Гуссерль вводит понятия «теперь», ретенции и протенции.
Понятие ретенции (Retention – удержание) занимает, пожалуй, центральное место в анализе Гуссерля. Для того чтобы прояснить смысл ретенции, Гуссерль прибегает не к дефинициям через род и видовое отличие, а к описанию посредством сравнения с «точкой-источником». Эта точка, которую Гуссерль называет первоначальным впечатлением, удерживается в сознании как «только-что-прошедшее». Иначе говоря, первоначальное впечатление переходит в ретенцию, причем ретенция является актуально существующей, в то время как «теперь-точка» объекта (тона) предстает как «только-что-прошедшая»[62]. Ретенция как бы растягивает настоящее («теперь-точку») и удерживает запечатленное содержание: «Единство сознания, которое интенционально охватывает настоящее и прошлое, есть феноменологическое данное»[63].
Каждая «теперь-точка» постоянно изменяется от ретенции к ретенции, образуя континуум, где каждая последующая точка является ретенцией предыдущей. В то же время каждая ретенция несет в себе следы первоначального впечатления, или, как выражается Гуссерль, импрессионального сознания. Гуссерль указывает, что ретенция есть моментальное сознавание фазы, которая уже завершена, и в то же время основание для ретенциального сознания следующей фазы. «Так как каждая фаза, – продолжает Гуссерль, – является ретенциальным осознанием предшествующей фазы, она включает в себя в цепи опосредованных интенций весь ряд истекших ретенций…»[64]
Если мы схватываем в восприятии временной объект как «теперь», то такое схватывание является, по выражению Гуссерля, «центром кометных хвостов ретенций». Однако этот «ретенциальный шлейф» не существует без первоначального ощущения или восприятия, которое с необходимостью ему предшествует: «Каждая ретенция в себе отсылает к впечатлению»[65]. Конечно, здесь имеется в виду предшествование самого впечатления, а не объекта (в данном случае – трансцендентного), который вызывает впечатление. Мы можем не только вспомнить нечто, никогда не существовавшее, но и воспринимать несуществующий предмет. В этом случае «восприятие», фиксация объекта как «теперь» должна быть первичной по отношению к ретенции.
В отличие от брентановской «первоначальной ассоциации», которая является конструкцией для объяснения ощущений времени, существование ретенции описано Гуссерлем в рефлексии. Если «первоначальная ассоциация» прибавляет к первично ощущаемому содержанию так называемую фантазию-представление, то ретенция не содержит в себе ничего «фантастического». Ретенция выполняет весьма важные функции в феноменологическом учении о времени и является фактически основой этого учения.
Прежде чем систематизировать эти функции, следует указать еще на своеобразного двойника ретенции – протенцию. В отличие от ретенции – первичного запоминания – протенция выполняет функцию первичного предвосхищения или первичного ожидания. Протенция конституирует «пустоту», она идет как бы впереди «теперь-точки», «подготавливая место» для первичного впечатления. Протенция характеризует сознание как готовность к восприятию, как активность, которая подготавливает восприятие, «создает» его, а не просто копирует предмет. Таким образом, единство фаз «ретенций-теперь-протенций» является наиболее общей структурой внутреннего времени и, как станет ясно из дальнейшего рассмотрения, интенциональных актов. «Можно представить этот феномен, как это делает Гуссерль, – пишет Мерло-Понти, – с помощью диаграммы. Для того чтобы завершить ее, должны быть добавлены симметричные перспективы протенций. Время – это не линия, а сеть интенциональностей.
…Горизонтальная линия: ряд «настоящих моментов». Наклонные линии: Abschattungen[66] тех же самых «настоящих моментов», которые видны из последующего «настоящего момента». Вертикальные линии: следующие один за другим Abschattungen одного и того же «настоящего момента»[67].
В процессе восприятия длящегося объекта ретенция, согласно Гуссерлю, не может быть единичной. Она сразу же тянет за собой целый «ретенциальный шлейф». Отсюда следует, что ретенция удерживает не только отдельные точки длящегося объекта (отдельные тоны мелодии), но и образует единство ретенциального сознания. «Теперь-точку» с цепочкой ретенций можно изобразить так:
и т. д.
Таким образом, ретенция обладает двойной интенциональностью. «Поперечная» интенциональность, т. е. собственно «первичное запоминание», служит для конституирования имманентного временного объекта; «продольная» интенциональность «конституирует единство этого запоминания в потоке»[68]. Поскольку ретенция удерживает и объект, и поток, в котором он длится, она создает возможность рефлексии, т. е. возможность направить внимание на удержанную фазу и даже на целый ряд таких фаз. Гуссерль указывает, что «благодаря ретенции сознание может стать объектом»[69].
Это утверждение сразу же, конечно, наталкивает на сравнение с точкой зрения Канта. Несомненно, мы имеем здесь определенное сходство позиций. Согласно Канту время тоже дает возможность сделать объектом познавательную способность. Подтверждением этого являются темпоральные описания категориальных синтезов. Однако при рассмотрении свойств времени Кант отвлекается от анализа определенных форм осознания временных объектов и, следовательно, не выделяет различные уровни понимания первичных временных различий. Кант показывает, каким образом можно описать синтезы через последовательность и одновременность, но он не рассматривает вопрос об описании последовательности и одновременности при восприятии временных объектов. Поэтому Кант не различает последовательность сформированных «готовых» представлений и последовательность фаз переживания в синтезе схватывания.
В отличие от Канта Гуссерль стремится иметь дело с данностями длящихся объектов и выделить различные уровни абстракции, в соответствии с которыми возможно более детальное изучение времени.
Утверждение о том, что ретенция создает возможность рефлексии, не противоречит тому, что Гуссерль открыл существование ретенции в рефлексии. Между рефлексией и ретенцией нет отношения предшествования. То, что рефлексия существует, доказывается не логически при помощи понятия ретенции, а просто фактом ее осуществления. В самом деле, убедить кого-либо в существовании способности к рефлексии можно только в том случае, если этот «кто-то» способен направить свое внимание не только на предмет, но и на свое восприятие предмета[70].
Рефлексию как поворот интенциональности на саму себя можно описать, согласно логике рассуждений Гуссерля, в новой рефлексии. И тогда в самой рефлексии выяснится то, благодаря чему она может существовать. Иначе говоря, то, что ретенция есть основание рефлексии, можно узнать только в рефлексии. В этом смысле рефлексия сама себя обосновывает и, согласно Гуссерлю, является ядром феноменологического метода. Обращение интенциональности к себе требует новой интенциональности – интенциональности рефлексии. Связь между этими интенциональностями возможна благодаря ретенции (ретенция удерживает ретенцию), причем ретенция является не чем-то внешним по отношению к интенциональности, но структурой интенциональности. Эта функция ретенции, пожалуй, самая фундаментальная, ибо остальные, нами выделенные, основываются именно на ней.
Интенциональные акты конституируются только полностью, т. е. всегда во взаимосвязи «теперь-точек», ретенций и протенций. Сами же эти фазы не конституируются. Действительно, можно ли осознать «теперь-точку», если за ней не последует ретенция? «Теперь-точка» и ретенция не существуют друг без друга, их единство неразложимо в рефлексии, и когда Гуссерль говорит о ретенции и ее функциях, он тем самым все время имеет в виду соотнесенную с ней «теперь-точку». Если же «теперь-точку», или «первичное схватывание», считать схватывающим актом, то это приводит к так называемому регрессу сознания, ибо этот акт потребует «следующего за ним» акта, в котором мы осознаем первый, и т. д.
Таким образом, полный интенциональный акт конституируется временными фазами, которые отождествляются Гуссерлем с частичными интенциями, несущими в себе отдельные свойства воспринимаемого предмета; причем именно те свойства, благодаря которым предмет предстает в единстве и целостности, нами не осознаются. Мы осознаем сам предмет, а также сам акт схватывания предмета; единство же акта схватывания существует благодаря тому, что ретенция удерживает и связывает частичные интенции.
Поскольку частичные интенции как раз и есть Abschattungen различных временных фаз, темпоральная структура интенциональности характеризует восприятие как своего рода «прикидки», «наброски», «эскизы», которые совершает сознание, конституируя данность предмета. Феноменологическое данное – это «континуум перспектив», благодаря которому мы имеем возможность, по Гуссерлю, «достраивать образ», воспроизводить предмет по его видимой части и т. п. Интересно отметить, что эта характеристика восприятия соответствует современным представлениям о зрении – глаз не фотографирует предмет, а как бы ощупывает его контуры. Однако Гуссерль не приводит примеры, связанные с формированием зрительного образа, поскольку «набор перспектив» предмета сразу же укладывается в привычные пространственные формы и в рефлексии трудно схватить сам процесс возникновения целостности образа. По этой причине и выбирается тон, который предстает скорее как нечто внутреннее, что и позволяет удерживать в сознании его оттенки.
В методологическом аспекте понятие ретенции и в целом структура «ретенция-теперь-протенция» показывает, что проблема взаимосвязи рефлексии и сознания решается Гуссерлем только на основе темпоральных описаний, без введения вневременного посредника. Иной подход развивает Герд Бранд в книге. «Мир, Я и Время», название которой свидетельствует о том, что основным концептуальным средством интерпретации Гуссерля у Бранда является «Я» как посредник между рефлексией и временем, между сознанием и миром.
Бранд, как известно, рассматривал гуссерлевское учение о времени, используя в основном не опубликованные к 1955 г. рукописи философа. Этот подход, который дал много интересных результатов, оставляет все же в стороне общий контекст первоначальных лекций Гуссерля о времени-сознании.
В самом общем виде отличие нашего понимания гуссерлевской методологии в учении о времени состоит в том, что Гуссерль попытался «увидеть» сознание сквозь призму времени, но не наоборот. Для Гуссерля время – это первичная интуиция относительно сознания, причем время и сознание не опосредуются структурой «чистого Я». Гуссерль не ставит вопрос о времени, опираясь на «готовую» теорию сознания. Наоборот, время есть «средство» для поисков абсолютных основ сознания. Время есть исходный и конечный пункт анализа первичных модусов сознания. Речь, конечно, не идет о том, что понимание времени предшествует (в объективном времени!) пониманию сознания. Однако, раскрывая взаимосвязь времени и сознания, времени и рефлексии, Гуссерль не нуждался в структуре «чистого Я».
По нашему мнению, «Я» в приводимых Брандом записях Гуссерля есть не что иное, как сокращенное обозначение способности схватывания целостности потока переживаний или его «частей». Недаром Бранд не уточняет, о каком «Я» идет речь – о чистом или эмпирическом. Бранд пишет: «Рефлексия есть… наипервичное открытие «теперь» и «только что», рефлексия при этом есть наипервичное открытие времени или временности»[71].
Следует полностью согласиться с Брандом, что феноменологическая рефлексия темпоральна, однако ее темпоральность не создается отличием «Я» от самого себя, т. е. отличием «Я» в «теперь» от «Я» в «только что». Наоборот, только благодаря временности дорефлективного сознания мы можем в рефлексии отличить различные фазы потока переживаний. Кроме того, отличие «Я» в «теперь» от «только что бывшего» «Я» не содержит в себе критерия того, что оно имеет место во «внутреннем времени». Это отличие, взятое без оговорок, может быть понято как интервал в объективном времени. Необходимые «оговорки» суть опять-таки описания временной протяженности переживаний, но не абстрактно выделенного «Я».
Приведенные Брандом места из рукописей Гуссерля говорят о том, что Гуссерль скорее проясняет «Я» через временность сознания, нежели время при помощи «Я»: «Таково основное и первое достижение феноменологии: что в Я-есть – мое бытие аподиктически удостоверяется, но так, что «Я», истолковывая конкретность этого бытия, должно пройти путь итеративной рефлексии, и мое бытие я обнаруживаю как тождественное итеративному и в итерации уже единообразно связанному самовременению (Selbstzeitigung), в котором само Бременящееся (Zeitigendes) существует только как овремененное (Gezeitigtes)»[72]. Таким образом, темпоральность «овремененной» рефлексии, т. е. оживленной временным потоком дорефлексивного сознания рефлексии, создает возможность самоидентификации благодаря одному из «свойств» временности-итерации. Способность к итерации также может быть «объяснена» с помощью ретенции. Это «объяснение» означает возможность описания итерации при помощи структуры «ретенция-теперь-протенция».
§ 3. Проблема единства сознания. Память и рефлексия
Рассмотрение памяти как одной из существенных структур сознания непосредственно связано у Гуссерля с постановкой вопроса о единстве сознания и связи рефлексии с временем. Здесь отчетливо обнаруживаются как сходство, так и различие методологических позиций Канта и Гуссерля. Изъятие из рассмотрения синтеза воспроизведения во втором издании «Критики чистого разума» лишает память гносеологического статуса, память целиком относится, по Канту, к сфере психологии. Во втором издании Кант усиливает позицию, согласно которой познавательная способность должна рассматриваться в «объективном» аспекте, т. е. как синтетическая деятельность, создающая объект познания. Включения памяти в число фундаментальных способностей познания требовала лишь «субъективная дедукция», в «объективной дедукции» память как трансцендентальная сила становится излишней.
Наличие двух аспектов в «Критике…» – «субъективного» и «объективного» – обусловило противоречивый характер связи рефлексии и времени у Канта. Понятие интенциональности снимает в феноменологии различие между этими двумя подходами к изучению сознания и позволяет Гуссерлю исследовать память как первичную структуру сознания.
Термин «единство сознания» в отношении к системе априорного познания у Канта можно употреблять, по крайней мере, в двух значениях. Их необходимо выделить, чтобы не нарушить основы сравнения учений Канта и Гуссерля и тем самым избежать противопоставлений там, где их нет, обнаружив различие на более глубоком уровне.
Первое значение термина – это единство представлений в сознании, в основе которого лежит действие единства апперцепции: «Я мыслю должно быть способно сопровождать все мои представления…» (В 131–132; Т. 3, 191). В этом случае понятие единства сознания должно быть сопоставлено с понятием «чистого Я» (ego cogito) у Гуссерля, которое выполняет аналогичные функции и служит как бы стержнем всех интенциональных актов. Так же как единство апперцепции, «чистое Я» представляет собой не объект, а одно из субъективных условий познания, указывая на необходимость центрального звена всех представлений, которое не тождественно самим представлениям. И в том и в другом случае речь идет о существовании такой способности сознания, наличие которой дает возможность объяснить его эмпирическую работу.
Согласно Гуссерлю «чистое Я» как чистую «направленность на…» невозможно описать в себе и для себя без его соотнесений – «направленность на…» всегда реализуется в определенном феноменологическом данном посредством определенного акта сознания.
И апперцепция, и «чистое Я» сами по себе не несут временных характеристик, однако спонтанная способность «Я мыслю» в системе абстракций располагается и Кантом, и Гуссерлем таким образом, что в познании она необходимо вступает во временные отношения. У Канта трансцендентальное действие воображения представляет собой единство апперцепции и внутреннего чувства, в основе которого – время; у Гуссерля стержень интенциональных актов структурирует «лишенную начала и конца линию имманентного времени»[73].
Сходство между функциями единства апперцепции и «чистого Я» не исключает различий. Кант, рассматривая процесс присоединения представлений в одном сознании и тождество сознания в этом процессе, имеет дело с готовыми представлениями. У Гуссерля «чистое Я» имеет более «тонкую» структуру: она не только выполняет функцию «Я мыслю» по отношению к различным переживаниям, но и участвует в формировании переживаний. Таким образом, речь идет уже не только о тождестве сознания по отношению к различным представлениям, но и о тождестве интенционального акта при соотнесении с различными модусами данности предмета[74]. Кроме того, у Гуссерля существенно переставлены акценты: у Канта единство сознания – это тождественное проявление одних и тех же структур субъекта в различных представлениях, у Гуссерля чистая «направленность на…» – это условие перестройки сознания в зависимости от того, с предметами какого рода оно имеет дело.
Второе значение, в котором может употребляться термин «единство сознания», – единство смысла в представлениях. Здесь также обнаруживается существенное сходство: и у Канта, и у Гуссерля единство смысла в представлениях достигается благодаря темпоральной основе. У Канта – благодаря трансцендентальной схеме, у Гуссерля – благодаря темпоральной структуре интенциональности.
Было бы ошибкой сравнивать понятие единства сознания у Канта и Гуссерля соответственно как апперцепцию и единство внутреннего времени, т. е. смешивая два значения термина[75].
В самом деле, Кант применяет термин «единство сознания» только к апперцепции, но не к трансцендентальной схеме или к трансцендентальному синтезу воображения. У Гуссерля же этот термин относится большей частью к темпоральному единству сознания. Однако следует иметь в виду, что под «сознанием» в данном случае Кант и Гуссерль понимают различные вещи. У Канта сознание на этом уровне рассуждений отождествляется с рассудком, тогда как Гуссерль нигде не абстрагирует чисто рассудочную деятельность, трактуя сознание как совокупность всевозможных интенциональных актов, в основе которых лежит ноэтический, смыслообразующий компонент.
Выделение двух значений термина «единство сознания» позволяет сравнивать уже не термины, а функции, которые выполняют определенные абстракции в рамках гносеологических учений Канта и Гуссерля: при всех отличиях апперцепция и чистое ego фиксируют тождество сознания в процессе смены представлений, т. е. необходимую формальную структуру сознания, а трансцендентальный синтез воображения и темпоральное единство интенциональности воплощают в себе назначение сознания, его первичную и главную цель – создавать осмысленные контексты-содержания. Согласно Гуссерлю трансцендентальная позиция – это постоянный процесс интенционального анализа, процесс, в котором человек обретает единство сознания как внутреннюю историчность. По этой причине изучение памяти приобретает для феноменологии особое значение. Гуссерль исследует память в рефлексивном наблюдении и в то же время показывает возможность рефлексии в памяти. Гуссерль отвлекается от вопросов о том, благодаря каким структурам мозга мы можем запоминать; его интересует другое: каковы те общие структуры сознания, посредством которых память осуществляется как процесс. Исследование памяти непосредственно связано в феноменологии с учением о времени, где Гуссерль проводит ряд важных сопоставлений: память и ретенция, память и фантазия, память и восприятие. Кроме того, важная роль отводится памяти в конституировании объективного времени.
Прежде всего следует рассмотреть различие между ретенцией и памятью, что, собственно, и делает Гуссерль. Если ретенция – это первичное запоминание, то собственно память Гуссерль называет вторичным запоминанием. В то время как ретенция непосредственно образует актуальное восприятие как «хвост кометы», или «ретенциальный шлейф», в памяти воспроизводится и сам континуум ретенциальных модификаций, и сама первичная «точка-источник» восприятия. Гуссерль отмечает, что феномен памяти скорее похож на восприятие. Как и восприятие, память имеет привилегированную точку, с которой начинается воспоминание, т. е. первичную «теперь-точку».
В процессе воспроизведения действует соединение «теперь-точек», ретенций и протенций. Так же как и в восприятии, в воспроизведении, которое мы производим посредством воображения, «теперь-точка, – указывает Гуссерль, – имеет для сознания временное гало, которое осуществляется в непрерывности схватываний воспоминания»[76]. Структура памяти мелодии тождественна, следовательно, не ретенции, а целостной структуре восприятия. Однако в памяти мы реально не слышим мелодию и с очевидностью осознаем ее уже как прошедшую.
В отличие от мелодии, ее воспоминание является не прошедшим, а настоящим, первично конституированным воспоминанием. «Оно производит самого себя в континууме первичных данных и ретенций, – указывает Гуссерль, – и конституируется (или скорее реконституируется) совместно с имманентной или трансцендентной длящейся предметностью (в зависимости от того, имманентно или трансцендентно оно ориентировано)»[77].
Гуссерль отмечает также, что воспроизведение временного объекта может осуществляться различными способами. Воспоминание может просто «появиться», и в процессе видения того, что воспроизведено, мы можем выделить некоторую моментальную интуитивно рожденную фазу. В другом случае мы строим объект в соответствии со всеми фазами, уровнями и ретенциями, которые имели место в процессе восприятия: чтобы вспомнить именно тот предмет, который мы когда-то воспринимали, воспроизведенные фазы должны быть тождественны воспринятым, но, как замечает Гуссерль, с индексом репродуктивного изменения.
Для прояснения различия между ретенцией и памятью Гуссерль соотносит их с восприятием (перцепцией). Оказывается, однако, что если сравнивать перцепцию и ретенцию, то собственно перцепция предстает лишь как идеальный предел, абстрактно выделенная точка, которая сразу же переходит в ретенцию, т. е. в сознание того, что только что было. Ретенция превращает в прошлое ту фазу, к которой она непосредственно присоединена, но ретенция не может превратить в прошлое временной объект, продолжительность которого не закончена. «Она (мелодия. – В. М.) является прошлой, – пишет Гуссерль, – лишь после последнего тона»[78].
Реальная перцепция представляет собой сложный процесс, постоянный переход от «теперь-точек» к ретенциям, переход, который образует целый континуум градаций. В этом континууме каждая «теперь-точка» удерживается как прошедшая «теперь-точка» (в отличие от Брентано «теперь» становится прошлым «теперь», а не «теперешним прошлым»). Первичное впечатление и любую его модификацию можно, согласно Гуссерлю, характеризовать как таковые. Это и означает, что мы можем абстрактно выделить различные фазы целостного процесса восприятия. Такое выделение необходимо для того, чтобы отличить модификации, непрерывно порождающие новые модификации, от первичного впечатления, которое является абсолютным началом этого порождения. Первичное впечатление не создается сознанием, напротив, «сознание ничто без впечатления». «Своеобразие этой спонтанности сознания состоит, однако, в том, – замечает Гуссерль, – что оно только осуществляет рост, развитие первично порожденного, но не создает ничего «нового»[79]. Заметим, что Гуссерль берет «новое» в кавычки, так как этим он хочет подчеркнуть, что сознание не может работать без некоторого первичного данного.
В отличие от восприятия, в памяти мы не можем выделить первичное впечатление в качестве идеального предела, ибо воспроизведенная начальная «теперь-точка», соответствующая первичному впечатлению в восприятии, представляет собой создание усилий памяти. Таким образом, память и восприятие отличаются, по крайней мере, наличием идеального предела в восприятии, т. е. наличием впечатления, которое первично порождает работу сознания по схватыванию временного объекта. Кроме того, ретенция не осуществляет себя одинаково в памяти и в восприятии. В восприятии она модифицирует порождающую «точку-источник», а в памяти – эту же точку, но только воспроизведенную. Конечно, ретенция относится не только к первичным точкам восприятия и воспроизведения, но сама память изменяет первоначальное «теперь» в воспроизведенное «теперь», а ретенция – первоначальное или воспроизведенное «теперь» в прошлое.
На первый взгляд может показаться, что, согласно Гуссерлю, память представляет собой нечто пассивное, копирующее восприятие: «Акт представления имеет в точности такое же временное протяжение, как более ранний акт восприятия. Первый воспроизводит последний, он позволяет протекать отрывку, тональной фазе за тональной фазой, интервалу за интервалом…»[80]. В то же время современные психологи говорят о том, что память – это активный процесс переработки информации. Мы намеренно выбираем такого рода воззрения, чтобы лучше понять особенности гуссерлевского анализа памяти.
П. Линдсей и Д. Норман приводят следующий пример: «Большинству из вас, вероятно, довелось в детстве познакомиться с историей Гайаваты. Помните ли вы свое первое впечатление об этом герое? Изменились ли ваши представления о нем за последующие годы? Почему это произошло? Потому ли, что вы еще раз перечитали поэму, или это результат того, что вы больше узнали о мире, об индейцах, об особенностях детской литературы и о древних преданиях индейского фольклора?»[81] В самом деле, мы можем переосмысливать содержание произведений, прочитанных в юности, причем даже не перечитывая их. Авторы совершенно правы в том, что «по мере накопления информации о мире понимание мира запоминающей системой углубляется и совершенствуется»[82].
Однако речь в данном случае идет о переосмыслении содержания, Гуссерль же, исследуя память, имеет в виду сам процесс протяжения воспоминания, как он дан в сознании. Гуссерль не строит естественнонаучные модели памяти, его метод заключается в рефлексии на процесс воспоминания. Он, конечно, исследует преимущественно воспоминание воспринятых временных объектов, и, строго говоря, такой тип исследования весьма отличается от исследования так называемой смысловой памяти. Однако некоторые черты гуссерлевского анализа, видимо, могут быть применены и здесь.
В частности, вышеупомянутые авторы не учитывают того, что мы можем вспомнить не только содержание поэмы и образ Гайаваты, но и то, каким был для нас этот образ и его содержание в детстве. Именно для этого и необходима рефлексия. П. Линдсей и Д. Норман не учитывают этого, видимо, в силу характера их книги и поставленной задачи – изучить механизм памяти в связи с переработкой информации, причем памяти «нормального» человека в том смысле, что он не всегда и не обязательно задумывается над тем, что такое память, а «имеет» ее и пользуется ею.
Задача Гуссерля другая – изучить то, каким образом мы помним о временном объекте, о том, что воспринятый нами ранее предмет сам в себе имеет временное протяжение. Это возможно, согласно Гуссерлю, только в том случае, если сама память имеет длительность и исследуется как определенная структура внутреннего времени. Какова структура временности самой памяти, можно узнать посредством рефлексии, которая в данном случае не может быть заменена полностью экспериментальным исследованием. Более того, метод рефлексии и экспериментальное исследование памяти в современной психологии не альтернативны по существу и могли бы дополнять друг друга.
Поскольку восприятие представляет собой сложный процесс, осуществляемый активной работой сознания, постольку и воспроизведение восприятия является интенциональным процессом. Согласно Гуссерлю память должна быть тождественной восприятию и в то же время отличаться от него. Это тождество понимается в том смысле, как мы уже указывали, что память может воспроизводить фазы временного объекта соответственно фазам его восприятия. Отличие же заключается в том, что мы фиксируем в памяти «репродуктивный индекс» относительно каждой фазы восприятия и всего воспринятого объекта. Этот репродуктивный индекс проявляется благодаря тому, что фазы самого акта, конституирующего воспоминание, отличаются по существу от фаз акта в восприятии.
Мы рассмотрели это выше относительно начальной «теперь-точки» и ретенций. Однако и протенции как первичные ожидания также изменяются, по существу, в процессе воспоминания. Если в восприятии протенции конституируют «пустое место» – «подхватывают то, что приходит», то в памяти протенции воспроизводятся как уже осуществленные.
Таким образом, с точки зрения Гуссерля, можно говорить о двойственной интенциональности воспоминания. «В каждом представлении, – пишет Гуссерль, – нужно различать репродукцию сознания, в котором был дан, т. е. воспринят или вообще первично сконституирован, прошлый длящийся объект, и то, что присуще этой репродукции как конститутивной для сознания «прошлого», «настоящего» (совпадающего с актуальным теперь) и «будущего»[83]. Иначе говоря, вместе с воспроизведенным временным объектом память содержит временной фон этого объекта. Весьма любопытна вторая интенциональность (на временной фон), которая представляет собой воспроизведение совершенно другого типа, чем воспроизведение объекта. В отличие от воспроизведения «фаза в фазу», память производит фон совершенно непрерывно, «в потоке». В этом случае мы имеем, согласно Гуссерлю, не цепочку «ассоциативных» интенций, а непрерывное взаимодействие прошлого, будущего и настоящего, которое и вырисовывает данный фон.
Кроме того, Гуссерль указывает, что вместе с этими непрерывными интенциями имеет место и интенция на ряд возможных осуществлений, которую он называет пустой. Пустая интенция образует «туманные окрестности» того, что вспоминается. Эти туманные окрестности оказываются совершенно необходимыми для конституирования объекта, причем не только в воспоминании, но и в восприятии. Это относится не только к сугубо временным объектам, но и к пространственным. Именно поэтому Гуссерль называет интенцию полного восприятия «комплексной». «Передний план, – пишет Гуссерль, – ничто без фона. Являющаяся сторона ничто без неявляющейся. То же самое в отношении единства времени-сознания: воспроизводимая длительность есть передний план; упорядочивающие интенции делают осознанным фон, временной фон… Мы имеем следующие аналогии: для пространственной вещи – упорядочение в окружающем пространстве и пространственный мир, с одной стороны, а с другой – сама пространственная вещь с ее передним планом и фоном. Для временной вещи мы имеем упорядочение во временной форме и временной мир, с одной стороны, а с другой – саму временную вещь и ее изменяющуюся ориентацию относительно живого Теперь»[84].
Тема «пустых» и «неполных» интенций, тема потенциального конституирования впервые конкретно разрабатывается Гуссерлем в лекциях по феноменологии времени и играет важную роль в феноменологическом учении о сознании. Эта тема в совокупности с учением о корреляции ноэсиса и ноэмы обнаруживает одну из главных целей феноменологической философии – создание модели сознания, способного осуществлять любые свои действия в горизонте соответствующих предметов и проблем. Здесь налицо определенное сходство с кантовской постановкой проблемы способности суждения. По Канту, это «особый дар, который требует упражнения, но которому научиться нельзя» (А 133; Т. 3, 218). Способность суждения, которую Кант определял как «умение подводить под правила», есть, по существу, способность соотносить утверждение с определенным контекстом, что, собственно, придает ему смысл. Кант, однако, утверждает, что мы можем лишь фиксировать наличие или отсутствие этого «дарования», и рассматривает способность суждения только в аспекте предотвращения ошибок, т. е. в аспекте Критики. Гуссерль же не только показывает конкретные способы осуществления рефлексии, но дает общую модель рефлексивной и «контекстуально-горизонтной» деятельности сознания. Речь идет, по существу, о замысле гносеологической теории контекста на основе феноменологического понятия горизонта, теории, которая относилась бы уже не только к способности суждения, но и к процессам восприятия, памяти и т. д.
Гносеологическая значимость памяти в феноменологии времени проясняет важную особенность редукции объективного пространства к континууму поля зрения и, соответственно, объективного времени к внутреннему: пространство и время не только субъективируются, но и индивидуализируются. Гуссерль имеет в виду не безличное поле зрения или внутреннее время, а поле зрения и внутреннее время определенного индивида, причем рефлексия на «личное внутреннее время» есть не что иное, как описание определенного вида интендирования.
Разъясняя смысл трансцендентального эпохе́[85], Гуссерль отмечает, что любой человек постоянно совершает множество нефеноменологических эпохе, когда меняет направление своего интереса. Каждому интересу соответствует определенная профессиональная позиция с определенным «профессиональным временем», которое находит свое «место» внутри единого личного времени. Под «профессией» Гуссерль понимает здесь любую заинтересованную позицию, которую мы принимаем в исполнении той или иной социальной роли: «Мы отцы, граждане и т. д.». Необходимо отметить, что Гуссерль не имеет в виду совокупность социальных ролей, которые «сами по себе» исключают одни и актуализируют другие виды деятельности: мы идем в гости и не можем одновременно слушать концерт или мы смотрим кино и не можем одновременно заниматься научной работой. При феноменологическом анализе «профессиональное время» – это не часы или минуты, которые проводит человек в том или ином месте: на работе, в парке, с детьми, у телевизора и т. д. «Профессиональное время» – это непосредственная заинтересованность индивида в определенном виде деятельности и (при условии рефлексии) осознание этой заинтересованности. Анализируя те или иные «заинтересованные позиции», можно прояснить формальную или реальную совместимость или несовместимость социальных ролей. Мы можем, например, взять с собой магнитофон и слушать по дороге музыку, однако музыка будет лишь фоном нашего бодрого настроения. С другой стороны, вдохновленные музыкальным произведением, мы можем забыть ту цель, ради которой мы вышли из дома. Просмотр кинофильма и научная работа реально совместимы для искусствоведа и лишь формально совместимы для математика, который продолжает размышлять над проблемами, скажем, алгебры в кинотеатре. Можно также гулять с детьми, не интересуясь, чем они занимаются, сидеть у телевизора только затем, чтобы подождать пока «освободится» человек, которому интересно досмотреть передачу, и т. д. и т. п. Таким образом, «профессиональное время» – это время-сознание, и его описание есть описание смысла или значения, которое человек явно или неявно придает той или иной свой деятельности.
Исследуя процесс воспоминания, Гуссерль выделяет еще одну интенцию, значимую для конституирования уже не длящегося предмета, а самой длительности и последовательности. Гуссерль рассматривает пример, когда вместе с восприятием предмета А на определенном уровне его развертывания конституируется другой длящийся предмет, В. Мы схватываем в этом случае и само А, и само В и то, что В следует за А. Гуссерль подчеркивает, что «сознание последовательности есть изначально данное сознание; оно есть «восприятие» этого следования друг за другом»[86]. Воспоминание этой последовательности (А – В) Гуссерль обозначает как (А – В)' где штрих означает память. Раскрытие скобок (А – В)' = А' – В' будет означать, что мы имеем не только сознание памяти А и В, но и память того, что В следует за А. Процесс возвращения к одной и той же последовательности и ее идентификация в качестве одного и того же временного объекта может быть выражена следующим образом: (А – В) – (А – В)' — (А – В)"… Сам процесс возвращения зависит от нашего желания, и мы можем вернуться к воспринятой последовательности столько раз, сколько захотим[87]. Кроме того, в этом процессе мы запоминаем не только последовательности, но и само запоминание и т. д., что видно из символической записи. Благодаря памяти второго, третьего и т. д. уровней, а также благодаря, как выражается Гуссерль, «свободе» воспроизведения, по существу, может иметь место не только идентификация временного объекта или последовательности нескольких объектов, но и идентификация сознания, воспроизводящего объект или последовательность. Гуссерль рассматривает здесь возможность сознательной, рефлексивной идентификации собственного Я и показывает способ ее осуществления посредством памяти, причем памяти различных уровней, и следовательно, посредством рефлексии в памяти. Таким образом, память предстает как уникальное свойство сознания – память сама себя запоминает, а значит, и обосновывает. При этом память не только относит себя к одному и тому же Я но и предстает как одна-единственная память Я которая, конечно, может иметь несколько уровней, но которая способна восстановить только одну реальную «историю» Я[88]. Таким образом, память как априорная структура феноменологически понятого сознания препятствует обезличению рефлексии и указывает на то, что любой вид рефлексии всегда осуществляется не абстрактно-трансцендентальным субъектом, а «реальным» индивидом, который имеет определенное содержание внутреннего опыта.
С понятием памяти неразрывно связано в феноменологическом учении о времени понятие фантазии. Так же как и память, фантазия характеризуется Гуссерлем как представление. Именно в этом Гуссерль видит коренное различие между его учением и учением Брентано. Фантазия никак не может быть единственной основой аппрегензии времени, поскольку сама фантазия должна иметь в своей основе данное, которое не сфантазировано, но представлено. Существенным признаком фантазии, по мысли Гуссерля, является то, что она работает на основе уже данного. Как и в случае восприятия, в отношении фантазии феноменологический метод ограничен рассмотрением только данностей предметов, но и в рамках этого общего утверждения возможны различные позиции. Например, можно считать, что данность есть целиком продукт фантазии или что данность конституируется сознанием. Гуссерль же смотрит на вещи по-другому: основу данности образуют сами предметы, конституирование данности осуществляется посредством интенциональности (целого комплекса интенций), причем основными элементами этого конституирования являются первичное впечатление и первичное запоминание. То же самое верно и в отношении фантазии. Гуссерль вовсе не умаляет роли фантазии, говоря о ней как о воспроизведении. Фантазия творит новое, но, согласно Гуссерлю, не из ничего, а на основе данного.
Если теперь сравнить два вида воспроизведения – воспоминание и фантазию, то окажется, что основанием для сравнения у Гуссерля опять будет служить структура восприятия временного объекта. В отличие от воспоминания в фантазии не воспроизводится «теперь-точка», которая была дана в прошлом. Фантазия не дает воспроизведения объекта или последовательности «фаза в фазу» и, строго говоря, вообще не дает воспроизведения в точном смысле слова, что отмечает Гуссерль. Однако кроме указания на то, что фантазия не возникает из ничего, у Гуссерля есть и другая причина сближать воспроизведение и фантазию. Рассматривая воспроизведение как представление, Гуссерль указывает на необходимость работы фантазии в данном процессе. Другими словами, память не есть фантазия, но фантазия необходима для работы памяти. Более того, фантазия всегда присутствует и в восприятии. С нашей точки зрения, в этом можно усмотреть некоторое сближение позиций Канта и Гуссерля, поскольку под фантазией Гуссерль понимает (так же как и Кант) не какой-то определенный процесс фантазирования, а процесс первичного воображения, т. е. способность создавать образы.
Для уточнения терминологии Гуссерль говорит о «чистой фантазии-явлении», которая всегда остается ядром и восприятия, и памяти. Объяснение того, каким образом облачено это ядро, какими оболочками оно покрыто, Гуссерль считает в данном случае основной проблемой. Представление содержит в себе воображение. Это не означает, что в представлении мы изменяем содержание объектов. Воспринятый в прошлом объект может быть адекватно воспроизведен именно благодаря фантазии. Представление и фантазия словно содержат в себе друг друга, но не тождественны, ибо представление все-таки относится к памяти уже воспринятого объекта, фантазия же, хотя и воспроизводит некоторое первичное данное, это «воспроизведение» свободно от какого-либо фиксированного объекта. Иначе говоря, в фантазии мы имеем не какой-либо представленный предмет, а предмет, который «сам себя представляет», сам себя разворачивает[89].
Изучая первичные модусы сознания, Гуссерль пошел не по пути формальных определений памяти, фантазии, восприятия – в таком случае, рано или поздно, получился бы логический круг, – а по пути описания способов их осуществления. Оказалось, что круг действительно существует, но не «порочный», а реальный: в восприятии содержится память, по крайней мере первичная (ретенция), память имеет такую же структуру, что и восприятие, фантазия невозможна без восприятия, а памяти в свою очередь нет без фантазии. Кроме того, и память, и восприятие, и фантазия имеет общую основу (они же ее и создают) – «внутреннее время».
Таким образом, Гуссерль применяет здесь основной принцип феноменологического исследования – принцип постепенного отождествления предмета с рефлексией на предмет (это и есть, собственно говоря, принцип редукции) – к самой рефлексии. Изучая в рефлексивном наблюдении процессы восприятия, памяти и фантазии, Гуссерль показывает, что рефлексия осуществляется всегда на основе этих модусов сознания.
§ 4. Границы феноменологического метода: конституирование объективного времени и понятие абсолютной субъективности
«Исключение объективного времени» не означает, что объективное время вообще не рассматривается Гуссерлем. «Принцип принципов» – любой предмет в качестве данного может стать объектом феноменологического анализа – распространяется и на объективное время. Оно «исключается» в качестве «независимого от сознания» времени и восстанавливается в качестве проблемы сознания объективного времени. Иначе говоря, Гуссерль отвлекается от рассмотрения объективного «космического» времени и ставит задачу описать сознание времени, которое связано с тем или иным видом предметности.
Согласно Гуссерлю проблема здесь заключается в том, «как, в противоположность феномену непрерывного изменения сознания времени, осуществляется сознание объективного времени, и прежде всего сознание тождественных временных позиций?»[90] «Теперь-фазы» восприятия непрерывно подвергаются изменениям: то, что конституируется посредством этих фаз и ретенций, постоянно погружается в прошлое, и в этом погружении мы можем, согласно Гуссерлю, найти фиксированные временные точки в объективном времени. В течении времени конституируется его неподвижность, т. е. абсолютное, единое объективное время. «Время неподвижно, и все-таки оно течет»[91], – замечает Гуссерль. Такая двойственность времени основывается на двойственности самого схватывания временных объектов: «Полное схватывание предмета содержит два компонента: один конституирует объект в соответствии с его вневременными определениями, другой создает временную позицию: бытие-теперь, уже бывшее и т. д.»[92].
Гуссерль уточняет, что временная позиция – это не интервал от актуального теперь до какой-либо точки в потоке ретенций; этот интервал постоянно увеличивается по мере погружения объекта в прошлое. Временная позиция отличается от временной протяженности объекта и сохраняется в процессе «погружения» как тождественная себе самой. «Теперь-точка» сохраняется во временном протяжении объекта как та же самая «теперь-точка», и характер прошлого она приобретает только в отношении вновь возникающих актуальных «теперь-точек».
«Вневременные определения» объекта основываются на временных, а именно на объективации временных точек. Возможность объективации коренится опять-таки в ретенции, которая сохраняет, «удерживает» содержание различных «теперь-точек». В ретенциальном изменении сохраняется, по Гуссерлю, объективная, или, лучше сказать, предметная интенция. Посредством объективации конституируется «теперь-точка» как «действительный» «теперь-момент», характеризующий предмет. Многообразие удержанных в ретенциях действительных «теперь-моментов» конституирует весь объект целиком в его самотождественности.
Гуссерль строго следует своему методу в этом объяснении и сам вопрос ставит сугубо феноменологически: проблема состоит в прояснении того, каким образом в сознании возникает представление о тождественном временном объекте, который постоянно подвергается изменениям.
Согласно Гуссерлю сохранение индивидуальности временных точек дает возможность осознания тождественного объекта, но еще не дает сознания единого однородного объективного времени. Для того чтобы объяснить, каким образом возникает это сознание, Гуссерль обращает внимание на роль воспроизведения в данном конституировании. Благодаря воспроизведению мы можем иметь объект в сознании столько раз, сколько пожелаем. Кроме того, в воспоминании мы воспроизводим не только идентифицированный объект, но и его временной горизонт, т. е. его протекание, погружение в прошлое, его начальную точку и т. д. Объективации подвергаются не только отдельные, индивидуальные временные точки, но и континуум этих точек. Возможность вернуться в воспоминании к тому же самому объекту в том же самом временном горизонте, создает по Гуссерлю, возможность сознания единого объективного времени.
Согласно Гуссерлю каждый интервал времени, если его полагать в качестве действительного времени (т. е. в качестве времени какого-либо темпорального объекта), должен существовать как интервал внутри одного и единственного объективного времени. Такой интервал, по Гуссерлю, имеет линейную структуру, однако, эта «линейность» времени отличается от кантовского наглядного образа, поскольку линейный порядок интервала продолжительности, по Гуссерлю, формируется в цепочке «теперь», ретенций и протенций. Кантовский образ времени говорит нам о том, что время «течет» от прошлого через настоящее к будущему. В отличие от Канта, Гуссерль полагает в качестве привилегированной точки настоящее, серию «теперь-точек».
Здесь возникает вопрос, в каком смысле говорит Гуссерль об однородности времени, ибо однородность исключает такие временные различия, как «позже», «раньше», «теперь» и т. д. Гуссерль не проясняет смысл однородности времени, и это связано, на наш взгляд, с тем, что в «Лекциях по феноменологии внутреннего времени-сознания» имеет место несоответствие между моделью «внутреннего времени» и анализом объективного времени, несоответствие между уровнем анализа «реальных» фаз переживания времени – ретенций, теперь, протенций – и уровнем анализа одного из возможных интенциональных коррелятов этих фаз.
Конституирование объективного времени у Гуссерля – это, по существу, конституирование (на основе памяти) одного из возможных наглядных образов времени, причем однородность – характеристика этого образа. Специфика феноменологического метода заключается в том, что анализ предмета начинается с фиксации его данности. В случае объективного времени анализ Гуссерля некорректен потому, что он не различает данность наглядного образа и процесс формирования абстракции. Гуссерль начинает рассматривать вопрос с того, что фиксирует осознание объективного времени, однако это осознание является, очевидно, наглядным образом, который формируется конкретно-исторически и прежде всего, хотя и не обязательно, в цепи обыденных представлений о времени.
Таким образом, анализ Гуссерля может способствовать в определенной мере пониманию того, каким образом формируется наглядное представление об объективном времени, однако процесс формирования научной абстракции объективного времени не входит в сферу его рассмотрения. Там, где речь идет об интуитивно данных предметах и процессах, феноменологические описания временных различий обладают высокой ценностью; если же речь идет о конкретно-историческом формировании понятия времени, сама проблема объективного времени полагает границу феноменологического анализа времени. С другой стороны, исследование темпоральности первичных модусов сознания – таких как восприятие, память и т. д. – обнаруживает проблему внутренней границы феноменологического метода: проблему предела анализа сознания. Если проблема объективного времени указывает на предельные возможности феноменологического метода, то проблема предела анализа сознания, которая наметилась еще у Канта и которая составляет существенную черту трансцендентализма в целом, есть одна из проблем, конституирующих саму феноменологию.
Кант указывает на целый ряд вопросов, ответить на которые, с его точки зрения, невозможно: «Трансцендентальный объект, лежащий в основе явлений, и вместе с ним то, на основании чего наша чувственность подчинена одним, а не другим высшим условиям, есть и остаются недоступными нашему исследованию, хотя самый факт их существования несомненен (die Sache selbst gegeben), но только не постигнут» (А 613–614; Т. 3, 532). У Канта речь идет, следовательно, о непознаваемости не только вещей в себе как внешних предметов, но и о непознаваемости абстрагированной от действий предметов познавательной способности. По Канту, можно ответить на вопрос, каким образом связаны чувственность и рассудок в познании, однако общий корень, из которого произрастают два ствола человеческого познания, остается неизвестным. Описывая действие способности воображения, Кант тем не менее называет ее «слепой, хотя и необходимой» функцией души. Конкретизируя синтез воображения в учении о схематизме категорий, Кант отмечает также, что «этот схематизм нашего рассудка в отношении явлений и их чистой формы есть скрытое в глубине человеческой души искусство, настоящие приемы которого нам вряд ли когда-либо удастся угадать у природы и раскрыть» (А 141; Т. 3, 223). Таким образом, Кант отвергает уже саму постановку вопроса о причине такого, а не другого устройства человеческой чувственности и рассудка.
Они даны, согласно Канту, как реальные силы познавательной способности, которые можно изучать только в связи с их проявлением.
Более конкретную постановку вопроса о пределе анализа сознания и тем самым о пределе рефлексивного опыта мы находим в феноменологии Гуссерля, и прежде всего в его учении о времени.
Исследуя при помощи рефлексивного наблюдения осознание времени, и в частности восприятие длительности, Гуссерль использует структуру «ретенция-теперь-протенция» в описании осознания последовательности и одновременности, а с другой стороны, в описании процесса памяти и фантазии. Кроме того, Гуссерль стремится систематизировать свои исследования, выделяя основные уровни конституирования времени и временных объектов. Выделение уровней описания внутреннего времени имеет для Гуссерля еще одну, гораздо более важную цель – создание «модели» субъективности, смыслообразующая деятельность которой основывается на внутренней временности. Такая цель явным образом не ставится Гуссерлем, но следует из общей логики его рассуждений, ибо осознание времени, согласно Гуссерлю, тождественно внутреннему времени субъекта.
Гуссерль выделяет следующие основные уровни конституирования времени и временных объектов, которые, по существу, являются уровнями рефлексивного анализа:
«1. Вещи опыта в объективном времени (где должны были быть еще дифференцированы различные уровни эмпирического бытия, которые до сих пор не были приняты в расчет: вещь, данная в опыте отдельного субъекта, интерсубъективно тождественная вещь, вещь физики).
2. Конститутивные многообразия явлений различных уровней, имманентные единства в доэмпирическом времени.
3. Абсолютный темпорально-конститутивный поток сознания»[93].
Первые два уровня, как видно из перечислений Гуссерля, можно разделить на подуровни, в отличие от третьего – уникального, единого и единственного потока сознания.
Гуссерль уделяет больше внимания второму уровню – конститутивным многообразиям явлений, в основе которых лежит структура «ретенций-теперь-протенций». Однако проблематика, связанная с конституированием этих многообразий, требует введения общей основы временного конституирования в целом. Такой общей основой, по Гуссерлю, является абсолютный поток сознания, который, впрочем, может быть понят только в сравнении с конституированными единствами.
Отметим, что Гуссерль вводит уровень абсолютного потока для того, чтобы прояснить отождествление конституирования актов сознания и их переживания. В самом деле, акты восприятия, памяти и фантазии структурируются посредством первичных фаз и осознаются как акты, которые в свою очередь конституируют содержание предмета в одном и том же «потоке», в одном и том же сознании. Вводя еще один уровень конституирования – уровень абсолютного потока, Гуссерль устраняет тем самым «множественность» сознания. Таким образом, Гуссерль полагает предел, своего рода абсолютную систему отсчета, относительно которой конституируются временные объекты и само время.
Как известно, не существует движения вообще, без точки отсчета, без точки относительного покоя. Время, которое неразрывно связано с движением, тоже всегда «привязано» к определенной системе отсчета. Более того, в ньютоновской механике само время наряду с пространством становится абсолютной системой отсчета. Поскольку Гуссерль говорит о времени, которое присуще самому сознанию, постольку абсолютный поток можно представить как абсолютную (и относительную) систему отсчета для внутренних временных процессов. Абсолютный поток сознания назван «потоком» лишь условно, и Гуссерль признается: «Для всего этого не хватает названий»[94]. Сам поток не представляет собой последовательности временных фаз, в нем нет движения, нет времени (в потоке уже нет системы отсчета). В этом состоит его абсолютность. С другой стороны, абсолютный поток – это чистая возможность движения и времени (имеется в виду, конечно, время-сознание), возможность, из которой, по выражению Гуссерля, «выпрыгивает» «теперь-точка», ретенциальные и протенциальные фазы. Причем поток создает возможность не каких-то абстрактных временных фаз, а фаз, которые относятся к определенным временным объектам. В этом состоит как раз относительность потока, поскольку он открыт для конституирования временных объектов и последовательностей любого рода. Таким образом, по Гуссерлю, временные единства во внутреннем времени могут образовываться только благодаря чему-то квазивременному, что обозначено в «Лекциях…» как абсолютная субъективность.
Гуссерль указывает, что «темпорально конститутивные феномены есть в принципе другие предметности, чем те, которые конституированы во времени»[95]. Гуссерль имеет в виду то, что явление какого-либо объекта, которое длится и изменяется, отличается от конститутивного сознания (перцептивного и ретенциального) предмета, который дан в явлении. Темпорально конститутивные фазы, согласно Гуссерлю, могут быть понятны только как моменты потока. Аналогичным образом дело обстоит с памятью: восстановленное в памяти содержание следует отличать от вспоминающего сознания с его ретенциями памяти. В связи с этим Гуссерль формулирует следующие требования: «Мы всегда должны различать: сознание (поток), явление (имманентный объект), трансцендентный предмет (если он не является первичным содержанием имманентного объекта)»[96].
Все эти различия, которые, собственно говоря, соответствуют выделенным уровням конституирования времени и временных объектов, выявляются только благодаря рефлексии, ибо, согласно Гуссерлю, для того чтобы сделать эти различия ясными, необходимо сделать ясными различные способы их осознания: «В феноменологическом видении я беру объект как феномен. Я направлен на восприятие, на явление и являющееся в их корреляции. Действительная вещь существует в действительном пространстве, длится, изменяется в действительном времени и т. д. Являющаяся вещь восприятия имеет пространство явления и время явления. И наоборот, сами явления и все формы сознания имеют свое время, а именно свое теперь и свое временное расширение в форме «теперь-раньше»: субъективное время»[97].
Согласно Гуссерлю объект восприятия является в субъективном времени восприятия, объект памяти – во времени памяти, объект фантазии – во временном протяжении фантазии, ожидаемый объект – во времени ожидания. Восприятие, память, ожидание, фантазия – все то, что представляет собой объект рефлексии, является в том же самом субъективном времени, в котором являются объекты восприятия. Каждое темпоральное явление редуцируется к потоку, который лежит в основе уникальных взаимосвязей в «ретенциальном шлейфе», «шлейфе времени», где каждая ретенциальная точка относится не только к предыдущей ретенции и к первоначальному впечатлению, но и вовлекает в себя все предшествующие ретенции. Сам поток не является временным. Если допустить обратное, а значит, и то, что мы можем воспринимать поток как объект, тогда мы должны были бы допустить, что за этим потоком стоит другой поток, конституирующий первый, и так до бесконечности. Для того чтобы избежать такого регресса сознания, бесконечного процесса феноменологической редукции, который, по существу, нельзя схватить в рефлексии, Гуссерль утверждает, что «субъективное время конституируется в абсолютном, невременном сознании, которое не является объектом»[98].
Так же как в отношении временных объектов и их продолжительностей, Гуссерлю необходимо решить вопрос о том, каким образом абсолютный поток достигает данности, иначе говоря, каким образом мы можем осознать то, что не является объектом. Сам вопрос поставлен парадоксальным образом и требует, согласно Гуссерлю, выделения различных уровней в восприятии. Гуссерль показывает эти уровни на следующем примере:
«1. У меня есть восприятие парового свистка, или, лучше сказать, свиста парового свистка.
2. У меня есть восприятие содержания самого тона, который длится, и тонального процесса в его продолжительности, отдельно от его местоположения в природе.
3. Восприятие тонального теперь и одновременно самое внимание на связанное с ним только-что-прошедшее-тона.
4. Восприятие времени-сознания в «теперь»: Я обращаю внимание на теперь-являющееся свиста, или тона, и на теперь-являющееся свиста, которое растягивается таким-то и таким-то образом в прошлое (в этом «теперь» мне является теперь-фаза свиста и непрерывность оттенков)»[99].
С точки зрения Гуссерля, нет никаких трудностей в том, чтобы осуществить последний уровень восприятия и иметь время-сознание, не превращая его в объект. Сделать его объектом означает, по существу, снова последовать за ним от момента к моменту. Само собой разумеется, абсолютный поток сознания не может быть дан сам по себе. Его данность проясняется лишь в связи с конститутивными фазами «теперь», ретенций и протенций, «привязанных» к определенному объекту. Гуссерль использует здесь упомянутую нами двойственность интенциональности ретенции, которая, по его мысли, дает ключ к решению вопроса о том, откуда берется знание о единстве первичного конститутивного потока сознания.
В отличие от «поперечной» ретенции (интенциональности), которая конституирует имманентный объект, «продольная» ретенция (интенциональность) конституирует, как мы уже указывали, единство первичного запоминания в потоке. Сам поток, на который мы можем «посмотреть», когда он закончен (и который, конечно, всегда «привязан» к определенному процессу или объекту), формирует единство в памяти. Это единство конституируется благодаря временным фазам, которые в свою очередь находят свое «место» в потоке. Таким образом, Гуссерль приходит к выводу, что поток сознания конституирует свое собственное единство. Иначе говоря, поток конституирует сам себя, и мы можем узнать об этом самоконституировании, поскольку мы можем направить свое внимание не только на длящийся объект, но и на квазивременное расположение фаз потока. «Самоявленность потока, – утверждает Гуссерль, – не требует второго потока, но как феномен он конституирует себя в себе самом»[100].
С помощью понятия абсолютного потока сознания Гуссерль как бы заново ставит традиционную философскую проблему возможности познания сущности вещей на уровне рефлексивного анализа. У Гуссерля эта проблема принимает вид адекватного описания переживаний, которые не были ранее подвергнуты рефлексивному наблюдению. Гуссерль указывает, что «неотрефлексированное переживание не утрачивает свою сущность в процессе перехода в рефлексию»[101]. В определенном аспекте переживание, конечно, изменяется, когда попадает в фокус рефлексии. Можно, например, спокойно анализировать свое собственное состояние гнева или наблюдать за процессом фантазии и т. п. Однако способ осуществления фантазии не изменится в рефлексии, напротив, только в рефлексии проявляется то, каким образом «протягивается» фантазия в сознании. Для Гуссерля это обстоятельство играет очень важную роль, ибо рефлексия обесценивается, если она не сохраняет основные черты переживания. Эта проблема, по существу, решается Гуссерлем в объяснении самоконституирования абсолютного потока сознания: переживания формируются в том же потоке сознания, что и акты рефлексии. Одна и та же цепочка ретенций, во-первых, формирует процесс переживания и, во-вторых, служит основой наблюдения за этим процессом.
Термин «абсолютный поток сознания» указывает, с нашей точки зрения, еще на одну проблему относительно рефлексии, которую мы обозначили как предел рефлексивного описания. Гуссерль пишет, что «изучение потока сознания осуществляется… в разнообразных актах рефлексии специфического строения, которые сами опять же принадлежат к потоку сознания, и в соответствующих рефлексиях более высокого порядка могут и на самом деле должны быть превращены в объекты феноменологических анализов»[102].
Гуссерль неоднократно подчеркивает, что рефлексивный анализ может продолжаться бесконечно, и в явном виде проблема предела возможностей описания им не формулируется. Следует, однако, уточнить, в каком смысле может идти речь о бесконечном процессе рефлексии. С одной стороны, любые многообразные переживания и их сочетания, согласно Гуссерлю, могут быть подвергнуты рефлексии. С другой стороны, если объектом рефлексии выступает структура сознания, рефлексия, как это видно из описаний Гуссерля, очень скоро становится невозможной. Рефлексия наталкивается на некоторый «слой» в сознании, который представляет собой «до-интенциональное поле», т. е. поле чистой возможности интенций, и полагает тем самым свой собственный предел.
Абсолютный поток сознания, или абсолютная субъективность, вводится Гуссерлем в качестве всеобщего фона, в котором конституируются предметы и процессы. Абсолютная субъективность абсолютна, по Гуссерлю, лишь в том смысле, что она имеет место в любом процессе осознания предмета в качестве системы отсчета этого процесса. Абсолютная субъективность выражает лишь исходную точку восприятий и других переживаний и конечную точку описания данностей предметов в любых видах конституирования.
Абсолютную субъективность можно обозначить как определенность сознания: сознание таково, каково оно есть; предметы, процессы, обстоятельства дел изменяются, однако в рефлексии, с точки зрения Гуссерля, возможно схватить предметы именно так, как раскрывается нам их смысл.
Выделяя уровни самоконститутивного квазивременного потока сознания и конституированных временных единств, Гуссерль, по существу, пытается выделить и соотнести подвижные и неподвижные элементы структуры сознания: подвижную, постоянно функционирующую интенциональность и «неподвижное» основание, фон, на котором интенциональность очерчивает определенные конфигурации смысла и благодаря которому смысл может достичь очевидности. В этом достоинство и одновременно недостаток метода Гуссерля.
С одной стороны, Гуссерль не придает выделенным уровням какого-либо субстанциального характера; эти уровни указывают на различные исходные точки феноменологического описания. Другими словами, выделяя уровни времени, Гуссерль стремится упорядочить только сферу трансцендентального, т. е. рефлексивного, опыта. С этим, однако, связаны и более общие теоретико-методологические утверждения, которые, как мы показали, придают субъективности более широкое значение – значение «первичной сферы» философского мышления – и тем самым представляют собой обоснование идеализма. Тем не менее в рамках идеалистической философской концепции сделаны важные наблюдения за осознанием времени и методами его исследования. Достоинство гуссерлевского анализа феноменологии времени состоит, например, в том, что в его пределах Гуссерль не только обратил внимание на рефлексию как на реальный «инструмент» гносеологического анализа, но и конкретно показал, как этим инструментом можно пользоваться.
С другой стороны, именно такое выделение уровней времени-сознания указывает на ограниченность феноменологического метода в целом. Принимая за исходную точку феноменологического описания абсолютный поток сознания как абсолютную субъективность, как наиболее фундаментальный, глубинный уровень трансцендентальной субъективности, Гуссерль обнаруживает тем самым противоречивость принципиальных установок феноменологического метода: интендирование предметности есть лишь формирование смысла в сфере субъективности. Если рассматривать общую философскую позицию Гуссерля с точки зрения основного вопроса философии, то его попытки найти объективное в субъективном следует определить как стремление разрешить противоречие между субъективным и объективным идеализмом, хотя такой задачи Гуссерль, конечно, перед собой не ставил. В результате он создает философскую доктрину, которую, как мы полагаем, в полной мере нельзя отнести ни к одному из видов идеализма, но которая сохраняет их основные противоречия.
Анализ понятия рефлексии в контексте гуссерлевского понятия абсолютного потока сознания и феноменологической концепции времени в целом позволяет, во-первых, выделить ядро гуссерлевского понимания субъективности как взаимосвязи различных уровней временности, во-вторых, соотнести общие установки феноменологического метода с конкретным интенциональным анализом, в-третьих, конкретно показать основное противоречие феноменологии: рефлексия как основа феноменологического метода, провозгласившего движение «к самим предметам», есть, по существу, движение от предметов, ибо поворот к рефлексии есть поворот от объективного пространства и времени, от объективного мира природы в целом, от объективной практической и социальной деятельности к субъективности как их единственной реальной основе.
Глава III КРИТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ КОНЦЕПЦИЙ ВРЕМЕНИ И ОНТОЛОГИИ В ФИЛОСОФИИ М. ХАЙДЕГГЕРА
§ 1. Постановка вопроса о бытии в контексте феноменологической и критической тенденций хайдеггеровской философии. Время и трансценденция
Анализ трансцендентальной философии Канта и феноменологии Гуссерля в контексте проблемы времени определил в их учениях пропорции собственно критической методологии и «положительных» исследований, т. е. описаний определенных видов деятельности сознания. Если в философии Канта преобладает критическая тенденция, то в феноменологии Гуссерля зачастую эти две тенденции совпадают: критика натурализма и психологизма, критика естественной установки есть необходимые моменты экспликации феноменологической редукции и феноменологической позиции в целом. Одна из специфических черт гуссерлевского способа мышления состоит в том, что Гуссерль вводит свои основные методологические понятия, и прежде всего понятия эпохе́, редукции, рефлексии, которые в определенных контекстах могут быть взаимозаменяемыми через описание сознания, совершающего соответствующие процедуры.
Каковы пропорции критики и позитивной работы дескрипции в хайдеггеровской философии? Каков предмет хайдеггеровской критики и каков предмет хайдеггеровских феноменологических описаний?
Постановка вопроса о бытии на основе феноменологического метода – исходный пункт философии Хайдеггера. Насколько уже в самой постановке вопроса преобладает критическая тенденция и насколько эта тенденция аналогична по структуре кантовской?
Вопрос о бытии пришел в забвение, утверждает Хайдеггер, хотя в настоящее время «считается прогрессивным поддакивать метафизике». То, что было сделано Платоном и Аристотелем, и то, что держало в напряжении философскую мысль, сохранилось почти в неизменном виде вплоть до «Логики» Гегеля и в конце концов выродилось в тривиальность. Однако, считает Хайдеггер, еще на основе античной онтологии сформировалась догма, которая послужила препятствием для того, чтобы вопрос о бытии постоянно был темой исследования: бытие есть наиболее общее и пустое понятие, поэтому оно сопротивляется любым определениям и не нуждается ни в каких определениях – всякий его употребляет постоянно и при этом понимает, что он каждый раз имеет в виду. Таким образом, существуют три предрассудка или предубеждения против постановки вопроса о бытии. Хайдеггер анализирует каждый из них, но это не означает, что он противопоставляет каждому из них противоположное утверждение.
Во-первых, то, что бытие есть наиболее общее понятие, еще не означает, что оно есть наиболее ясное понятие. Наивысшая общность бытия, которую, как отмечает Хайдеггер, в средневековой онтологии называли «трансценденцией», требует своего прояснения. Во-вторых, если бытию нельзя дать определения, то это означает лишь, что к бытию необходимо искать иной вид доступа. И в-третьих, самопонятность бытия как раз побуждает философа исследовать вопрос о бытии, ибо исследовать «скрытые суждения обыденного разума» есть «занятие философов», ссылается на Канта Хайдеггер[103].
Благодаря этим предрассудкам вопрос о бытии или вообще элиминируется, или обсуждается на формально-вербальном уровне. Предрассудки, выводящие понятие бытия за пределы философского исследования, аналогичны кантовским метафизическим устремлениям разума, которые следует обуздать критикой. На первый взгляд, сходство здесь довольно отдаленное, так как, согласно Канту, разум стремится выйти за пределы познания – сферы, где предметы даны в качестве явлений, т. е. в чувственном опыте, а согласно Хайдеггеру, постановка вопроса о бытии выходит за пределы философского рассмотрения. Однако цель Хайдеггера состоит не в том, чтобы заново и более конкретно определить бытие на понятийном уровне, но в том, чтобы указать особый вид опыта, в котором бытие становится «доступным». Названные предрассудки закрывают, с одной стороны, доступ к этому виду опыта, который Хайдеггер называет экзистенцией, но с другой стороны, побуждают в самих этих предрассудках найти исходную точку для постановки вопроса о бытии.
При всех отличиях, перечисление которых мы опускаем, в основе хайдеггеровской постановки вопроса о бытии лежит кантовская схема критики, точнее, один из основных ее моментов: для понятий, претендующих на познавательную ценность, всегда должно быть указано применение в опыте.
Сравнение хайдеггеровской методологии с кантовской критикой не является для нас самоцелью, но подчеркивает особую важность исходного опыта, который выбирает Хайдеггер для постановки вопроса о бытии. Именно это должно определить основной предмет феноменологии Хайдеггера. Кроме того, это сравнение поможет в дальнейшем определить специфику хайдеггеровской критики, которая в своей основе, так же как и у Канта, не является «критикой книг или систем».
Хайдеггер обнаруживает исходный пункт своей феноменологии при рассмотрении формальной структуры вопроса о бытии «Любое вопрошание есть поиск, – пишет Хайдеггер, – Любой поиск уже заранее руководится из искомого»[104]. Формальная структура любого вопроса или вопрошания, согласно Хайдеггеру, состоит из спрошенного (того, о чем спрашивается, – das Gefragte), запрашивания у… (Anfragen bei…), следовательно, опрошенного или допрошенного (того, к чему обращен вопрос, – das Befragte) и выспрошенного (das Erfragte), которое заключено в спрошенном как «собственно интендированное» и которое «приводит к цели вопрошание»[105].
Отметим, что исследование формальной структуры вопроса предпосылается Хайдеггером рассмотрению специфики вопроса о бытии. Тем самым, вопреки своему утверждению о необходимости иного доступа к бытию, нежели через формально-логические определения, Хайдеггер начинает рассмотрение вопроса о бытии с выделения общей структуры вопроса, а затем специфицирует моменты этой структуры. Казалось бы, наоборот, постановка вопроса о бытии могла бы указать на общую структуру вопроса точно так же, как определенные феноменологические описания могли бы указать на формальную структуру феномена. Однако Хайдеггер как в том, так и в другом случае предпочитает формальный способ постановки проблем. Особое значение имеет смысловой акцент, который делает Хайдеггер, связывая поиск-вопрошание и искомое выспрошенное. Поиски, повторяет и настаивает Хайдеггер, руководятся искомым. Если мы задаем вопрос о бытии, то бытие уже руководит нами в вопрошании. Согласно Хайдеггеру, мы всегда уже вращаемся в определенном понимании бытия. Мы не знаем, что такое бытие, но когда мы спрашиваем, что есть бытие, мы уже придерживаемся понимания «есть», причем понятийно не фиксируем, что означает это «есть». «Нам даже не известен горизонт, из которого мы должны схватить и зафиксировать этот смысл, – пишет Хайдеггер. – Это усредненное и смутное понимание бытия есть факт»[106].
Для Хайдеггера важно прежде всего зафиксировать факт наличия искомого – смысла бытия, который первоначально дан лишь смутно, но не полностью неизвестен. Для того чтобы сделать известным горизонт, из которого нужно схватить смысл бытия, Хайдеггер специфицирует структурные моменты вопрошания. То, о чем спрашивается, – это бытие. Бытие определяет сущее как сущее. Бытие – это всегда бытие сущего и не «есть» само сущее. Бытие как спрошенное и смысл бытия как выспрошенное требуют своего собственного способа обнаружения и своей собственной осмысленности, которые существенно отличаются от способов осмысления сущего. Однако поскольку бытие – это бытие сущего, то спрашиваемым или допрашиваемым в вопросе о бытии является именно сущее. Вопрос только в том, какое именно, ибо сущим или существующим можно назвать «многое и в различном смысле». Очевидно, это есть сущее, которое обладает конститутивными элементами вопрошания: всматривание в…, понимание, понятийное схватывание, выбор, доступ к… т. е. сущее, «которое каждый раз суть мы сами, вопрошающие»[107]. Следовательно, для того чтобы получить доступ к бытию, необходимо, согласно Хайдеггеру, прояснить существование вопрошающего. Для обозначения сущего, которое имеет «бытийную возможность вопрошания», Хайдеггер выбирает термин «Dasein».
Вопрошающее о бытии сущее – Dasein – должно быть определено в своем бытии, но в то же время бытие становится доступным только через это сущее. Тем не менее Хайдеггер отрицает наличие «круга в доказательстве», поскольку «сущее в своем бытии может быть определено без того, чтобы при этом уже было в распоряжении эксплицитное понятие бытия»[108]. Это означает, что бытие «нас самих» уже определено без того, чтобы «мы» имели в распоряжении эксплицитное понятие смысла бытия. Dasein предварительно «принимает во внимание» бытие, и в этом «внимании» «предварительно артикулируется предданное сущее в своем бытии»[109]. «Это руководящее внимание к бытию, – пишет Хайдеггер, – произрастает из усредненного понимания бытия, в котором мы уже всегда вращаемся и которое в конечном счете принадлежит к сущностному строению самого Dasein»[110]. Не признавая, таким образом, наличия круга в доказательстве в вопросе о бытии, Хайдеггер предпочитает говорить о «достопримечательной «возвратной или предварительной отнесенности» спрошенного (бытия) к вопрошанию как модусу бытия сущего». Однако такая отнесенность составляет смысл вопроса о бытии. С точки зрения Хайдеггера, это означает только то, что «сущее, обладающее характером Dasein, имеет отношение – и, возможно, даже исключительное – к самому вопросу о бытии»[111].
Мы подробно проследили основную аргументацию первых двух параграфов «Бытия и времени» для того, чтобы показать, что во взаимной отнесенности бытия и спрашивания о бытии заключено не только то, что Dasein имеет исключительное отношение к вопросу о бытии. Специфицируя формальную структуру вопроса – поиск руководится искомым, Хайдеггер оставляет в стороне, на наш взгляд, самое существенное: способ, каким искомое руководит поиском, т. е. вопрошанием о бытии. Более того, Хайдеггер вольно или невольно маскирует горизонт, из которого должен быть схвачен смысл бытия, или, точнее, горизонт, из которого Хайдеггер стремится эксплицировать смысл бытия. Если мы не спрашиваем, что есть бытие, то тогда горизонт, из которого мы понимаем бытие (по Хайдеггеру, понимание бытия всегда имеет место и может быть доонтологическим), действительно остается неизвестным. Но если вопрос уже задан и в качестве исходной точки понимания зафиксирован факт усредненного и смутного понимания бытия, то горизонт дальнейшей экспликации уже определен – это горизонт усредненности и размытых границ понимания, т. е. горизонт повседневности в хайдеггеровском смысле этого слова. Неопределенным остается у Хайдеггера это «мы» – «мы сами», «мы вращаемся в усредненном понимании бытия» и т. п. Иначе говоря, неопределенным остается непосредственный предмет хайдеггеровского анализа – Dasein, т. е. мы сами, вращающиеся в усредненном понимании бытия.
Хайдеггер указывает, правда, что «руководящим вниманием» к бытию является горизонт усредненности, но он указывает на это опять-таки в контексте отношения Dasein к вопросу о бытии, но не в контексте определения исходного пункта анализа существования спрашивающего о бытии сущего. Хайдеггер неслучайно оставляет неопределенным первичный предмет анализа, т. е. определенный аспект существования «нас самих», поскольку первичным и основным предметом хайдеггеровских описаний является прежде всего неопределенность повседневного существования Dasein. Именно здесь хайдеггеровские описания являются феноменологическими, т. е. описаниями определенных смыслов, или значений, которые скрыты в повседневном существовании, но которые конституируют саму повседневность.
Иное дело хайдеггеровские описания поворота к «собственному» бытию, к экзистенциальности как таковой, описания «совести» и собственного бытия-к-смерти, которые суть апофатические описания, т. е. указывающие на то, что не есть «собственное» бытие, и лишь косвенно указывающие на то, что оно есть.
Феноменологическая и апофатическая тенденции в философии Хайдеггера имеют различные источники и различные культурные ориентиры. Различие между этими тенденциями выражает, собственно говоря, различие между «положительными» в указанном выше смысле исследованиями и критикой, которая, с одной стороны, принимает у Хайдеггера вид критики самого бытия, а с другой стороны, получает онтологическое обоснование. Сам Хайдеггер, однако, не столько разделяет, сколько соединяет эти тенденции как на содержательном, так и на методологическом уровнях. В первом случае речь идет о взаимной отнесенности повседневного и экзистенциального, собственного и несобственного: экзистенциальное есть модификация повседневного, но в то же время повседневное – это «впадение» экзистенции во «внутримировое сущее». Во втором случае речь идет о том, что экзистенциальная аналитика Dasein осуществляется посредством феноменологического метода.
Экзистенцией Хайдеггер называет «само бытие, к которому Dasein так или иначе может себя относить и всегда каким-либо образом относит»[112]. «Dasein всегда понимает себя самое из своей экзистенции, возможности самого себя быть самим собой или не самим собой»[113], – пишет Хайдеггер. Экзистенция – это возможность, которая схватывается или упускается только в определенном Dasein. Иначе говоря, экзистенция – это всегда особый и всегда индивидуальный опыт человека, который выбирает одну из двух фундаментальных возможностей: заимствовать структуры своего бытия из многообразных сфер «несоразмерного» с самим собой сущего (несобственное бытие) или же, наоборот, искать основу своего бытия в себе самом.
Согласно Хайдеггеру вопрос экзистенции – это онтическое «дело» Dasein, т. е. выбор этих возможностей может быть осуществлен независимо и вне философского размышления. Последнее имеет своей целью разъяснить то, что «конституирует экзистенция», или, иначе говоря, способ бытия Dasein, соответствующий тому или иному выбору. Однако вопрос именно в том, какой тип философского размышления или исследования имеет место у Хайдеггера в экспликации этих двух «результатов» выбора.
Постановка вопроса о бытии у Хайдеггера нацелена на то, чтобы показать взаимную необходимость проблемы бытия и проблемы человека, которые должны потерять свою самостоятельность. Однако Хайдеггер называет «Бытие и время» фундаментальной онтологией, но не фундаментальной антропологией, поскольку любая антропология уже полагает определенную «человеческую природу», в то время как задача состоит в том, чтобы описать существование человека-в-мире. Бытие остается для Хайдеггера основным вопросом и основной темой философии, но вопрос о бытии может быть поставлен только благодаря особому способу существования человека – экзистенции – и выделенности существования человека из всех других видов существования, или из всех видов сущего, поскольку в «его бытии речь идет о самом бытии».
Если Хайдеггер избегает «круга в доказательстве» при постановке вопроса о бытии, указывая, что сущее может быть определено в своем бытии без эксплицитного понятия смысла бытия, то каким образом можно избежать круга на уровне философской экспликации: с одной стороны, смысл бытия может быть прояснен посредством экзистенциальной аналитики Dasein, а другой – описания сущностных структур бытия-в-мире требуют предварительного прояснения смысла бытия. «Онтически» и предварительно этот вопрос, как мы видели, решается тем, что «понимание бытия само есть определенность бытия Dasein»[114]. Но как решается этот вопрос на уровне философского анализа, где речь идет о том, чтобы описать структуры человеческого существования «из них самих» и в них самих определить «смысл бытия»? Однако несмотря на приоритет, который Хайдеггер придает понятию бытия, конкретные хайдеггеровские описания показывают, что первичным предметом философского анализа является не смысл бытия как таковой, но определенный способ человеческого существования – именно это дает возможность Хайдеггеру привести постановку вопроса о бытии к определенному виду опыта – экзистенции.
Методом экспликации смысла бытия является, по Хайдеггеру, феноменология, которая «означает первичное понятие метода»[115]. Метод соответствует предмету: «Сущностное определение этого сущего (Dasein. – В. М.) не может быть осуществлено посредством указания на предметное Что»[116]. Соответственно, понятие метода «характеризует не предметное Что объектов философского исследования, но Как этих объектов»[117]. Хайдеггеровские разъяснения сущности феноменологии принимают здесь в языковом отношении парадоксальный характер: основной максимой непредметно ориентированной феноменологии является гуссерлевский лозунг «Назад, к самим предметам!».
Феноменология изучает феномены, однако не в том смысле, в каком биология, например, изучает жизнь, а социология – общество. С точки зрения Хайдеггера, необходимо определить, что есть феномен феноменологии, чем феномен отличается от видимости, явления и являющегося, от феномена в «вульгарном», как выражается Хайдеггер, понимании. Однако сам хайдеггеровский анализ не является феноменологическим, но в качестве предварительного носит формально-этимологический характер[118].
Формальную структуру феномена, на которую указывает, согласно Хайдеггеру, этимология греческого слова, Хайдеггер обозначает как «себя-в-себе-самом-показывающее», очевидное. В отличие от феномена, видимость – это себя-в-себе показывающее как то, что оно в себе самом не есть. Структура видимости: «выглядит так, как…» – выглядит добрым, показывает себя добрым, но… Видимость основана в феномене, ибо «показывать себя так, как будто…» уже предполагает возможность показывать себя. Структура явления противоположна структуре феномена, но также основана в последней. Явление есть себя-не-показывающее. Явление посредством чего-либо, которое себя показывает, уведомляет о том, что само себя не показывает. В явлении поэтому необходимо различать, во-первых, уведомление о себе как себя-не-показывающее и, во-вторых, само уведомляющее, которое в своем себя показывании объявляет нечто себя не показывающее. Пример Хайдеггера – «явления болезни»: определенные события в теле себя показывают и в этом себя-показывании «указывают» на нечто, которое себя не показывает.
«Явление», согласно Хайдеггеру, может принимать еще одно значение: если схватывают уведомляющее как то, что указывает на нечто, которое порождает это уведомляющее, но при этом всегда остается скрытым в самом уведомляющем, тогда мы имеем «только лишь явления». Однако явления в этом смысле не есть видимость: «только лишь явления» не выглядят иначе, чем они есть «на самом деле», предмет, или являющееся в них, всегда остается скрытым. Хайдеггер отмечает, что в кантовском употреблении термина «явления» как раз содержится эта двойственность: явления есть прежде всего «предметы эмпирического созерцания», т. е. то, что показывает себя в созерцании, но одновременно это себя-показывание (феномен в подлинном первичном смысле) есть «явление» как уведомляющее излучение из того, что себя скрывает в явлении.
Смешения понятий феномена, видимости и явления можно избежать, согласно Хайдеггеру, только в том случае, если под феноменом с самого начала понимается себя-в-себе-самом-показывающее. Однако если не решен вопрос, какое сущее рассматривается как феномен, и остается открытым вопрос, является ли феномен характеристикой сущего или бытия сущего, то этим достигнуто только формальное понятие феномена. Если феномен – это себя показывающее сущее, которое в кантовском смысле доступно через эмпирическое созерцание, то мы имеем обыденное, или вульгарное, понятие феномена. Это не есть феномен феноменологии. У Канта феномены феноменологии – это формы созерцания, пространство и время, которые показывают в явлениях себя самих. Характерно, что Хайдеггер умалчивает о феноменах феноменологии Гуссерля, но из хода его рассуждений ясно, что последние попадают в разряд вульгарно понятых феноменов, ибо гуссерлевские феномены всегда отнесены к определенному виду предметности.
Согласно Хайдеггеру феномены феноменологии раскрывают не сущее, но бытие сущего. Феномен, однако, не лежит на поверхности, он может быть скрыт, причем в различном смысле: феномен может быть еще не открыт, но может быть снова скрыт и предан забвению. Поэтому необходима феноменология – наука о феноменах, предметом которой является то, что преимущественно себя не показывает, то, что скрыто, но именно то, к сущностной основе которого принадлежит себя-в-себе-самом-показывающее. Феноменология как открытие феномена – бытия сущего – есть вид доступа к тому, что должно стать темой онтологии. Хайдеггер подчеркивает: «Онтология возможна только как феноменология»[119].
Хайдеггеровский анализ понятий феномена и феноменологии является не столько предварительным, сколько формальным. Он построен по той же схеме, что и вопрос о бытии. Предмет феноменологии – бытие сущего – уже заранее полагается как себя-в-себе-показывающее, ибо феноменология не может определить, является или не является сущностной основой того что скрыто, что себя не показывает, себя-в-себе-самом показывание. Формальным остается не только «формальное понятие феномена», но также «вульгарное» и феноменологическое. Любое показывание подразумевает того, кому показывается, т. е. сознание, способное описать это показывание. Однако феноменология, в хайдеггеровском понимании, не включает в себя проблему описания. «Бытие и время» построено таким образом, как будто самого способа описания, способа, которым Хайдеггер эксплицирует экзистенциальные структуры Dasein, вообще не существует.
В противовес Гуссерлю Хайдеггер стремится показать, что феномены не являются результатом деятельности сознания. Видимость и явление – это объективная характеристика сущего, и феномен, в котором основаны видимость и явление, хотя и не есть сущее, но и не есть продукт трансцендентальной субъективности. Феномен – это бытие экзистирующего сущего, лишь одной из возможностей которого является трансцендентальное конституирование. Посредством понятия бытия сущего Хайдеггер пытается преодолеть антиномию субъективизма и объективизма: феномен не может быть ни модификацией сознания, ни каким-либо определенным предметом.
Хайдеггеровский анализ понятия феномена, несомненно, содержит в себе верную тенденцию: как бы ни различать феномен, видимость и явление, они суть объективные характеристики предметов, но не произвольные конструкции сознания. Однако эта тенденция не является инновацией Хайдеггера – объективный характер феномена как «единства бытия и явления» подчеркивал Гуссерль, объективный характер видимости исследовали Кант и Гегель, на материалистической основе эта тема была переосмыслена в марксизме. Хайдеггер возводит эту тенденцию в абсолют и тем самым стремится вообще исключить проблему сознания из рассмотрения предмета и сущности феноменологии. Тем не менее «следы» этой проблемы налицо: перечисляя сущностные свойства спрашивающего о бытии, Хайдеггер говорит о всматривании, понимании, понятийном схватывании и т. п., т. е. о существенных характеристиках сознания. С другой стороны, пытаясь избежать объективизма, Хайдеггер отождествляет не феномен и сущее, но феномен и бытие сущего. Предметом феноменологии объявляется непредметное – смысл бытия, экзистенция, т. е., в хайдеггеровском понимании, онтологическое. Таким образом, исключая проблему сознания и рассматривая феноменологию как возможность доступа к непредметному, Хайдеггер кардинально изменяет смысл феноменологии по сравнению с гуссерлевским. Остается, однако, вопрос: изменяется ли этот смысл только на уровне формального анализа? Не сохраняет ли хайдеггеровская философия тенденцию, весьма близкую к феноменологии Гуссерля, причем как на уровне методологии, так и на уровне предметных описаний?
Взаимная отнесенность смысла бытия и экзистенции Dasein означает, по существу, что смысл бытия есть внутренняя структура способа существования Dasein. Характеристика бытия сущего как себя-в-себе-самом-показывания есть, собственно говоря, характеристика экзистенции Dasein. Это означает, что человек есть единственный подлиный феномен – сущее, которое себя показывает в себе самом и которое нельзя редуцировать к какому-либо сущему. Хайдеггер лишь указывает на бытие и смысл бытия как основную тему онтологии: в действительности, т. е. в реальной философской работе, он описывает способ человеческого существования, который он называет экзистенцией еще и для того, чтобы отличить его от другого, «несоразмерного» Dasein способа существования, «наличности» Способ человеческого существования должен быть раскрыт «из него самого» – так, как он сам-себя-в-себе-показывает. Только феноменология, за феноменами которой «не стоит ничего другого», может быть адекватным методом этого раскрытия. Хайдеггер пишет: «Наука «о» феноменах означает такое схватывание своих предметов, чтобы все, что рассматривается относительно них, разрабатывалось бы в непосредственном обнаружении и предъявлении. Тот же самый смысл имеет тавтологическое в основе выражение «дескриптивная феноменология». Дескрипция означает здесь не метод, подобный ботанической морфологии – название опять-таки имеет смысл запрета: отстранение любой непредъявленной определенности. Характер самой дескрипции… может быть установлен лишь из «предметности» того, что должно быть “описано”…»[120]. Таким образом, с одной стороны, феноменология не может не быть дескриптивной, но с другой стороны, дескрипция не есть положительная философская работа. «Предметность», которая должна быть «описана», – это непредметная экзистенция. Кавычки, в которые берет Хайдеггер слово «описание», означают, что дескрипция в гуссерлевском смысле должна уступить место истолкованию. Именно поэтому Хайдеггер называет феноменологию Dasein герменевтикой[121].
Казалось бы, и в этом случае, при разъяснении смысла дескрипции, Хайдеггер отходит от гуссерлевской методологии, однако вопрос в том, где именно и в чем именно Хайдеггер ищет и находит средства истолкования. Различие истолкования и описания остается опять-таки различием на формальном уровне. Реальная задача, которую ставит перед собой Хайдеггер, заключается в том, чтобы средства описания или истолкования основных структур бытия-в-мире, или бытия экзистирующего сущего, обнаружить в самих структурах этого бытия. Такой структурой и одновременно средством описания этой структуры является время, временность или темпоральность. Гуссерлевский круг «сознание времени – временность сознания» принимает у Хайдеггера вид: «темпоральность бытия Dasein – раскрытие бытия в горизонте времени».
Понимание времени – наиболее глубокая содержательная основа сравнения философских учений Гуссерля и Хайдеггера. В этом случае, наряду с существенным различием при постановке вопроса, т. е. на методологическом уровне, можно указать на определенный момент сходства – на уровне конкретных описаний.
Для Гуссерля временность – это прежде всего фундамент актов сознания, «реальных» фаз переживания, актов восприятия, воспоминания и т. д. Схватить сам этот фундамент означает схватить эти акты в их «самоданности и чистоте». Когда феноменологическая редукция выключает «не только природу, положенную в cogitatio, но также природное существование собственного Я и акта как его состояния», мы удерживаем это «чистое cogitatio», это «квазивосприятие», которое как бы уже не является нашим восприятием». Потерявший связь с эмпирическим Я и с объективными пространственно-временными определенностями акт этого квазивосприятия длится, протягивается от «теперь» к новому «теперь», изменяется в своих реальных частях и при этом направлен на так или иначе изменяющийся объект, который имеется в виду. Гуссерль подчеркивает: «Время, которое здесь выступает, не есть объективное или объективно определимое время. Его нельзя измерить, для этого нет часов и прочих хронометров. Здесь можно только сказать: теперь, раньше, еще не…»[122].
Поворот от объективного времени к временности сознания дает возможность, по Гуссерлю, схватить сам поток сознания. При этом восприятие (квазивосприятие) потока, хотя и остается связанным с восприятием объектов, теряет эмпирический характер. Это означает возможность перехода от психологической рефлексии (установление корреляций между образами восприятия, памяти и т. п. и объективными обстоятельствами) к феноменологической рефлексии, в которой исключается психологический характер Я и раскрываются общие смыслообразующие структуры сознания.
У Хайдеггера поворот от объективного времени к временности – это не поиск всеобщих структур сознания, а поворот к трансцендирующему бытию Dasein, к экзистенциальной временности. Временность, по Хайдеггеру, всегда «наша»; «мы сами» раскрываемся во временности, и «в нас» благодаря временности раскрывается бытие. Временность – это не лишенная начала и конца линия имманентного времени, пронизывающая и нанизывающая неограниченный поток феноменов, как у Гуссерля[123], временность выражает направленность и конечность фундаментального феномена – Dasein.
Неразрывная связь временности и Dasein не означает, однако, возврата Хайдеггера к психологизму. «Наша» временность – это не внутреннее время субъекта, а временность бытия-в-мире. Таким образом, предметом хайдеггеровских описаний является не психологическое время, но онтологичность самого времени, «экстатичность» которого составляет горизонт «онтологического различия», т. е. различия между бытием и сущим. В отношении самого времени это означает: различить «внутривременное сущее», т. е. объекты и процессы, с которыми имеют дело как с протекающими «во времени», и Dasein – человеческое бытие, которое само является темпоральным.
Для обозначения взаимной отнесенности смысла бытия и темпоральных структур экзистенции Хайдеггер выбирает термин «забота». Хайдеггер популярно передает смысл и одновременно указывает на «оптическую укорененность» экзистенциала «забота», приводя следующую басню. Забота, переходя реку, слепила из глины существо, которому Юпитер по ее просьбе даровал душу. Кому же принадлежит это существо – homo, названное по имени материала, из которого оно сделано (humus – земля)? Сатурн рассудил следующим образом: когда человек умрет, то душа достанется Юпитеру, а тело – земле, но пока живет (временность) он весь принадлежит Заботе[124]. Забота неразрывно связана, таким образом, с конечностью времени Dasein: временная структура заботы есть структура бытия-в-мире.
Забота как смысл бытия – это не цель или «высшее устремление» бытия. По Хайдеггеру, смысл бытия равен «пониманию» бытия, т. е. самопроектированию Dasein. Так как бытие – это «мы сами», смысл бытия не приписывается бытию извне. Смысл бытия – в его самоосуществлении, и «забота» выражает целостность бытия Dasein, объединяя три основных момента: 1) быть-впереди-себя (экзистенциальность); 2) уже-быть-в-мире (фактичность); 3) быть-при-внутримировом сущем (впадение – Verfallen). Таким образом, забота «равна» темпоральности человеческого бытия, а раскрытие смысла бытия есть описание темпоральных «составляющих» заботы-будущего, прошлого и настоящего.
В отличие от Гуссерля, Хайдеггер стремится сразу же содержательно обозначить основные моменты времени, вскрыть связь времени с бытием человека. Однако эта содержательность не выражает практически-деятельное существование человека; точнее, практически-деятельное – только одна из возможностей «заботы». Забота двойственна: это или возможность становления «собственных возможностей», или погружение в «озабочивающий» мир. Соответственно, забота – или «заботливость» и «преданность» своей самости, или «боязливые хлопоты» в «реальном» мире.
Забота, по Хайдеггеру, не означает преимущества практического над теоретическим. Хайдеггер проводит другое противопоставление. Практически-деятельное, включая и теоретическое, есть нацеленность на предметы, на преобразование мира («озабоченность миром»), которая изначально погружена в повседневность; эта нацеленность анонимна (das Man) – в ней раскрывается не самость, а только несобственное Я. Путь к собственному бытию, по Хайдеггеру, не в протиповоставлении практического и теоретического, а в преодолении анонимности обоих видов деятельности. Это преодоление должно осуществляться не с помощью познавательных процедур сознания, но «решимостью», модифицирующей повседневность в экзистенциальность.
Временная структура «заботы» позволяет Хайдеггеру характеризовать «экзистенциальную модификацию» посредством различных временных ориентаций. Хайдеггер принципиально отказывается от всякого рода причинных объяснений экзистенции и собственного Я. Экзистенциалы – это различимые уровни описания того, каким образом проявляет себя и обнаруживает себя Dasein, время – самый глубокий и фундаментальный из них. На уровне времени экзистенциальная модификация раскрывается Хайдеггером как взаимопроникновение прошлого, будущего и настоящего. «Забота» как единство трех временных моментов в одной структуре объединяет как анонимность и повседневность, которым здесь соответствует «впадение» (быть-при, т. е. настоящее), так и экзистенциальность (быть-впереди-себя, т. е. будущее), неотделимую от своей «истории» – уже-быть-в, т. е. прошлого. Двойственность заботы выражается теперь как двойственность временной ориентации – на настоящее, которое подчиняет прошлое и будущее, или на будущее, которое в соединении с прошлым достигает «собственного» настоящего.
Большое влияние, которое оказало на Хайдеггера гуссерлевское учение о времени, очевидно. У Гуссерля «живое настоящее», т. е. актуально полученное данное предмета, также формируется непрерывным сочетанием будущего, настоящего и прошлого. В целом феноменологический подход к проблеме времени и у Гуссерля, и у Хайдеггера предусматривает отказ от того, чтобы в основу размышлений о времени полагать некоторое неопределенное понятие времени, которое в основном сводится к представлению времени в виде прямой, идущей из прошлого через настоящее в будущее.
Первичные временные различия – последовательность и одновременность, а также «традиционные» измерения времени – прошлое, настоящее и будущее – не могут быть раскрыты из этого неопределенного образа. Напротив, исследование функций этого образа и его историческое происхождение – один из аспектов проблемы времени. Понятие времени может стать более определенным только в конкретном проблемном контексте. В рамках феноменологической философии это означает, что понятие времени может быть рассмотрено только в связи с проблемой первичных ориентации сознания и человеческого бытия. Первичные ориентации сознания или бытия Dasein являются, с точки зрения Гуссерля и, соответственно, Хайдеггера, временными, поскольку они суть первичные свойства и первичные средства описания «жизни» сознания и экзистенции как чистой возможности изменения.
Инвариантом любых интуиции, представлений и понятий о времени, несомненно, является то, что время понимается как необходимый коррелят изменения. Однако их связь истолковывается в зависимости от того, какой вид движения или изменения выбирается в качестве предмета исследования. Аристотелевское понимание времени как меры движения переосмысливается в феноменологической философии в применении к проблеме сознания. Поскольку сознание у Гуссерля понимается как процесс смыслообразования, а способ человеческого существования трактуется Хайдеггером как смысл бытия, время понимается как форма организации смысла интендируемой предметности (Гуссерль) или целостной структуры экзистенции Dasein (Хайдеггер).
Различие в понимании времени у Гуссерля и Хайдеггера не сводится, однако, к различию по «предмету приложения». Конечно, очевидно, что у Гуссерля задача сводится к описанию временной основы любой деятельности сознания, а в центре внимания Хайдеггера – не временность сознания, но временность бытия человека. Если Гуссерль, исходя из «теперь-точки», характеризует целостность интенционального акта, то Хайдеггер характеризует целостность бытия Dasein, выбирая исходной точкой будущее как бытие-к-смерти.
Для того чтобы увидеть содержательное сходство в понимании времени у Гуссерля и Хайдеггера, необходимо установить различие в ином аспекте, а именно в аспекте «использования» времени как средства описания. Для Гуссерля первичными средствами описания восприятия, памяти и фантазии являются в основном длительность и последовательность, а средствами описания длительности и последовательности – ретенция, теперь и протенция. На первый взгляд, у Хайдеггера вообще отсутствует этот уровень темпоральных описаний. Хайдеггер предпочитает характеризовать единство временности как единство прошлого, настоящего и будущего. Различие, таким образом, выступает здесь как различие уровней временных описаний.
Содержательное сходство состоит, однако, в том, что у Хайдеггера сохраняется гуссерлевский тип описаний, но только в описании повседневности. Именно здесь у Хайдеггера в полной мере проявляется гуссерлевская методология описания определенного горизонта сознания посредством соответствующего «смыслового темпа». Зафиксировав первичный горизонт понимания бытия как усредненный и смутный, Хайдеггер тем самым зафиксировал горизонт сознания, который он описывает не при помощи будущего, настоящего и прошлого, но при помощи таких первичных временных различий, как «тогда», «потом», «еще есть время». Повседневность раскрывается Хайдеггером в целом по феноменологическим канонам. Описание повседневности есть реальная работа феноменологической дескрипции, которая имеет свой предмет – определенный горизонт значений – и метод – темпоральные описания. Описание повседневности у Хайдеггера несомненно есть описание определенного способа формирования значений. Хайдеггеровские экзистенциалы «болтовня», «любопытство», «двусмысленность», das Man в своеобразной форме выражают определенное реальное положение дел, а именно раскрывают анонимность сознания как одну из фундаментальных черт сознания индивида буржуазного общества. Горизонт повседневности – это горизонт «размытого» сознания, размытого различия между собственным Я и миром, своей психической жизнью и психической жизнью других, между действиями в рамках определенной социальной структуры и осознанием специфики этой социальной структуры и т. д. «Мы наслаждаемся и забавляемся, – пишет Хайдеггер, – как наслаждаются; мы читаем, смотрим и судим о литературе и искусстве, как видят и судят; мы удаляемся от «толпы», как удаляются; мы находим «возмутительным» то, что находят возмутилельным.»[125]
Повседневность характеризуется Хайдеггером прежде всего как бегство от предстоящего, т. е. от смерти, как стремление удержаться «при» наличном, настоящем, обратить настоящее в единственную временную ориентацию. В повседневности смерть понимается так, как «умирают», как смерть других. Казалось бы, что здесь как раз устанавливается жесткая граница между собственной смертью и смертью другого. Однако именно отстранение от переживания смерти других есть отстранение от переживания неотвратимости своей собственной смерти. «В смерти других, – пишет Хайдеггер, – нередко видят общественную неприятность, если даже не бестактность, от которой общественность должна быть избавлена»[126]. Сознание здесь также не может достичь самости, выделить себя из других, отнести смерть к себе самому. Сознание как бы прячется за других, сливается с ними. Такое бытие-к-смерти Хайдеггер называет несобственным. Напротив, собственное бытие-к-смерти не уклоняется от своей «безотносительной возможности», которая выделена среди других возможностей, так как она не превращается в действительность – свою смерть пережить нельзя. Смерть как чистая возможность есть абсолют для Dasein, есть экстремальная точка поворота к бытию, точка самоотражения бытия. По замыслу Хайдеггера, только в собственном бытии-к-смерти, в «решимости» забежать вперед к «неопередимой» возможности Dasein может снять противопоставление субъективного и объективного. Субъективное и объективное сливаются в абсолютном будущем, которое индивидуализирует бытие Dasein. «Будущее» означает… не Теперь, которое еще не став «действительным», когда-либо будет, – пишет Хайдеггер, – но предстоящее (Kunft), в котором Dasein приходит к себе в своей собственной способности быть»[127]. В чистой возможности, в абсолютном будущем Dasein предстает как отдельное, так как смерть всегда собственная смерть: нельзя переложить свою смерть на плечи другого.
Осуществляемая из будущего индивидуация бытия Dasein тождественна, по существу, экзистенциальному призыву «будь тем, что ты есть», но требует конкретной основы этого Что. Такой основой, по Хайдеггеру, является прошлое, которое есть «единственный материал для экзистенции», однако только благодаря экзистенциальному будущему оно превращается из нагромождения свершившихся событий во внутреннюю историчность личности. Будущее как бы втягивает в себя содержание прошлого и оживляет его. Взаимопроникновение прошлого и будущего превращает налично-настоящее в экзистирующее, «бытие-при» в «бытие-к-себе», бытие как наличное в бытие как трансцендирующее. Таким образом, временность понимается Хайдеггером как «переживание» целостности времени, конечность которого не зависит ни от познания, ни от волевых усилий человека. Временность как целостность конечного времени – онтологическая структура. С точки зрения Хайдеггера, временность нельзя назвать субъективным переживанием времени, поскольку время не является каким-либо определенным объектом. Переживание здесь следует взять в кавычки, поскольку его интенциональное содержание – смысл человеческого существования, «смысл жизни». Познавательные, эмоциональные и моральные установки сплавлены в «переживании времени», которое онтологически фундирует переживания в собственном смысле слова.
Временность как развернутая структура заботы – только возможность «поворота к бытию» у Хайдеггера. «Действительность» его осуществляется благодаря квазивременной структуре, которая служит основой выбора между собственным и несобственным существованием Dasein и на уровне «заботы», и на уровне «бытия-к-смерти», и на уровне собственной временности и несобственного, «общественного времени». Глубочайшей основой трансцендентального поворота, по Хайдеггеру, является совесть, призывающая Dasein к «собственной способности быть самостью». Зов совести – это «вызов Dasein в свои возможности». «Совесть, – пишет Хайдеггер, – вызывает самость Dasein из потерянности в анонимном (das Man)»[128]. Зов совести не планируется или подготавливается, не осуществляется волевыми усилиями и даже зовет против воли. Он также не исходит от других: «Зов приходит из меня и все же поверх меня»[129]. Совесть как зов есть модус речи, но этот модус речи есть молчание: «Зов говорит в тревожном модусе молчания»[130].
Совесть невременна лишь в том смысле, что она содержит временность как бы в свернутом виде, выступая в качестве основы экзистенциального оборачивания времени и взаимопроникновения трех его направлений: «Совесть открывает себя как зов заботы: Зовущий есть Dasein, тревожащееся в заброшенности (уже-быть-в…) о своей способности быть, – пишет Хайдеггер. – Призываемый есть это же самое Dasein, вызванное к своей собственнейшей способности быть (впереди-себя…). И вызывается Dasein призывом из впадения в das Man (уже-быть-при озабоченном мире)»[131]. Таким образом, совесть – источник разворачивания первичных временных ориентации и, следовательно, источник «собственной временности».
Сопоставление и противопоставление – основная методика Хайдеггера в экспликации повседневности и экзистенциальности, собственного и несобственного бытия. Такая методика, создавая единый языковой каркас, маскирует существенное различие в способах экспликации, т. е. различие феноменологической и сугубо критической тенденций в философии Хайдеггера. Различие между этими тенденциями не является абсолютным, поскольку апофатический способ экспликации «непредметной» экзистенции содержит собственно феноменологические, однако, постоянно превращающиеся в метафорические описания переживаний «страха», «совести», «вины». Однако в отличие от описаний повседневности экспликация экзистенциальной модификации, собственного бытия-к-смерти, зова совести есть, по существу, особый вид критики, лишь отчасти использующий феноменологические средства.
Так же как у Канта, у Хайдеггера критика не есть критика книг или систем, но в отличие от Канта предметом хайдеггеровской критики не является разум или познавательная способность. В отличие от Гуссерля, критика у Хайдеггера – это не критика естественной установки сознания, но критика способа человеческого существования. Особенно важно подчеркнуть, что, согласно замыслу Хайдеггера, эта критика не есть критика какого-либо определенного способа человеческого существования или «бытия-в-мире». У Хайдеггера речь идет о критике бытия человека, которое с необходимостью приводит к «забвению бытия». Критика должна, таким образом, указать особый вид опыта, в котором обнаруживается или открывается бытие.
С одной стороны, у Хайдеггера имеет место кантовская схема критики: вопрос о бытии, или понятие бытия, должно быть приведено к определенному виду опыта. Но с другой стороны, опыт оказывается у Хайдеггера двойственным: во-первых, это опыт повседневности, который есть опыт если не в кантовском, то, по крайней мере, в гуссерлевском смысле; во-вторых, это «опыт» экзистенциальной модификации, который как бы выходит за пределы всякого опыта и который Хайдеггер называет «решимостью». Кантовская схема претерпевает двойную инверсию: критика нацелена не на то, чтобы привести понятия к опыту, но на то, чтобы указать «опыт», который выходит за пределы любых понятий. При этом, однако, сохраняется существенная черта кантовской схемы: так же как критика разума должна отыскать свою основу в самом разуме, так и критика бытия должна быть фундирована в самом бытии. Такой основой, которая создает возможность критики бытия, является сама структура бытия, истолковываемая Хайдеггером как трансценденция. «Бытие и структура бытия выходят за пределы любого сущего и любой существующей возможности определенности сущего, – пишет Хайдеггер. – Бытие есть абсолютно трансцендирующее. Трансценденция бытия Dasein выделена, поскольку в ней лежит возможность и необходимость радикальнейшей индивидуации»[132]. Трансценденцию Хайдеггер понимает в соответствии с буквальным значением слова, отстраняясь тем самым от любого значения этого термина в том или ином философском учении: «Трансцендировать означает… переступать, пересекать, проходить сквозь, иногда также превышать»[133]. Таким образом, экзистенция Dasein, в основе которой лежит трансцендирующая структура бытия, характеризуется как способность проходить сквозь, переступать, превышать и, следовательно, «критиковать» любой вид сущего, или, иначе говоря, любой вид предметности в контексте социальной, политической и духовной жизни. Эта критика не является в своей основе концептуальной критикой. Эта критика-отказ, критика-неприятие, критика – очищение от любого «несобственного», критика-призыв: «Будь тем, что ты есть» – призыв, не только не указывающий на определенный содержательный смысл этого Что, но принципиально уклоняющийся от таких указаний. Хайдеггеровский критицизм выражает здесь не столько тенденцию экзистенциализма, подчеркивающую принципиальную необъективируемость человеческого бытия, сколько тенденцию нигилизма, устремляющегося к «переоценке всех ценностей». Хайдеггеровскому суперкритицизму бытия соответствует понимание временности как чистой экстатичности. «Будущее, прошлое, настоящее показывают феноменальный характер «к-себе» (Auf-sich-zu), «назад-к» (Zurück auf), «возможность встречи с» (Begegnenlassen von), – пишет Хайдеггер, – Временность есть изначальное «вне себя» в себе самом и для себя самого»[134]. Хайдеггеровская экстатическая временность есть лишь иное выражение трансцендирующего бытия. Именно так Хайдеггер достигает поставленной перед собой цели – снять различие между бытием и временем. Экспликация понятия бытия как бытия человеческой экзистенции и экспликация времени как темпоральной структуры человеческого бытия приводит к тождеству понятий бытия и времени. Трансцендирующее бытие Dasein, «проходящее сквозь» любое сущее, и экс-статическая временность как не-сущее[135], как изначальное «вне себя», по существу тождественны.
В отличие от гуссерлевских описаний, переживания времени и временных объектов через структуру «ретенция-теперь-протенция» описания экстатического времени через первичные временные «экстазы» теряют всякую связь с каким-либо видом предметности. Они суть лишь указания на то, что не есть первичная временность, но не на то, что она есть. При этом остается формальное, хотя и существенное для выявления общих контуров феноменологического метода сходство. У Гуссерля временность является конечной (последней) отсылкой в экспликации потенциально и актуально рефлектирующего сознания, у Хайдеггера – конечной отсылкой в экспликации трансцендирующего и «критического» бытия.
§ 2. Хайдеггер и Кант. Проблема сознания и проблема человека. Анализ хайдеггеровской интерпретации «Критики чистого разума»
Как следует из введения в «Бытие и время», интерпретация кантовской философии должна была составить один из разделов II части этой работы, которая осталась ненаписанной, и сосредоточиться на понятии времени, приоткрыть сущность которого, согласно Хайдеггеру, удалось лишь Канту. Основная канва книги о Канте[136] – также интерпретация времени, однако в данном случае перед нами не часть «Бытия и времени», но самостоятельное философское произведение, в котором «проблема метафизики» есть лишь иное обозначение проблемы человека[137].
Ключ к хайдеггеровской интерпретации «Критики чистого разума» лежит в заключительных словах книги. «Пробьется ли снова вопрос о бытии сквозь всю эту проблематичность к своей фундаментальной мощи и широте? Или мы уже слишком превратились в шутов организации, производства и быстроты, чтобы мы могли быть друзьями существенного простого и постоянного, лишь только в «дружбе» (φιλία) которых осуществляется поворот к сущему как таковому, из которого произрастает вопрос о понятии бытия (σοφία) – основной вопрос философии?»[138]
Хайдеггер, по существу, спрашивает может ли современный человек избежать фатальности «организованного шутовства» и сохранить свою «метафизическую природу»? Если традиционно человек стремился доказать свою субстанциальность, то теперь, как это ни парадоксально, человек вынужден доказывать свою безосновность, чтобы показать возможность своей принципиальной нетождественности с вещественным и предметным, или, иначе говоря, возможность не быть лишь функциональным отношением в «организованном» обществе и «организованной» культуре.
Постановка проблемы человека должна исходить, согласно Хайдеггеру, не из данного, т. е. из того, что есть и на что способен человек. Такой путь предлагает философская антропология, которая, по словам Хайдеггера, «уже полагает человека как человека». «Не ответ нужно искать на вопрос, что такое человек, – пишет Хайдеггер, – но прежде всего спросить, каким же образом в основополагании метафизики вообще только о человеке может и должно быть спрошено».
Отказ от антропологии не означает, что проблема человека ставится у Хайдеггера на основе заранее определенных метафизических предпосылок. Напротив, согласно Хайдеггеру, «основополагание метафизики основывается в метафизике Dasein. Не удивительно ли, – продолжает Хайдеггер, – что основополагание метафизики само должно быть по меньшей мере метафизикой, и притом особого рода»[139]. Метафизика Dasein есть в свою очередь фундаментальная онтология, которая раскрывает в человеке то, что «изначальнее, чем он сам», – конечность Dasein и бытие-в-мире Хайдеггер ставит перед собой задачу «истолковать кантовскую “Критику чистого разума” как основополагание метафизики, чтобы таким образом проблему метафизики показать как проблему фундаментальной онтологии»[140]. Почему же Хайдеггер обращается именно к Канту? Каковы границы сходства идей Канта и Хайдеггера?
Согласно Хайдеггеру Кант заложил основу онтологии нового типа, хотя и не осознавал глубинных тенденций своей философии. Первая тенденция скрыта в учении о чистой апперцепции, которая определяет категории, но не определяется ими, т. е. выступает как безусловное условие возможности познания. Вторая – в учении о нравственном законе, который «имеет силу не только для людей, но и для в сек разумных существ вообще…»[141]. Онтологический смысл моральности Хайдеггер видит в том, что, по Канту, человек никогда не должен рассматриваться как средство, но всегда как цель. Человек как цель в себе самом есть «субъект морального закона, который свят в силу автономии своей свободы»[142]. Таким образом, основой второй онтологической тенденции в кантовской философии является идея автономности свободы и «внушающая уважение идея личности».
Для того чтобы эти тенденции полностью осуществились в качестве единого онтологического основания, Хайдеггер предпринимает поиск их общих истоков. В книге о Канте Хайдеггер рассматривает трансцендентальную силу воображения не только как корень чувственности и рассудка, но и как источник действования морального Я. Он подчеркивает, что моральное чувство, которое лежит в основе уважения к моральному закону, не есть эмпирическая «способность души», но трансцендентальная основа-структура морального Я (Selbst): «В этом себя-себе-самому-покорении я возвышаю себя к себе самому как себя самое определяющей свободной сущности. Это своеобразное подчиняющее самовозвышение себя самого к себе самому открывает Я в его „достоинстве“. Говоря негативно: в уважении к закону, который я как свободная сущность даю самому себе, я не могу презирать себя самого. Уважение есть поэтому способ самобытия Я, на основе которого оно «не отвергает героя в своей душе»[143]. Согласно Хайдеггеру «сущностная структура уважения позволяет проявиться в себе изначальной структуре трансцендентальной силы воображения»[144] и тем самым позволяет схватить. Я непредметно, т. е. в хайдеггеровском смысле онтологично.
Интерпретация второй онтологической тенденции кантовской философии представлена у Хайдеггера лишь в виде краткого очерка, и это не случайно. Кантовское учение о морали заведомо не может быть гносеологией, и нет необходимости доказывать онтологичность и бытийность проблем личности и морали, ибо в структуре уважения к моральному закону не возникает противопоставления субъекта и объекта. Другое дело – кантовское учение о чувственности и рассудке, которое безоговорочно считалось учением о познании. Интерпретация Хайдеггера непосредственно сосредоточена не столько на том, чтобы выявить онтологическую основу кантовской гносеологии, сколько на том, чтобы само кантовское учение о познании представить как онтологию.
Возможность онтологической интерпретации «Критики чистого разума» Хайдеггер видит прежде всего в том, что время у Канта является центральной структурой трансцендентального познания. Лейтмотив интерпретации – раскрыть продуктивное воображение и первичную временность, лежащую в его основе, как корень «двух стволов человеческого познания», как внутренний центр познавательных сил, единство которых создает горизонт предметности. Тем самым основная идея хайдеггеровской онтологии – раскрыть бытие из горизонта времени – должна получить свое подтверждение в «Критике чистого разума».
Чистый рассудок и чистая чувственность должны найти свое единственное основание, согласно Хайдеггеру, в чистом синтезе воображения. Иначе говоря, Хайдеггер предполагает наличие изначальной синтетической деятельности сознания, которая является источником чистых элементов познания, а последние истолковываются им в качестве модификаций этого синтеза. Доказывая принадлежность чистого рассудка и чистых созерцаний к первичному синтезу, Хайдеггер обращается к рассмотрению двух путей дедукции, выделенных Кантом. Первый путь – от рассудка к созерцаниям – Хайдеггер излагает, подчеркивая конечность чистого мышления, которое, по его выражению, «как таковое не может противопоставить себе сущее посредством своих представлений и из себя самого»[145]. Если конечность созерцания заключена в его рецептивности, т. е. в том, что предметы воздействуют определенным образом на наши чувства, то конечность собственно рассудка, если отвлечься от его отношения к конечному созерцанию, состоит в его «окольности» (Umwegigkeit): рассудку, согласно Хайдеггеру, даже недостает непосредственности созерцаний, он должен «принимать во внимание общее, посредством которого и из которого может быть понятийно представлено некоторое единичное»[146]. Тем не менее согласно Хайдеггеру, чистое мышление содержит в себе необходимое условие, благодаря которому оно может «натолкнуться на противоположное», «достать сущее», «встретиться с сущим». Экспликация этой возможности формально соответствует кантовской задаче показать объективность мышления; однако Хайдеггер здесь существенно переставляет акценты: если для Канта объективность мышления означает связь категорий с эмпирическими созерцаниями, то для Хайдеггера возможность «столкновения с сущим» коренится в единстве чисто внутренних сил познавательной способности. Поэтому Хайдеггер подчеркивает, что чистое мышление как трансцендентальная апперцепция «несет как неонтическую сущностную тенденцию к объединению того, что еще в себе не объединено».
Излагая второй путь дедукции – от созерцаний к рассудку, Хайдеггер ставит перед собой аналогичную задачу – показать, что чистый синтез воображения лежит не только в основе чистого мышления, но также и созерцаний. В данном случае Хайдеггер опирается на вывод Канта о том, что «только посредством… трансцендентальной функции силы воображения становится возможным даже сродство явлений» (А 123, Т. 3, 715). Здесь Хайдеггер так же формально следует кантовскому ходу рассуждений и в то же время существенно изменяет содержание кантовского трансцендентализма. Хайдеггер стремится представить дело так, как будто априорное познание конституируется из чисто внутренних источников. Однако под априорным Кант понимает не «чисто субъективное», но возможность субъективного быть объективным. Кант начинает исследование познавательной способности с определенных предметных форм познания, т. е. с указания на специфику того или иного вида познавательной деятельности (арифметика, геометрия, естествознание), а затем восходит к условиям его возможности, т. е. к априорному. Такое восхождение, как известно, Кант называет трансцендентальным познанием. В данном случае Кант предпосылает двум путям дедукции перечисление трех субъективных источников познания (чувство, воображение, апперцепция), каждый из которых «можно рассматривать как эмпирический, а именно в применении к данным явлениям, но все они суть также априорные начала, или основы, делающие возможным само это эмпирическое применение» (А 115; Т. 3, 710).
Если, согласно Канту, цель дедукции состоит в том, чтобы показать единство чистых рассудочных понятий и эмпирических созерцаний в познании и выявить необходимость чистого продуктивного синтеза воображения в этом единстве, то для Хайдеггера итогом дедукции является единство чистого созерцания, чистой силы воображения и чистой апперцепции, т. е «внутренняя возможность сущностного единства чистого познания». Согласно Хайдеггеру это единство формирует горизонт предметности вообще, а «так как чистое познание таким образом лишь прорывает для конечного существа необходимый простор действий, в котором «все отношения бытия и небытия имеют место», оно должно называться онтологическим»[147].
Таким образом, онтология, или метафизика, возможна, согласно Хайдеггеру, благодаря внутреннему единству познавательных сил, причем основой трансценденции, т. е прорыва к сущему, является опять-таки сила воображения. Хайдеггеровское отождествление трансценденции и «возможности опыта» меняет местами полюса кантовского трансцендентализма: для Канта «всякое наше познание начинается с опыта», и задача состоит в том, чтобы показать возможность возникновения нового знания, которое содержало бы в себе моменты всеобщности и необходимости.
Для Хайдеггера трансценденция как «эксстасис» единства внутренних познавательных сил создает возможность «столкновения с сущим». Обращаясь к кантовскому тезису о том, что «условия возможности опыта» вообще суть одновременно (в русском переводе – «вместе с тем» (Т. 3, 234). – В. М.) условия возможности предметов опыта» (А 158), Хайдеггер отмечает, что «решающее содержание этого положения заключается не в том, что Кант выделил курсивом, но в «суть одновременно»[148]. «Быть одновременно» выражает «сущностное единство полной структуры трансценденции», которая образует горизонт предметности: «Делающее возможным опыт одновременно делает возможным испытываемое в опыте или опытное как таковое. Это означает: трансценденция делает доступным конечной сущности сущее в нем самом»[149]. Если, однако, учитывать собственно хайдеггеровское истолкование трансценденции вне контекста интерпретации «Критики чистого разума», то трансценденция, как мы видели, означает возможность «пройти сквозь» сущее. Этот смысл имплицитно содержится и в хайдеггеровской интерпретации Канта, ибо соприкосновение трансцендентальной, или, по Хайдеггеру, иррациональной, силы воображения с сущим означает скорее «превышение» этого сущего, нежели его предметное освоение.
Попытка представить трансцендентальную силу воображения в качестве чисто внутреннего источника познания, в качестве корня чувственности и рассудка служит основным средством для того, чтобы истолковать «Критику чистого разума» как онтологию на основе трансценденции. Особое внимание Хайдеггер уделяет «несоответствию» тройственности познавательных сил (чувственность, сила воображения, апперцепция) и двойственности источников познания (чувственности и рассудка). Поскольку «Трансцендентальное учение о началах» содержит лишь два раздела – «Трансцендентальную эстетику», в которой рассматривается способность созерцания, и «Трансцендентальную логику», в которой рассматривается мышление как таковое, – «трансцендентальная сила воображения бездомна»[150]. Если «бездомная» сила воображения есть «основная способность человеческой души, то не является ли она тем самым неизвестным корнем, из которого произрастают «два ствола человеческого познания»?
Основной аргумент Хайдеггера состоит в том, что действие синтеза воображения пронизывает как чувственность, так и рассудок. Само по себе это утверждение не вызывает возражений, так же как и результат хайдеггеровского анализа, который показывает, что и чувственность, и рассудок обладают как пассивной, так и активной стороной: чувственность – это «спонтанная рецептивность», рассудок – это «рецептивная спонтанность». Однако это говорит лишь о том, что чувственность и рассудок уже в абстрактном виде несут в себе возможность соединения. В самом деле, синтетическая деятельность сознания подразумевается Кантом на каждом этапе абстрагирования, уже пространство, в кантовском понимании, обнаруживает силу воображения – благодаря этому возможны синтетические суждения геометрии. У Хайдеггера, однако, пространство полностью сводится к времени и утрачивает свою относительную самостоятельность. Тем самым теряет смысл кантовский тезис о том, что познание начинается с опыта, источник познания отождествляется с «самовоздействием» и требует определенного внутреннего адреса.
Методология кантовского исследования, которой Кант вполне сознательно придерживался, имеет противоположную направленность. Кант стремится показать, какова специфика деятельности сознания в математике, естествознании и философии, выделяя соответственно пространство и время, категории и трансцендентальную рефлексию. Иначе говоря, Кант начинает исследование познавательной способности с определенных предметных форм познания, хотя в поле его зрения оказывается только теоретическое, научное познание. Перед Кантом не предметность вообще, не сущее вообще, а определенные формы опыта, раскрывая структуру которых, он воссоздает в рефлексии конкретное единство всех познавательных сил, предельным выражением которого предстает трансцендентальная сила воображения. Последняя является не корнем чувственности и рассудка, а выражением их конкретного единства в познании.
Секрет хайдеггеровской интерпретации «Критики чистого разума» заключается в особом, псевдокантовском, методологическом приеме: система «трансцендентальных предположений» направлена уже не на эмпирические проявления познания, а на абстрагированные и заранее положенные в качестве внутренних познавательные силы. Иначе говоря, Кант фиксирует определенную эмпирическую способность сознания и полагает в основу этой способности соответствующий априорный синтез. Хайдеггер также строит систему трансцендентальных предположений, однако исходной точкой для него является постулирование чисто внутреннего единства сознания, в модификациях которого он предполагает обнаружить синтетическую деятельность воображения, присущую этому первоначальному единству.
Допустим, что Кант не оставил бы «бездомной» силу воображения. Какую же функцию выполнил бы в таком случае соответствующий раздел «Критики…»? Очевидно, что в нем не могла бы идти речь ни о чем ином, как о единстве чувственности и рассудка. С точки зрения основных целей «Критики…», этот раздел был бы излишним. Трансцендентальная сила воображения не нуждается в «постоянной прописке», поскольку она везде у себя дома; именно это и подтверждает, по существу, хайдеггеровский анализ. Хайдеггер прав в том, что «трансцендентальная сила воображения не есть только внешняя лента, которая связывает вместе два конца»[151], это действительно не посредник между чувственностью и рассудком, посредник, который совершенно отделен от них. Однако Хайдеггер меняет ход рассуждений Канта на противоположный: Кант раскрывает чувственность и рассудок как такие силы познания, которые уже таят в себе возможность единства, и конечным итогом этого раскрытия является трансцендентальный схематизм как предел описания познавательной способности. Хайдеггер же, напротив, исходит из первичной целостности сознания, пытаясь удержаться на таком уровне рассуждений, который делал бы излишним соприкосновение с какими-либо реальными предметными формами познания.
Каково же проблемное значение различия методологии Канта и хайдеггеровской интерпретации? Можно ли такое различие свести только к структурному различию сцеплений чувственности, рассудка и силы воображения? Не все ли равно, в конце концов, считать трансцендентальную силу воображения исходным или конечным пунктом единства чувственности и рассудка? Если речь идет только о направленности сознания на определенные предметные формы, нельзя ли просто восполнить этот «пробел» хайдеггеровской интерпретации соответствующими предположениями?
Очевидно, что предположения о существовании определенных предметных форм познания, соответствующих изначальному синтезу воображения, были бы довольно искусственными. Но дело не только в этом. Одна из главных целей хайдеггеровской интерпретации состоит в том, чтобы показать и доказать конечность чистого познания не только через аффицирование чувственности и «окольность» рассудка, но прежде всего посредством указания на их общий, неразложимый в анализе, иррациональный и тем самым конечный источник. В хайдеггеровской интерпретации синтез воображения предстает уже не как источник познания, но как основа трансценденции, т. е. источник, не поддающийся дальнейшей редукции посредством мышления, своего рода пружина, которая не может бесконечно сжиматься, отступая перед сущим, но необходимо соприкасается с ним.
Несомненно, что Хайдеггер сознательно изменяет структуру кантовского трансцендентализма для того, чтобы представить силу воображения как трансцендирующую основу онтологии. Однако это изменение указывает еще на одно, не менее глубокое проблемное различие между Кантом и Хайдеггером, которое, в свою очередь, свидетельствует о специфике хайдеггеровской феноменологии.
В интерпретации Хайдеггера трансцендентальная сила воображения предстает как некая сущность сознания, ему самому недоступная. Но поскольку трансцендентальная сила воображения все же подвергается анализу у Хайдеггера, возникает вопрос о специфике самого этого анализа. Очевидно, что основной методологической установкой хайдеггеровского анализа чувственности и рассудка, т. е. традиционных «компонентов» сознания, является редукция к силе воображения, которая не только не поддается дальнейшей редукции, но уже в определенном смысле не является сознанием. Таким образом, анализ трансцендентальной силы воображения, который невозможен как разложение на конституирующие ее элементы, возможен только как темпоральное описание, где модификации трансцендентальной силы воображения – синтез аппрегензии, синтез репродукции и синтез рекогниции – интерпретируются как модусы времени, соответственно как настоящее, прошлое и будущее. «Разработка внутреннего временного характера трех модусов синтеза, – пишет Хайдеггер, – должна представить последнее решающее доказательство того, что интерпретация трансцендентальной силы воображения как корня обоих стволов не только возможна, но и необходима»[152]. Чистый синтез есть, согласно Хайдеггеру, темпоральный синтез, а трансцендентальная сила воображения есть первичное время, которое Хайдеггер истолковывает как «самовоздействие» и «само-себя-начинание».
Основные усилия интерпретации направлены здесь на то, чтобы синтез рекогниции истолковать как предварительное формирование будущего, ибо синтез аппрегензии и синтез репродукции достаточно легко можно представить в качестве горизонта настоящего и прошлого. Синтез рекогниции Хайдеггер интерпретирует как синтез идентификации, т. е. синтез, благодаря которому мы можем удерживать как то же самое то, что мы ранее имели в созерцании. В лекциях 1927/28 гг. Хайдеггер называет синтез рекогниции прекогницией (Praecognition), подчеркивая, что идентификация как бы предваряет познание предмета, заранее формируя горизонт предметности[153]. В книге о Канте Хайдеггер называет рекогницию рекогносцировкой; чистый синтез рекогниции, согласно Хайдеггеру, «разведывает не сущее, которое он может удержать перед собой как тождественное, но он разведывает горизонт удерживаемости (Vorhaltbarkeit) перед собой вообще. Это разведывание как чистое разведывание, – продолжает Хайдеггер, – есть изначальное формирование этого предудержания (Vorhaften), т. е. будущего»[154].
Несоответствие хайдеггеровской интерпретации кантовскому ходу мысли проявляется в данном случае в том, что Хайдеггер умалчивает о кантовском отождествлении синтеза рекогниции и транс цендентальной апперцепции. Такое умолчание не случайно, ибо Хайдеггер хочет представить трансцендентальную апперцепцию не только в качестве одного модуса времени (пусть даже будущего), но и как единство трех модусов времени. Из схемы интерпретации, которую Хайдеггер приводит в лекциях 1927/28 гг.[155] и которую он сопоставляет со схемой «Критики чистого разума» (как будто последняя не есть также интерпретация), видно, что время разлагается на три составляющие, т. е. три синтеза (прекогниции, поставленного на первое место, аппрегензии и репродукции), единство которых затем результируется в трансцендентальной апперцепции
В книге о Канте в контексте интерпретации синтеза рекогниции Хайдеггер стремится показать уже не темпоральность трансцендентальной апперцепции, которая едва упоминается Хайдеггером (возможно, чтобы исключить всякие точки соприкосновения с интерпретациями неокантианцев), но темпоральность чистой апперцепции: «Время и „Я мыслю“ тождественны»[156].
В данном случае неважно, чистую или трансцендентальную апперцепцию «темпорализует» Хайдеггер – в конце концов они суть корреляты. Важно выявить методологию Хайдеггера, который для доказательства темпоральности субъективности в целом предпринимает поиск темпоральности каждой структуры кантовской познавательной способности. Методология Хайдеггера основана на том допущении, что если удается обнаружить темпоральность определенных структур сознания, то эти стуруктуры имеют общее происхождение – изначальное время. Такую методологию можно назвать псевдолокковской теорией абстракций: находится общий признак нескольких предметов (в данном случае структур сознания), отбрасываются все другие – «несущественные», и этот общий признак объявляется сущностью, или корнем, рассматриваемых предметов. При этом предполагается также, что проблема времени может рассматриваться только как проблема единства будущего (основного для Хайдеггера модуса времени), настоящего и прошлого. Темпоральное описание трансцендентальной силы воображения при помощи этих трех модусов времени должно решить задачу десубстанциализации бытия, т. е. в данном случае корня чувственности и рассудка. Однако то, что в основе трансцендентальной силы воображения лежит «первичное время», модусы которого суть модусы первичного синтеза, еще не дает гарантии десубстанциализации самого времени Гадамер подчеркивает значение тезиса Хайдеггера «само бытие есть время» для критики субъективизма и субстанциализма[157]. Однако при этом требуется еще антисубстанциалистская интерпретация самого времени. Иначе говоря, недостаточно объявить бытие временем; необходимо показать, что само время не есть новая субстанция, т. е. абстракция, потерявшая связь с определенной проблемой.
В «Бытии и времени» будущее субстантивировано лишь отчасти, ибо, с одной стороны, будущее как предстоящее определяет, согласно Хайдеггеру, структуру конечной экзистенции и, следовательно, находится в контексте проблемы собственного и несобственного, но с другой стороны, собственное будущее теряет у Хайдеггера темпоральные характеристики, т. е. не поддается темпоральному описанию, и предстает как субстанция времени, лежащая в основе единства его модусов. В хайдеггеровской интерпретации «Критики чистого разума» мы имеем дело с субстантивацией времени не только и не столько потому, что изначальному, или первичному, времени указывается один определенный адрес – трансцендентальная сила воображения – и время фактически отождествляется с синтезом воображения, но прежде всего потому, что отождествление осуществляется Хайдеггером вне контекста кантовской проблематики и становится самоцелью.
Для Канта первичными временными отношениями являются не отношения прошлого, настоящего и будущего, но отношения последовательности и одновременности. Эти отношения являются в то же время основными средствами описания трех синтезов и их взаимопроникновения. Хайдеггер, пытаясь показать, что нет трех отдельных синтезов, а есть лишь три модификации одного первичного синтеза, приходит фактически к обратному результату: синтезы, интерпретированные как модусы времени, сохраняют свое единство лишь формально, т. е. из формального определения времени, согласно которому время есть единство трех своих модусов. Кант, напротив, описывает синтезы, показывая их необходимость друг для друга и тем самым их единство. Такое описание предшествует темпоральному описанию категорий и групп категорий и подготавливает его.
Кант действительно сближает и отождествляет время и продуктивное воображение, но это отождествление имеет место только на определенном уровне описания в контексте проблемы синтетического априори, т. е. условий возможности получения нового знания. В этом смысле синтез воображения действительно связан с будущим временем, но его вектор направлен в будущее (получение нового знания), а не из будущего, как у Хайдеггера. Проблема единства будущего, настоящего и прошлого также имеет место у Канта, но она отличается от проблемы темпорального описания синтезов: единство настоящего, будущего и прошлого есть, соответственно, проблемное единство обоснования объективности (предметности) независимого от опыта мышления, обоснование возможности творчества или получения нового знания и обоснование необходимости определенной «стандартной», или «нормальной» (по аналогии с концептом Т. Куна), работы сознания.
Рассмотрение единства прошлого, настоящего и будущего требует иного проблемного уровня, нежели рассмотрение единства последовательности и одновременности при описании различных видов смыслообразования (в данном случае – категорий). Поэтому, строго говоря, хайдеггеровская темпорализация трансцендентальной силы воображения не является темпоральным описанием ни в кантовском, ни в гуссерлевском смысле. Это скорее своеобразное темпоральное структурирование, своеобразная темпоральная формализация, которая нацелена на то, чтобы представить трансцендентальную силу воображения как чисто внутренний источник деятельности познавательной способности.
Хайдеггер, правда, не считает результатом кантовского основополагания метафизики и тем самым своей интерпретации выявление фундаментальной роли силы воображения. Результатом, по его мнению, является то, что Кант отшатнулся от положенной им самим основы при раскрытии субъективности субъекта, т. е. от трансцендентальной силы воображения и от субъективной дедукции[158], которая, по выражению Хайдеггера, «ведет в темноту». Отступление Канта от открытой им основы есть, согласно Хайдеггеру, «то движение философствования, которое открывает прорыв основы и при этом безосновность (Abgrund) метафизики»[159]. Этим завершается хайдеггеровская интерпретация, повторяя, по существу, то, с чего она началась: кантовское основополагание метафизики «ведет не к ясной, как солнце, очевидности первого положения и принципа, но идет и сознательно указывает в неизвестное»[160].
Кант действительно указывает на неизвестное (неизвестный корень чувственности и рассудка), но его философствование движется в сфере «известного», т. е. в сфере рефлексивного наблюдения и трансцендентального конституирования познавательной способности. Методология Канта направлена не на поиск чисто внутренних ее источников, но на воссоздание круга в процессе познания: познание начинается с опыта – необходимо определить условие возможности опыта. Трансцендентальная философия Канта, в основе которой действительно лежит субъективная дедукция, ведет не «в темноту», но движется, как мы показали, в круге «сознание-время-рефлексия». Такая методология подразумевает, что в своих исходных точках философствование удерживает различие между сознанием и его описанием. Согласно Канту субъект может быть дан самому себе только через свои проявления. Иными словами, сознание показывает себя не как сознание an sich, но только через определенный вид деятельности сознания. Однако трансцендентальное познание, согласно замыслу Канта, должно выявить условия возможности этих определенных видов деятельности и воссоздать целостную структуру сознания. Для этого трансцендентальная рефлексия должна прийти в соприкосновение с такими структурами познания, которые не зависят от описания, т. е. описанием не конструируются, но в то же время существуют только благодаря описанию. Таковы синтезы, выявляющиеся в темпоральном описании, такова трансцендентальная сила воображения – основная структура познавательной способности, ибо в ней сосредоточены смыслообразующие функции сознания. Иными словами, трансцендентальная сила воображения не существует как сила природы, как объект, который можно описать «со стороны». Трансцендентальная сила воображения не есть нечто существовавшее «по природе» и открытое Кантом в конце XVIII в. Кант столько же открыл, сколько и создал трансцендентальную силу воображения, и ее дальнейшее «существование» зависит не только от последующих интерпретаций кантовской философии, но и от существования философской традиции вообще.
Согласно замыслу Канта, трансцендентальное познание должно открыть в сознании такие структуры, которых нет в эмпирическом мире, но которые необходимы для познания и понимания познания эмпирического мира. Такие структуры суть субъективные условия, которые не существуют объективно, но в то же время не являются чем-то «чисто внутренним» и в этом смысле «субъективным». Даже при темпоральном описании синтезов в субъективной дедукции, где Кант выходит за пределы чисто критического исследования, подразумевается предметность сознания, ибо речь идет не о беспредметной аппрегензии и т. д., но об аппрегензии в созерцании предметов.
Условием возможности описания целостности этих структур является постоянное сближение и в конечном итоге отождествление сознания и его описания. Трансцендентальная сила воображения есть тот кульминационный пункт «Критики чистого разума», где это совпадение имеет место, где «слепая, но необходимая функция души» и ее описание совпадают. Это отождествление означает, что трансцендентальная сила воображения есть такая структура познавательной способности, которую нельзя раскрыть или объяснить через нечто иное, чем она сама: трансцендентальная сила воображения есть структура сознания, благодаря которой сознание предстает у Канта как самодостаточное и само себя проявляющее. В этом очевидное сходство трансцендентального идеализма Канта и феноменологического идеализма Гуссерля.
Интерпретация Хайдеггера, изменяя проблемный контекст кантовской трансцендентальной философии, истолковывает трансцендентальную логику как основу для постановки проблемы человека. Хайдеггер обращается к «Критике чистого разума» именно потому, что Кант первым отказался от «предположения бесконечности» как в области законов природы, так и в сфере нравственного закона. Кант отказался от редукции сущности человека к его традиционному метафизически-религиозному прообразу – божественной сущности, или бесконечному разуму. Смысл кантовского вопроса «Что есть человек?» заключается в том, что ответ на него нужно искать не извне, но необходимо раскрыть сущность человека через рассмотрение самим человеком осуществляемой познавательной и нравственной деятельности. Ответ на этот вопрос не может быть дан вне и сверх ответов на вопросы: «Что я могу знать?», «Что я должен делать?» и «На что я могу надеяться?».
Вопрос о границах познания не случайно стоит у Канта на первом месте, ибо ответ на этот вопрос необходим для постановки вопроса о сущности морали и религии. При этом Кант раскрывает познание как одно из необходимых проявлений человеческой сущности, как свойство, внутренне присущее человеку как человеку. Трансцендентальная методология Канта направлена на то, чтобы определить условия возможности познания посредством исследования познавательной способности, другими словами, выявить условие возможности различных видов смыслообразования посредством описания структур сознания.
Неизменное убеждение Хайдеггера состоит также в том, что при постановке вопроса о человеке нельзя подразумевать, что ответ может быть дан через род и видовое отличие. На основе предпосылки о причастности человека к божественной сущности или же к животному миру невозможно раскрыть человека в его человеческом существовании. «На правильном ли мы вообще пути к сущности человека, – задает вопрос Хайдеггер, – когда и пока мы отграничиваем человека как живое существо среди других от растения, животного и бога»[161]. Хайдеггер, однако, отказывается усматривать в изучении условий возможности познания исходный пункт для исследования фундаментальных структур человеческого существования и тем более определять условия возможности познания, описывая структуры познавательной способности. Это означает объяснять человека из сознания и, следовательно, неявно восстанавливать изгнанный абсолют, поскольку «объяснение из сознания» с необходимостью должно принять за образец некоторое сознание вообще, или сознание как таковое.
Основной вопрос при постановке проблемы человека для Хайдеггера – это вопрос о том, каким образом можно раскрыть или описать конечное существо вне «предположенной бесконечности», т. е. без заранее принятой его сущности. Где же и в чем ищет Хайдеггер точку опоры для такого описания, если для него неприемлема не только методология материалистического понимания истории, согласно которой «сущность человека в своей действительности есть совокупность всех общественных отношений»[162], но и методология «объяснения из сознания»?
Хайдеггер пытается следовать методологии так называемого третьего пути, которая весьма распространена в современной буржуазной философии. В кантовском трансцендентализме Хайдеггер ищет пункт, в котором Кант, по его мнению, отступил от «предположения бесконечности». Хайдеггер интерпретирует трансцендентальную силу воображения как то, что одновременно является и не является сознанием. С одной стороны, трансцендентальная сила воображения интерпретируется как корень двух стволов человеческого познания, принадлежащий сфере сознания, поскольку она придает единство всем познавательным силам. С другой стороны, для трансцендентальной силы воображения как иррациональной, конечной основы теоретического и практического разума принципиально не существует сознания-парадигмы, которое определило бы ее действия. Хайдеггер изымает трансцендентальную силу воображения из сферы сознания, для того чтобы представить ее в качестве бытия-основы человеческой трансценденции.
Трансцендентальная сила воображения как трансценденция теряет многообразную связь с предметностью, тогда как у Канта она служит основой схематизма категорий, т. е. основой определенных линий связи сознания и предметности. Хайдеггер лишает трансценденцию каких бы то ни было ориентиров в области познания и культуры. Трансцендирующее бытие не есть род сущего согласно Хайдеггеру, трансценденция должна быть гарантией безосновности человека, его нетождественности любого рода реальности. Трансценденция есть единственная опора («подвижный фундамент») для преодоления вовлеченности в «производство» и «организацию», единственная опора конечного существа для поворота к бытию.
Показать конечность Dasein означает описать человеческое существование как бытие-в-мире, как бытие, соразмерное миру. Это означает описать бытие Dasein не в качестве модификации бытия «абсолютного разума», но «из мира», с помощью фундаментальных структур самого мира, которые одновременно являются фундаментальными структурами Dasein. Структура In-der-Welt-sein является одновременно предметом описания и средством описания, равно как все другие хайдеггеровские экзистенциалы. Между предметом и средством описания уже изначально предполагается отсутствие «пространства», в котором могли бы «разместиться» различные уровни репрезентаций и саморепрезентаций. Однако в рамках феноменологии тождество между предметом и его описанием возможно, во первых, только в том случае, если этот предмет – сознание, и во-вторых, предмет и его описание приводятся к тождеству только на уровне описания феноменологически рефлектирующего сознания. Поскольку Хайдеггер не считает экзистенциалы ни структурами сознания, ни средствами описания мира, в котором существует Dasein – нет мира, отделенного от Dasein, – феноменология Хайдеггера основана не на феноменологичности, т. е. самоявленности, сознания, тождественного его описанию, но на феноменологичности бытия Dasein, в основе которого – самоявленность «проходящей сквозь» и «превышающей» любое сущее трансценденции. В хайдеггеровской трансценденции не содержится, однако, критерия для различия поисков «собственного» бытия от нигилистического отношения к «несобственному» сущему Отсутствие такого критерия при постановке вопроса о бытии приводит к опасности превращения принципа трансценденции в принцип нигилизма. Поскольку трансценденция не только теряет связь с определенными формами предметности, но сама есть принцип отстранения от всякого рода таких связей, хайдеггеровские описания являются, по существу, квазиописаниями. Описание иерархии уровней сознания Хайдеггер заменяет различными типами темпоральных соответствий; трем синтезам он ставит в соответствие три направления времени, трансцендентальной силе воображения – первичное время. Замена описаний на установление соответствий и, следовательно, конструирование есть конкретный признак того, что в хайдеггеровской феноменологической интерпретации «Критики чистого разума» и, видимо, во всей хайдеггеровской феноменологии периода «Бытия и времени» критическая тенденция оттесняет собственно феноменологическую, что выражается прежде всего в попытке отодвинуть на второй план проблему сознания.
Хайдеггер стремится преодолеть традиционно идеалистическое представление о сознании, которое заключается в том, что сознание определяет мир и в том или ином смысле противостоит ему. Для этого он приписывает сознанию характеристики мира, а миру – характеристики сознания, объединяя их в структуре бытия Dasein. Попытки Хайдеггера описать единство или даже совпадение сознания и мира остаются тем не менее в рамках идеализма, ибо первичной и единственной темой хайдеггеровской философии является не мир как совокупность социальных и культурных реалий, но мир как абстрактно понятое пространство человеческого существования, в котором сознание усматривает свои собственные структуры. Отодвинув на второй план проблему сознания, Хайдеггеру не удалось преодолеть гуссерлевский идеализм. Скорее он поставил под вопрос саму возможность существования феноменологии.
Парадоксально, что Хайдеггер, провозглашая в «Бытии и времени» феноменологический метод единственным методом философии, фактически отходит от него. В то же время поздний Хайдеггер, достаточно редко упоминая сам термин, по существу, возвращается к феноменологии, понимая ее, однако, более широко, чем определенное философское направление.
§ 3. Проблема обоснования феноменологии у Э. Гуссерля и М. Хайдеггера
Разногласия между Гуссерлем и Хайдеггером по вопросу о сущности феноменологии и возможности ее обоснования являются в настоящее время одним из основных источников понимания феноменологии, осмысления ее места в современной философии и в современной культуре в целом.
Феноменология Гуссерля, ядром которой является учение об интенциональности сознания и трансцендентальной субъективности, претендует на роль строгой науки, показывающей, что в основе любого формообразования культуры, будь то теоретическая, эстетическая, этическая сфера или сфера понимания в обыденном опыте, лежит определенная конституирующая деятельность сознания.
Какова же возможность и основа самой феноменологии? Если феноменология, отказываясь от внешней основы, предпринимает самообоснование, то возможен ли выход за пределы гуссерлевской концепции трансцендентальной субъективности, выход к бытию, которое не есть бытие трансцендентального сознания? Для Хайдеггера интенциональность сознания не является конечной отсылкой при решении философских проблем, ибо, с его точки зрения, необходимо поставить вопрос о бытии самой интенциональности.
Разногласия между Гуссерлем и Хайдеггером по вопросам обоснования феноменологии принимают весьма острый характер: по существу, оба философа полагают, что учение другого – лишь «частный случай» его собственного. На полях «Бытия и времени» Гуссерль пишет: «Хайдеггер транспонирует или поворачивает конститутивно феноменологическое прояснение всех регионов сущего и универсального, тотального региона мира в антропологическое. Вся проблематика есть перенос, (dem) Ego соответствует Dasein, etc. При этом все становится глубокомысленно неясным и философски теряет свою ценность»[163].
Гуссерль увидел, таким образом, в произведении своего ученика искажение феноменологической проблематики. Однако эта оценка является не совсем верной, поскольку в философском учении Хайдеггера сформировалась существенно новая проблематика. Dasein является не искажением Ego, но существенно другим исходным пунктом философствования. Последняя фраза Гуссерля несомненно выражает его эмоциональную реакцию на книгу Хайдеггера, однако может быть истолкована в более широком контексте: философия, по Гуссерлю, должна основываться на принципах ясности и очевидности, исходный пункт философии – осознающий себя и рефлексирующий субъект. Принятие феномена Dasein в качестве исходного момента философии является, согласно Гуссерлю, наивным (в феноменологическом смысле этого слова): «Было бы, конечно, „наивностью“ сказать, что человек есть сущее, которое все другое сущее осознало как свой горизонт бытия, или что понимание бытия существует заранее из всего, из себя самого и всего прочего сущего (если, конечно, хотят избежать слова „осознало“). Понимание бытия есть нечто совершенно пустое, пока мы не познаем его как апперцепцию самого себя и апперцепцию другого»[164].
Со своей стороны, Хайдеггер, сознательно принимая в качестве предпосылки то, что одновременно выявлено и не выявлено, – «усредненное понимание бытия» и Dasein как бытие-в-мире, – предпринимает попытку содержательного обоснования основного «постулируемого» в феноменологии понятия – интенциональности. «Интенциональность, – пишет Хайдеггер, – основана в трансценденции Dasein и возможна единственно на ее основе»[165]. Хайдеггер претендует в данном случае на более высокий вид критики: показать тот обосновывающий феноменологию центр, которого не «заметил» Гуссерль. В письме к Гуссерлю Хайдеггер соглашается, что «сущее в смысле того, что Вы называете „миром“, в своем трансцендентальном конституировании не может быть прояснено через возвращение к сущему того же самого вида бытия. Но при этом, – продолжает Хайдеггер, – не сказано о том, что составляет место трансцендентального… но как раз возникает проблема: каков вид бытия сущего, в котором конституируется „мир“? Это центральная проблема „Бытия и времени“, т. е. фундаментальной онтологии Dasein»[166].
Хайдеггер не отбрасывает гуссерлевское разграничение естественной и феноменологической установок, но погружает его в другое измерение. Различие позиций сам Хайдеггер определяет так: «Для Гуссерля феноменологическая редукция… есть метод возвращения феноменологического взгляда из естественной установки… человека к трансцендентальной жизни сознания и его ноэтико-ноэматических переживаний, в которых объекты конституируются как корреляты сознания. Для нас феноменологическая редукция означает возвращение феноменологического взгляда из определенного в каждый момент схватывания сущего к пониманию бытия (проектированию на способ его несокрытости) этого сущего»[167]. Критика Хайдеггера направлена в данном случае на то, что у Гуссерля само «возвращение взгляда» не рассматривается и остается непроясненным. Как бы Гуссерль ни детализировал понятие феноменологической редукции, для него редукция – это всегда переориентация всей сферы сознания в целом, это переход к рефлексирующей позиции, исходный пункт для которой (вид предметности) безразличен. Для Хайдеггера редукция имеет один предмет и соответственно одно направление: способ существования человека и отличие его от способа существования любых «наличных» или «сподручных» предметов.
Критика Хайдеггера сосредоточена прежде всего на таких методологических понятиях, как феноменологическая редукция и конституирование. Однако проблема самообоснования феноменологии рассматривается Гуссерлем не только на методологическом уровне и не сводится только к экспликации понятия феноменологической редукции. Содержательно проблема обоснования раскрывается в учении о конституировании через рассмотрение проблемы «природного» и «духовного». Учение о конституировании, которое Гуссерль развил во второй книге «Идей…», представляет собой своеобразную систематизацию областей феноменологического исследования и содержит в себе ядро феноменологической методологии. Это учение есть как бы средний путь между чисто методологическим разъяснением феноменологической позиции (строго говоря, в феноменологии нет «чисто методологического уровня») и конкретными феноменологическими описаниями, как, например, в анализе времени-сознания. Вместо перечисления многообразных видов интенциональности, которое дал Гуссерль в статье «Философия как строгая наука», здесь мы находим иерархию основных уровней конституирования: материальная вещь, тело, душа, дух.
Конституирование материальной вещи включает в себя, во-первых, схватывание так называемой чувственной схемы, т. е. взаимосвязи всех данных в чувственном опыте проявлений вещи. Для того чтобы отличить вещь от фантома, необходимо, по Гуссерлю, конституировать единство самой «чувственной схемы», в котором обнаруживается «реальное свойство… реальной субстанции в соответствующей временной точке»[168]. Быть реальным означает, по Гуссерлю, быть в причинной зависимости от другого реального; таким образом, конституируемая материальная вещь предстает как единство чувственного опыта в определенной каузальности. Конституирование объективности материальной вещи требует конституирования человеческого тела: материальная вещь дана только через ощущения, а человеческое тело есть локализация всех ощущений. Тело является носителем нулевой точки ориентаций, «из которой чистое Я созерцает пространство и весь чувственный мир»[169].
Само тело уже не конституируется как материальная вещь. Тело одушевлено, и конституирование души, отличие чистого Я от реального Я – следующий уровень конституирования. В свою очередь, конституирование реального человеческого Я, в котором Гуссерль выделяет еще уровни души и душевного субъекта, ведет к конституированию духовного мира, центром которого является интенциональный, ноэтико-ноэматический субъект.
Феноменология принимает форму учения об уровнях конституирования, поскольку одной из главных задач, стоящих перед Гуссерлем, является задача разделения «природного» и «духовного» в человеке и, соответственно, в области методологии познания – естествознания и «наук о духе», сущность которых Дильтей, как считает Гуссерль, выразил только на интуитивном уровне.
«Дух, – определяет Гуссерль, – не есть абстрактное Я принимающего определенную направленность акта, но есть полная личность, Я-человек, который сам принимает позицию, который сам мыслит, оценивает, действует, трудится и т. д.»[170]. Дух вбирает в себя и одновременно имеет в качестве своей подпочвы поток переживаний (душевное) и «свою природу» (душевно-телесное). Так же как при конституировании душевного природе противопоставлялась не душа, а единство души и тела (душевный субъект), при конституировании духовного «природе» Гуссерль противопоставляет единство духа, души и тела. Именно тело, по Гуссерлю, есть точка, в которой сходятся природа и дух: «Оно есть обменный пункт духовной каузальности на природную»[171].
Последовательное введение уровней конституирования лишь создает иллюзию постепенного приближения к «личностной позиции», которая необходима для конституирования духовного. На самом деле эта позиция была уже принята при конституировании материальной вещи и промежуточные ступени между природой и духом – тело и душа – так же подчинены разделению феноменологической и естественной установки. «Личностная позиция», о которой говорит Гуссерль, есть феноменологическая рефлектирующая позиция с конкретной методологической программой: отделить духовное от душевно-телесного и телесно-природного.
Духовный мир имеет, по Гуссерлю, онтологическое преимущество перед природным: «Природа есть X и принципиально не что иное, как X, который определяет себя посредством всеобщих определений. Дух, однако, не есть X, но само данное в духовном опыте»[172]. Если природа (материальная вещь) конституируется всегда из явлений, т. е. из того, как она является субъекту, то дух конституируется в самоявленности и, следовательно, самоконституируется. Гуссерль говорит об абсолютности, иррелятивности духа и относительности природы. Абсолютность, в гуссерлевском понимании, и онтологическое преимущество духовного состоят в том, что дух служит источником любого конституирования.
В Венской лекции (1935), касаясь вопросов методологии естествознания и наук о духе, Гуссерль еще более резко подчеркивает неравноправность природного и духовного: «Дух и даже только дух есть в себе самом и для себя самого сущий, дух независим, и в этой независимости и только в ней может быть истолкован истинно рационально, истинно и радикальным образом научно. Что касается природы в ее естественнонаучной истине, то ее независимость только кажущаяся. Так как истинная природа в своем, в естественнонаучном смысле есть продукт исследующего природу духа, она предполагает, следовательно, науку о духе»[173].
Дух возможен только в интерсубъективном опыте, однако интерсубъективный опыт как связанное множество субъектов, отдельных духовных сущностей, отнесенных к вещественному, недуховному, но духовно значимому миру «объектов», конституируется в духе. В интерсубъективном опыте дух, с одной стороны, осознает свою чисто субъективную сферу (смысловую среду), а с другой стороны, наталкивается на невозможность во «вчувствовании» первично осуществить духовный опыт другого. Дух-персона не есть устойчивая совокупность проявлений некоего X, а представляет собой совокупность-поток смыслов, которые создают из мира предметов собственный «окружающий мир» субъекта.
При конституировании духовного уже нельзя, с точки зрения Гуссерля, говорить о каузальных отношениях, складывающихся между субъектом и его окружающим миром, так как окружающий мир – это мир значений, а предметы этого мира суть интенциональные объекты.
Существенное отличие духовного от душевного состоит в том, что к душевному, так же как к природному, применимо, по Гуссерлю, понятие реальности. Поскольку быть реальным означает обладать «единством пребывающих свойств в отношении к соответствующим обстоятельствам», в сфере душевного также действуют каузальные зависимости. «Единство души есть реальное единство, – пишет Гуссерль, – потому что оно как единство душевной жизни связано с телом как единством телесного потока бытия, который, со своей стороны, есть член природы»[174].
Обстоятельства, от которых зависит душевное, Гуссерль понимает в широком смысле: во-первых, это психофизические зависимости, во-вторых, зависимость от более ранних «состояний души», в-третьих, зависимость от интерсубъективного опыта. Душа, или, иначе говоря, психическое, – это сознание, взятое в естественной установке, которое определяется физическим, физиологическим, социальным и другими мирами, но которое не конституирует сами «определения». Основной закон духовного мира, по Гуссерлю, не каузальность, а мотивация, и мир для «духовного субъекта» – уже не физический, социальный и т. п., а тематический мир. При этом роль коммуникации в интерсубъективном опыте состоит именно в том, что субъект черпает свои темы не из созерцания природы, а из социальных, практических отношений, «предданность» которых Гуссерль в «Кризисе…» терминологически оформил как «жизненный мир».
Различие между душевными (реальными) переживаниями и интенциональными (в этом смысле нереальными) Гуссерль иллюстрирует абстрактным примером: если объект существует, то интенциональные отношения протекают «параллельно» реальным, но интенциональные отношения не погибают от недействительности объекта, а превращаются в сознание недействительности.
Особым орудием конституирующего и самоконституирующего духа выступает чистое Я которое обладает так называемым Habitus, т. е. идентифицирующим удержанием принятых субъектом тем (опыта, суждения, дружбы, любви и т. д.). «Чистое Я должно быть способно сопровождать все мои представления. Это кантовское положение имеет верный смысл, если мы под представлениями понимаем здесь все смутное сознание»[175], – пишет Гуссерль. Чистое Я не является самотождественным центром познавательной способности, оно может «выступать и снова отступать»; чистое Я как возможность первичного схватывания самого себя всегда раскрывается, по Гуссерлю, в отдельных актах сознания: «Имеет место столько же чистых Я сколько имеет место реальных Я»[176].
Несмотря на такое соответствие, конституирование чистого Я кардинально отличается от конституирования реального душевного субъекта. Последний конституируется из многообразия переживаний как трансцендентный объект, т. е., в гуссерлевском смысле, объект, отличаемый от конституирующего сознания. Чистое Я не имея «многообразий», конституируется как имманентная, непосредственно схватываемая данность в любом акте сознания.
Чистое Я как первичный способ проникновения духовного в недуховное выполняет функцию приведения к общей основе всех уровней конституирования. Именно чистое Я выдает присутствие духовного, интенционального субъекта в конституировании материальной вещи и тела; с другой стороны, соответствие реального и чистого Я говорит о том, что в душевном всегда потенциально содержится духовный субъект. Общей структурой душевного и духовного субъекта является время-сознание, в абсолютном потоке которого формируются как неотрефлектированные, так и попадающие в фокус рефлексии переживания. Обозначения уровней конституирования суть термины описания. Это означает, что «материальная вещь», «тело», «душа» и «дух» являются у Гуссерля как предметами, так и средствами описания. Говоря точнее, это суть описания работы сознания с определенными типами предметности в самом широком смысле, контуры которых уже предварительно очерчены обыденным, научным и философским мировоззрением. То, что эти различия не проводятся, составляет, в частности, недостаток гуссерлевской систематизации конституирования.
Предмет описания на уровне «духа» также предварительно сформирован философской традицией; это понятие о человеческой личности. «Дух», соответственно, есть средство описания образа человеческой личности, сформированного в феноменологии. С точки зрения феноменологического идеализма, источник нравственности и свободы – в интенциональной открытости сознания, в направленности сознания на горизонты культуры, в способности человека иметь внутреннюю историю и воссоздавать ее как историю рефлексивного опыта. «Феноменология, – замечает Поль Рикёр, – есть больше философия «смысла», чем философия «свободы»[177]. Однако дело именно в том, что у Гуссерля эти понятия взаимно необходимы. Их различие есть выражение различия ориентации конкретных гуссерлевских исследований. При этом бесспорно, что «тенденция смысла» у Гуссерля в целом преобладает. В данном случае описание «духа» как «полной человеческой личности» отличается от описания специфики конституирования духовного бытия, где «чистое Я» и «дух» представляют собой средства описания феноменологически рефлектирующего сознания и феноменологической методологии исследования. Вне этого контекста было бы некорректным проводить различие или искать сходство между «духом» и «чистым Я». «…Дух есть не что иное, как ego феноменологии, но вне света феноменологической редукции»[178], – пишет П. Рикёр. Однако описание «духа» есть, по существу, описание сознания, уже совершившего феноменологическую редукцию, при этом «чистое Я» есть тот же самый «дух», только в своей, так сказать, «методологической ипостаси»[179]. «Чистое Я» и «дух» суть не особого рода предметы, но особого рода средства описания методологии конституирования как методологии «тотального прояснения». Если отвлечься от проблемы перехода на феноменологическую позицию, внутри феноменологической сферы рефлексия не допускает ничего «непонятного». Недействительность объекта превращается в сознание недействительности, непонятность проблемы – в сознание непонятности. Сознание как смыслополагание нигде не находит препятствий, поскольку везде оно находит само себя. Последнее, однако, может быть интерпретировано различным образом, что весьма существенно для понимания феноменологии в ее методологическом измерении. Если допустить, что любой уровень и вид конституирования есть результат феноменологической рефлексии и, как следствие, что феноменологический метод может иметь дело только с описанием феноменологически редуцированного сознания, то феноменология выглядит как замкнутая сфера исследований, направленных на разрешение только своих собственных проблем. Такова, по нашему мнению, основная предпосылка хайдеггеровских критических замечаний в адрес феноменологии Гуссерля. В дальнейшем мы покажем, что учение о конституировании может иметь более широкий методологический смысл.
В упомянутом выше письме к Гуссерлю Хайдеггер пишет: «Первое в экспликации трансцендентальной проблемы есть прояснение того, что означает “непонятность” сущего. В каком отношении сущее непонятно? То есть какое более высокое притязание понимания возможно и необходимо? В возврате к чему достижимо это понимание?»[180]
Речь идет, конечно, не о том, почему тот или иной предмет нам непонятен и как мы можем сделать его понятным. Согласно Хайдеггеру между человеком и миром нет изначального субъектнообъектного отношения. Понимание сущего всегда уже зависит от первичного понимания мира, т. е. от первичного проекта Dasein, живущего-в-мире. Сущее становится «непонятным», когда мир предстает как «внешний» или «реальный», т. е. в хайдеггеровском смысле – как совокупность наличных предметов.
Пониманию мира как совокупности сущего соответствует выделение настоящего в качестве главного модуса времени. Сущее в этом случае может быть понятным только из отношения к другому сущему, существующему наряду с ним, но оно принципиально «непонятно» из первичного проекта понимания (Dasein), которому нет места в «реальном» мире. Более высокое притязание понимания заключается в том, чтобы само это «непонимание» прояснить из определенного способа существования Dasein, из того, «почему Dasein как бытие-в-мире имеет тенденцию сначала «гносеологически» похоронить «внешний мир» в ничтожности, чтобы затем позволить ему воскреснуть лишь посредством доказательства»[181].
Для Хайдеггера понимание не есть чисто гносеологическая структура, удовлетворяющая проблемные запросы сознания. Понимание – первичный проект Dasein; оно коренится в способе бытия Dasein, но не является привилегией духовной субстанции. Если Гуссерль считает, что Dasein – это перенос Ego в антропологию, то Хайдеггер принимает противоположную позицию: чистое Я – это неправомерная абстракция от Dasein, живущего-в-мире. Феномен Dasein выделен прежде всего тем, что, не являясь продуктом конституирования и рефлексии, Dasein как экзистирующее сущее делает самого себя, выходит за пределы вещественного и наличного в себе и этим само выделяет себя из любого другого сущего. В экзистенции человек раскрывает в себе самого себя, и это, по Хайдеггеру, создает возможность индивидуации Dasein. Такое выделение делает феномен Dasein фундаментальным, а попытка определить способ существования Dasein принимает название фундаментальной онтологии, первичным принципом которой является «онтологическая дифференция» – различие между бытием и сущим, способность осуществления которого есть возможность, выделяющая Dasein: «Только у души, которая может совершить это различие, есть способность сверх души животного стать душой человека»[182]. Таким образом, более высокое притязание понимания достижимо в возврате к бытию и различию бытия и сущего.
Эксплицитная постановка вопроса о бытии – отличительная черта хайдеггеровской феноменологии по сравнению с гуссерлевской. Преодолевает ли, однако, эта постановка вопроса «беспочвенность гуссерлевской трансцендентальной субъективности»? В этом случае гуссерлевская феноменология действительно оказалась бы частным случаем хайдеггеровской. Не обосновывает ли, однако, хайдеггеровский онтически-онтологический круг, посредством которого он ставит вопрос о бытии, нечто другое, чем гуссерлевское трансцендентальное сознание? Критерием в решении этого вопроса является понимание рефлексии, ибо обосновать трансцендентальное сознание означает, по существу, обосновать феноменологическую рефлексию в гуссерлевском понимании.
Так же как трансценденцию, Хайдеггер понимает рефлексию в соответствии с буквальным значением слова: «Рефлексия в смысле поворота назад есть только модус схватывания самого себя, но не способ первичного самораскрытия… Dasein не нуждается в качестве первого шага в повороте назад к самому себе, как будто бы оно стояло перед вещами сначала неподвижно повернутое к ним, удерживая себя самое позади собственной спины, но нигде иначе как в самих вещах, и притом в тех, которые окружают Dasein повседневно, находит оно самое себя»[183].
«Повседневность» не носит у Хайдеггера оценочно-отрицательных характеристик. Dasein как бытие-в-мире изначально находит себя в повседневности, в вещах, в несобственном. Погружение в несобственное не есть психологическая характеристика индивида; по Хайдеггеру, несобственное не тождественно неподлинному, если подлинное понимать как ощущение полновесного существования в результате действий, адекватных обстоятельствам. «Это не-собственное (un-eigentliche) самопонимание Dasein совершенно не означает неподлинное (unechte) самопонимание, – пишет Хайдеггер. – Напротив, это повседневное обретение себя внутри фактично экзистирующего страстного погружения в вещи может быть, пожалуй, весьма подлинным, в то время как все экстравагантные копания в душе могут быть в высшей степени неподлинными или даже экзальтированно-патологичными»[184]. Возможность несобственного быть подлинным соответствует возможности принятия «гносеологического» мировоззрения, т. е. упрочения себя в вещах и самоидентификации через вещи.
Гносеологическая позиция не есть, согласно Хайдеггеру, позиция только в рамках «чисто теоретической» теории познания. Субъект как исходная достоверность в целях познания отождествляет сущее и объект познания, или, иначе говоря, превращает сущее в объект. Гносеологическая позиция является, таким образом, основой определенной мировоззренческой установки, воплощающейся в способе деятельности человека, согласно которой мир есть бесконечная совокупность объектов. Бытие при этом становится излишним. Субъект как субстанция бесконечного числа актов познания и рефлексии исходит из универсальных и неизменных принципов и нацелен на бесконечную «обработку» сущего. В мире как совокупности объектов целостность способа существования человека «моделируется» по образу системности познаваемых или практически обрабатываемых им объектов.
Поворот к собственному – это не приобретение подлинности за счет рефлексии, но решимость преодолеть саму рефлексию, которая не ведет к «первичному раскрытию самости» именно потому, что она есть преломление самости в вещах и возвращение к себе из несобственного. Ничего не меняет здесь и философская рефлексия, поскольку она имеет дело с восприятиями и другими модусами сознания, которые являются результатом интендирования того или иного вида сущего.
Различие несобственного и неподлинного выражает усилия Хайдеггера уйти от психологизма в описании феномена Dasein. Подлинное и неподлинное как психологические характеристики суть колебания Dasein в несобственном, однако их противоположность не затрагивает собственное. Различие между собственным и несобственным – конкретизация онтологического различия между бытием и сущим. В основе поворота к собственному, к бытию лежит не психологическая перестройка «внутреннего мира», но переориентация бытия в мире. «Собственное, – пишет Хайдеггер, – есть только модификация несобственного, а не тотальное вычеркивание несобственного»[185]. Не «копания в душе» и не «шпионаж в отношении Я», но трансценденция есть, по Хайдеггеру, условие возможности этого поворота.
Если у Гуссерля рефлексия и интенциональность «когерентны» и феноменология понимается как бесконечная задача рефлексивного описания спонтанно функционирующей интенциональности, то у Хайдеггера отношение между рефлексией и трансценденцией существенно другое. Рефлексия – основа трансценденции, но трансценденция есть преодоление рефлексии, «прохождение сквозь» есть преодоление возвращающего отражения «непроницаемого» сущего – сущего, лишенного бытия.
Несоизмеримость рефлексии и трансценденции говорит о том, что гуссерлевская трансцендентальная субъективность не только не получает онтологического обоснования, но и вообще исключается из рассмотрения. В онтологии Хайдеггера не находится места для системы гуссерлевского интенционального анализа, которую Альбер Камю весьма удачно назвал «абстрактным политеизмом»[186]. Каждая сущность (эйдос), каждая эйдетическая вариация, каждая корреляция ноэсиса и ноэмы, каждый вид интенциональности имеет свои неповторимые временные формы, обладает своим собственным абсолютом, представляет предмет именно так, как он является «здесь и теперь».
Хайдеггеровскую онтологию по аналогии можно было бы назвать «конкретным монотеизмом». Временные структуры бытия однозначно определены как структуры заботы, основной проблемой Dasein становится отношение собственного и несобственного, при этом исчезает система конститутивных уровней и единственным абсолютом оказывается совесть, которая «взывает к самости Dasein». Таким образом, Хайдеггер скорее теряет богатство гуссерлевского интенционального анализа и тем самым богатство мира феноменов, конституируемого трансцендентальной субъективностью, чем онтологически ее обосновывает.
Очевидно, что принцип трансценденции («прохождение сквозь») весьма далек от феноменологического принципа «Назад, к самим предметам». Очевидно также, что в «Бытии и времени», несмотря на провозглашаемую автором феноменологическую методологию, феноменологическую тенденцию оттесняет критическая и экзистенциалистская. Насколько совместима вообще экзистенциалистская проблематика с феноменологией? Может быть, прав Л. Шестов, полагавший, что Киркегор (в данном случае Хайдеггер периода «Бытия и времени») и Гуссерль, удаляясь от «средних слоев бытия», шли прямо противоположными путями и что принцип «или – или» выражает отношение между их философскими мировоззрениями[187]?
История своего собственного мышления – существенная черта позднего творчества Хайдеггера. Особенно важное место здесь занимает отношение к феноменологии Гуссерля и к феноменологии вообще. Философский поворот Гуссерля Хайдеггер относит к значительно более раннему периоду, чем большинство исследователей, которые связывают его с понятием жизненного мира в «Кризисе европейских наук».
Вспоминая о философской атмосфере периода написания «Бытия и времени», в которой царило неокантианство, Хайдеггер говорит о трудностях в постановке вопроса о бытии. «Онтология была запрещенным термином. Сам Гуссерль, который в “Логических исследованиях”, прежде всего в VI, близко подошел к собственному вопросу бытия, не смог выстоять в тогдашней философской атмосфере, он попал под влияние Наторпа и осуществил поворот к трансцендентальной феноменологии, которая достигла своей первой высшей точки в “Идеях”. При этом был оставлен на произвол судьбы принцип феноменологии»[188]. Хайдеггер имеет в виду, что принцип-требование «к самим предметам» в «Идеях» получает гносеологическую формулировку, подчеркивающую преимущество метода (но не вещей и проблем). «Каждое первично данное созерцание есть правомерный источник познания»[189].
Поздний Хайдеггер берет на себя, таким образом, роль критика, выявляя отступления Гуссерля от первичных принципов феноменологии. Эта критика, однако, ведется уже не с позиции вовлеченности в экзистенциальную проблематику, но с позиции «истинной феноменологии», на роль единственного хранителя которой претендует Хайдеггер. Если время феноменологической философии как философского направления уже прошло, считает Хайдеггер, то феноменология остается постоянной возможностью мышления, и «тогда она может исчезнуть как название в пользу «предмета мышления», чья выявляемость остается тайной»[190].
Альтернатива, которая предстала перед Хайдеггером после «Бытия и времени», и особенно в позднем творчестве, парадоксальна, с традиционной точки зрения, – онтология или бытие. Онтология нащупывает дорогу к бытию, но упускает бытие; онтология имеет дело с сущим и понимает бытие через сущее, которое накладывает на бытие свой отпечаток. «Попытка мыслить бытие без сущего становится необходимой, – пишет Хайдеггер, – так как иначе, как мне кажется, не существует более возможности намеренно привести к единому взгляду бытие того, что есть сегодня на земном шаре, не говоря уже о том, чтобы достаточным образом определить отношение человека к тому, что называлось доныне бытием»[191]. Согласно Хайдеггеру мотивацией такой попытки не является «необходимость понимать современность», т. е. совокупность социально-экономических, политических и других проблем. Но не оценка ли современности как «полночи скудной эпохи мировой ночи», которая утратила онтологическую дифференцию и отчеканивает бытие в различных образах сущего, побуждает Хайдеггера отказаться от поисков сущего, через которое видится бытие? Мышлению в эту эпоху остается лишь возможность поворота к свершающемуся (Ereignis), которое дарует бытие, приводит в собственное (ins Eigene bringt). Это не означает, что отношение бытия и сущего становится несущественным, но означает попытку избавиться от обоснования бытия в сущем.
Понимание феноменологии и феномена также при этом претерпевает изменение, и одновременно с этим изменяет свою направленность критическая тенденция философии Хайдеггера. Феномен – это уже не бытие сущего (Dasein), но свершающееся и дарующее бытие есть как раз феномен в первоначальном смысле – само-себя-в-себе-показывающее. Свершающееся не есть бытие сущего, оно вообще не есть: «Свершающееся свершается (Das Ereignis ereignet)»[192]. Мышление свершающегося соприкасается и переходит в поэтическое – единственную альтернативу господству гносеологической позиции, «неудержимому безумству рационализирования и кибернетики».
Поздний Хайдеггер отличает сущее и бытие как «есть» и «имеет место». «Бытие – нечто предметное (eine Sache), но ничто сущее. Время – нечто предметное, но ничто временное. О сущем мы говорим: оно есть… Мы не говорим: бытие есть, время есть, но: бытие имеет место (Es gibt) и время имеет место»[193]. «Бытие не есть. Бытие имеется (gibt Es) как выявленность присутствия (Entbergen von Anwesen)»[194].
Иначе говоря, бытие – это не сущее, но обнаруженность того, что «сущее есть». Бытие – это не то, как обнаруживается сущее, это «как» есть модус самого сущего. Бытие не диктует сущему обнаружиться так-то и так-то; бытие «позволяет» сущему обнаружить в себе то, что оно есть. Лишенное бытия сущее всегда определялось бы другим сущим и не могло бы показать себя в себе самом. Таким образом, бытие в хайдеггеровском понимании – основа феноменологичности сущего, его самоявленности. В мировоззрении позднего Хайдеггера наметился своеобразный круг-возврат к интуициям раннего Гуссерля. Бытие позднего Хайдеггера обнаруживает удивительную близость гуссерлевскому абсолютному квазивременному потоку сознания. Поток сознания как абсолютная субъективность не существует в предметном смысле, поток сознания «имеет место», это «место происшествия» любой конфигурации смысла. Абсолютная субъективность не определяет и не конструирует предмет, но позволяет предмету проявить себя именно так, как он проявляет себя «здесь и теперь». Абсолютная субъективность как темпорально конститутивный поток сознания есть единство бытия и времени, но не есть нечто предметно или темпорально существующее.
Понятие абсолютной субъективности является у Гуссерля основой феноменологической методологии – выявить определенное понимание сознания, которое имплицитно содержится в каждом виде и уровне конституирования, в каждом виде или типе смыслообразования. В то же время в учении о конституировании феноменология предстает как онтология, ибо феноменологическая рефлексия, согласно замыслу Гуссерля, должна выявить здесь не столько способ данности предмета, сколько способ бытия предмета, схваченного в интенциях определенного вида. Тем не менее у Гуссерля постоянно сохраняется «гносеологическая напряженность», необходимая философскому исследованию, в отличие от позднего Хайдеггера, которому свойствен, так сказать, «буддизм бытия»[195]. Если Хайдеггер в позднем творчестве пытается указать на возможность мышления, которое лежало бы за пределами метафизики и философии, что Гуссерль на протяжении всей своей «творческой эволюции» сохраняет идеал философии как строгой науки.
Выделенные Гуссерлем уровни конституирования есть не что иное, как рефлексивно-онтологическая иерархия, высший уровень и высший принцип («подвижный фундамент») которой – самоявленность духовного бытия. В основе каждого уровня конституирования лежит определенная деятельность сознания, благодаря которой предмет получает определенный онтологический статус. Конституирование не скроено по меркам познания (субъектно-объектных отношений), ибо речь идет не о свойствах определенного предмета, но о том, какой статус существования может быть приписан предмету.
Само собой разумеется, что описание определенного уровня конституирования и выделение этих уровней возможны только благодаря рефлексии. Однако деятельность сознания, которая лежит в основе каждого уровня, не возникает в результате рефлексии: за каждой рефлексивно описанной процедурой конституирования стоит определенный тип сознания; конституирование не является ни всецело рефлексивной, ни всецело спонтанной деятельностью сознания. Феноменологическая методология строится именно на том предположении, что выделенным слоям бытия всегда соответствует определенное понимание сознания, которое необходимо эксплицировать.
На уровне конституирования материальной вещи речь идет не только о том, как нечто дано сознанию, если это нечто – материальная вещь, но и о том, каково сознание, которое интендирует материальную вещь. Иными словами, речь идет не только о том, как сознание конституирует материальную вещь, но и о том, как сознание при этом конституирует само себя.
Конституированию материальной вещи в указанном выше смысле соответствует понимание сознания как отражения посредством чувственного опыта причинных зависимостей реальных субстанций. Интересы сознания направлены вовне: речь идет только о конституировании каузальности предметов, в которых нет ни грана сознания. Здесь еще раз следует подчеркнуть, что конституирование есть не познание – в данном случае материальных вещей, но дотеоретическая процедура придания статуса материальной вещи предметам, схватываемым посредством «чувственной схемы», и т. д. Время при этом понимается как время мира вещей (космологическое время), а рефлексия вообще не находит себе места внутри этого конституирования.
Решить проблему объективности предмета, и в частности отличить его от фантома, можно, согласно Гуссерлю, только посредством введения в конституирование человеческого тела как локализации всех ощущений. Но при этом вводится новое понимание сознания как регулятора сложной системы кинестезисов, благодаря которой структурируется пространство и время взаимодействия человеческих существ. Время (и пространство) здесь также предстает как время мира вещей, однако ему приписываются функции ориентации человека в мире. Проблема сознания принимает вид психофизической, или психофизиологической, проблемы, а рефлексия становится изучением определенных форм взаимного влияния психических и физиологических процессов.
Так же как конституирование материальной вещи зависит от конституирования человеческого тела, так и последнее зависит от более высокого уровня конституирования – психики, или души. Сознание здесь рассматривается как совокупность определенных состояний сознания. Несмотря на то что эти состояния сознания имеют в качестве своей основы определенные физиологические процессы и функционально связаны с системой кинестезисов, благодаря чему возможно конституировать «по аналогии» тело другого как одушевленное, они подчиняются особой каузальности. Время здесь также рассматривается как объективное время, как «мера движения» психических процессов, а рефлексия – как интроспективное наблюдение за состояниями сознания и их причинными взаимозависимостями. Проблема сознания на этом уровне конституирования есть проблема «сущности сознания», проблема определения специфики внутренней каузальности психических процессов и описания различных форм их сцепления.
Важнейшим различием, которое вводит феноменология, является различие между душевным и духовным. На уровне конституирования духа понимание сознания кардинально отличается от всех тех, которые соответствовали конституированию материальной вещи, тела и души.
Существенное сходство описанных способов самоконституирования сознания состоит, во-первых, в том, что сознание всегда зависит от чего-то другого. Это относится и к конституированию душевного, где состояние сознания зависит от другого состояния. Во-вторых, никакое понимание сознания не является самодостаточным и самореферентным, оно всегда отсылает к пониманию сознания более высокого уровня конституирования. Во всяком случае, о самоконституировании и о понимании сознанием самого себя можно говорить здесь лишь условно.
Различие между душевным и духовным тождественно в определенном смысле феноменологической редукции. Понимание сознания, которое соответствует духовному бытию – самоявленный и самореферентный поток сознания, обладающий внутренней мотивацией самоописания.
На трех низших уровнях конституирования сознание не замыкает круг «сознание-время-рефлексия», ибо время не есть время сознания, а рефлексия есть ретроспективная процедура изучения влияния на сознание внешнего мира, физиологических процессов или причинных связей состояний сознания. При конституировании духа круг «сознание-время-рефлексия» лежит в основе соответствующего понимания сознания. Время здесь уже не есть время внешнего мира, но временность самого потока сознания. Это не означает, что время есть нечто внутреннее; время как первичная структура интенциональности и посредник между сознанием и рефлексией есть условие возможности любого смыслообразования. Проблема сознания на уровне духовного бытия тождественна проблеме рефлексии. Проблема сознания уже не может быть теоретической проблемой, ибо сознание не «объясняется» при помощи чего-то другого или какой-либо заранее заданной схемы. Напротив, конституирующий и самоконституирующий поток сознания является источником любого объяснения и любой схемы. Проблема сознания принимает, таким образом, императивный характер. Сознание на уровне духа есть требование рефлексии, требование ясности и очевидности, требование выявить за любым видом конституирования, за любой позицией обыденного, научного, эстетического, религиозного и т. п. опыта определенное понимание сознания. Отличительная черта феноменологии состоит именно в том, что никакой вид опыта, традиционно относимый к духовному, не принимается в качестве исходного пункта феноменологической позиции. Феноменологическая позиция предусматривает конституирование любых форм традиционного духовного опыта, выявление определенного типа сознания, стоящего за каждой из этих форм.
Духовное обладает внутренней мотивацией самоописания и не существует вне этой мотивации. С феноменологической точки зрения, поток сознания не есть нечто аналогичное течению реки, которое имеет место вне всяких усилий сознания. Как и всякая форма духовного опыта, существование потока сознания должно поддерживаться определенными усилиями сознания, которые представляют собой не что иное, как описание потока в определенном «жанре». В этом смысле при конституировании духовного сознание совпадает с описанием сознания.
Гуссерль вовсе не стремится выделить духовное бытие, которое стояло бы вне душевного и душевно-телесного. Тем не менее феноменологически понятое духовное бытие-сознание лежит в основе онтологической иерархии конституирования. «Лежит в основе» означает здесь нацеленность феноменологической позиции на то, чтобы все уровни конституирования – природа, человеческое тело и особенно душевная жизнь – были как бы вовлечены в сферу феноменологически духовного. Иными словами, феноменологическая позиция нацелена на реконструирование этих уровней посредством рефлексии. Реконструирование требует в свою очередь критики определенных типов конституирующего сознания, а для этого необходимо их эксплицировать. Феноменологическая рефлексия предстает, таким образом, как реконструкция и критика. Если внутри низших уровней конституирования круг «сознание-время-рефлексия» разомкнут, то феноменологическая рефлексия замыкает круг каждого конституирования, показывая, что определенному пониманию сознания соответствует определенное понимание времени и определенный способ рефлексии.
Методология выявления имплицитного сознания есть обратная сторона принципа интенциональности, если под интенциональностью понимать не привилегию феноменологически редуцированного чистого сознания, но феноменологический принцип исследования любого вида сознания; конституированная предметность, принятая позиция или поставленная проблема содержит в себе «следы» интендирующего их сознания.
Принцип реконструкции различных типов сознания, несомненно, имеет определенную методологическую ценность для культурологических исследований, хотя этот принцип, как и феноменологический метод в целом, не есть универсальный метод исследования культуры. Принцип реконструкции сознания – и соответственно понимание времени и рефлексии – имеет методологическую значимость и для самой феноменологии. Благодаря этому принципу феноменология сохраняет статус исследования, в то время как хайдеггеровский метод деструкции онтологии направлен на то, чтобы осуществить поворот от философии как исследования к философии как мышлению бытия, в котором исчезает различие между философией и художественным творчеством и намечается тенденция к мистицизму. Противоречие философии как исследования и философии, тяготеющей к мистицизму, несводимость их друг к другу есть одно из существенных противоречий в эволюции западноевропейской философии, которое нашло свое выражение в противоречивости и взаимной несводимости учений основных представителей феноменологической философии.
Различные тенденции в философии Хайдеггера делают ее то весьма близкой, то весьма далекой от феноменологии Гуссерля. Во многом различие философских учений Гуссерля и Хайдеггера обусловлено влиянием Больцано и Ницше – антиподов в буржуазной философии XIX века. У Гуссерля на всем протяжении его творчества сохраняется идеал «вечных ценностей» (истин в себе) европейской культуры, кризис которой призвана преодолеть феноменология как «строгая наука». Для Хайдеггера одним из основных стимулов философского мышления явилась «переоценка всех ценностей» и поворот к «досократическому бытию». Внутренняя борьба с нигилизмом, которая пронизывает философию Хайдеггера, выражает, с одной стороны, глубокое неприятие современного буржуазного общества и буржуазной культуры в целом, а с другой – отказ от всяких попыток позитивного рассмотрения актуальных проблем современности и поворот к утопическому мышлению бытия.
Заключение
Феноменологическое учение о сознании сформировалось в полемике с психологизмом и экспериментальной психологией, претендовавшими на монополию в сфере исследований сознания. В то же время феноменология весьма решительно отстраняется от интроспекционизма: методы самонаблюдения явно или неявно предполагают, что различные аспекты внутреннего опыта могут быть описаны как определенные обьекты наблюдения. Изучение сознания понимается в феноменологии как изучение многообразия интенциональных отношений: объектом феноменологической рефлексии становятся способы формирования значений и значения, возникающие в результате направленности сознания на предметы. Таким образом, с феноменологической точки зрения, метод изучения сознания должен быть основан на свойствах самого сознания; в интенциональном формировании горизонта значений уже коренится возможность его описания.
Дело, однако, не только в том, что феноменология отказывается от объяснения деятельности сознания через предметы и процессы, которые сознанием не являются. Такой отказ есть существенная черта идеалистической философии в целом.
Специфика феноменологии состоит в том, что «конечные элементы» сознания истолковываются как смыслообразующие факторы, факторы, выражающие первичное предназначение сознания – воспринимать, представлять, понятийно мыслить и т. п. различного рода предметности. В традиционных формах субъективного идеализма (Беркли, Мах) сознание предстает как совокупность ощущений, к которым, в конечном итоге, сводится предметное содержание объективного мира. При этом сами ощущения уже не являются сознанием в собственном смысле слова, ибо сами ощущения не конституируют смысл ощущений и не могут быть основой единства сознания. В традиционных формах объективного идеализма (Гегель) сущность сознания выражается в спекулятивной конструкции, в сцеплениях абстрактных форм мышления. Однако сами логизированные структуры мышления не обладают конститутивным смыслообразующим характером. В них уже воплощено определенное смысловое содержание, которое лишь в превращенной форме отражает («угадывает») действительное содержание действительного мира.
В феноменологической философии была предпринята попытка снять альтернативу между «расчленением» сознания на совокупность ощущений и «подключением» сознания к системе абстрагированных от его деятельности понятий. «Первичные элементы сознания», будь это ощущения, «протокольные предложения» и т. п., так же как системы понятий, оторванных от опоры в чувственном созерцании, становятся, как правило, объектами конструирования, первичным материалом многочисленных концепций, но не могут быть непосредственным объектом феноменологической рефлексии. В противоположность этому феноменология обнаруживает тенденцию воздержания от построения любого рода концепций сознания, в которых отсутствует рефлексивная работа с «самим сознанием». Императивный характер феноменологии выражает прежде всего попытку пробиться через концепции сознания к самому сознанию и превратить философское исследование из абстрактного манипулирования понятиями в изучение различных видов деятельности сознания в контексте многообразных культурно-исторических форм.
Различие между концепциями, объясняющими сознание, и методом, непосредственно «работающим» с сознанием, так же велико, как различие между представлением о каком-либо роде деятельности и самой деятельностью, представлениями о любви, достоинстве, моральном долге и переживанием любви, чувством собственного достоинства, выполнением долга.
Гуссерлевский лозунг «Назад, к самим предметам!» означает стремление пройти сквозь наслоение уже сформированных концепций к первичным способам конституирования того или иного рода предметности, к самой интенциональной жизни сознания. Для Хайдеггера это требование означает отказ от понятий бытия, от концепций бытия и поворот к поиску самого бытия, попытку обрисовать в философском учении с помощью особых языковых средств контуры бытия, неразложимого на элементы и несводимого к мышлению.
Фундаментальным средством выражения гуссерлевской рефлексии и хайдеггеровской трансценденции является время – темпоральная структура самого сознания и самого бытия. В феноменологической философии время принимается в качестве единственного средства описания конечных элементов сознания – интенциональных актов, которое не разрушает их смыслообразующей основы, поскольку сами интенциональные акты представляют собой временную структуру Аналогично у Хайдеггера: время есть средство описания «заботы», которая изначально обладает временной структурой.
Не только ответить, но и поставить вопрос о времени трудно именно потому, что в этом вопросе одновременно содержится вопрос о самом привычном, но все же самом неизвестном – вопрос о сознании. Эти трудности аналогичны трудностям кантовской дедукции категорий: эксплицировать то, что является конститутивным элементом любой экспликации, осмыслить то, что является элементом любого осмысления, указать на то, что является элементом любого указания, – эта задача может быть решена только посредством дескриптивного различения сформированного значения (содержания) и конститутивных элементов сознания. Время, таким образом, является как предметом описания, ибо конститутивные элементы сознания суть темпоральные многообразия, так и средством описания, ибо темпоральные многообразия – всегда последние отсылки в любом описании.
В феноменологическом учении о времени-сознании уже не противопоставляются, но объединяются постановка проблемы времени у Августина и постановка проблемы времени у Канта. В рамках феноменологического метода вопрос о формах осознания времени неотделим от вопроса об использовании различных изначально данных временных форм для описания первичных модусов сознания (Гуссерль) или структуры трансценденции (Хайдеггер). В учении о времени наиболее отчетливо проявляется общая предпосылка феноменологической методологии – совпадение переживания и объекта исследования. Если у Гуссерля основа данного совпадения – «чистое сознание», то Хайдеггер полагает в качестве такой основы специфику человеческого существования. Именно в отношении бытия человека временность равна переживанию времени, бытие равно пониманию бытия, смысл бытия – осуществлению этого бытия.
Трансформация, которую претерпел феноменологический метод у Хайдеггера, не разрешила всех трудностей феноменологии. Подход к проблеме человека и анализу сознания, развиваемый в марксистской философии, достаточно ясно показал, что феноменологическое описание различных модусов сознания не может заменить реального исследования общественных отношений, на основе которых формируются как обыденные, так и философские воззрения людей, в том числе понимание повседневности, времени и бытия.
Полагая понятия феномена, сознания и времени в качестве основных, феноменология не приобретает универсальных средств для изучения объективной основы духовного производства и для исследования реальных связей индивидов во всем многообразии общественных отношений. Феноменология, поскольку она обращается к проблеме истории, становится своего рода «игрой в бисер», которая создает модели «контекстуально» работающего сознания на основе созерцательного отношения к реальным процессам познания и практики.
РАЗЛИЧЕНИЕ И ОПЫТ: ФЕНОМЕНОЛОГИЯ НЕАГРЕССИВНОГО СОЗНАНИЯ
Способности нашего ума, называемые аналитическими, весьма мало доступны анализу.
Э. ПоСуществует мышление более строгое, чем понятийное.
М. ХайдеггерНадо молить, чтобы ум был здравым в теле здоровом.
ЮвеналПредисловие
В романе Колина Уилсона Паразиты сознания (1967)[196] группа специально отобранных людей, прошедших ускоренную подготовку по феноменологии Гуссерля, вылетает в открытый космос, чтобы, преодолев земное и лунное притяжение, осуществить тем самым радикальную феноменологическую редукцию. Только так можно избавиться от страшной болезни сознания, поразившей человечество.
Как радикальный мыслитель, Уилсон предлагает излечить страшную болезнь сознания радикальными средствами. Если принять эту метафору болезни – а почему бы ее и не принять, ведь мы говорим о социальных болезнях (разумеется, речь идет не о душевных заболеваниях или неврозах), – то все же следует признать, что болезнь сознания не одна, болезней у сознания много, наверно, столько же, сколько болезней тела и болезней общества. Видимо, справедливо и обратное: болезней тела и общества столько, сколько болезней сознания. Правда, их сопряженность работает на увеличение, но не на уменьшение их числа, и терапия сознания вряд ли возможна за счет излечения других болезней. Вопрос о возможности терапии противоположного направления остается открытым.
Представленная серия исследований не предлагает, но и не предполагает какой-либо подготовки по феноменологии, а тем более – ускоренной. Читатель не найдет здесь и рецептов спасения человечества, будь то земных или космических. Однако «критика эпохи» здесь все же присутствует – не в качестве обличения или разоблачения, но как критика опыта. Болезни сознания – это деформации опыта, упрочивающие себя в качестве нормы. Одна из основных таких болезней, если не основная болезнь нашего времени, – это болезнь-к-синтезу, болезнь-к-функции, устремленность к функциональному единению. Эта болезнь требует дескриптивного лечения – разыскания и описания первичного опыта, вытесняемого его же результатами и деформациями.
Основная тема представленных в книге исследований – сознание как иерархия различений. В моем первом исследовании на эту тему (1992, см. I раздел) была предпринята попытка выявить первичное, парадигматическое сознание, сознание в его эмпирикодескриптивной, но не понятийной определенности. Вопрос о сущности сознания был поставлен как вопрос о сущности опыта, о первичном опыте, который выступает как условие возможности любого другого опыта, с необходимостью реализуется в любом другом опыте и непосредственно доступен каждому – как простейший, но, тем не менее, редко тематизируемый опыт – опыт различений. На основе разграничения различных типов различений (различение различений) был осуществлен ряд классификаций, структурирующих этот опыт.
«Парадигма сознания» и «первичное парадигматическое сознание» – термины методологического или историко-философского исследования. Термины – это вообще неудача дескрипции, правда, неудача неизбежная, ибо совершенная дескрипция была бы бесконечной. В плане метода «поиски первичного опыта сознания» лучше понимать как вопрос: насколько правомерен вопрос о сущности сознания?
Отправной точкой первого, а также большинства последующих исследований являются феноменологические учения Гуссерля, Хайдеггера и Брентано, ибо именно в этих учениях сознание, мир и бытие предстают не как понятийные конструкции, но как фундаментальные виды опыта. При этом речь идет не об имманентном исследовании феноменологической философии, но скорее об описании явных, хотя и «оперативных», и о выявлении неявных ее предпосылок. Критический анализ феноменологии Гуссерля сосредоточен на отделении аналитической составляющей от интерпретативной в гуссерлевских работах, в основном во II томе Логических исследований[197].
Если «сознание как опыт различений» – это тема переднего плана, то «неагрессивное сознание» – это тема-фон. Она присутствует во всех представленных в книге исследованиях, однако под другими именами: в плане сознания неагрессивное и потенциально агрессивное различаются как различение и синтез, различение и тождество, опыт и субъективизм, монолог и коммуникация, аналитическое и интерпретативное. И хотя термины «неагрессивное» и «агрессивное» употребляются в основном во введении и заключительном разделе, где предпринята попытка дескриптивно представить конституирование агрессивности, термин «неагрессивное сознание» все же вынесен в название книги, ибо этот термин адекватно представляет «мировоззренческий» коррелят основной темы. Различие неагрессивного и агрессивного не только «обобщает» перечисленные выше различия, но и указывает на основную методологическую предпосылку данных исследований: сознание рассматривается не как предмет познания, который можно постигнуть в его существенных чертах и в бесконечном приближении к истине. Разумеется, сознание не рассматривается и как нечто непостижимое. Сознание рассматривается как сочетание и столкновение различных видов опыта, как столкновение опыта и того, что выходит за его пределы, опыта и его деформаций. Сознание как опыт претерпевает агрессию со стороны конструкций, понятий, фантазий, воспоминаний, прожектов и т. д. и т. п., вытесняющих опыт, деформирующих опыт и заменяющих его. Учения о сознании, различные концепции сознания в той или иной степени отражают это давление и вытеснение. Деформацию опыта принимают за норму, результаты опыта – за его источник, сам опыт – за продукт понятий. В определенном смысле нет всецело ложных концепций сознания, ибо деформация опыта или его замена, представленные в той или иной концепции, все же косвенно указывают на опыт. Критерий истины при различении неагрессивного опыта и его деформаций – неагрессивная дескрипция. Граница дескриптивного и недескриптивного является одной из важнейших границ как самого опыта, так и его исследования.
Книга представляет мои исследования последних десяти лет.
Первые два раздела составили исходные для всей этой серии исследований статьи: 1. Парадигмы сознания и структуры опыта // Логос. 1992. № 3 (в переработанном виде: Bewußtsein, Erfahrung und Unterscheidensleistung // Prima Philosophia 1997. № 1. Cuxhaven); 2. Cogito. Синтез. Субъективизм // Вопросы философии. 1996. № 10 (Cogito, Synthesis, Subjectivismus // Cognitio humana – Dynamik des Wissens und der Werte. XVII Deutscher Kongress für Philosophie, Bd. 2. Leipzig, 1996). Эти статьи, несмотря на мое критическое отношение к ним сегодня (в отношении первой читатель найдет мои критические замечания в XI разделе), публикуются с незначительными изменениями; во-первых, они послужат введением в две основные темы: первая – в аспекте сознания как различения и сознания как опыта, вторая – в аспекте субъективизма как агрессивного сознания. Во-вторых, их отличие в плане постановки проблем, а также стиля и языка от последующих разделов, в основе которых работы трех последних лет, может оказаться полезным для читателя. Третий раздел составила статья Предпосылки и беспредпосылочность феноменологической философии // Логос. 1999. № 10 (с существенными добавлениями и под другим названием: Die Grenzen der Evidenz und die Evidenz der Grenzen / Oie erscheinende Welt. Festschrift für Klaus Held. Berlin: Duncker & Humblot, 2002). В основе IV, V, VI, VIII и IX разделов – статья Аналитическая феноменология в Логических исследованиях Эдмунда Гуссерля // Гуссерль Э. Собр. соч. т. III (Ι). М.: Дом интеллектуальной книги, 2001. VII раздел представляет собой существенно переработанную статью Одиночество сознания и коммуникативность знака // Логос. 1997. № 9. В основе X и XI разделов – статья Предпосылка тождества и аналитика различий // Логос. 1999. № 11–12. Заключительный раздел – это переработанный доклад Опыт, наивность и самокритика феноменологии: на пути к неагрессивному сознанию (Erfahrung, Naivität und Selbstkritik der Phänomenologie: unterwegs zum nicht-aggressiven Bewußtsein), прочитанный на конференции в Праге (6-ю ноября 2002), учредившей Организацию феноменологических организаций (O.P.О.). Доклад размещен на сайте O.P.О. www.o-p-o.net
Большая часть исследований была поддержана фондом РГНФ и программой «Университеты России».
Я глубоко благодарен Е. В. Ознобкиной и А. И. Алешину за весьма ценные советы, а Е. В. Строгановой за техническую помощь при подготовке книги к изданию. Я искренне признателен А. И. Резниченко, взявшей на себя труд редактора книги.
Введение
Наше исходное различие – между загадкой и проблемой сознания.
Загадка сознания состоит в том, что сознание кажется чем-то само собой разумеющимся, самопонятным и в то же время неуловимым и непостижимым. Загадка сознания аналогична загадке времени: «когда не спрашивают, знаю, когда же спрашивают, не знаю». Что же мы, собственно говоря, «знаем», когда нас не спрашивают о сознании? И чего мы не знаем, когда нас спрашивают? Очевидно, что нечто относительно сознания (и времени) нам непосредственно доступно и является само собой разумеющимся, другое же представляется загадочным и неуловимым. В опыте нам доступны модусы, но недоступна «субстанция». Мы воспринимаем, судим, радуемся или огорчаемся и т. д. Восприятие, суждение, радость или огорчение мы называем модусами сознания, или, если угодно, функциями сознания, проявлениями сознания. Стоит, однако, задать вопрос о «субстанции» сознания, о сущности сознания, о том «аргументе», некоторые из «функций» которого мы перечислили выше, и то, что кажется непосредственно доступным, превращается в нечто неопределенное и почти недоступное. Аналогия Э. Кассирера имеет определенное основание: «Кажется, что понятие сознания есть подлинный Протей философии. Оно выступает во всех ее многообразных проблемных сферах; однако ни в одной из них оно не обнаруживает тот же самый облик (Gestalt), но постигается в беспрерывном изменении своего значения. Метафизика, как и теория познания, эмпирическая психология, как и чистая феноменология, используют его для себя»[198]. Вопрос, однако, в том, достаточно ли усилий было приложено, чтобы постичь этого Протея в его подлинном облике, тем более что мифический Протей им обладал. Иначе говоря, вопрос в том, представляет ли собой сознание некоторый набор функций или все же возможно выявить первичный, «субстанциальный» опыт, который является первичным уровнем иерархии иных опытов, а также функций, ментальных состояний.
Ясно, что сам опыт невозможен без модусов сознания – без восприятия, памяти, фантазии, сомнения, радости, печали и многих других, а также без модусов времени – без прошедшего, наступающего, настоящего, без различий раньше – позже и т. д. Означает ли это, что «субстанция» этих модусов – за пределами опыта?
На первый взгляд, вопрос о сознании и в самом деле выводит нас за пределы опыта. Представляется также, что в отношении восприятия, памяти, воображения и других модусов сознания мы имеем дело с другой ситуацией. Опыт сознания и опыт времени как таковой нам неизвестен, зато нам известен опыт восприятия, памяти и т. д. Кажется, что вопрос о сознании – это вопрос об абстракции, о дефиниции понятия, о сопоставлении абстракции «сознание» с другими абстракциями, такими как «бытие», «общественно-историческая практика», «социальная структура», «нейрофизиологические структуры» и др.
Такого рода рассуждения довольно убедительны, они позволяют, по крайней мере, понять истоки загадки, указывая на необходимость сопоставить представленные в опыте «части» (модусы) с неуловимым целым. В этом, собственно, суть любой загадки. И все же эти рассуждения, которые и приводят нас к загадке сознания, в чем-то искусственны и одновременно наивны.
Прежде всего, относительно так называемых модусов сознания возникает иллюзия, что мы непосредственно можем иметь с ними дело: с восприятием, памятью, воображением, чувствами, желаниями и т. д. И действительно, они нам известны, но, говоря по-гегелевски, не познаны, причем не познаны в первую очередь в отношении своих истоков, в отношении того, что мы сами выделяем их в качестве «имманентных объектов» посредством рефлексии. Иными словами, восприятие, память, воображение вовсе не представляют собой некоторое первичное сознание, в отношении которого обычно выражают обеспокоенность, как бы рефлексия что-нибудь в нем не нарушила. Рефлексия ничего не нарушает в этом мнимом первичном сознании по одной простой причине: она его создает. Здесь нет парадокса, ибо мы должны различать, с одной стороны, форму сознания, коррелятивную содержанию сознания (восприятие – воспринятое, воспоминание – вспомненное и т. д.) и воссозданную по этому содержанию, а с другой стороны, сознание как опыт, в котором еще не произошло разделение на эти или другие модусы.
Брентано полагал, что при осуществлении того или иного акта сознания мы знаем, какой именно акт мы осуществляем: воспринимаем или вспоминаем и т. д. Мы это знаем, по Брентано, благодаря «внутреннему восприятию». Таким образом, «внутреннее восприятие» лишь идентифицирует тот или иной акт. Однако откуда берется первоначальное знание об этих модусах, знание, которое нам позволяет затем их узнавать? Простой опыт рефлексии в «естественной установке» подсказывает нам, что мы отделяем восприятие от памяти и воображения в соответствии с убеждением в существовании или несуществовании предметов, с которыми мы имеем дело, и в соответствии с теми или иными модусами времени. Восприятие – это акт, имеющий дело с чем-то существующим, даже если идентификация ошибочна, в модусе настоящего времени. Память имеет дело с чем-то существовавшим, даже если мы и в прошлом принимали одно за другое. Соответственно, воображение имеет дело с несуществующим или в модусе, так сказать, отрицательной вечности, т. е. в модусе «никогда», или в модусе будущего, т. е. в качестве проекта. При этом очевидно, что рефлексия в «естественной установке» не задает вопроса ни о существовании и времени, ни о взаимосвязи восприятия, памяти и воображения. Естественная рефлексия не так уж естественна, скорее это искусственная процедура, пользуясь которой обыденный опыт претендует на знание о себе самом. Эта претензия в определенной степени обоснованна, ибо с помощью такого рода рефлексии обыденный опыт упрочивает свое положение; такого рода рефлексия есть не что иное, как самообоснование обыденного опыта: в акте идентификации модусов сознания обыденный опыт как бы подтверждает, что идентификация – это первичная функция сознания. Выделенные в «обыденной» рефлексии, эти модусы можно каталогизировать, располагать в «историческом» или логическом порядке, устанавливать между ними «связи» и т. д.
Гуссерль попытался нарушить «естественный» ход вещей. Феноменологическая рефлексия и феноменологическая редукция как ее первый шаг нацелены на сами модусы сознания, дистанцируясь от существования или несуществования предметностей, коррелятивных этим модусам. Для этого потребовалось «внутреннее время» как общая среда актов сознания, интерпретированных как различные переживания, которые также были поняты как темпоральные по своей сущности. Замысел Гуссерля был не только «гносеологическим», речь шла не только о том, чтобы изучать модусы сознания в их структурном и темпоральном «виде», но замысел состоял также и в том, чтобы придать сознанию онтологический статус. Хотя сам Гуссерль называл феноменологическую рефлексию «неестественной», а обыденную установку – «естественной», он фактически поменял местами «естественное» и «неестественное»: именно феноменологическая рефлексия, преодолевая естественную, т. е. обыденную, установку, должна выявить в сознании то, что скрывает обыденный опыт, – темпоральность, жизненность, самодостаточность. В этом смысле естественная установка оказывается неестественной – атемпоральной, безжизненной, зависимой от меняющихся предметностей мира.
Тем не менее гуссерлевская методология (но не его реальная дескриптивная работа) сохраняет предпосылку тождества: самотождественности предмета, изначальной тождественности вида (specie) и идентификации как первичной функции сознания. Терминологически Гуссерль выдвигает на первый план синтез как «изначальную форму сознания», однако тождество оказывается и предпосылкой синтеза. Столкновение и противоречие реальной дескриптивной работы и декларируемой методологии в феноменологии Гуссерля – одна из основных тем предлагаемых исследований.
Итак, истоки загадки сознания несколько проясняются, когда проблематизируются допущения известного, когда модусы, известные нам по предметностям, становятся неизвестными нам в качестве модусов опыта – сложение неизвестных уже не есть загадка. При этом необходимость превратить загадку в проблему приводит нас к тому, чтобы и субстанцию этих модусов попытаться понять как опыт, как первичный опыт, но не как абстракцию. Только так можно предотвратить превращение опыта в абстракцию; ведь точно так же можно задать вопрос о восприятии и считать его неуловимой субстанцией восприятий цвета, формы, звука и т. д., а затем восприятие цвета считать субстанцией определенных восприятий цвета, а затем определенное восприятие определенного цвета считать субстанцией восприятия оттенков. Именно таким образом приходят в конце концов к так называемым чувственным данным, нигде в опыте не встречающимся.
Видимо, вопросы «чтойности», вопросы «что есть восприятие, память» и т. п., а также вопрос «что есть сознание» подталкивают нас скорее к определению понятий, чем к исследованию опыта. Для того чтобы перейти от загадки к проблеме, необходимо поставить вопросы другого типа. Мы не спрашиваем, что такое сознание, мы задаем вопросы, что такое сознание как опыт и какой опыт является субстанцией всех перечисленных и неперечисленных модусов?
Вопрос о вопросе – это урок Хайдеггера, различавшего то, о чем спрашивается, то, что выспрашивается в вопросе, и то, к кому или чему адресован вопрос. То, о чем мы вначале спрашиваем, – это не что иное, как значение слова «сознание», точнее, различные его значения. Перечислить значения не так уж трудно; значительно труднее сказать, что такое значение. Я намеренно употребил слово «значительно», чтобы отметить даже такие, незаметные с первого взгляда «круги». Уже интуитивно ясно, что проблема значения и проблема сознания коррелятивны. Ясно также, что мир, «в» котором мы живем, «состоит» из значимостей, из того, что для нас «имеет значение». Даже если нечто «не имеет для нас значения», то это тоже не выходит за пределы сферы значений. Предметности, ситуации, люди так или иначе значимы для нас; каким же образом формируется эта значимость? Путем истечения эйдолов или как-нибудь иначе? Вопрос, что есть сознание, можно пока переформулировать так: каким образом сознание участвует в формировании значимости? Собственно говоря, разногласие между Гуссерлем и Хайдеггером в этом и состоит: Гуссерль достаточно прямолинейно объявил сознание смыслоформирующей структурой, Хайдеггер не менее прямолинейно объявил такой структурой мир, точнее, мирскость мира.
В феноменологии постановка проблемы «сознание-мир» имеет своей исходной точкой брентановское различие психических и физических феноменов, различие строгое и бескомпромиссное. Но уже Гуссерль пытается ввести посредника между интенциональным актом и предметом – так называемый комплекс ощущений. У Хайдеггера «линия посредничества» выходит на первый план, претерпевая радикальное изменение: мирскость мира – это и есть среда сознания, за пределами которой никакой проблемы сознания просто не существует. Кажется само собой разумеющимся, что, проведя различие между сознанием и миром (или предметом), следует установить между ними связь. Однако феноменология, и не только ранняя, столкнулась здесь с рядом непреодолимых трудностей; по существу, эта «связь» не давалась дескрипции, и Гуссерль скорее говорит о том, что не есть эта связь, чем о том, что она есть. Можно, конечно, указать на интенциональность и через нее определить отношение сознания к миру. Однако как раз само «интенциональное отношение» требует прояснения. Кроме того, определяя вслед за Гуссерлем интенциональность в качестве основного свойства сознания, мы ведь не отвечаем на вопрос, что есть сознание, и не отвечаем на вопрос Хайдеггера, свойством чего является интенциональность. Этот вопрос предполагает по крайней мере два пути поиска ответа: или попытаться ответить на прямой вопрос, что есть сознание, или «растематизировать» сознание, что и сделал Хайдеггер. (Промежуточные решения можно не принимать во внимание, так как они сводятся к двум основным.)
Дело не только в том, чтобы разрешить дилемму ментализма, т. е. «представления» о сознании как некоей ментальной субстанции, и концепции встроенного сознания, будь это мирскость мира или общественно-историческая практика. Задача в том, чтобы описать сопряженность сознания и мира без посредников; задача кажется парадоксальной: определить связь без всяких «средств связи». Иными словами, можно ли избежать всякого рода медиумов и в то же время описать корреляцию сознания и мира? Или: возможна ли свобода-в-мире, не являются ли как «обусловленность», так и втягивающий в себя активизм деформациями свободы? Быть может, первичная свобода вовсе не в «свободе воли»? Можем ли мы говорить о свободе мышления или только о свободе действий или выбора?
Теперь об адресате. У Хайдеггера мы находим «герменевтический круг»: вопрос о бытии может возникнуть лишь у «существа», сделанного из humus, само бытие которого вопрошает о бытии. «Феноменологический круг» Гуссерля иной: рефлексия – это модификация сознания, и, если упростить, круг этот выглядит так: вопрос о сознании может поставить лишь обладающий сознанием человек. Хайдеггеровский круг – это не просто интерпретация или экстраполяция гуссерлевского. По Хайдеггеру, исходный момент вопроса о сознании, как и любого другого вопроса, это бытие-в-мире. По Гуссерлю, исходный момент любого вопроса, в том числе и вопроса о бытии-в-мире, – смыслообразующая деятельность сознания. Эти круги лежат в разных измерениях, причем это различие заключается «в нас самих».
Чтобы избежать альтернативы между Ego и Dasein, лучше всего обратиться к опыту значимости. Конечно, адресат вопроса – это «мы сами», те, кто осознают значимость мира и его предметностей и тем самым знают нечто о сознании как о чем-то таком, что как-то сопряжено с предметностями и миром. В то же время это «нечто», называемое с некоторых пор сознанием, не поддается достаточно четкому отделению от тех предметов, с которыми оно сопряжено или на которые оно «направлено». Отсюда всякого рода искушения определить сознание по предметностям – как отражение предметного мира или как его конструирование, – выявить физиологические или социальные «истоки» сознания. Особенно примечателен тот факт, что сторонники последних из упомянутых проектов забывают выявлять физиологические или социальные причины самого вопроса о сознании. Допустим, что восприятие обусловлено определенными нейрофизиологическими структурами, однако затем мы должны задать вопрос, какими нейрофизиологическими структурами обусловлено размышление о том, что восприятие обусловлено нейрофизиологическими структурами и т. д. Любая мысль о нейрофизиологических процессах должна иметь свою основу в каких-либо других нейрофизиологических процессах. Поистине процесс познания бесконечен! То же самое верно и в отношении так называемой социальной обусловленности. Разумеется, как нейрофизиология, так и социология знания – это конкретные области знания со своим предметом, со своим кругом проблем и т. д. Однако то, что в этих областях знания употребляется термин «сознание», не означает еще очередного конца философии.
Дилемма ментализма и редукционизма разрешается на почве опыта сознания как различения. Это первичный и в то же время иерархический опыт-в-мире, опыт par excellence, первичная иерархия которого – различение различений. Например, различая цвета, мы различаем неявно (и чаще всего неявно) различение цветов и различение звуков, запахов и т. д.
Любое различение предполагает различение различений (Apriori) и может повлечь за собой дальнейшие различения различений (Aposteriori), если, например, различенные цвета становятся знаками предметов, ситуаций и т. д. Ясно, что число уровней различений различений каждый раз определено «практически», хотя «теоретически» этот ряд бесконечен. Явное, «осознанное» многоуровневое различение различений есть не что иное, как рефлексия. Различая цвета, мы отличаем не только различение цветов от различения звуков и т. п., но и отличаем различение «чувственных качеств» (цвет, звуки, запахи и т. д.) от различения, скажем, концептов и теорий и т. д.
Различение и опыт не только тема, но и метод ее разработки. Изучать различение нельзя без проведения различий. Однако аналитический метод – это все же не единственный метод изучения различений, ибо различения «сосуществуют» в целостном опыте с синтезами и идентификациями. Поэтому неизбежность интерпретативного метода очевидна. Важно лишь установить своего рода равновесие между ними и по возможности фиксировать переход с аналитического языка на интерпретативный, и наоборот. Эта тема вводится в IV разделе, однако лучше сразу же привести пример, выбрав для этого основные термины и основную предпосылку исследования: терминологически мы понимаем различие как результат различения, выделяя при этом метаразличие: различения, различенного и различенности.
Проведение этого метаразличия относится к аналитическому методу и выражено на аналитическом языке, понимание различения как акта сознания, различенного – как предмета, а различенности – как структурной основы мира – это необходимая интерпретация, хотя в данном случае в этой интерпретации следует опять-таки выделить аналитическую составляющую. Сближение предпосылки и примера не случайно: любая предпосылка должна быть «феноменологически реализуема», она должна быть не формально, но содержательно априорна.
Если сознание как первичный опыт есть не что иное, как различение, то зачем вообще нужно оставлять слово «сознание», которое к тому же весьма многозначно, в качестве одного из основных терминов? Мы не можем избавиться от сознания, рассуждая о сознании (об этом речь пойдет в первом разделе), но, быть может, слово «сознание» не так уж необходимо? Рассуждая о различениях и различиях, мы не можем избавиться от различений, мы не можем отождествить различение с субстанцией (различения вообще невозможно отождествлять с чем-либо) или редуцировать к чему-либо иному. Зачем тогда «сознание»? Может быть, это уже анахронизм – говорить о сознании после Хайдеггера, Делёза и Деррида?
Почему вообще термины остаются, а их значения меняются? Например, значение термина «трансцендентальный» многократно изменялось, но термин выжил. Выжил и термин «сознание» – в аналитической философии, психологии, психоанализе, коммуникативной теории общества, не говоря уже о современной феноменологии. Вопрос, конечно, поставлен неточно. Речь идет о том, почему оставляют старый термин с измененным значением, а не вводят новый. Видимо, в этом одно из проявлений историчности мышления. Это как город, который претерпевает значительные изменения, но не меняет своего названия. Изменяет названия тот, кто претендует на новый тип историзма, или тот, кто объявляет «конец истории» как конец всех и всяческих генезисов и начало всех и всяческих структур, знаков, кодов и т. п.
Отказываться от термина «сознание», который выполняет к тому же коммуникативную роль в различных областях знания (коммуникация не обязательно сразу же ведет к взаимопониманию), было бы опрометчивым. Начиная с Канта, термин «сознание» в сочетании с другими терминами обозначает зачастую одну из узловых проблем того или иного учения – как предмет исследования и как определенный способ человеческого существования: трансцендентальное сознание, несчастное сознание, классовое сознание, утопическое сознание, инструментальное сознание, действенно-историческое сознание, соборное сознание, чистое сознание и проч.
В широком смысле проблема сознания – основная проблема философии, а понятие сознания – связующая нить всего гуманитарного знания; в узком смысле это ряд взаимосвязанных проблем, количество которых имеет тенденцию к возрастанию: 1. Единство сознания; 2. Классификация модусов сознания, их иерархия, например, вопрос о первичности воли или представления; 3. Отношение сознание/тело; 4. Сознание и значение, знак и символ; 5. Самосознание и внутреннее восприятие, интроспекция и рефлексия; 6. Сознание и познание (источник достоверности, природа абстрагирования и т. д.); 7. Сознание и бессознательное; 8. Субъективность и интерсубъективность; д. Сознание и предмет; 10. Внутренняя активность сознания (самовоздействие, темпоральность, творчество); 11. Сознание и искусственный интеллект; 12. Сознание и идеология и др.
Конечно, фетишизация термина опасна, и в каждом конкретном случае необходима дескрипция, в которой хотя бы частично растворялся термин. Однако термины все же необходимы при переходе от дескрипции к дескрипции. Кроме того, термины как раз позволяют формулировать вопросы для дескрипции. В частности, поставить нижеследующие вопросы без термина «сознание» и соответствующего «феноменологического языка» было бы сначала достаточно затруднительным.
Возможна ли история сознания, или возможна только история его содержаний, предметностей, событий и т. п.? Что означает внутренняя историчность личности? Означает ли это, что изменяется акт сознания, изменяется его сущность, или же изменяется только структура акта, коррелятивного той предметности, которая «имеется в виду» в данном акте? Изменчива ли сама интенциональность, можно ли описать изменение самого опыта, изменяется ли само темпоральное сознание, или же темпоральность сознания – это неизменная протенциально-ретенциальная структура, с помощью которой мы можем понять, каким образом мы постигаем темпоральные объекты – имманентные и трансцендентные?
Философия сознания, содержащая в себе элементы ментализма или редукционизма, сталкивается с трудностями уже при постановке вопроса об историчности сознания. Между тем это неоспоримый факт, и каждый взрослый человек знает из собственного опыта, что его установки и ориентиры с «течением жизни» существенно меняются. Вопрос в том, что это за «собственный» опыт? Как мы можем описать само изменение установок, а не только изменение обстоятельств?
Сформулируем еще один важный вопрос: как можно описать нормальный опыт и отличить норму от аномалии не «по результатам», но по конститутивным состояниям той или иной аномалии; описать, например, кризис со стороны самого переживания кризиса, но не со стороны переживаемого и не со стороны объективного положения дел? То же самое и в отношении агрессивности. Обычно это характеристика поведения или действий. Однако вполне правомерен вопрос: что же конституирует такую аномалию опыта, как агрессивность, «внутри» самого опыта?
Еще один важный вопрос касается предданности и данности. Допустим, мы достаточно хорошо понимаем, что такое данность, скажем, данность предмета в восприятии (хотя, конечно, это тоже остается проблемой). Каким образом, однако, мы можем получить доступ к предданности мира? Если предданность лишь допущение, основанное на рассуждении типа: если есть данность, то должна быть и предданость, то это имеет лишь косвенное отношение к опыту. В то же время предданность мира как феномен очевидна; однако вопрос не только в том, каким образом она становится очевидной, но в том, каким образом мы вообще получаем доступ к предданности.
Постановка этих вопросов позволяет затем отодвинуть термин «сознание» на задний план; ведь вопрос относительно сознания как опыта и ответ на него как раз предполагают отказ от терминов, которые требовали бы интерпретации. Конечно, «различение» тоже можно считать термином, однако это термин, непосредственно указывающий на опыт, но не на предмет, термин, который нельзя субстантивировать, термин, который не является термином в традиционном смысле; если угодно, это термин par excellence, ибо он устанавливает не какую-то определенную границу, но границу как таковую.
В терминах Брентано: учение о различии психических и физических феноменов непосредственно подводит к тому, чтобы первичным по отношению к определенным психическим и физическим феноменам считать феномен различия психических и физических феноменов. Однако путь от различия феноменов к феномену различия и далее к различию как фундаментальному феномену оказывается неблизким.
Если сохранять в качестве основного термин «интенциональность», то на вопрос Хайдеггера, свойством чего является интенциональность, можно дать прямой ответ: свойством различений. Действительно, почему бы предварительно не определить сознание как интенциональность различений?
Тема, коррелятивная основной, тема неагрессивного и агрессивного сознания скрыта за якобы само собой разумеющимся: сознание – это деятельность, это совокупность сил, внутреннее сцепление которых «имеет силу» или вмешиваться в «реальность», или отражать ее. Сама тема как бы подвергается агрессии со стороны познавательных сил и понятийных систем. Начиная с Канта, «сила», «схватывание», «синтез» становятся основными характеристиками познающего сознания. Право на агрессию и интервенцию разума было обосновано в Критике чистого разума: в предметах якобы нет связей, сознание привносит их в предметы. Проблема здесь сложнее, чем кажется на первый взгляд. Познание действительно вмешивается, но во что или куда оно может вмешиваться? В предметы? Но предметы уже есть результат вмешательства и выделения их из… чего? Из окружающего мира? Но что такое мир – совокупность предметов? Если внимательно прочитать кантовские пассажи, в которых речь идет о том, куда же мы вмешиваемся, то искомого существительного в винительном падеже мы просто не найдем.
Разум, по Канту, вынуждает природу отвечать на вопросы, по существу, подчеркнем – на его вопросы, т. е. это уже не просто допрос, но печально известная практика выбивания такого признания, которое необходимо допрашивающему «разуму». Иными словами, это аномалия, которая к тому же пытается стать нормой.
Агрессивность разума уже давно тематизирована, достаточно вспомнить ницшевское познание как волю к власти, Диалектику просвещения и современную философию постмодернистской ориентации; однако парадигма силы претерпела здесь лишь модификацию – силе противостоит сила; например, чтобы избавиться от власти субъекта, нужно заявить о его смерти. Если на подозрении «автор», то с ним следует поступить точно так же. «Новый тип историзма» складывается как история разоблачения всякого «присутствия».
Парадигмы силы не избежал и Колин Уилсон в своем скорее символическом, чем фантастическом романе Паразиты сознания, где феноменология Гуссерля предстает как основная сила, спасающая человечество. Однако спасаться и спасать от силы с помощью силы, от агрессии с помощью агрессии – это означает воспроизводить агрессию. Остается непротивление злу насилием?
Быть может, преждевременно отказываться от этого принципа, хотя и преждевременно безоговорочно ему следовать. В действительности, т. е. в системе действий, основанных на силе, этот принцип неосуществим. Недеяние обрекает себя на андеграунд, непротивление служит образцом для кого угодно, но только не для «сильного». В «реальной действительности» агрессия и непротивление существуют в разных измерениях, непротивление бессильно в прямом смысле: в нем отсутствует сила, и в этом его суть.
Только в плане сознания, как выразился бы Гуссерль, bewußtseinsmäßig, можно соотнести неагрессивность и агрессию. Непротивление-принцип отрицательный, реактивный, признающий силу как факт и отказывающийся ей противостоять. Неагрессивность сознания – вообще не принцип, тем более не нечто негативное; это опыт, который поддается дескрипции – это опыт различений.
Однако это не означает, что вопрос о непротивлении злу насилием не возникает в «сфере» сознания. По крайней мере, вопрос об агрессивном сознании здесь возникает. Разве не агрессивно хайдеггеровское das Man, которое вынуждает видеть, судить и чувствовать так, как видят, судят и чувствуют другие, разве «любопытство» – это не агрессивный ответ на интервенцию других? Можем ли мы, однако, сказать, что неагрессивность первичного опыта – это и есть оказавшееся в забвении бытие, о котором напоминает нам онтологическая дифференция?
Этот путь вряд ли можно признать аналитическим. Скорее онтологическая дифференция плюральна и иерархична, и, перефразируя Аристотеля, мы могли бы сказать: сколькими способами различается сущее, столькими способами являет себя бытие. Например, различие между цветом и звуком онтологично, невидимая и неслышимая граница между ними позволяет нам видеть и слышать, не навязывая нам видимые и слышимые предметности.
Принцип непротивления злу насилием предполагает работу внутреннего сопротивления. В плане сознания эта работа состоит не только в том, чтобы сопротивляться изначальным силам-способностям – сопротивляться, скажем, «представлениям» (ницшевское: не допускать многого до себя), фантазиям, воспоминаниям и т. д., ибо несбалансированность этих сил приводит к аномалиям. Дело еще и в том, чтобы оказать «сопротивление» трансцендентальной силе воображения как «основной силе души», которая определяет все «дальнейшие» пути и перепутья синтезов, т. е. сил познавательной способности. Таким «сопротивлением» должен быть анализ «превращения» изначальной неагрессивности различений в силы синтеза и идентификации, т. е. в «господство» представления и суждения, которое затем трансформируется в «господствующие представления и мнения». (Эта тема лишь намечена в настоящих исследованиях.)
Различение – в отличие от синтеза и идентификации – никому ничего не навязывает, никого не угнетает, никого ни с кем и ни с чем не уравнивает. Различение как бы идет нам навстречу, но не сталкивается с нами и не проходит мимо, а в безмолвии и благожелательности открывает нам дальнейший путь различений.
I ПАРАДИГМЫ СОЗНАНИЯ И СТРУКТУРЫ ОПЫТА
…Никогда не бывает в природе двух существ, которые были бы совершенно одно как другое…
ЛейбницСубъективизм может быть преодолен только посредством наиболее универсального и наиболее последовательного (трансцендентального) субъективизма.
ГуссерльПервоначально замысел этого исследования (1992) был связан с задачей различения фундаментальных ориентаций в философии и культуре XIX–XX веков на основе их внутренних источников – парадигм сознания. Это, в свою очередь, привело к задаче понять первичное парадигматическое сознание, или, иначе говоря, первичный опыт сознания, который уже не основывается ни на каких образцах.
Феноменологическая философия (прежде всего Ф. Брентано, Э. Гуссерль и М. Хайдеггер) напосредственно подводит к постановке этой проблемы. Феноменология сделала существенные шаги по направлению к первичной сфере человеческого опыта и бытия. Однако был лишь указан путь, в дальнейших разветвлениях которого был отчасти утрачен первоначальный замысел.
Поставив вопрос о сознании, Гуссерль не поставил вопроса о самом вопросе, который сознание задает о себе; когда же это попытался осуществить Хайдеггер в отношении бытия, вопрос не был опознан как модус сознания, а в различии бытия и сущего не был распознан первичный опыт сознания. Сознание и его первичный опыт остались лишь фоном хайдеггеровской мысли. В феноменологии постоянно указывается на сознание, оно называется – явно – психическими феноменами, интенциональностью, – неявно – различием бытия и сущего (Хайдеггер), духом (Шелер); у Сартра речь идет о нететическом сознании сознания, однако эти указания и названия еще не дают доступа к первичному опыту сознания.
Различение и классификация психических феноменов у Брентано и структурирование интенциональности у Гуссерля исходят из первичного опыта сознания, однако сам этот опыт еще не представлен в качестве такового. Отсюда возникает задача указать на такой опыт сознания, в котором его дескрипция и принцип любой дескрипции совпадают. Поиск первичного, парадигматического сознания – это не поиск новой субстанции, но попытка выявить первичный опыт сознания, который сочетал бы в себе самореферентность и многообразие. Многообразие опыта не означает небытия оснований.
Философия не является всецело академическим занятием, да и реально она никогда не была таковым. Речь только о том, какое «применение» может найти философия сегодня. Будет ли она по-прежнему служанкой науки, политики, практики и эрудиции (определенное понимание сознания способствует этой роли) или же возродится как метафизика, но уже как метафизика сознания, как описание первичного, непредметного опыта сознания, который лежит в основе всего многообразного человеческого опыта. Метафизика не означает здесь эскапизм, напротив, метафизика сознания есть необходимый противовес «физике» социального опыта и опыта воли.
В феноменологической философии имплицитно присутствует понимание истинных целей историко-философского исследования. Историко-философская концепция Ф. Брентано, осмысление Гуссерлем духовного кризиса Европы, деструкция истории онтологии Хайдеггера имеют одну и ту же направленность: обнаружение глубокой связи между определенным пониманием сознания и принципами, идеями и системами, в которых оно реализовано и закреплено.
Эксплицитная разработка этой темы – одна из задач исследования. Конкретно эта связь будет показана в различии кантианской парадигмы, определившей практически всю континентальную европейскую и отчасти англо-американскую философию XIX века, феноменологической парадигмы и парадигмы сознания в русской философии.
Уникальным случаем пересечения трех исследуемых в работе парадигм является мировоззрение Густава Шпета. Именно изучение его философских корней открывает доступ к скрытой до сих пор за религиозно-нравственной проблематикой парадигме сознания в русской философии, которая оказывается в некоторых аспектах существенно близкой к феноменологии.
Это не означает, что не существует других парадигм сознания и философии. Это не означает также, что не существует попыток смешения парадигм. В частности, примером смешения кантианской и феноменологической парадигмы, точнее, примерами различного рода смешений могут послужить, при всех существенных различиях между ними, воззрения Х. Т. Гадамера, Ю. Хабермаса – в Германии, М. Фуко, Ж. Деррида – во Франции, М. К. Мамардашвили – в нашей стране. Такое смешение не есть, конечно, лишь результат индивидуального заблуждения. Скорее это признак эпохи, который П. Валери усмотрел «в свободном сосуществовании во всех образованных умах самых несхожих идей, самых противоречивых принципов жизни и познания…».
Опыт изучения этих мыслителей был также необходим для тематизации фундаментальных ориентаций в философии. Хотя анализ их воззрений не составил в этой работе раздела или параграфа, контекстуальное его присутствие очевидно.
В этом анализе, а также в дискуссиях (очных и заочных) с В. В. Бибихиным, В. А. Подорогой и В. В. Калиниченко мне не составляло труда следовать хорошему «правилу» Ницше: критика – это знак благодарности.
Я не пытался придерживаться какого-либо одного стиля, полагая, что стиль должен придерживаться содержания. Философия – это не только строгая, но и веселая наука.
Некоторые темы, и иногда весьма существенные, представлены здесь лишь в виде краткого очерка. В определенном смысле работа, и особенно ее второй параграф, носит программный характер, подхватывая и уточняя идею Гуссерля о бесконечном многообразии философских проблем.
1. Можно ли избавиться от сознания с помощью самого сознания?
Сознание находится сейчас в гораздо худшем положении, чем когда-то давно, точнее, до Бытия и Времени, находилось Бытие. Бытием просто не занимались, ибо не могли ему дать дефиницию, считали его самым общим, а посему и так ясным понятием и вообще чем-то само собой разумеющимся.
Сознанием, напротив, все время занимались и занимаются: или приписывают ему физиологические внутренности, или заключают в оболочку социального опыта, или разбивают на первичные элементы – психологические, если это ощущение, или структурные, если это члены «бинарных оппозиций». Эти «занятия с сознанием» имеют, тем не менее, общую целевую установку – избавиться от сознания.
Все виды перечисленных отождествлений подразумевают: сознания нет, есть лишь: а) нейрофизиологические процессы, структуры мозга и т. п.; в) социальные связи, а то, что называют сознанием, суть «сублиматы»; с) элементы-ощущения, ничем, по существу, не отличающиеся от других элементов-ощущений – внешних тел; d) знаковые системы.
Существует и другая тенденция в «освобождении от сознания» – объявить его помехой. Сознание мешает философу поздней Античности чувствовать мысль, юноше Г. Клейста стать марионеткой своего грациозного тела, мыслителю, «изменившему образ современной философии» (образ – это верно, но не смысл), вслушиваться в Бытие.
Очевидно, что это стремление, в каких бы формах оно ни выражалось, исходит из определенного понимания сознания (каждой форме соответствует свое), которое испытывает давление со стороны опыта тела, деятельности, определенных форм познания, а также чисто социального опыта.
Выделим основные типы понимания сознания: 1) сознание как отражение; 2) сознание как спонтанная творческая активность (конструирование); 3) сознание как нечто обусловленное: а) причинно – телом и/или практикой, в) функционально – телом, практикой, социальными связями и отношениями («встроенное» сознание); 4) сознание как усмотрение смысла.
Если ограничиться историей двух последних веков, то первые три типа в разных сочетаниях доминировали в XIX веке и продолжают свою жизнь в современной культуре, последний (по списку, но не по важности) выявился в феноменологической философии. Ясно, что в многообразии человеческого опыта имеет место и отражение, и творчество, и решение практических задач. Вопрос в том, идет ли здесь речь о сознании или же об определенных видах взаимодействий собственного опыта сознания и социального опыта, опыта деятельности, опыта тела.
В каждом из этих опытов присутствует собственный опыт сознания, благодаря которому они становятся опытом: следование социальным стереотипам, осуществление определенной деятельности, телесные ориентации и ощущения – все это не происходит автоматически в буквальном смысле этого слова.
Однако все это не сводится к собственному опыту сознания, к сознанию как таковому Сознание присутствует в этих видах опыта или в виде отражения, или в виде творческого конструирования (например, в виде социальных экспериментов), или в виде функции общественных или иных потребностей. Иначе говоря, каждый из этих опытов содержит в качестве своего ядра определенное понимание (толкование) сознания или сочетание определенных толкований, которое является в определенном смысле деформацией первичного опыта сознания. От этого понимания сознания зависит (смысловая зависимость) определенный способ придания смысла предметностям в самом широком смысле, которые не являются сознанием или опытом, но без которых опыт невозможен, ибо опыт, кроме первичного опыта сознания, всегда есть предметный опыт.
Речь не идет, например, о том, что социальная структура или совокупность социальных институтов есть порождение некоего первичного сознания. Речь идет об опыте сознания, а именно о социальном опыте, который весьма многообразен и изменчив и без которого ни социальные структуры, ни социальные институты просто не могут существовать. Точно так же речь идет не о физическом аспекте деятельности, не об описании процесса обработки природы (хотя здесь также без сознания не обойтись), но о навыках и приемах, которые не сводятся к сознанию как таковому, но в которых присутствует опыт сознания, или точнее, определенная модификация его первичного опыта.
В исследовании тенденции «освобождения от сознания» необходимо, конечно, в каждом конкретном случае определить, от какого же именно понимания сознания хотят избавиться и какое понимание сознания при этом неявно принимается.
Пожалуй, самые «популярные» понимания сознания как в обыденном сознании, так и в философских учениях – это отражение и творческая спонтанность, причем, как правило, в рамках одного и того же учения, концепции, системы имеет место переход от первого ко второму и от второго к первому. Протест против такого понимания также принимает разнообразные формы. Действительно, разве мы можем отразить бытие вещи или сконструировать его с помощью интеллектуальных схем? Воспринимая качества, определяя количества, устанавливая причинную связь и т. д., разве сознание имеет дело с бытием? Разумеется, нет. Однако то, что это «нет» разумеется, должно привлечь наше внимание к тому, что само это отрицание есть реализация определенного опыта сознания, который препятствует отождествлению сознания и отражения. Иначе говоря, «разумеется, нет» также принадлежит сознанию, как, впрочем, и внимание к этому «разумеется, нет». Нет никакого сомнения в том, что для бытия вещей не нужно никакого сознания, но для того чтобы понять, что для бытия вещей не нужно никакого сознания, для этого сознание необходимо, но уже не как отражение, не как конструирование или функция и, видимо, даже не как усмотрение смысла.
Сознание не есть вещь, не есть уникальный набор свойств и качеств, но сознание различает вещи, их свойства и отношения, усматривает уникальность вещей, различает свойства вещи и ее бытие.
Вопрос в том, как понимать сознание, как понять то, что не является чем-то вещественным, предметным – то, что не тождественно свойствам вещей, закономерностям природы и общества, психологическим установкам и т. д., то, что содержит в себе критерий отличия сознания от не-сознания?
Как понимать сознание? В этом вопросе сознание удостоверяет свою неустранимость из любого вопроса о сознании и вообще из любого вопроса, ибо понимание – это лишь иное название сознания, если иметь в виду, что, с одной стороны, понимание – это сознание сознания, а с другой – «сознание о…».
Понимание не есть, конечно, гносеологическая функция субъекта, противопоставляющего себе объект. В этом противопоставлении субъект либо забывает первичный опыт сознания, лежащий в его основе, отождествляя понимание и отражение, либо представляет себя в качестве конструкции (каркаса категорий-синтезов), которая перерабатывает отражающиеся в чувственности первичные данности предметов – ощущения. Предмет предстает уже в качестве вторичной, переработанной категории «данности», или «заданности», научного познания.
Кант сделал первый и решающий шаг в отождествлении сознания с деятельностью. Философия XIX века как нельзя лучше иллюстрирует принцип понимания сознания: каково понимание сознанием самого себя, какова конкретная конфигурация первичного опыта сознания, т. е. какова парадигма сознания, таково и «отношение» сознания к миру.
Вопреки Хайдеггеру, именно Кант и его предшественник Гоббс (а не Декарт или Локк) – родоначальники современного субъективизма и технического освоения «картины мира». Именно Кант ввел новое понимание сознания: соединение отражения (чувственности) и спонтанного конструирования (категорий-синтезов) приводит к пониманию познавательной способности как перерабатывающей деятельности. Такую постановку вопроса о сознании можно найти уже в самом начале предисловий к первому и второму изданию «Критики чистого разума».
Кантовское сознание-деятельность, а именно трансцендентальная сила воображения, выступает затем в философии и культуре XIX и XX веков в различных обличьях: воля, практика, воля к власти, жизнь. Лозунг был дан, и с ним одновременно искажение Священного Писания: «в начале было дело».
В свое время чисто кантианская фраза Ленина – «сознание человека не только отражает объективный мир, но и творит его»[199] – доставила много хлопот советским марксистам. С другой стороны, «теория отражения» присутствует не только у болгарских и советских диаматчиков, но и у Шопенгауэра: субъект, не имеющий никаких точек соприкосновения с миром (между субъектом и объектом нет причинных связей, и здесь Шопенгауэр – «феноменолог»), сам превращается в некоторую представляющую, т. е. отражающую, точку, в которой акт представления тождествен его содержанию. Неявное отождествление предмета представления (того, что представляется, и содержания представления, т. е. смысла) позволяет затем Шопенгауэру сделать выводы: 1) мир есть представление и 2) если субъект, не будучи предметным и не будучи обусловленным со стороны предметов, сам по себе ничто, т. е. не обладает внутренним основанием, то им владеет уже не «гносеологическая сила», но сила онтологическая – мировая воля.
По существу, Шопенгауэр повторяет аргументацию Канта, а аргументацию Шопенгауэра повторяет в свою очередь Хайдеггер[200]. В общем виде она состоит в следующем: субъекту присущи категории как инструменты познания, однако сама трансцендентальная апперцепция и все другие фундаментальные силы познавательной способности не схватываются с помощью категорий. Отсюда вывод: они онтологичны, ибо «не помещаются» в сфере познания.
У Шопенгауэра совершается здесь переход от понимания сознания как отражения к пониманию сознания как функциональной встроенности, а затем – к «конструктивному» пониманию сознания. Субъект познания встроен в мировую волю, он есть лишь средство ее самопознания. В свою очередь воля – это конструктор мира, который через человеческое сознание осознает необходимость самоуничтожения.
Концепция «встроенного сознания» неявно присутствует и у Хайдеггера, хотя в его размышлениях имеет место и феноменологическое понимание сознания. Онтологическая интерпретация понимания в Бытии и времени отождествляет понимание и первичные проекты, первичные ориентации в мире, не выделяя того или иного опыта этих ориентаций, но, напротив, как это почти всегда делает Хайдеггер, сплавляя в одно целое различные виды опыта. Бытие-в-мире, по Хайдеггеру, какуже-бытие, обладает первичными возможностями, которые предшествуют их осознанию. Гуссерлевская концепция потенциальных горизонтов сознания и открытости опыта превратилась у Хайдеггера в концепцию первичности понимания по отношению к сознанию, в концепцию встроенности сознания в первичные линии понимания, тождественные первичным ориентациям живущего-в-мире Dasein.
В этой интерпретации понимания, отодвигающей сознание на второй план, содержится опять-таки определенное понимание сознания, а именно как познающего, конструирующего интеллектуальные схемы и владеющего миром субъекта. Хайдеггер подчеркивает и, в определенном смысле справедливо, первичность живущего-в-мире Dasein по отношению к этому монстру, вообразившему себя конструктором мира. Однако при этом сознание и его первичный опыт, который не сводится к познанию и гносеологическим схемам, вообще исключается из рассмотрения.
В письме к Гуссерлю Хайдеггер ставил вопрос о том, как может быть сущее непонятным: «В каком отношении сущее непонятно, т. е. какое более высокое притязание понимаемости возможно и необходимо? В возврате к чему достижимо это понимание?»[201] Этот вопрос, полагает Хайдеггер, должен быть первым «в экспликации трансцендентальной проблемы». Речь идет о критике гуссерлевского понимания конституирования и трансцендентальной субъективности как источника любого конституирования.
У Гуссерля, полагает Хайдеггер, источник конституирования парит над миром; задача состоит в том, чтобы понять его из самого бытия-в-мире. Тогда станет ясно, почему сознание наталкивается на вопросы, ответить на которые оно не может. Например, что есть реальность, что есть мир, что есть бытие? Более высокое притязание понимаемости осуществляется, по Хайдеггеру, в возврате к первичным структурам бытия-в-мире, которые совпадают с первичными линиями понимания. Сознание оказывается у Хайдеггера встроенным в бытие-в-мире, ему отводится более скромная роль, чем конституирование смысла: по Хайдеггеру, смысл, присущий самому бытию (смысл бытия) – забота – источник любого понимания, в том числе конституирования.
Сознание, которое Хайдеггер стремится вернуть в бытие-в-мире, понимается неявно как все объясняющее сознание, сознание, «владеющее» сущим. Тем самым Хайдеггер, критикуя Гуссерля, подразумевает отнюдь не гуссерлевское понимание сознания. Хайдеггер показывает: сознание не владеет сущим и бытием, оно не может объяснить, почему бытие есть. Если сознание не владеет бытием, то бытие (в-мире) владеет сознанием. Отношение переворачивается, но тип отношения остается: не бытие есть результат (функция) конституирования, но сознание встроено в бытие, оно есть функция бытия.
Бытие и время выглядит как абстрактно-мифологический роман, персонажи которого – Бытие, Dasein, Забота, Сподручное и Наличное, Открытость и Истина – существуют как бы отдельно от автора. Такой прием, как известно, используется в литературе. Как будто не Хайдеггер написал Бытие и время, но сами Бытие, Время и Забота. Автор в таком случае – лишь проводник этих онтологических сил. И в этом снова проявляется понимание сознания как экспрессии того, что по ту сторону сознания.
В настоящее время для нас не менее важным, на мой взгляд, является не только обращение к Хайдеггеру, интерес к творчеству которого огромен в нашей стране, но и к трудам тех, на кого Хайдеггер оказал влияние и к голосу которых прислушиваются. Это особенно важно в контексте обсуждаемых нами проблем.
В глубокой и значительной статье В. В. Бибихина Философия и религия содержится, к сожалению, пассаж, написанный под явным влиянием хайдеггеровых размышлений об эпохе Нового времени. Как правило, попытки некритически принять позицию Хайдеггера и выразить ее на своем языке умножают неявно сделанные предпосылки и смешения. Не является исключением и этот текст.
«Всякая настоящая философия знает, – пишет В. В. Бибихин, – как многое – все главное – совершилось прежде, чем мы успели заметить; знает, что к ранним, решающим событиям мы, люди, никогда не успеваем. «Первое по природе – последнее для нас». Память об этом учит смирению. Претензии уверенного сознания, которое в Новое время захватывает себе командные позиции, наблюдательные пункты учета и контроля, можно было бы объяснить гипертрофией лестничного остроумия. Когда решающее уже произошло, когда уже поздно и не нужно, когда история укатила дальше свое не останавливающееся колесо, тогда на опустевшую сцену выходит сознание и начинает с грехом пополам (…) для чего-то отражать случившееся (…). Сознание хромает за историей и не может ее догнать»[202].
Каковы же предпосылки этого рассуждения, каково определенное понимание сознания, которое лежит в его основе?
Решающее слово осознанно, не после текста, а в нем самом сказано самим автором: сознание – это отражение. Для чего нужно это отражение, для чего это отражение гонится (!) за историей, никому не известно. Сознание приходит после спектакля истории («люди не только актеры, но и авторы»?), в сумерки, но это уже не сова Минервы, но некое плохо передвигающееся существо, которое никак не хочет признать свою никчемность и исчезнуть, чтобы его не раздавило колесо истории. И вдруг «экс-стасис»! В Новое время сознание захватывает власть, в его «руках» все пункты наблюдения, контроля и учета. Наступает его время, время сознания. В чем же причина? Оказывается, все дело в «лестничном остроумии», которое в данном случае можно истолковать по-разному: 1) сознание лишь потом отражает то, что уже совершилось. Т. е. все «властные структуры» «случились принадлежать» сознанию, но сознание не знало о том, что оно захватило власть – какой же это контроль и учет? 2) сознание лишь воображает, что оно остроумно, т. е. что оно ранее захватило власть, на самом деле так случилось в бытии, или такова была одна из хитростей мирового разума, что бытие или дух внушили иллюзию власти не сознающему это внушение сознанию.
Остается вопрос: иллюзорной или реальной является власть сознания в Новое время? Иными словами, сознание действительно было столь остроумным, что захватило власть, или же это была иллюзия и сознание, лишь уходя, на лестнице (теперь сознание уходит, а история остается), компенсирует свою неудачу (все же хотело, хромоногое, власти!) иллюзией.
«Претензии уверенного сознания, которое захватывает власть» – претензии на что? – на то, что оно якобы захватило власть, тогда нужно бы так и написать. Если же это «просто» претензии, то неявно вводится оценочный момент: сознание захватило власть, которой недостойно. Т. е. опять же – никчемность сознания. И тогда уже «мы, люди» должны иметь претензии к сознанию, которое раздулось до невообразимых размеров.
Соответствуют ли эти «невообразимые размеры сознания» действительному положению дел? А может быть, как раз сознания и не хватает современной культуре, даже как отражения?
Очевидно, что отражающее сознание не может захватить власть и быть надзирающей инстанцией. Или отражать, или контролировать. Но в том-то и дело, что в данном тексте, который в этом смысле далеко не исключение, имеет место постоянный переход, или колебание, между пониманием сознания как отражения и как конструирования. Во всяком случае, если сознание – это отражение, то у него нет сейчас причин для эйфории, скорее оно должно бы впасть в депрессию, ибо попало не в очень хорошую Историю.
Первая из выделенных нами возможных интерпретаций «лестничного остроумия сознания» связана с именем Хайдеггера, провозгласившего господство субъективизма в Новое время. Реально ли это господство, по Хайдеггеру? Несомненно, но все же «чуть-чуть» иллюзорно, ибо причина субъективизма – «закрытость бытия» со всеми организующими мир в картину мира последствиями. Откроется бытие, даст Бог, и субъективизм сойдет на нет.
Вторая интерпретация связана с именами Маркса и Энгельса, которые постоянно подчеркивали несамостоятельность («хромоногость» – вид не-само-стоятельности) сознания. Говоря об определенном периоде Истории, об эпохе разделения материального и духовного труда, Маркс и Энгельс пишут: «С этого момента сознание может действительно вообразить себе, что оно есть нечто другое, чем сознание существующей практики, действительно нечто представлять, не представляя нечто действительное – с этого момента сознание в состоянии эмансипировать себя от мира и перейти к образованию «чистой» теории, теологии, философии, морали etc»[203].
И снова ирония по отношению к сознанию. Однако сходятся ли здесь концы с концами? Сознание воображает, что оно автономно, и при этом подразумевается, что они-то, авторы этой фразы, знают, ибо парят над сознанием, что эта автономия иллюзорна, ибо они, авторы, представляют не точку зрения (!) сознания, а общественного бытия, практики и т. д.
Здесь, конечно, «работает» концепция встроенного сознания, сознания как функции практики. При этом «сознание существующей практики» может интерпретироваться и как принадлежность сознания практике – тогда сознание чье? – практики, и как отражение практики, тогда – сознание чего? а в русском переводе для верности-осознание практики[204].
У Маркса, конечно, первый момент переплетен со вторым. Сознание – это прежде всего функция практики, сознание не существует отдельно от практики (вот, собственно, смысл этих слов). Деятельность использует сознание в своих целях, сознание и возникает в процессе деятельности, и продолжает свое существование в качестве ее функции. По существу, деятельности приписывается сознание – ставить цели, использовать средства. И это не удивительно, ибо действуют люди, и для их деятельности необходим опыт сознания как опыт решения практических задач. Получается достаточно простая вещь: решение практических задач неотделимо от практических задач. Специфика рассуждений Маркса такова: определенное понимание сознания он превращает в сознание вообще и все виды духовного опыта превращаются тогда в функцию деятельности.
Употребление термина в другом значении – как «осознание практики» – приводит также к достаточно странным результатам. Здесь речь идет об отражении деятельности. Но так как деятельность необходимо включает в себя сознание как решение задач деятельности, то осознание практики есть не что иное, как осознание определенных практических задач и их решения (что же может еще отражать сознание практики?), а следовательно, сознание сознания. Конечно, следуя Канту, точнее, следуя парадигме, заданной Кантом, Маркс отождествляет сознание и деятельность – но это когда речь идет о сознании. Но можно ли допустить, что у создателя нового материализма отождествляются деятельность и сознание, т. е. не сознание понимается с «точки зрения» деятельности, но деятельность с «точки зрения» сознания?
В понимании сознания как сознания существующей практики проглядывает и шопенгауэровская схема: сознание – это функция практики, благодаря которой практика осознает себя – познание есть функция воли, благодаря которой воля осознает себя.
Таким образом, когда Маркс выходит за пределы констатации, что определение понимания сознания неотделимо от практики, как только определенное понимание сознания объявляется сущностью сознания, а сознание объявляется вторичным, сознание в этих рассуждениях обнаруживает свой нефункциональный опыт. Сознание сознания деятельности уже не встроено в деятельность, это сознание есть понимание того, что в деятельности реализуется определенный тип сознания, определенное понимание сознания (здесь это следует понимать в объективном отношении) как определенный способ понимания действительности.
Когда сознание создает иллюзии, то эти иллюзии создаются сознанием, но сознание не отражает иллюзии. Если допустить, что иллюзорное сознание есть отражение иллюзорной практики, то следует также иметь в виду, что иллюзорная практика не есть действительная практика, но иллюзия. Отсюда следует, что иллюзорное сознание есть иллюзия иллюзии (сознание сознания). Опять-таки, как только в марксизме выходят за пределы констатации, что определенные взаимовлияния социального опыта и опыта деятельности способствуют иллюзиям относительно социума и деятельности (в марксизме к тому же постоянно смешивается социальный опыт и опыт деятельности), как только претензии опыта сознания на автономность объявляются воображаемыми, то опыт сознания сразу же возвращает себе действительную автономию, напоминая, что воображение – это модус сознания.
«Настоящая философия знает», – пишет В.В.Бибихин. Но в каком же опыте формируется это знание – знание о событиях прошлого, которые в прошлом не осознавались, какой же опыт дает возможность отделить прошлое от настоящего, каков же опыт сознания времени, как не опыт самого сознания? И разве память, которая учит смирению, а иной раз и не учит ему, разве память не модус сознания?
Концепция обусловленности сознания близка к концепции «встроенности» сознания. Если во втором смысле акцентируются функциональные связи, то в первом – причинные ряды, а иногда и обратная связь между обусловливающим и обусловленным (функциональные связи также не исключаются). Существуют три основных варианта этой концепции: социальный, биологический и «лингвистический» варианты (у М. Фуко: труд – жизнь – язык). Возможны, так сказать, и «эмпириокритические» аргументы: физиология человека обусловливает сознание, а сознание обусловливает определенный уровень физиологии как науки (вариант концепции: нет субъекта без объекта, и наоборот). Точно так же и в отношении социальной и языковой обусловленности. При этом аргументация концепции обусловленности вплотную приближается к концепции «встроенности».
Что же оставляется без внимания в такой аргументации? Во-первых, сознание. Дело в том, что все концепции обусловленности забывают сказать, что же, собственно, обусловливается. Желая показать, что сознание не есть некая парящая над миром субстанция, приверженцы этих воззрений достигают обратного результата: сознание предстает как некая принципиально недескриптивная сущность, обусловленность которой следует обязательно доказать или же признать ее небытие.
Во-вторых, забывают о том, что различие между типами обусловленности есть прерогатива опыта сознания. Если же попытаться показать, что это различие само социально обусловлено (не физиологические же процессы отличают социальную обусловленность от физиологической!)[205], то следует принять во внимание, что в социальном опыте также «присутствует» сознание. В конечном итоге, забывают о собственном сознании, которое создает концепции обусловленности.
В-третьих. Необходимо признать наличие вышеуказанных кругов и определенных видов взаимосвязи сознания, тела, социума, языка. Однако следует также обратить внимание на то, что сознание не только обусловливает уровень наук о теле, но также присутствует в самом теле, и это присутствие делает возможным опыт тела как многообразный опыт ощущений. Сознание не только обусловливает уровень социальной науки, но и обусловливает возможность социального опыта: принятие социальной роли (осознанно, но не обязательно рефлексивно) и т. д. Сознание не только обусловливает уровень лингвистической науки, но и присутствует в языке в качестве смысла языковых выражений.
Таким образом, сознание уже всегда присутствует в том, что полагается в качестве его причины. Что же реально имеется в виду, когда говорится о зависимости сознания от тела, социума и языка?
Рассмотрим достаточно простой, но, к сожалению, часто употребляемый аргумент: сознания нет без тела, следовательно, наличие тела есть условие существования сознания. Однако и человеческое тело невозможно без сознания, не только тело мертво без сознания, но также социум и язык. Можем ли мы, телесные, социальные и «языковые» существа, допускать свое собственное отсутствие в качестве таковых, чтобы доказать обусловленность своего собственного сознания? Иными словами, можно ли доказательство обусловленности чего бы то ни было начинать с допущения отсутствия обусловливающего? К этому подталкивают определенные навыки опыта деятельности, а также определенные приемы научного исследования (если отсутствует определенный предмет или эффект, и без него другой предмет или эффект не имеет места, то, разумеется, первый является условием второго). Однако этот прием нельзя использовать при постановке вопроса о сознании, ибо сознание не предмет и не эффект.
Хайдеггер справедливо указывал, что мы не можем задать вопрос о мире, находясь вне мира. Точно так же мы не можем задать вопрос о сознании, находясь в некоторой бестелесной, внесоциальной и внеязыковой точке, ибо сознание уже присутствует в теле, в социуме и в языке. Это необходимое, но недостаточное условие, ибо мы не можем также задать вопрос о сознании, находясь вне сознания. Вопрос о сознании может исходить только из опыта сознания, из самого сознания, и необходимость вопроса о сознании обусловлена опытом сознания.
В концепциях встроенности и обусловленности сознания как раз фиксируется присутствие сознания в теле, социуме и языке. При этом каждый раз фиксируется определенное понимание сознания или определенное сочетание толкований сознания, но не чистый опыт сознания, «присутствие» которого в теле, социуме и языке дает соответственно опыт тела, опыт социума и опыт языка.
Только из опыта сознания, но не из опыта тела, социума и языка мы можем задать вопрос о сознании. Только из опыта сознания мы можем задать вопрос о специфике опыта тела, социального опыта и опыта языка. Только из сознания мы можем задать вопрос о специфике взаимных зависимостей опыта сознания и опыта тела, социума, языка. Какова природа дескрипции этих зависимостей? Как мы можем описать отношения сознания и тела, социальных процессов, знаковых систем? На языке сознания, т. е. в качестве смысловых связей, или же на языке инстинктов и ощущений, языке социальных структур и знаковых систем? В этом как раз и состоит «основной вопрос философии» – об отношении сознания и бытия.
У Энгельса постановка и решение этого вопроса основывается на следующих предпосылках: а) по происхождению сознание вторично по отношению к деятельности; б) происхождение определяет сущность, действует сквозная причинная связь: будучи по происхождению вторичным, сознание будет вторичным всегда; в) между бытием и сознанием подразумевается причинная связь: бытие порождает сознание, и этот процесс порождения продолжается. Реальным решением Энгельса, как и всех других представителей «лагеря материализма», была не просто декларация первичности бытия (сама по себе эта первичность есть нечто туманное, теряющееся в туманности, из которой образовалась Солнечная система), но признание причинной связи, т. е. связи между предметами в качестве основного типа связи между сознанием и предметами. Именно это признание причинной связи позволило сделать вывод о вторичности сознания в любой произвольно выбранный момент. Кроме того, и связи сознания, связи смысла истолковываются явно и неявно как причинные или функциональные.
Гегель, пожалуй, первым попытался представить связь сознания и «несознания» как смысловую связь. Однако у Гегеля сами смысловые связи были поняты как логические связи, как связи, которые в иерархии ценностей смысла занимают более высокое место, чем первичный опыт сознания, который Гегель определил как жизнь и… оставил его без рассмотрения. Более того, у Гегеля связи между предметами природы и социальные связи также были истолкованы как смысловые. Последнее есть не что иное, как идеализм. Опять-таки, сущность идеализма не заключается в признании первичности идей – это лишь популярная и искажающая дефиниция. Идеализм – это попытка представить сами связи вещей как связи смысла. Специфика собственно гегелевского идеализма состояла в отождествлении связей смысла с логическими связями. Именно здесь, в аспекте этой методологии, а не в Философии природы Гегель ближе к методу естествознания, чем полагают иной раз его критики. Во всяком случае, историкам философии известно, что неокантианцы марбургской школы, сделавшие предметом своих исследований метод науки, были столь же кантианцами, сколь и гегельянцами.
Феноменология впервые преодолевает обе эти позиции, разделяя в сфере познания: а) связи переживаний; в) логические связи в теории («связи истин») и с) связи вещей. В целом, в отношении сознания это разделение принимает вид различия между актом сознания, смыслом, формируемым в направленности сознания на предмет, и самим предметом.
Однако вопрос остается: как мы можем описать связи между этими связями, чем «заполнено пространство» между ними? Мы отличаем связь значений, из которых, как выражался Гуссерль, как из гомогенного материала, состоят теории, от связи вещей. Внутри теории нет внутриатомных движений, а заряд ядра и количество электронов на орбите (допустим, что это не абстракции, а связь вещей) не соотносятся друг с другом как посылка и вывод.
Имеет ли смысл вопрос о связях между этими связями? Во всяком случае, вопрос о том, на основе какого опыта мы различаем эти связи, это осмысленный вопрос. Видимо, связь этих связей – связей значений (смыслов) и связей вещей – имеет непосредственное отношение к этому опыту.
Указание на этот опыт, исследование этого опыта составляет главную тему нашей работы. Это исследование имеет метафизический характер. Речь идет о попытке рассуждения о сознании на языке сознания, не прибегая к предпосылкам социального, научного и других видов опыта, однако отчасти используя этот опыт.
В то же время исследование не носит сугубо академического характера, ибо любые рассуждения о сознании – гносеологические и социологические исследования, популярные разъяснения и т. д. – на языке функциональных отношений социального опыта, на языке структурных отношений и причинных связей в той или иной степени агрессивны по отношению к опыту сознания. Более того, «упражнения» в духовном опыте, в которых игнорируется опыт сознания или признается вторичным по отношению к духовному опыту, приводят зачастую к катастрофическим последствиям для самого духовного опыта. Тогда уже не духовный опыт вырастает из опыта сознания, но «идеи овладевают массами».
Все попытки объяснить сознание через не-сознание не принимают во внимание, что не-сознание осознается как не-сознание все же сознанием. Все попытки «мыслить немыслимое» (Адорно, Фуко) сами вполне мыслимы, т. е. объяснимы, в рамках определенной парадигмы сознания. Они скроены по образцу гипотетико-дедуктивного метода экспериментального естествознания: предполагается наличие некоторой изначальной силы: трансцендентальной силы воображения, силы беспокойно и спокойно хитрого разума, силы воли, силы воли к власти, силы бессознательного, силы либидо, силы практики, силы под названием «труд-жизнь-язык» и, наконец, силы власти. Эта сила мыслится как «немыслимое», т. е. признается невозможным ее объяснить, прояснить, на нее непосредственно указать и т. д. Эта сила признается в качестве источника сознания (обусловливает сознание). Доступ к этому «немыслимому» возможен только благодаря его объективациям (познание, искусство, моральный и религиозный опыт, социальные институты и т. д.). Все эти силы есть по существу различные названия определенных видов опыта, который можно было бы назвать опытом суждения-воли. Однако суждение-воля обозначает здесь не «немыслимое», но близкие друг к другу виды опыта – опыт тела, опыт деятельности, опыт познания.
Реконструируемый ход рассуждений близок опять-таки к аргументации Канта – Шопенгауэра – Хайдеггера: принимается такое понимание сознания (как правило, отражение, конструирование, их сочетания), которое уже предполагает свою обусловленность. При этом «констатируется», что сознание не может схватить, объяснить, прояснить последнюю реальность, которая обусловливает сознание. Эта сила (уже не-сознание) признается в качестве того, что «сильнее» сознания, что «владеет» сознанием.
Основание предпосылок этой аргументации – отождествление определенной модификации чистого опыта сознания с самим этим опытом. Присутствие опыта сознания в социальном опыте, опыте тела и т. д. признается за сущность сознания. Затем в этом опыте указывается на то, что находится за пределами присутствия сознания, и устанавливается причинная или функциональная связь между обусловливающим и обусловливаемым. По типу аргументации решение «основного вопроса философии» с помощью понятия практики, психоанализ культуры, «археология сознания» и т. п. мало чем отличаются друг от друга.
Сегодня не столько бытие, сколько сознание пришло в забвение. И если о бытии опять-таки «просто» забыли, то в отношении сознания вырабатываются многочисленные концепции его активного забвения.
Когда, например, утверждают, что ситуация, обстоятельства вынуждают нас решать задачи, требуемые этими обстоятельствами, то при этом забывают, что сама требующая ситуация уже отделена от ситуации, которая в данный момент (и уже выделен момент!) не выдвигает перед нами первоочередных задач. Когда, например, полагают, что формирование личности происходит благодаря трудностям, при этом забывают, что трудности уже должны быть осознаны (и не обязательно в рефлексии) и отделены от «не-трудностей». Или когда утверждают, что сущность человека – это ансамбль общественных отношений, то забывают, что любой ансамбль – это прежде всего смысловые связи.
Сознание неустранимо из любого человеческого опыта, и даже опыта «разочарования в сознании», ибо это разочарование так или иначе содержит в себе определенное понимание сознания, а само разочарование есть модус сознания.
Сознание неустранимо из любого вопроса о человеческом сознании и из вопроса о человеческом бытии. Вопрос, вопрошание – это также модус сознания. И когда утверждают, что само бытие, сам предмет или сама ситуация нас спрашивают, то забывают (а забвение – это также модус сознания), что в этом «вопросе» бытие, предмет, ситуация уже различены – «бытие от сущего», предмет и ситуация от другого предмета и другой ситуации. И если даже (принимая определенный язык) полагать, что бытие нас спрашивает, то понимание «вопроса бытия» есть так же модус сознания, первичной «субстанцией» которого является различие, различение.
2. Сознание как опыт различия. Apriori distinctionis
А. Философия как исследование опыта
Философия не есть особый духовный опыт наряду с религиозным, эстетическим и нравственным опытом. Философия – это исследование опыта сознания, опыта, из которого вырастают все виды духовного опыта, в котором коренятся все возможности духовного. Это исследование становится возможным благодаря самому опыту сознания, в сущности которого уже заключена возможность рефлексии. Философия превращает эту возможность в действительность и исследует предельную реальность – опыт сознания, реальность, которая радикально отличается от реальности не-сознания – реальности предметного мира.
Критерием различия опыта сознания от не-сознания, т. е. от не-опыта, является сам опыт сознания, который в своей сущности есть опыт различия.
Само осуществление многообразного опыта сознания делает для нас очевидным, что восприятие предмета, память о предмете, образ предмета в фантазии, сомнение относительно предмета и т. д. не есть сам предмет. Эту очевидность дает нам именно опыт восприятия, воображения и т. д., но не сам воспринимаемый или воображаемый предмет.
Первый вопрос философии – это вопрос о сознании и только второй – об отношении сознания и предметного мира. Если вопрос о сознании исходит из самого опыта сознания, то этот многообразный опыт осуществления восприятия, воображения, определенных методов познания и т. д. показывает нам, что в самом процессе восприятия, воспоминания и т. д. нет ничего предметного. Только исходя из этой очевидности, можно задавать второй вопрос – вопрос о предмете, который также должен быть поставлен, исходя из опыта сознания. Тогда это будет вопрос об отношении сознания к предмету, но не об отношении предмета к сознанию, что неявно предполагает некоторый опыт у самого предмета.
Если вопрос о предмете исходит из опыта сознания, т. е. если вопрос о предмете уже подразумевает непредметность сознания, тогда опыт сознания предметности делает для нас очевидным: радикальное различие сознания и предмета само является непредметным. Другими словами, связь между сознанием и предметами может быть описана только как смысловая связь, но не как физическая, химическая, биологическая или социальная. Вопрос в том, как можно описать «присутствие» смысловой связи в перечисленных видах предметных связей, поскольку мы усматриваем эти связи, поскольку мы их понимаем.
Опыт сознания содержит в себе также критерии отличия чистого опыта сознания от других уровней и видов опыта: с одной стороны, от духовного опыта, с другой – опыта «суждения-воли» (опыт тела, опыт деятельности, опыт нации, опыт познания) и социального опыта (включение в социальную группу, принятие социальной роли, социальная адаптация, языковые клише, воздействие средств массовых коммуникаций, в том числе и на работающих в этой сфере, мода, формы образования и т. д.).
Человеческое сознание присутствует во всех видах, типах, сферах человеческого опыта. Присутствие это многообразно и многоразлично. Описание этого присутствия сознания, явленного в сердцевине опыта или вытесняемого вплоть до полного исчезновения, т. е. до уничтожения, опыта, есть бесконечная задача философии как феноменологии, как метафизики сознания.
Опыт не есть абстракция, охватывающая все виды опыта. Опыт – это всегда понимание стандарта моды, логических связей внутри научной теории, связей предметов, описываемых этой теорией, философских учений; опыт – это понимание ситуации, свойств предмета, это понимание другого человека и т. д. Бессмысленно доказывать наличие человеческого опыта, ибо опыт-понимание – изначальная реальность человеческого бытия. Любое понимание доказывает наличие опыта. Термин «опыт» может служить для обозначения всех видов опыта в изложении и разъяснении того, что такое опыт. Однако виды опыта не обобщаются «понятием» опыта, но основываются на первичном опыте сознания, о котором пойдет речь далее.
Почва, из которой произрастает философия, – это опыт сознания, и исходным моментом философствования должен быть этот опыт. Человек – «прирожденный метафизик» не потому, что он постоянно стремится выйти за пределы опыта, напротив, человек философствует потому, что у него есть изначальный метафизический опыт сознания.
Для философии опрометчиво искать первичную точку опоры в духовном опыте или же в опыте тела, деятельности, познания и социума. Однако философия всегда и неизбежно связана со всеми видами опыта. Если философия начинает с духовного опыта, скажем, с религиозного, то она, как правило, впадает в мистику, где исчезают все различия («серое по серому») и исчезает опыт сознания как основа различий. Примером может послужить философия Гегеля, которая «замешана» (т. е. в основе – смесь) и на религиозном опыте («за Гегелем как философом открывается Гегель как теолог»), и на эстетическом опыте романтизма. Внимательное прочтение Гегеля Дильтеем и неогегельянцами открыло иррациональную основу гегелевского панлогизма и «рационализма».
Философия, которая в поисках основания обращается к определенному типу опыта, уже готова стать его служанкой. Если философия желает стать научной, то она становится методологией, или служанкой науки, если философия желает стать практической, то место на службе у идеологии ей гарантировано. То же самое и в отношении религии. Это не означает, конечно, что философия религии, методология науки и т. д. не могут иметь самостоятельного места и должны раствориться в философии. Речь идет только о том, что философия как исследование опыта сознания не заимствует своих оснований.
Образ философии как «ничьей земли» между религией и наукой (Б. Рассел) – уместно было бы добавить: и идеологией – предполагает взгляд объективный, «со стороны»[206]. И действительно, современная философия, за исключением феноменологии, – это нейтральная территория, которую пытаются захватить с разным успехом религия, наука, идеология. Однако не нарушая осмысленности рассуждений, не выходя за пределы понимания аргументации, т. е. не выходя за пределы опыта сознания, на философию посмотреть «со стороны» невозможно.
В. Опыт различия. Априоризм и рефлексия
Вопрос «что такое время» обычно повергает, как это впервые эксплицитно выразил Августин, в замешательство. То же самое относится и к проблеме сознания. Что же такое «замешательство», как не смешение различных видов опыта? Никто не станет оспаривать, что замешательство – это не физический или социальный процесс, но модус сознания, который поддается, хотя и с трудом, описанию. Л. Витгенштейн, анализируя августиновское описание замешательства при формулировке вопроса о времени, показал, что у Августина к утверждениям, которые нельзя квалифицировать как естественнонаучные, «примешиваются» нефилософские[207]. Иначе говоря, к философскому опыту примешивается нефилософский. Означает ли это, что философские проблемы всегда должны вызывать замешательство, а естественнонаучные – только затруднения? Во всяком случае, следует различать замешательство и ощущение трудности при решении той или иной проблемы. Причины замешательства и трудностей различны.
Вопросы о сознании и времени вызывают замешательство, когда предполагается, что мы могли бы ответить на эти вопросы, исходя из определенного вида опыта – религиозного, эстетического, естественнонаучного и т. д. Когда же мы не находим в этих сферах опыта того, что такое сознание само по себе (и соответственно, время), мы приходим в замешательство: опыт сознания подсказывает нам, что сознание есть, что время есть, но найти их «в чистом виде» ни в одной объективации сознания не удается. Замешательство, в основе которого смешение опытов, есть весьма ценный опыт сознания, и рефлексия на него есть опыт различия.
Другое дело трудности. В постановке проблемы сознания и времени можно избежать замешательства, но трудностей избежать не удается. Дело не в том, что трудна сама формулировка проблемы, дело в том, что бесконечно многообразный опыт сознания и времени предполагает постоянный процесс рефлексии, который встроен в сам опыт сознания. Иначе говоря, сознание и время нельзя отделить от человеческого бытия в любом его проявлении и измерении.
Сознание тождественно изначальному опыту человека; оно «слишком близко» к нам, от него невозможно отстраниться, дистанцироваться, ибо оно непространственно, сознание не есть объект, который можно исчислить и поставить в отношение к другому предмету, сознание не планшет, на котором можно рисовать схемы его (планшета?) «деятельности» и т. д.
И в то же время, сознание не ничто. Сознание нельзя определить через род и видовое отличие не потому, что оно самое общее понятие, а потому, что сознание (как и бытие) не есть понятие, но источник всех понятий, схем, образов и т. д.
Получить доступ к сознанию можно только благодаря дескрипции, т. е. благодаря одному из фундаментальных свойств самого сознания. При этом подразумевается, что одновременно с сознанием дескрипция захватывает с необходимостью и предмет сознания, то, на что «направлено» сознание. Однако дескрипция первичного, непредметного опыта сознания, опыта непредметного, опыта, в котором проявляется само сознание, не имеет непосредственного отношения к какому-либо предмету. Эта дескрипция есть дескрипция-указание на многообразие этого опыта, которое может быть представлено как перечисление возможностей первичного опыта. Однако эта дескрипция принципиально отличается от структурирования объекта, которое осуществляется всегда извне. Дескрипция-указание не является, с другой стороны, апофатической, она непосредственно указывает на первичный опыт сознания, который пронизывает все другие виды опыта и который присутствует во всех видах переживаний. Этот опыт – простейший, доступный каждому, явно или неявно «включенный в структуру» любого опыта. Сознание – это опыт различия.
Мы отличаем светлое от темного, теплое от менее теплого и холодного, сухое от влажного, твердое от мягкого, тяжелое от легкого, красное от коричневого, прямой смысл от метафоры, предмет от другого предмета, контуры предмета от его «массы»; мы отличаем причину от следствия, посылку от вывода, причинно-следственную связь от логической, смысл от грамматической структуры, абстракцию от образа, теорию от реальности, относительно которой она – теория, душевность от вежливости, неприязнь от равнодушия, восприятие от памяти, забвение от незнания, сомнение от предположения, долг от сострадания, очевидное от неочевидного и т. д. и т. п. Мы различаем «сферы бытия»: предметы, ценности, модусы сознания, способы познания, эмоции, религии, течения в философии, исторические эпохи, культуры…
Из перечисленных различий следует выделить, конечно, различие модусов сознания, которые сами «состоят» из различий.
Логика здравого смысла подсказывает: мы сначала видим, слышим и т. д., а потом различаем. Однако здесь здравый смысл должен быть дополнен рефлексией. Визуальное восприятие есть не что иное, как различение данных цвета, формы, положений. Сами данные могут быть схвачены только в сравнении с другими данными, а сам предмет может быть воспринят только при отделении от своего фона и т. д.
В любом модусе сознания «действует» целостная структура опыта: различение-синтез-идентификация[208], однако различение является первичным опытом, благодаря которому синтез и идентификация также становятся опытом. В принципе синтез не может иметь места без предварительно различенных соотносительных «тезисов» (данных цвета, формы, звука, запаха и т. д.), однако дело почти всегда представляется так, как будто синтез есть первичный «слой» сознания, а различие – некоторая второстепенная процедура. Однако сомнение все же остается: мы все-таки различаем что-то, мы все-таки отличаем одно от другого. Быть может, мы все-таки сначала идентифицируем нечто, а потом отличаем его от другого идентифицированного нечто? Может быть, опыт тождества первичнее, чем опыт различия?
Вопрос этот разрешает опыт сознания. Идентификация, опознание, узнавание, рекогниция (все это синонимы) предполагает распознавание, выделение предмета, процесса и т. д. из общей «массы» предметов, из совокупности других процессов. Опыт распознавания – это опыт выделения, который предполагает различение цветов, форм, пространственных положений и т. д. предмета. Именно это различение «подготавливает» синтез, а затем идентификацию.
Более того, любой опыт выделения и, следовательно, различения предполагает различение (нерефлексивное) моментов времени как времени-сознания, первичных временных «точек»: точки «теперь», точки «только что происшедшего», точки «первичного предвосхищения». Различение цветов, форм и т. д. уже предполагает опыт времени, первичной формой которого является последовательность.
Не только опыт распознавания, но и сама структура слова «распознавание» подсказывает нам, что опыт распознавания и опыт различения тождественны. Оттенки смысла этих слов, если иметь в виду результаты распознавания и различия, могут отличаться. Но если иметь в виду сам опыт, то процессы распознавания и различения тождественны. Само тождество распознавания и различения не означает первичности опыта тождества, ибо о тождественности различения и распознавания мы узнаем из опыта различения и распознавания.
Синтез и идентификация являются, конечно, необходимыми элементами завершенного опыта сознания, опыта, в котором «контуры» (в широком смысле) предмета выделяются, синтезируются и предмет идентифицируется. Тем самым мы отличаем предмет от другого предмета. Замечательно то, что этот полный опыт мы также можем назвать опытом различия, ибо идентификация имеет в качестве своего результата различие. Опыт различия говорит нам о принципиальной открытости опыта, его полная структура:… различие-синтез-идентификация-различие… Отсюда следует, что идентификация (и синтез) встроены в различие, но не различие встроено в идентификацию. Для того чтобы идентифицировать нечто, мы должны это нечто выделить, но для того чтобы идентифицировать само различение, само выделение, мы должны опять-таки различать и выделять.
Таким образом, любое «что-то» возникает в качестве данного в первую очередь благодаря различию. Однако мы выделяем предмет не из «неразличимой массы», не из сартровского бытия-в-себе[209], не из «абсолютной позитивности», но из потенциальных полей человеческого опыта, в частности из потенциальных полей восприятия.
Первичные данные ощущений Гуссерль назвал гилетическими данными. Ноэтические фазы переживаний придают гилетическим данным, согласно Гуссерлю, предметный смысл. Ноэтические фазы у Гуссерля не тождественны, разумеется, кантовскому каркасу категорий, синтетически обрабатывающему данные ощущений. Noesis присутствует во всех сферах человеческого опыта, включая и научное познание. Однако у Гуссерля ноэсис – это прежде всего синтезирующая «гилетическую материю» форма. В таком случае гилетические данные выступают в качестве неких нейтральных элементов, появившихся в сознании без его участия.
На самом деле, уже в гилетике присутствует различение как первичный слой сознания. При этом речь идет не о том, что существует некое сознание-в-себе, а различение гилетических данных есть его первичная функция. Это различение и есть первичное сознание, первичный слой в первичном опыте сознания – опыте различий.
Различение, дистинкция первичней, чем тождество, идентификация уже в самом первичном из всех модусов сознания – восприятии. Различение составляет сущность восприятия и неотделимо от него (эта неотделимость опять-таки дана в опыте различия). Видеть, слышать, ощущать запах, ощупывать, испытывать вкусовые ощущения означает прежде всего различать. Осознавать нечто не различая, невозможно.
Мы не можем видеть самого различения – оно непредметно, но мы можем видеть результаты различия: мы видим различные, т. е. различенные цвета, мы слышим различенные звуки и т. д. Однако мы не только не можем видеть, слышать и т. д. опыта тождества (любой опыт сознания непредметен), но мы не можем видеть и слышать результаты этого опыта, ибо «нет двух одинаковых листьев». В этом смысле различие абсолютно, а тождество всегда относительно. Лишь социальный опыт, где доминирует идентификация, принуждает нас зачастую «видеть» тождественное, однако опыт сознания сопротивляется этому. Само различие различения, синтеза и идентификации основано на опыте различия. Мы можем различить различие, синтез и идентификацию, но мы не можем их синтезировать или отождествить, не деформируя структуру человеческого опыта: синтез+идентификация без различения или только идентификация без различения и без синтеза. Такая деформация приводит к субстантивации синтеза (Кант) или тождества (Гегель).
Различие, различение (далее – синонимы) оказывается всегда первичным по отношению к опыту синтеза и опыту идентификации. Если в доказательство обратного утверждать, что в перечислении различий мы их идентифицируем, то следует иметь в виду, что идентификация различия есть не что иное, как опыт этого различия, его осуществление. Такого рода идентификация различий, их перечисление и классификация основывается, в свою очередь, на базисной системе различий. Иными словами, любой опыт различия фундирован изначальной системой различий, которая образует «несубстанциальную субстанцию» сознания и которая находит свое языковое выражение в перечислении базисных элементов опыта.
Выделим многообразие первичных различий, различений, дистинкций, образующее первичный опыт сознания:
I. Множество субсистенций актов сознания
1. Различие первичных временных моментов: «теперь», «только что», «еще не».
2. Различие в ощущениях цвета, звука, запаха, вкуса, прикосновения.
3. Различие пространственных форм.
4. Различие «первичных реакций»: светлого и темного, горячего и холодного, тяжелого и легкого, сухого и влажного.
5. Различие основных модусов сознания вне рефлексии: восприятия, памяти, воображения, сомнения, предположения и т. д.; нерефлексивное различие эмоциональных состояний. Иначе говоря, переход от одного акта сознания к другому, «смена настроений».
II. Группа конституирования смысла: непредметность смысла, отличие смысла от знака, акта, образа
6. Различие длительности, последовательности, одновременности.
7. Различие акта сознания (восприятия, памяти и т. д.) от смысла, значения, содержания сознания (употребляются как синонимы).
8. Различие акта сознания и знака, знаковой системы (как языкового выражения, «несущего» значение, так и знака-признака, знака-указания).
9. Различие акта сознания и образа (наглядного образа, образа памяти или фантазии).
10. Различие смысла и предмета.
11. Различие смысла и образа.
12. Различие смысла и знака.
III. Класс рефлексии[210]
14. Различие модуса сознания и акта осознания этого модуса в качестве такового: основа рефлексивного различения модусов сознания; источник очевидности.
13. Различие эмоций как смысловых реакций и ориентации.
14. Различие форм осознания времени и времени-сознания как потока различий.
16. Различие актуального и потенциального горизонта сознания.
17. Различие собственного опыта и опыта другого/другой.
18. Различие бодрствующего сознания и сновидения (различие – в основе первого, синтез, отождествление – в основе второго).
19. Различие безусловного, абсолютного и конвенционального, релятивного.
20. Различие дескрипции и конструирования.
21. Различие прямого и метафорического смыслов (основа понимания метафоры).
22. Различие типов различий (на этом основана возможность данного перечисления, как и любого перечисления и любой классификации: тождество-основание классификации вторично, хотя и необходимо)[211].
23. Различение различия, синтеза и идентификации: их смысловая связь, т. е. связь, основанная на опыте различия, есть структура опыта.
24. Различие собственного опыта сознания и других типов и видов опыта.
Термины «первичный», «изначальный», «лежащий в основе» в отношении к опыту понимаются достаточно традиционно – как «то, без чего невозможно», как то, что всегда темпорально и логически предшествует всем другим видам опыта, как Apriori. Нетрадиционным является здесь то, что Apriori понимается как первичный опыт различий, как Apriori distinctionis. Этот опыт лежит в основе не только многообразного опыта различий всех видов, рангов, уровней и т. д., но и в основе опыта синтеза и опыта тождества. Apriori – это не «до опыта», ибо «в» сознании нет ничего «до» самого сознания. Априорное – это противоположность «доопытного». «А priori» – означает «от предшествующего», «от первого». В этом смысле Apriori – первичный опыт сознания, предшествующий всем остальным видам опыта. Apriori distinctionis – это открытый, но не экстатический опыт, это субстанциальный и непредметный опыт сознания, это первичное понимание сознания, которое делает возможным любое другое его понимание.
Apriori distinctionis – это обозначение первичного опыта различий, но не понятийного опыта. Последний является одной из модификаций опыта синтеза и опыта тождества. Об этом свидетельствуют и кантовская рекогниция в понятии, и гегелевская система развивающихся понятий, тождественных своему предмету Это не означает, что опыт сознания не имеет отношения к формированию понятий. Речь только о том, что первичный опыт сознания не тождествен понятийному опыту.
Понимание первичного опыта сознания как опыта различий, различений, дистинкций коренится в самом этом опыте. Иначе говоря, опыт различий фундирует рефлексию на самого себя; рефлексивное изучение сознания обретает здесь свой рациональный смысл.
В феноменологии (Брентано, Гуссерль) мы находим две основных идеи относительно рефлексии: 1) рефлексия не есть наблюдение за сознанием; 2) возможность рефлексии коренится в самом сознании. Брентано указывал на представление представления как на внутреннее восприятие, которое сосуществует в одном и том же акте с первичным представлением.
Учение Брентано о внутреннем восприятии явилось первым шагом в понимании рефлексии (в дефинициях никогда не было недостатка). Однако такое воззрение уже с самого начала существенно ограничило опыт рефлексии констатацией определенного типа представления, суждения или эмоции.
Гуссерль существенно расширил опыт рефлексии в конкретных феноменологических описаниях. Однако на методологическом уровне, которому сам Гуссерль справедливо отводил важное место, он лишь повторяет, по существу, идеи Брентано, употребляя вместо термина «внутреннее восприятие» термин «имманентное восприятие» и распространяя описание соприсутствия представления и представления представления на описание соприсутствия актов рефлексии и потока сознания[212]. И только в лекциях по феноменологии внутреннего времени-сознания Гуссерль указал на существенное свойство сознания времени – ретенцию, которая лежит в основе рефлексии на временной поток сознания.
Таким образом, в феноменологии было только указано на то, что возможность рефлексии коренится в самом сознании, однако ни у Брентано, ни у Гуссерля не были выявлены многообразные типы связей сознания и рефлексии.
Почему же в феноменологических дескрипциях у Гуссерля фактически исследуются некоторые типы этих связей, а на методологическом уровне это не фиксируется? Ответ на этот вопрос можно найти только в феноменологическом понимании сознания как психического феномена или интенциональности. Дело в том, что сознание и у Брентано, и у Гуссерля отчасти субстантивируется: представление, суждение, интенциональность в целом выступают в качестве некоторых неразложимых в конечном итоге элементов, выражающих сущность сознания. Структурирование интенциональности у Гуссерля посредством темпоральных структур (протенция-теперь-ретенция), посредством понятий качества, материи, сущности интенционального акта и ноэтико-ноэматических структур опять-таки приходит к констатации далее уже неразложимых элементов сознания. Сознание неявно предстает при этом в виде некоторой субстанции, атрибутами которой являются брентановские психические феномены или гуссерлевская интенциональность.
Критика Хайдеггера в адрес Брентано и Гуссерля достаточно убедительна. «Интенциональность отождествляется с сущим, в качестве свойства которого она определяется; она отождествляется с психическим, – пишет Хайдеггер. – Нерассмотренным оставил Брентано также то, структурой чего, собственно, должна быть интенциональность, и причем потому, что он принял в свою теорию психическое в традиционном смысле имманентно воспринимаемого, имманентно осознаваемого (в смысле декартовского учения)»[213]. Остается неопределенным характер самого психического, считает Хайдеггер, то, структурой чего является интенциональность, само не раскрывается первично и изначально.
Аналогичные критические замечания Хайдеггер делает в отношении Гуссерля и Шелера. Гуссерль полагал интенциональность структурой разума (разума не как психического), Шелер – структурой духа, или личности (также ограничивая психическое). Однако эти учения, полагает Хайдеггер, недостаточно радикальны, ибо вместе с разумом и духом мыслится душа (anima). Согласно Хайдеггеру нужно поставить вопрос о бытии самой интенциональности, т. е. о бытии сущего, структурой которого она является. Это можно сделать только в отношении человеческого бытия, но не в отношении абстрагированных от «в-мире-бытия» разума, души, личности и т. п.
Следует отметить также, что у Гуссерля отчасти субстантивируется не только интенциональность в целом, но и каждый элемент ее структуры. Прежде всего это относится к смыслу как к конечной отсылке феноменологической методологии. На смысл указывают как на то, что усматривается, и тем самым неявно придают смыслу определенный статус существования. При этом сознание, или, точнее, ноэтический слой сознания понимается как усмотрение смысла. Само усмотрение чего-то присутствующего, видение чего-то существующего содержит в себе в качестве существеннейшей компоненты отражение. Или же наоборот, когда сознание определяют как смыслообразующую деятельность, тогда неявно подразумевают, что смысл – это некоторое качество, которым наделяется предмет. Правда, это качество мыслится как непредметное, но больше ничего о нем сказать невозможно. Очевидно также, что понимание сознания как смыслопридающей деятельности, или, если хотят избежать слова «деятельность», как «смыслопридания», не тождественно, но все же имеет некоторое отношение к пониманию сознания как конструирования.
Гуссерлевское «конституирование» П. П. Гайденко совершенно адекватно определяет как «описание, которое предполагает существование предмета и в то же время впервые создает его»[214]. Однако речь может при этом идти только об интенциональном предмете, и, следовательно, прояснить интенциональность через конституирование не представляется возможным. В реальном опыте сознания, в направленности сознания на предмет (а сознание, подчеркивал Гуссерль, направлено на предмет, но не на смысл) дескрипция и конструкция предмета «не сочетаются». Дескрипция и конструкция не могут быть направлены на предмет в одно и то же время, а ведь речь идет о едином процессе конституирования. Мы можем описывать само конструирование и предмет как его результат, но в таком случае мы осуществляем дескрипцию конструирования как особого интенционального предмета, но не дескриптивную конструкцию. С другой стороны, конструктивная дескрипция также не может иметь места. Дескрипция может быть эвристичной, но сама дескрипция не формирует, не изменяет и т. д. предмет.
Трудности в понимании конституирования коренятся в том, что в самом конституировании как установлении смысла содержится троякое: конструирование, отражение и дескрипция. При этом дескрипция основана на различии, отражение – на тождестве. Это не означает, что такой процесс, как конституирование, – выдумка. Любая конституция – это пример конституирования (коллективным разумом или коллективным неразумием). Вопрос в том, является ли конституирование первичным опытом сознания.
Таким образом, хотя понимание сознания как интенциональности является радикально новым, все же у Гуссерля сохраняются элементы, так сказать, «аналекты», кантовского сочетания конструирования и отражения в понимании сознания. При этом следует подчеркнуть, такое понимание сознания сохраняется у Гуссерля только на методологическом уровне, т. е. когда он пытается прояснить основу самой феноменологии; в реальных дескрипциях у Гуссерля, а также у всех тех, кто предпринимает дескрипцию, реализуется опыт различия.
Хайдеггер попытался преодолеть субстантивацию сознания в феноменологии и субстантивацию смысла, или значения, как основной характеристики сознания. Хайдеггер обратился к опыту, который, как он полагал, никогда не может быть субстантивирован, – к опыту человеческого бытия. Этот опыт Хайдеггер, как известно, назвал Заботой, показав его самореферентность: «Забота» понимает себя «из времени», будучи сама временной структурой.
Тем не менее, в Бытии и времени субстантивация опыта все же имеет место, и не только при выделении неразложимых элементов опыта – «экс-стасисов» времени, но и в смешении различных видов человеческого опыта, в слиянии их в один, фундаментальный опыт – Заботу. Заботы человеческие, однако, многоразличны…
Таким образом, если в классической феноменологии сознание отчасти субстантивировалось и многообразие связей сознания и рефлексии не было представлено в явном виде, то Хайдеггер вообще попытался элиминировать проблему сознания из феноменологии в качестве основной. Сознание, рефлексия, смысл обретают свое основание, по Хайдеггеру, в опыте, который уже не является ни сознанием, ни рефлексией (что само уже противоречиво), и смысл которого в нем самом: забота есть «смысл бытия». Для того чтобы выполнить эту противоречивую задачу, ибо в любом человеческом опыте присутствует сознание, Хайдеггер был вынужден представить сознание и рефлексию уже не в феноменологическом понимании.
Понимание сознания как опыта различий дает возможность, во-первых, «сохранить сознание» как основную философскую проблему; во-вторых, избежать субстантивации сознания, ибо различие – это чистый непредметный опыт, который принципиально не может быть субстантивирован; сознание плюралистично и открыто по отношению ко всем видам опыта; и в-третьих, выделить класс различий, который имеет непосредственное отношение к рефлексии.
Эти различия (класс рефлексии) есть «часть» опыта сознания; первично они осуществляются нерефлексивно, но именно в них коренится возможность как рефлексии, так и методологии. Опыт рефлексии открыт и многоразличен, он не замкнут на выявлении «окончательной структуры» субъекта, сознания, духа, разума.
Априоризм различий указывает более определенно и менее романтично, чем это имеет место у Гуссерля, на бесконечное многообразие философских проблем. В то же время, Apriori distinctionis только указывает на возможность более определенного понимания задач философии, но еще не раскрывает подлинный смысл конкретного Apriori, еще не выявляет основных линий философских исследований. Для этого из многообразия первичного опыта различий, и более определенно, из «класса рефлексии» необходимо выделить различие, которое определяет структуру любого опыта и в определенном смысле является структурой интенциональности. Речь идет о различии различия, синтеза, идентификации.
Интенциональность иногда трактуют как связующее звено между субъектом и объектом, как некий мостик, связывающий сознание и предмет, мостик, «состоящий» из значений. Однако в такой интерпретации возникает опасность субстантивации сознания, ибо сам «берег», на котором укреплен этот мостик, предполагается существующим, но о нем ничего не говорится. Опасность субстантивации возникает здесь потому, что не допускается неинтенциональный опыт сознания, связанный с интенциональным опытом, опытом направленности сознания на предмет.
Структура «различие-синтез-идентификация» помогает понять различие и связь этих двух видов опыта. Прежде всего, эта структура не является трехчленной структурой с независимыми и самодостаточными элементами. В реальном опыте сознания идентификация встроена в синтез и всегда предполагает его; синтез, в свою очередь, встроен в различие и предполагает его. Речь идет не о понятиях различия, синтеза и тождества, которые нужно соотносить по содержанию и объему, речь идет об опыте, и уже любой опыт зрительного распознавания показывает в рефлексии, что из исходных различий формируются, т. е. синтезируются, контуры, по которым затем идентифицируется предмет. В принципе, перечисление первичных различий предполагает уже неявное перечисление возможных синтезов и идентификаций.
То, что Гуссерль называл структурами интенциональности, есть не что иное, как структуры синтеза и идентификации. Именно поэтому зачастую весьма трудно отличить философские учения Канта и Гуссерля.
Опыт различий первичнее, чем структуры интенциональности, направленности сознания на предмет, т. е. схватывания (синтеза) предмета и определения его отношения к другому предмету (идентификация). Благодаря опыту различий выделяются сами структуры схватывания и идентификации предмета, благодаря опыту различий осознается сам этот опыт как первичный, неинтенциональный опыт сознания, лежащий в основе синтеза и идентификации. Рефлексия на этот опыт, возможность которой коренится в самом этом опыте, есть не что иное, как рациональный смысл феноменологической редукции, эпохе; это есть воздержание от опыта синтеза и идентификации и обращение не только к самореферентному, но и к многообразному первичному опыту сознания как опыту различия.
С. Понимание сознания и типология опыта
Структура «различие-синтез-идентификация» помогает понять не только и не столько смысл феноменологического учения, сколько структуру различных видов опыта. Эта структура лежит в основе выделения парадигм сознания и парадигм философии.
Обращение к опыту различия показало, что этот опыт является первичным «несубстанциально-субстанциальным» многообразным опытом, доступным для дескрипции. Доказательством первичности этого опыта, доказательством того, что он лежит в основе всех других видов опыта, является понимание первичности опыта различий каждым, кто возьмет на себя труд его воспроизведения. Философия – это исследование, и она точно так же, как физика, должна апеллировать к опыту, воспроизводимому сознанием другого/другой. Философия, однако, апеллирует к непосредственному опыту сознания.
Понимание первичного опыта различий как первичного парадигматического сознания предполагает, что различные понимания сознания не являются принципиально несоизмеримыми: то или иное понимание сознания не может быть полностью заключено в скорлупу, пробить которую не могли бы рациональные, т. е. основанные на смысловых различиях, аргументы.
Различные понимания сознания образуют устойчивые ментальные структуры – парадигмы, по которым «склоняются» и «спрягаются» все «существительные» и «глаголы» того или иного вида деятельности, того или иного философского учения, той или иной научной школы, того или иного направления в искусстве, и в целом той или иной эпохи.
Принципы различия парадигм должны выявиться из понимания первичного опыта сознания как опыта первичных различий. Термин парадигма здесь ближе по смыслу к употребляемому в грамматике, чем в концепции научных революций Т. Куна. Парадигмы несводимы друг к другу и невыводимы друг из друга логически, однако они не являются несоизмеримыми. Рациональная дискуссия всегда возможна, и революция с изгнанием необращенных необязательна.
Если рассматривать парадигмы в качестве различных модусов первичного опыта сознания, то следует иметь в виду, что эти модусы – особого рода. Парадигмы можно представить скорее как деформации первичной парадигмы, или парадигматического сознания, как своего рода «грехопадение» в область тождества. Иными словами, определенные парадигмы предполагают замену определенных различий определенными тождествами. Самыми «популярными» отождествлениями в философии XIX века были следующие: смысл = предмет, акт сознания = содержание сознания; в XX веке – знак (язык) = предмет, образ = предмет. Значение феноменологии, и прежде всего трудов Брентано и Гуссерля, состоит в различении акта, содержания и предмета.
Дело, однако, не сводится к тому, чтобы указать на парадигму как на видоизменение первичного списка различий и тождеств, хотя эвристически такой прием небесполезен. Однако исторически существующие парадигмы не формировались по списку, и задача состоит в том, чтобы описать связь между тем или иным пониманием сознания, которое лежит в основе парадигмы, и пониманием внутри этой парадигмы основных культурно-исторических реалий (социума, деятельности, искусства, науки, философии, религии и т. д.). Иными словами, можно исследовать то, как понимал Лейбниц, Кант или Хайдеггер ту или иную сферу человеческого опыта, но не ставить перед собой задачу понять само это понимание, исходя из определенного имплицитного и эксплицитного понимания сознания. Дело, как правило, сводится к «констатации» того или иного вида обусловленности – социальной, «биографической», идейной и т. д. Структурирование культурных форм у Шпенглера, Зиммеля и др. есть опять-таки лишь констатация идей, принципов или «форм души», которые лежат в основе того или иного культурного организма, но не исследование понимания сознания, которое лежит в основе выделения определенных признаков различий культур.
В размышлении о понимании сознания мы входим в область самореферентного опыта, не отсылающего к другому опыту. Грамматически это словосочетание объединяет как субъективное, так и объективное отношение. Первичным смыслом является здесь понимание сознанием самого себя, вторичным – понимание мира предметов, знаков, образов, социальных ролей и т. д. Иными словами, от того, как сознание понимает себя, каково многообразие его первичного опыта различий, зависит способ понимания того, что не является сознанием.
Это первичное понимание понимания сознания (мы избегаем слова «концепция») существенно отличается от воззрения Сартра, согласно которому сознание тетически понимает предметы и в этом понимании нететически понимает себя. Такой путь, если пытаться сделать нететическое понимание сознанием самого себя предметом изучения, есть не что иное, как изучение сознания по его объективациям. Такая тенденция присутствует неявно и у Гуссерля. Из гуссерлевского учения об интенциональности Сартр сделал достаточно последовательные выводы: раз сознание есть всегда сознание о…, то само по себе сознание – «чистый ветер», чистое движение… Сознание, по существу, превращается в ничто, и для того чтобы окончательно «не потерять сознание», Сартр называет сознание особого рода бытием, развивая при этом квазигегелевскую мифологическую диалектику отношений «в-себе» и «для-себя».
Понимание первичного опыта сознания как опыта различия коренится в самом этом опыте. В этом смысле язык этого опыта (перечисление различий) непосредственно выражает этот опыт.
Возникновение культур, обществ, религий, систем хозяйства, философских учений, создание машин и механизмов, средств коммуникации и образцов моды, конституций и структур исполнительной власти и т. д. в конечном итоге имеет в своей основе определенную парадигму сознания, реализующую себя в определенном опыте различий, синтезов и тождеств. Термин «в конечном итоге» имеет здесь смысл, противоположный тому, как он употреблялся или подразумевался в философии XIX века, и особенно классиками марксизма.
«В конечном итоге» означает, что мы должны прийти в своих рассуждениях к опыту сознания. Эту линию в философии начал Ф. Брентано, назвав свой основной труд «Психология с эмпирической точки зрения». Термин «эмпирический» отнесен Брентано как к опыту предметов (к физическим феноменам), так и к опыту сознания (к психическим феноменам). Феноменологию можно было бы в этом смысле называть «философией с эмпирической точки зрения», или «эмпирической метафизикой сознания».
Парадигмы сознания и парадигмы философии можно выделить только в контексте изучения или, по крайней мере, структурирования основных типов опыта. Основой этого структурирования является опять-таки структура различие-синтез-идентификация. Имплицитно в этой структуре «содержится» брентановская классификация психических феноменов, которая имеет огромную эвристическую силу.
Человеческий опыт столь многообразен, что даже перечисление всех его видов едва ли возможно. Однако существуют определенные, устойчивые, основные типы опыта и взаимосвязи между ними, которые уже многократно были объектом философских, психологических, социологических и других исследований. Перечислить эти исследования, видимо, столь же затруднительно, как и перечислить все виды опыта. Однако и здесь существуют определенные, устойчивые установки и методы, которые восходят, в конечном итоге, к определенным парадигмам сознания. Иначе говоря, опыт классифицируется и исследуется соответственно явно или неявно принимаемому пониманию сознания.
Типология основных видов опыта, представленная в нижеследующем перечислении, исходит из первичного опыта сознания, который сам включен в типологию. Тем самым преодолевается тот или иной вид «отстраненности» типологии, иначе говоря, объективизм, которому всегда сопутствует его коррелят – субъективизм.
Основа данной типологии – опыт сознания и его присутствие в каждом из видов опыта. Каждый из типов опыта имеет свое собственное априори, которое опять-таки понимается не как нечто «доопытное», но как основа, или, если угодно, сердцевина опыта. В каждом типе опыта формируется организующее этот тип опыта понимание времени. Каждый опыт имеет структуру различие-синтез-идентификация.
1. Первичный опыт сознания: Apriori distinctionis; формирование смысла; время – поток различий.
2. Многообразный опыт сознания (модусы сознания): априори смысла; опыт ориентирован на смысловые связи; в опыте доминирует различие; время – внутреннее время-сознание.
3. Опыт суждения-воли: синтетическое априори, опыт ориентирован на причинные и причинно-функциональные связи; в опыте доминирует синтез; время – посредник отражения и конструирования; основные виды этого опыта: опыт тела (инстинкты, ощущения, ориентации), опыт деятельности (хозяйство, управление, политика, образование), опыт нации (формы национального самосознания), опыт познания (фундаментальные и прикладные исследования, техническое творчество), опыт искусства.
4. Социальный опыт: априори стандарта; опыт ориентирован на функциональные связи; в опыте доминирует идентификация; время – стандарт функционирования социальных институтов; основные виды этого опыта: включение в социальную группу, принятие социальной роли, следование стереотипам: мода, языковые клише, формы образования; производство и потребление средств массовой информации и коммуникации и т. д.
5. Психологический («душевный») опыт. Эмоциональное априори, априори «любви, ненависти, интересов» (Брентано); опыт ориентирован на эмоционально-смысловые связи; доминирование того или иного элемента полной структуры опыта зависит от «тяготения» психологического опыта или к опыту рефлексии (различие), или к опыту суждения-воли (синтез), или к социальному опыту (идентификация); время – ритм ситуации; основные виды этого опыта: любовь, ненависть, увлеченность (интерес), дружба, неприязнь, равнодушие и т. д.
6. Духовный опыт: априори трансценденции; опыт ориентирован на смысловые связи идеальных предметностей; различие = синтез = идентификация; время = вечность; основные виды этого опыта: нравственный, религиозный, эстетический, теоретический (последний есть опыт созерцания, например, созерцания природы).
7. Опыт бытия-в-семье: априори взаимной заботы; опыт ориентирован на преемственность смысловых связей, на равновесие основных видов опыта; равновесие различия, синтеза, идентификации; время – связь поколений.
8. Опыт философии: априори рефлексии; опыт ориентирован на исследование смысловых связей между всеми типами, видами и подвидами опыта; в опыте доминирует различие, в частности различие различия, синтеза, идентификации; время – опыт времени различных типов опыта.
В перечислении не выделен обыденный опыт в качестве определенного типа, ибо обыденного опыта в чистом виде, т. е. опыта, который имел бы собственное априори, свою ритмику и т. д., просто не существует. То, что называют обыденным опытом, складывается из основных типов опыта, и прежде всего из психологического и социального опытов, опыта семьи, а также опыта суждения-воли. Другими словами, так называемый обыденный опыт есть смесь различных типов опыта, а противопоставление обыденного опыта и опыта познания есть не что иное, как попытка самоидентификации опыта познания и духовного опыта. Если мы обратимся к опыту сознания, то все перечисленные типы опыта, несмотря на их многообразные взаимовлияния, взаимопроникновения, агрессию одних по отношению к другим и т. д., можно воспроизвести в опыте. «Обыденный опыт» воспроизвести в опыте невозможно, ибо как таковой он пуст, и если его все же признать за определенный вид опыта, то надо принять во внимание, что его «наполнение» осуществляется за счет других видов опыта[215].
В этом отношении попытки Гуссерля описать жизненный мир как подпочву всех видов опыта весьма поучительны. В конце концов, в описаниях Гуссерля жизненный мир уже нельзя отличить от трансцендентальной субъективности или, по крайней мере, от первичных ее слоев, связанных с первичными модусами сознания. Иначе говоря, в том, что является основой не только научных абстракций, но и всего человеческого опыта, Гуссерль опять-таки открыл первичный опыт сознания.
Присутствие сознания во всех видах опыта означает присутствие той или иной «системы» различий. Философия исследует, во-первых, собственный опыт сознания и опыт рефлексии (в философии всегда был актуален вопрос «что такое философия?»), во-вторых, присутствие сознания в различных видах опыта (системы различий) и в-третьих, многообразные связи между различными видами опыта.
Связи между видами опыта философия, «поскольку она сама себя понимает», исследует как смысловые связи. Это исследование есть бесконечная задача философии.
II COGITO. СИНТЕЗ. СУБЪЕКТИВИЗМ
Феноменологический анализ субъективизма предполагает исследование субъективности. Это исследование формы бытия, или модификации субъективности, которая учреждает и воспроизводит субъективизм. Вопрос в том, какова эта форма, какое понимание первичного опыта сознания и какое понимание самосознания заключает в себе эта форма.
Под существованием, или бытием, субъективности мы понимаем многообразие различений в подвижном единстве опыта сознания – восприятия, стремления, сомнения, предположения, суждения и т. д. Эти абстрактные формы опыта, в гуссерлевской терминологии-модусы сознания, образуют устойчивые конфигурации конкретного опыта, конкретных ориентаций в поведении.
Неизбежно ли ведет к субъективизму превращение субъективности в основную тему философского учения? Преодолевается ли субъективизм в трансцендентальном субъективизме Гуссерля или в хайдеггеровском учении о бытии? И в чем, собственно, состоит субъективизм, этот «самый страшный из всех гостей», сменивший имя и ставший хозяином?
1. Релятивизм, субъект, суждение
У Гуссерля впервые тема субъективизма возникает в I томе Логических исследований (далее – ЛИ) (§ 34) в связи с критикой психологизма. Гуссерль отождествляет субъективизм с релятивизмом и подвергает его критике, оценивая субъективизм всецело негативно.
Первоначальное выражение субъективизма Гуссерль находит в формуле Протагора «мера всех вещей есть человек», которую, по его словам, можно интерпретировать двояким образом:
1. Если «мера всякой истины – индивидуальный человек, то тогда для каждого истинно то, что ему кажется истинным»[216]. Гуссерль выражает это в следующей формуле: любая истина (и познание) относительна – она соотносится с субъектом, судящим при случайных обстоятельствах.
2. Если же речь идет о человеке как виде, то возникает, согласно Гуссерлю, новая форма релятивизма (Гуссерль пока свободно переходит от термина «субъективизм» к термину «релятивизм», и наоборот): «Мера любой человеческой истины – человек как таковой. Каждое суждение, которое коренится в видовой специфике человека, в конституирующих ее законах, – для нас, людей, истинно. Поскольку эти суждения принадлежат к общей форме человеческой субъективности (человеческого «сознания вообще»), то также и здесь можно говорить о субъективизме (о субъекте как последнем источнике познания и т. п.)»[217].
Примечательно, что после слов «о субъекте как последнем источнике познания» Гуссерль предлагает перейти к термину «релятивизм» и различать индивидуальный и видовой (специфический) релятивизм, критике которого посвящены последующие рассуждения. Этот неприметный терминологический сдвиг еще не осознается, видимо, Гуссерлем как проблемное напряжение: утверждение о том, что субъект – это последний источник познания, формально совпадает с одним из основных принципов феноменологии.
Возникает вопрос: каким же образом при истолковании субъективизма Гуссерль истолковывает субъект?
Уже вышеизложенное указывает на то, что субъект отождествляется Гуссерлем с судящей деятельностью. Субъект – это прежде всего судящий субъект. Это подтверждается и при истолковании и критике видового релятивизма: «Видовой релятивизм, – пишет Гуссерль, – выдвигает положение: «Для каждого вида судящих существ истинно то, что в соответствии с их строением, с их задатками мышления должно иметь значимость истинного. Это учение абсурдно»[218]. Гуссерль противопоставляет этому свое известное утверждение: «То, что истинно, то абсолютно, истинно «в себе»; истина идентично одна, постигают ли ее люди или изверги, ангелы или боги»[219]. Это «абсолютное» высказывание Гуссерля основывается на двух, по меньшей мере, предпосылках: 1. Истина – это только научная истина, а суждение – это научное, по преимуществу математическое суждение (2 × 2 = 4 как единственный пример). Легко показать, что вне науки, в сфере практики и ценностей то, что истинно для человека (или группы людей), уже не будет истинно по отношению к другим существам. 2. Кроме человека существуют еще и другие судящие существа, высказывающие научные суждения. Последняя предпосылка весьма спорна, ибо ни боги, ни ангелы не занимаются математикой или естествознанием, а «изверги» могут обладать развитым человеческим интеллектом.
Таким образом, наряду с предпосылкой о том, что первичное отношение субъекта к миру есть суждение, Гуссерль утверждает, что истина не зависит не только от человеческой, но и от любой другой субъективности. Отсюда вырастает в дальнейшем задача феноменологии – выявить возможность субъективности как таковой, субъективности по существу анонимной. Такая субъективность – «чистое сознание» – должна, по замыслу Гуссерля, судить чисто объективно. В этом, собственно, и состоит радикальный, или трансцендентальный, субъективизм.
Однако исходной точкой восхождения к такой субъективности оказывается у Гуссерля опять-таки человеческая субъективность, но не божественная и не ангельская субъективность, которые не нуждаются в трансцендентальном измерении.
Поворот к субъективности во II томе ЛИ, в Лекциях по феноменологии внутреннего сознания времени, и в Идеях I характеризуется прежде всего поворотом к восприятию, выбором восприятия в качестве базисной модели, образца для исследования всех других модусов сознания. Даже в «Кризисе», при обращении к «жизненному миру», гуссерлевские дескрипции ориентированы на восприятие, поле восприятия, вещь восприятия и т. д.
Вопрос в том, не остается ли у Гуссерля суждение образцом для понимания восприятия?
В связи с феноменологическим поворотом к субъективности Гуссерль (правда, значительно позже, в 20-х годах, когда он обращается к истории идей) меняет оценку скептицизма и «составляющего его сущность» субъективизма[220].
Скептицизм оценивается Гуссерлем в 30-е годы как философия, впервые проблематизирующая наивную предданность мира и пролагающая путь трансцендентальной постановке проблемы сознания. Глубочайший смысл философии Нового времени состоял, по Гуссерлю, в том, чтобы раскрыть истинный смысл скептической традиции и «преодолеть парадоксальный, несерьезный, фривольный субъективизм, который отрицает возможность объективного познания и объективной науки, посредством нового типа, серьезного субъективизма, субъективизма, который должен абсолютно фундировать радикальнейшую теоретическую добросовестность, короче говоря, посредством трансцендентального субъективизма»[221]. Родоначальником такого серьезного субъективизма Гуссерль, впрочем, как и Хайдеггер (только смысл серьезности меняется), считал Декарта.
Вопрос, однако, не только в том, преодолевается ли античный субъективизм картезианским, а затем трансцендентально-феноменологическим субъективизмом, но в том, не учреждает ли впервые Декарт субъективизм, который углубляется в Критике чистого разума и в феноменологии Гуссерля. Для этого необходимо конкретно ответить на вопрос, что такое субъективизм, а это в свою очередь требует ответа на вопрос, каково значение предлога «для», когда утверждают: «Все сущее становится объектом для субъекта», или: «Все, что существует, существует для сознания». Что означает «существовать для сознания»?
2. Хайдеггер и Декарт: критика субъективизма
У мыслителей, сформировавших феноменологическую философию, оценки философии Декарта весьма различны. Они колеблются от брентановской оценки Декарта как основателя «фазы восходящего развития» Нового времени до хайдеггеровской интерпретации cogito, ergo sum как основы новоевропейского субъективизма. Примечательным является, однако, то, что оценки и реальные ориентации на картезианскую философию иногда не совпадают. Столь высокая оценка Декарта у Брентано не согласуется с тем, что Брентано не ориентируется ни на cogito, ergo sum, а тем более на Ego, ни на радикальное сомнение. Напротив, Хайдеггер, сводя cogito к представлению, принимает, по существу, декартово понимание сознания и самосознания. Гуссерль, полагая, что Медитации Декарта – это первичный образец (Urbild) всех философских размышлений, оставляет без внимания то, в чем же, собственно, состоит радикальное сомнение. При этом Гуссерль разделяет предрассудок, господствующий в популярных изложениях декартовой философии[222], будто бы у Декарта имеет место следующее рассуждение: «…Одно несомненно: а именно то, что я сомневаюсь»[223]. Дело не только в том, что такого рассуждения у Декарта нет, но еще и в том, что сомнительным является, как мы увидим далее, как раз декартовское сомнение.
Методика хайдеггеровской интерпретации cogito, ergo sum имеет преимущество конкретности по сравнению с многочисленными абстрактными гуссерлевскими отсылками к Декарту. Прежде всего, в отличие от Гуссерля, Хайдеггер проводит радикальное различие между метафизическими основоположениями Протагора и Декарта, отказываясь признать некую историческую тенденцию субъективизма, берущую начало в Античности. Метафизической основой субъективизма является, по Хайдеггеру, не «человек – мера всех вещей», но cogito, ergo sum, т. е. положение, которое служит для Гуссерля примером первоочевидной истины.
Решающие пункты хайдеггеровской интерпретации состоят в следующем: 1) cogitatio отождествляется с актом представления (cogito = я представляю); 2) акт представления отождествляется с актом удостоверения, и прежде всего с удостоверением представляющего; 3) cogito как cogito me cogitare выражает структуру человеческого самосознания, отнесенность акта представления и представленного к представляющему «Я», причем у Декарта это «Я» берет на себя роль масштаба «для того, что происходит и должно происходить в акте представления как поставке (Beistellen) сущего»[224]; 4) истина превращается в достоверность, бытие – в представленность; 5) человек становится субъектом, «все не-человеческое сущее становится объектом для этого субъекта»[225]; 6) отношение субъекта к сущему как представленному – это отношение завоевания, овладения, господства, основанное на расчете.
В отношении верности последнего тезиса Хайдеггера вряд ли могут сегодня возникать сомнения. Планетарный размах субъективизма очевиден. Однако сомнение возникает, во-первых, относительно его экспликации, а во-вторых, относительно позиции, которую Хайдеггер противопоставляет субъективизму. В отличие от Гуссерля, который полагает, что преодоление субъективизма возможно только с помощью углубленного анализа субъективности, Хайдеггер скептически относится к любым попыткам такого преодоления. Не столько постановка вопроса о бытии, сколько само бытие, открытость бытия может растворить в себе субъективизм. Тем не менее, как это ни парадоксально, при анализе субъективности Хайдеггер следует картезианской субъективности. При этом исходная и конечная точка анализа – представление – остается у Хайдеггера непроясненной.
Отождествляя cogitatio и представление, Хайдеггер рассматривает структуру представления (отнесенность акта представления и представленного к представляющему, т. е. к «Я»[226]), но оставляет нерассмотренным, что же есть представление, структурой которого является указанная отнесенность. По существу Хайдеггер принимает здесь точку зрения Гуссерля и понимает представление как объективирующий и синтезирующий акт. Дело не в том, что Хайдеггер неверно интерпретирует Декарта: как раз у Декарта мы находим истоки такого понимания представления; речь о том, что Хайдеггер считает такое понимание представления единственно возможным. Здесь Хайдеггер идет за Декартом так же, как и в понимании самосознания. Cogito = cogito me cogitare Хайдеггер интерпретирует так, как будто это не картезианское, но единственно возможное понимание самосознания. Характерна «историцистская» фраза Хайдеггера: «Уже до Декарта видели (курсив мой. – В. М.), что акт представления и его представленное отнесены к представляющему Я»[227]. Как будто речь идет о развитии естественнонаучного знания, скажем, открытии кислорода: «Уже до Лавуазье видели…».
Решающее новое у Декарта, по Хайдеггеру, состоит в понимании представляющего субъекта как масштаба и господина всего сущего. Может ли, однако, представление и представляющий быть масштабом сущего, может ли представление завоевывать сущее, господствовать над ним? Для этого представление уже должно быть особым образом интерпретировано, а именно: ему должна быть приписана способность устанавливать или отвергать то или иное положение дел. Иными словами, представляющий должен быть понят как судящий, как судья, и, соответственно, акт представления – как акт суждения.
Основой хайдеггеровской интерпретации является отождествление акта представления и акта приведения к достоверности. «Акт пред-ставления есть некоторое у-достоверение»[228]. Такое отождествление возможно только при условии, что акт представления понимается как акт суждения. Если все же отличать акт представления от акта суждения, то очевидно, что хотя каждое у-достоверение требует акта пред-ставления, но не каждое представление удостоверяет.
Вышеуказанному отождествлению предшествует у Хайдеггера рассуждение о том, что cogitare есть раздумывающее, перепроверяющее, перерассчитывающее представление: «cogitare est dubitare». Хайдеггер предупреждает, что можно впасть в ошибку, если понимать это буквально. «Мышление не есть “сомнение” в том смысле, что повсюду высказываются только колебания… Акт сомнения понимается скорее как акт, который сущностно отнесен к несомненному, к тому, что не вызывает раздумий, и к его удостоверению»[229]. И здесь Хайдеггер невольно следует Декарту, трактуя сомнение как научное предположение (вид суждения), которое действительно отнесено к несомненному.
Для чего, задает вопрос Хайдеггер, представляющий рассчитывает и овладевает представленным? «Для чего? Для дальнейшего акта представления…»[230] В основе своей это верная характеристика субъективизма, который полагает цели лишь для того, чтобы полагать новые цели. Однако как раз представление, как бы его ни понимать, не отсылает, по своей сущности, к дальнейшему представлению. Отсылка к дальнейшему – это прерогатива суждения. Научное удостоверение сущего не имеет иной цели, кроме дальнейшего удостоверения – признания или отрицания того или иного положения дел. Представление, восприятие, созерцание принципиально конечны, они содержат в себе свои собственные границы, какими бы многообразными ни были оттенки предмета. Суждения: речения и речи, пересуды и болтовня, передача информации и формирование научных теорий – не имеют внутренней мотивации для остановки.
Утверждение «Сущее превращается в объект для субъекта» характеризует скорее объективизм, но не субъективизм. И хотя это две стороны одной и той же медали, но все же различные стороны. Субъективизм как овладение и господство над сущим остается непроясненным, пока остается нераскрытым, какие средства овладения и господства имеет в своем распоряжении субъективность. Для того чтобы субъект, подобно царю Мидасу, превращал для себя все сущее в объект, уже недостаточно представления, но необходимы суждение и воля.
Хайдеггер справедливо указывает, что задачей Декарта было заложить метафизическую основу освобождению человека для новой свободы, которая сама себе дает достоверный закон[231]. Свобода новоевропейского человека – это, однако, не свобода представлять (о такой свободе вопрос еще не стоит), но свобода судить. Наука как основное явление Нового времени (Хайдеггер) предполагает прежде всего свободу суждений и подчинение представлений и восприятий (насколько это возможно) суждениям. Это требует как раз субъекта, «очищенного», свободного от любого представления, восприятия, созерцания; это требует чистого «Я», субъекта суждения, претендующего на роль «центрального члена». Субъект-Я, к которому сводится и вокруг которого собирается все объективированное сущее, не может быть только субъектом представляющим, но должен быть субъектом прежде всего судящим и подчиняющим себе акты представления. Для того чтобы подчинить себе сущее, субъект должен подчинить себя себе самому, подчинить свои представления и восприятия признанию или отвержению того или иного положения дел; для того чтобы дать законы природе, субъект должен сначала дать закон самому себе, закон, согласно которому восприятие, созерцание формируется на основе рассудка. Эта точка зрения кульминирует в Критике чистого разума, введение к первому изданию которой начинается примечательными словами: «Опыт есть первый продукт, который производит наш рассудок»[232].
3. Сомнение, предположение, cogito
Как бы ни совершалась модификация субъективности, ведущая к субъективизму, она содержит по крайней мере три аспекта: 1) смешение представления (восприятия) и суждения; 2) замещение представления суждением; 3) как результат, господство суждения над представлением. Последнее составляет собственно сущность субъективизма. На языке Брентано это можно было бы выразить так: смешение трех классов психических феноменов, решение (воля) отдать преимущество суждению.
Истоки субъективизма – здесь Хайдеггер абсолютно прав – мы находим в философии Декарта, которая является своеобразным полемическим местом встречи в феноменологической, и не только феноменологической, философии.
Как известно, исходный пункт философии Декарта – сомнение. Однако действительное философское рассуждение у Декарта начинается не тогда, когда он замечает, что на свете много чего сомнительного, но тогда, когда он, отделяя «практический разум» от теоретического, преобразует в сфере последнего опыт сомнения в последовательность отрицательных предположений. Философия Декарта начинается с усиления сомнения до предположения абсолютной ложности сомнительного предмета. Наиболее определенно говорится об этом в Первоначалах философии: «Мы должны также считать все сомнительное ложным» (§ 2) и «Однако это сомнение не следует относить к жизненной практике» (§ 3)[233]. Очевидно, что усиление сомнения – это искусственная процедура, исходная точка которой уже заранее положена вне опыта сомнения.
Сомнения могут усиливаться, крайняя степень сомнения – это отчаяние, но сомнение нельзя усилить волевым решением. Для Декарта, однако, смешение сомнения и предположения выглядит вполне естественно. Констатируя во II Медитации, что во всеобщем сомнении мы познаем по крайней мере то, что нет ничего достоверного, Декарт пишет: «Итак, я допускаю, что все видимое мною ложно»[234].
Декарт вовсе не хочет показать, что в опыте сомнения сам акт сомнения несомненен. Он преобразует сомнение в отрицательное предположение для описания ситуации тотальной и абсолютной недостоверности любого опыта. Если достоверность невозможна ни в каком опыте, то тогда ее следует искать вне опыта, в том, что является общим для всех видов опыта, – в мыслящей субстанции. Такой ход рассуждений был бы вполне традиционным, если бы не способ введения этой субстанции и не сама эта субстанция.
Ситуация тотальной неопределенности и недостоверности – это ситуация отчаяния, ситуация абсолютной некоммуникабельности.
По аналогии с действительным опытом отчаяния Декарт выстраивает мысленный эксперимент: предположение абсолютной недостоверности. Однако преобразование опыта ничего не меняет в том, что предположенная ситуация абсолютной недостоверности так же не имеет в себе никакого интерсубъективного смысла, как и отчаяние, ибо наличие любого сообщества уже есть нечто достоверное. Абсолютно не-интерсубъективная ситуация – это своего рода тупик, выбраться из которого можно только искусственными средствами, а именно – акцентированием «Я» в любом виде опыта. Декарт «показывает»: если все недостоверно, то это для меня все недостоверно, если меня обманывают, то это меня обманывают, если я внушаю себе, что у меня нет тела, то ведь это я себе внушаю это. Отсюда Декарт делает, как известно, вывод, что я должен все же быть чем-то. Правда, Декарт не начинает свое рассуждение в позитивном ключе: если я воспринимаю, то это я воспринимаю и т. д., ибо воспринимать – означает воспринимать нечто, а следовательно, неявно допускать существование этого нечто. Декарт акцентирует «Я» прежде всего в мышлении отсутствия чего-либо, а точнее, в предположении отсутствия. Если мы все сомнительное, предлагает Декарт, будем считать ложным, то «мы с легкостью предполагаем, что никакого Бога нет и нет ни неба, ни каких-либо тел, что сами мы не имеем ни рук, ни ног, ни какого бы то ни было тела; однако не может быть, чтобы в силу всего этого мы, думающие таким образом, были бы ничем: ведь полагать, что мыслящая вещь в то же самое время, как она мыслит, не существует, будет явным противоречием»[235]. Отсюда – cogito, ergo sum.
Решающим в этом рассуждении являются слова: «мы, думающие таким образом». Думать – означает в данном случае предполагать, и выделение «мы» означает: если мы такое предполагаем, то это мы такое предполагаем. Декарт опять-таки стремится не к тому, чтобы показать несомненность акта предположения, он хочет показать несомненность того, кто предполагает. Только такое выделение «мы», или, в сущности, «Я», делает возможным дальнейший ход рассуждений, а именно что мы – не ничто. Таким образом, рассуждение гласит: мы не можем предположить, что мы, предполагающие, не существуем.
Хайдеггер справедливо подчеркивает, что у Декарта образуется как бы субъект в субъекте, некоторая точка всеобщей отнесенности. Однако этот субъект не есть субъект представления, но субъект суждения.
Акцентирование «Я» есть особая форма «излишества» в смысле Витгенштейна: «Я иду к врачу, показываю ему свою руку и говорю: это рука, не так ли?»[236]. Мог ли Декарт продолжить: «Это моя рука, следовательно, это я пришел, ergo sum»? Очевидно, нет, ибо излишним у Декарта является не высказывание о предметах – о руке, о теле и т. д., но о «Я», а точнее, акцентирование «Я». Декарт не мог бы просто сказать: я предполагаю, что у меня нет руки, следовательно, я существую. Он говорит: я предполагаю, что у меня нет руки, и я осознаю, что это я предполагаю, следовательно, я существую: cogito me cogitare, ergo sum. Излишек («Я») возникает здесь не просто за счет самоотнесенности, но за счет того, что выделяется субъект предположения, или субъект суждения.
Верно, конечно, что «человеческое сознание – это самосознание» (Хайдеггер), однако весьма существенным является акцент в этой самоотнесенности. Одно дело утверждать: «Я предполагаю и осознаю, что я это предполагаю, а не воспринимаю, оцениваю и т. д.». Здесь неявно проводятся многообразные различия. Такой акцент делает Брентано. Другое дело утверждать: «Я предполагаю и осознаю, что это я предполагаю». Такой акцент возможен, здесь не утверждается ничего ложного: действительно, если я предполагаю, то кто же, кроме меня, предполагает? По существу это тавтология, однако такое акцентирование нацелено на выделение чистого, равного самому себе «Я»; Я есть Я; попадаю ли я в ситуацию недостоверности, обманывают ли меня, предполагаю ли я отсутствие Бога, неба, тела и т. д. Такой, равный самому себе субъект, субъект, объединяющий все виды cogito – воспринимаю, сомневаюсь, оцениваю и т. д., не может быть представляющим или воспринимающим, но только судящим субъектом. Не «я представляю», но «я предполагаю» (предположение как вид суждения) становится у Декарта первичной и незаменимой формой отношения субъекта к миру и к себе самому – исходной точкой доказательства своего собственного существования. В декартовском рассуждении – усилив сомнение, мы можем легко предположить, что нет никакого Бога, никакого неба и т. д. – нельзя заменить предположение никаким другим модусом сознания. Мы не можем в прямом смысле воспринимать, оценивать, подвергать сомнению, любить или ненавидеть отсутствие чего бы то ни было, однако мы можем предполагать (совершая мысленный эксперимент) отсутствие чего-либо и судить об отсутствии, т. е. отрицать наличие чего-либо. Суждение как таковое проявляет себя в отрицании.
Особенность декартовского cogito, ergo sum состоит, однако, не только в том, что Ego принимает на себя роль субъекта суждения. Cogito, как известно, Декарт понимал весьма широко: это любой опыт восприятия, сомнения и т. д. Однако акцентирование «Я» устанавливает за субъектом любого опыта, если таковой вообще предполагается, универсальный, охватывающий и синтезирующий все виды опыта субъект суждения. Такому субъекту – судящему, предполагающему и подчиняющему себе другие виды опыта (предположение подчиняет себе сомнение) – соответствует объект для субъекта, т. е. не сущее во всем многообразии своих проявлений, не сущее, удерживающее в себе свое прошлое, не воск, который не потерял вкуса меда и запаха цветов, своего цвета и формы, но объект без цвета, запаха, формы – протяженный X, над которым позволительно проделывать всевозможные эксперименты.
4. Суждение и синтез
Гуссерлевское обращение к Декарту пронизывает, пожалуй, всю его философию и начинается задолго до Картезианских медитаций. Первое обращение к Декарту у Гуссерля связано не с картезианским сомнением, а именно с cogito, ergo sum и имеет непосредственное отношение к теме различия и смешения восприятия и суждения. В Логических исследованиях (т. II, Исследование V, § 6), где Гуссерль хочет показать происхождение понятия сознания как переплетения переживаний из понятия сознания как внутреннего осознания, Гуссерль выбирает в качестве исходного пункта cogito, ergo sum. С одной стороны, замечает Гуссерль, «Я при этом не может быть эмпирическим» (в первом издании – «полностью эмпирическим»)[237]. С другой стороны, очевидность Я не зависит от разного рода философских понятий Я. «Лучше было бы сказать, – пишет Гуссерль, – в суждении я есмь очевидность зависит от определенного, не очерченного в строгих понятиях ядра эмпирического представления о Я»[238]. Удается ли Гуссерлю выполнить поставленную задачу – различить, развести очевидность и понятийность – или же этому препятствует сближение суждения и внутреннего восприятия?
Гуссерль весьма адекватно воспроизводит ситуацию декартовского Я в «Я существую»: с одной стороны, Я – не эмпирическое, иначе бы sum теряло характер основоположения, с другой – все же эмпирическое, ибо «я существую» апеллирует к опыту. Здесь не остается ничего лучшего, как указать на некоторое невыразимое ядро, вокруг которого группируются эмпирические представления о Я.
Такая едва заметная замена не-эмпирического на невыразимое позволяет Гуссерлю сблизить cogito, ergo sum и суждения типа «я воспринимаю то или это», которые Гуссерль называет суждениями внутреннего (= адекватного) восприятия. Гуссерль не учитывает различие между не-эмпирическим и невыразимым: согласно его собственным дальнейшим рассуждениям, невыразимое ядро не просто дано в опыте, но представляет собой ядро опыта, в то время как картезианское Я в его не-эмпирической ипостаси как раз в опыте не дано. Однако сближение cogito, ergo sum и «я воспринимаю то или это» отнюдь не случайно, его исходный пункт у Гуссерля – это понимание внутреннего восприятия как суждения или, по крайней мере, смешение их. «Очевидным является не только я есмь, но и бесчисленные суждения вида: я воспринимаю то или иное – потому именно, что при этом я не просто предполагаю, но с очевидностью удостоверен, что воспринятое дано так, как оно и подразумевается, и что я схватываю его таким, каково оно есть. Например, эта радость, которая меня наполняет, эти образы фантазии, витающие передо мной в данную минуту, и т. п. Все эти суждения разделяют участь суждения я есмь; они не схватываются и не выражаются целиком понятийно и очевидны только в своих живых интенциях, которые подобающим образом не могут быть выражены в словах», – пишет Гуссерль[239].
Возникает вопрос, очевидностью чего мы заручаемся – очевидностью суждения о том, что я схватываю воспринятое так, как оно есть, или же очевидностью самого воспринятого? Радость, которая меня наполняет или переполняет, не есть суждение о радости, которая меня переполняет. Радость и осознание радости – это один и тот же акт сознания. Мы не схватываем радость как то, что она есть, ибо мы вообще не схватываем радость, а переживаем ее. Схватывать что-либо в качестве того, что оно есть, – это притязание суждения, которое, однако, достигает лишь объекта и его свойств. Мы не можем судить о радости, мы можем лишь судить об объектах и ситуациях, вызывающих радость. Только о последних мы можем обладать определенным знанием, но мы вообще не можем знать, что есть радость.
Возможность сближения и даже отождествления восприятия и суждения коренится в утвердившемся со времен Канта понимании восприятия как синтеза. Гуссерль, в отличие от Брентано, полностью разделяет это воззрение. Восприятие определяется Гуссерлем как схватывание, постижение (Auffassung, Erfassung), синтез; в Картезианских медитациях это выражается наиболее отчетливо: «Синтез как изначальная форма сознания»[240]. Эта методологическая установка, противоречащая реальной философской работе Гуссерля – проведению многообразных различий, настолько сильна, что в Лекциях по феноменологии внутреннего сознания времени даже различение Гуссерль называет схватыванием[241].
Дело не только в том, что различение и синтез различны и, исходя из этого, различие «первично по природе». Дело еще и в том, что схватывание, синтез в восприятии отличается от схватывания в суждении. Так же, как отличаются в них различающая и идентифицирующая деятельность. Схватывание как формирование целостности воспринятого составляет, конечно, необходимый элемент восприятия. Схватывание предполагает, однако, различение: первичное выделение границ опыта, в которых предмет выделяется как предмет именно этого опыта. Схватывание есть, собственно говоря, схватывание различенных, соединение их в единую форму, частично поглощающую различия, или, лучше сказать, отодвигающую их на задний план. При восприятии воска, не потерявшего вкуса меда и запаха цветов, воска определенной формы, цвета, величины мы не выделяем эти свойства как таковые, но в восприятии они различены. Иначе все предметы были бы для нас одинаковыми. Когда мы различаем эти свойства как таковые, сопоставляем и противопоставляем их друг другу, мы судим.
Схватывание в живом опыте восприятия, исходящее из различений, создает возможность иных, более тонких различении, а при случае, например, при осознании иллюзии – иного схватывания, выявления иных границ опыта. При этом восприятие принципиально конечно. Переходя от предмета к предмету, восприятие не выходит за рамки окружающего жизненного мира, как бы широко ни понимать последний. Схватывание в восприятии, как посредник различений, не конституирует, не устанавливает, не учреждает.
Иное дело суждение. Оно, как и любой модус сознания, содержит в себе в качестве необходимого элемента различение. Однако различение не является основой судящей деятельности; суждение, различающее свойства предмета, предполагает различение предмета и его свойств, что в свою очередь предполагает идентификацию предмета. Суждение выхватывает определенные свойства уже идентифицированного предмета как принадлежащие этому предмету, как сущностно или случайно связанные с ним, и устанавливает, конституирует предмет как обладающий определенным набором свойств.
Схватывание в суждении – это установление связи, которое требует дальнейших установлений. Понятие конституирования, характеризующее у Гуссерля все модусы сознания, охватывающее как восприятие, так и суждение, указывает на то, что основой субъективности в феноменологии Гуссерля, вопреки его собственным многочисленным заявлениям, остается судящая деятельность.
Первенство акта суждения выявляется уже в фундаментальном гуссерлевском различии между интенцией значения (Bedeutungsintention) и осуществлением значения (Bedeutungserfüllung). Акты восприятия оказываются вторичными по отношению к пустой интенции как к замыслу. Акты восприятия лишь осуществляют то, что подразумевается или имеется в виду. Смыслопридающие акты – это своего рода чистые суждения, требующие своего осуществления в созерцании.
Один из примеров замены «живого опыта» опытом суждения представляет собой гуссерлевская экспликация сомнения. Если Декарт, описывая многообразные виды «живого» сомнения, переделывает в методических целях сомнение в предположение, то Гуссерль с самого начала понимает сомнение не как колебание, имеющее структуру «то или не то», или «так или не так», но как спор двух схватываний, т. е. по существу спор двух суждений: это человек или это манекен?
Преодолевает ли феноменологическое учение о субъективности картезианский субъективизм? Достаточно ли преобразовать точечное, по выражению Л. Ландгребе, картезианское cogito в темпоральную систему отсылок и горизонтов (преобразование, к которому Гуссерль приступил в упомянутом § 6 Исследования V из 2-го тома ЛИ и завершил в КМ)?
Этот вопрос не имеет однозначного ответа. С одной стороны, принципиально новая постановка проблемы сознания у Брентано и Гуссерля, в основе которой – радикальное различие сознания и предметности, приоткрывает доступ к не-субъективистской субъективности.
С другой стороны, в феноменологии сохраняется по преимуществу картезиански-кантианское понимание сознания как синтетически-судящей деятельности. Синтезирующему и конституирующему полюсу субъекта соответствует не сама вещь, но «просто предмет» = X, обладающий многообразными модусами данности (Objekt im Wie).
Горизонтную субъективность и трансцендентальную интерсубъективность Гуссерль мыслил в контексте европейской культуры. Однако гуссерлевская модель субъективности находит сегодня иную форму реализации. Современный субъективизм не сводится только к техническому расчету, к «машинной экономии», как полагал Хайдеггер. Субъективизм воплощается сегодня в информационных системах и mass media, формирующих в суждениях, мнениях и оценках современную картину мира. Любое событие в мире становится Х-объектом информации, модусы данности которого выявляются в мнениях и оценках, что предполагает наличие судяще-воспринимающих и обладающих интересами субъектов в рамках постоянно расширяющейся анонимной «трансцендентальной системы» информации.
Избыточность человеческой субъективности коренится в первичной рефлексии – во взаимном приспособлении или отторжении различных модусов сознания и видов опыта, расширяющих свое многообразие. Вторичная, философская рефлексия различает различия в модусах сознания, в видах опыта, в понятийных конструкциях. Как «поворот назад» рефлексия невозможна, ибо невозможен поворот к состоянию, которое существовало до действия определенных сил внутреннего притяжения и отталкивания. Проникнуть в «догравитационное» состояние невозможно, а в искусственной невесомости трансцендентализма опыт вырождается в конструкцию, сомнение – в предположение, восприятие – в суждение, общность и общение – в сообщение и сообщаемость.
Необходимость конструкций сомнительна, их реальность и сила сегодня несомненны. В основе превращения опыта в конструкцию, а также в основе любой конструкции лежит суждение и синтез.
Избыточность любого опыта может порождать излишнее. «Видеть» может трансформироваться в «разглядывать», «смотреть» и «рассматривать» – в «подсматривать», «предполагать» – в «прожектировать», «сомневаться» – в отсутствие какой бы то ни было устойчивости и т. д.
Не является ли суждение таким уплотнением опыта, которое может способствовать деформации избыточного в излишнее?
III БЕСПРЕДПОСЫЛОЧНОСТЬ И ОЧЕВИДНОСТЬ
1. Свобода от предпосылок и предпосылка свободы
Феноменология впервые в европейской философии ставит вопрос о внутренней свободе мышления, отличающего себя от любых своих предметов, об открытости опыта сознания миру, опыта, который не растворяется в том, чему он открыт; феноменологическая философия – это прежде всего свободная дескрипция опыта и мира, которая имеет внутренний ресурс сопротивляться «искушению языком», т. е. отстраняться, с одной стороны, от раз и навсегда заданных терминологических конструкций, убивающих опыт, а с другой – от свободных ассоциативных рядов, имитирующих мышление.
Одна из догм европоцентризма, которой придерживался и Гуссерль, состоит в том, что философия, по крайней мере, по своему происхождению, – это европейское явление, элемент «греческого чуда». Парадокс в том, что гуссерлевское мышление опровергает этот тезис, ибо гуссерлевская философия сочетает в себе не только греческое устремление к теории и сближение философии и науки в самом широком смысле, но и восточную идею освобождения. Отнюдь не случайно феноменология получила широкое распространение в странах Востока. Конечно, следуя Гуссерлю, который в Венской лекции разделяет теоретическую и практическую установки, можно отнести идею освобождения к практической установке. Однако в феноменологическом мышлении как раз переплетаются «теория» и «практика» – теория сознания (структуры интенционального акта, ноэтические и ноэматические структуры и т. д.) с практикой феноменологической редукции, с практикой эпохе – воздержания от «привязанности к объектам мира» и к своему «Я».
В европейской философии тема человеческой свободы одна из основных. Однако речь идет прежде всего о свободе действий, о свободе совести, о свободе слова. Свобода мысли при этом постулируется, как бы ни решался вопрос о свободе действий. Аксиомой считается то, что достаточно обратиться к самой мысли, отвлекаясь от внешних обстоятельств (например, в стоицизме) или от предрассудков (например, идолы у Ф. Бэкона, религиозные суеверия у Спинозы и т. д.) – и сама мысль потечет спокойно и легко. Как предположение: не связана ли эта «аксиома» с принципом тождества мышления и бытия, одним из самых основных принципов европейской философии?
«Какие люди странные! – читаем мы один из афоризмов эстетика у Киркегора. – Никогда не пользуясь присвоенной им свободой в одной области, они во что бы то ни стало требуют ее в другой: им дана свобода мысли. Так нет, подавай им свободу слова»[242].
Итак, свобода мысли дана, но ею никогда не пользуются. В самом деле, странная ситуация – никогда не пользоваться предоставленной свободой. Может быть, потому, что пользоваться свободой мысли нельзя время от времени, один или несколько раз. Как раз здесь был бы уместен принцип «или-или»: или никогда не мыслить свободно, или постоянно заботиться о свободе. Свобода, о которой постоянно нужно заботиться, – это нечто еще более странное, чем свобода, которую никогда не используют. Странным это кажется потому, что свобода мысли подменяется неявно свободой действия, свободой выбора, которая, если верить Сартру, как тяжкое бремя, дана изначально. Вопрос в том, дана ли изначально свобода мысли?
Вопрос об изначальной данности свободы – это скорее вопрос метафизический или даже теологический, но не вопрос феноменологии сознания и мышления. Является ли изначальная свобода человека предположением или тайной, которую мы никогда не разгадаем – в любом случае феноменология дистанцируется от такого рода предположений и тайн. «Постулатами» и «тайнами» феноменологии являются лишь изначальные различия.
Перефразируя Гуссерля: мышление в своих исходных точках наивно, т. е. несвободно. Роль феноменологической рефлексии состоит не только в том, чтобы зафиксировать эту наивность, но и в том, чтобы преодолеть ее. Рефлексия – это не наблюдение за сознанием и мышлением, но их оживление, пробуждение той изначальной свободы (если ее все же предполагать), которой никак не удается воспользоваться в мире уже прочерченных линий восприятия, памяти, воображения, оценок и т. д. Если же отказаться от допущения изначальной свободы мысли, то рефлексию следовало бы считать исходной точкой свободы. В любом случае рефлексия – это не только процедура дескриптивная и верифицирующая, но и процедура, фальсифицирующая неявные предпосылки как внутренние препятствия мышления. Феноменология не сводится к «заклинанию»: мышление имеет место только в акте мышления как событии. Такого рода утверждения не ложны, но и не истинны, они остаются просто декларациями, пока не заданы процедуры, в которых сознание отделяется от осознаваемых предметов, мышление – от предметов, мыслимых мышлением.
Различие между мышлением и предметом мышления являет себя как первичный источник смысла, оно конституирует первичное пространство различенностей – пространство-феномен, пространство границ, структурирующее соотносительность смыслов, пространство, модификациями которого являются физическое, социальное и другие пространства.
В методологических целях и целях критического анализа мы можем рассматривать определенное смысловое пространство (конфигурацию значений) в качестве посредника между мышлением, мыслящим предмет, и предметами, мыслимыми в мышлении. Тогда каузальные и функциональные связи выступают как модификации смысловой. Это означает, что каузальным и функциональным связям между мышлением и предметом может быть придан объективный смысл: тогда мышление отношения между мышлением и предметами принимает вид или естественнонаучного исследования (если речь идет о каузальных связях), или трансцендентального исследования в кантовском понимании (если речь идет о чисто функциональных связях).
То, что в основе каузальной и функциональной связи лежит связь смысловая, объясняет, как можно мыслить обусловленность мышления или, по крайней мере, его границы. В учениях, утверждающих встроенность мышления в бытие, вторичность мышления и сознания в целом, обусловленность мышления, его эпифеноменальность и т. д., нет недостатка. Примечательно, что неявной предпосылкой такого рода учений (например, у Маркса, Ницше, Фуко) также является предпосылка свободы мышления, т. е. убежденность в том, что свобода мысли – это нечто само собой разумеющееся. Иначе говоря, сама аргументация обусловленности не является предметом рефлексии; теория апеллирует к фактам, но сам способ отсылки к фактам не проясняется.
Крайней формой учений об обусловленности мышления является, как известно, теория отражения. Мышление обнаруживает себя в качестве раба предметностей и в качестве «творческого отражения» пытается в свою очередь стать господином. Однако господин также не свободен, хотя не свободен иначе, чем раб. «Творческое отражение» – это лишь весьма упрощенный, идеологизированный вариант кантовского трансцендентального субъекта, соединяющего в себе рецептивность чувственности и спонтанность рассудка. Кажется, что внешняя несвобода рецептивности с избытком компенсируется внутренней свободой воображения – «слепой, хотя и необходимой функции души». Но именно слепая функция души не может быть внутренне свободной. Эту слепую силу нашей природы можно лишь направить в определенное русло, а точнее, в целую систему каналов, т. е. схем чистого рассудка, и получить в результате категории как направляющие линии мысли.
В отличие от Канта, Фихте, Гегеля, Маркса, да и почти всех основных представителей новоевропейской философии, Гуссерль не только не обращается к проблеме свободы в традиционной ее постановке, но даже избегает самого этого слова[243]. Там, где Гуссерль употребляет прилагательное «свободный», речь идет не о свободе слова или о политической свободе вообще, но о свободной вариации смысла, эйдетической вариации, благодаря которой устанавливается смысловой инвариант предмета.
«Свобода» остается для Гуссерля сокровенной темой, для Гуссерля это не тема-предмет, но тема-источник, не тема, рассмотрение которой приводит к определенному результату, но тема, которая «ведет» любое рассмотрение. Эта тема – свобода мышления как свобода от предпосылок, не реализуемых в опыте. Феноменологический императив свободы: «вернуться к самим вещам». Мыслить «саму вещь» означает, что мышление отстраняется как от материала чувственности, так от формообразующей деятельности рассудка, отстраняясь при этом от самого этого ложного различия; мышление самой вещи «принимает» вещь как смысл среди других смыслов, каждый из которых трансцендентен акту мысли.
Во введении к II тому ЛИ Гуссерль формулирует «принцип беспредпосылочности теоретико-познавательных исследований»: «исключение всех допущений, которые не могут быть полностью и всецело реализованы феноменологически» (во втором издании: «строгое исключение всех высказываний»)[244]. Причем принцип беспредпосылочности означает здесь не только отказ от всякого рода предвзятых мнений, теорий, объяснений и т. п. Речь идет также и об отказе от вопроса о существовании мира: «Вопрос о существовании и природе внешнего мира есть метафизический вопрос»[245]. Согласно Гуссерлю теория познания проясняет сущность и смысл познающего мышления, она рассматривает вопрос, возможно ли и в какой степени возможно знание или разумное предположение о предметах, которые принципиально трансцендентны переживаниям, в которых осуществляется познание, но не рассматривает вопрос, можем ли мы на основе фактических наличных данных (gegebene Daten) действительно достичь такого знания. Кроме того, Гуссерль пишет о противоестественном (widernatürlich) направлении созерцания и мышления, которое требуется при феноменологическом анализе[246], что означает противопоставление естественной и феноменологической установок.
Конечно, в ЛИ Гуссерль лишь кратко наметил основные принципы феноменологического метода, в первой своей крупной феноменологической работе он еще не ставил перед собой задачи развернутой экспликации принципов феноменологии, иначе говоря, методологические вопросы на первом этапе его творчества еще не были строго отделены от вопросов, касающихся содержания рассматриваемых проблем, еще не был поставлен вопрос о самообосновании феноменологии.
Однако, быть может, как раз в этом и состоит особая значимость первых гуссерлевских работ, их преимущество? А именно: в ЛИ (1900–1901) и в последовавших за ними Лекциях по феноменологии внутреннего сознания времени (1904–1905), которые были изданы гораздо позже (1928), Гуссерль пытался непосредственно связать постановку проблемы сознания с конкретными феноменологическими описаниями, с конкретной феноменологической работой.
В первой книге Идей (Ideen I) конкретная работа отодвинута на задний план, а преимущество получили вопросы методологии и самообоснования.
Разумеется, в любом более или менее завершенном труде Гуссерля имеет место определенная пропорция между методологией и дескрипцией, однако сами эти пропорции можно определить только в том случае, если методологические разработки подкреплены описанием того, какие же конкретно действия, какая же конкретно «работа сознания» осуществляется в ходе феноменологической редукции.
Вопрос о феноменологической редукции, как известно, это вопрос предельного обоснования (самообоснования) феноменологии и философского знания вообще. Впервые Гуссерль ввел термин «феноменологическая редукция» в лекциях 1907 г. в Геттингене[247]. Начиная с этих лекций, во всех работах Гуссерля в качестве основы основ феноменологического метода полагалась редукция, считалось само собой разумеющимся, что феноменологическая работа, т. е. работа дескриптивная, возможна только при условии выполнения редукции. Это – с одной стороны. С другой стороны, Гуссерль не просто постоянно возвращался к теме редукции, но постоянно пытался дать более точную и подробную ее экспликацию. Гуссерль неоднократно пытался уточнить понятие редукции, структурировать его (например, отделить от феноменологической редукции редукцию трансцендентальную), прояснить его с помощью различных метафор: «заключение в скобки», выключение, выведение из действия, воздержание от суждения (эпохе) и т. п. «Основа основ», таким образом, постоянно была в центре внимания, постоянно перестраивалась, постоянно была источником беспокойства и неудовлетворенности. Это означает, что принцип беспредпосылочности и принцип редукции (второй – как обобщение и систематизация первого) не являются принципами в обычном смысле слова, т. е. первоположениями, на основе которых можно было строить знание философии, уже не заботясь о фундаменте.
«Величайший урок редукции заключается в невозможности полной редукции, – пишет Мерло-Понти. – Вот почему Гуссерль все снова и снова занимается вопросом о возможности редукции. Будь мы абсолютным духом, редукция не составляла бы никакой проблемы. Но поскольку мы, напротив, пребываем в мире, поскольку наши размышления имеют место во временном потоке, который они пытаются уловить (в который они, как говорит Гуссерль, sich einströmen), нет такого мышления, которое охватывало бы нашу мысль. Философ, как говорится в неизданных работах Гуссерля, – это тот, кто все время начинает с начала»[248].
Бесспорны утверждения о невозможности полной редукции и о том, что философ должен всегда начинать с самого начала. Однако аргументация отнюдь не бесспорна. Мерло-Понти представляет дело так, что редукция необходима из-за недостаточности нашего мышления. Думается, что, наоборот, редукция необходима из-за его избыточности. Ведь цель редукции – это не достижение абсолютного мышления, которое охватывало бы «всю нашу мысль», но превращение любого акта мышления в дескриптивное положение дел.
Если речь идет о нашем пребывании в мире, о том, что наши размышления всегда оказываются лишь частью временного потока, куда они вливаются, и мы, пытаясь ухватить этот временной поток в целом, всегда терпим неудачу, то перед нами кратко, но энергично поставленная проблема познания многообразного мира и ориентации в этом мире. Феноменологически непроясненным оказывается как раз центральное место аргументации – временной поток. Дескриптивно неубедительным и даже противоречивым является сочетание требования каждый раз начинать все сначала и указание на то, что наши размышления каждый раз вливаются в общий поток. То, что мы начинаем размышление с самого начала, как раз означает, что оно не вливается во временной поток, но образует новое временное начало. Мерло-Понти смешивает здесь само описание естественной установки у Гуссерля и его основное методологическое требование к этому описанию. Такого же рода смешение представляет собой высказывание о том, что «радикальная рефлексия есть осознание ее собственной зависимости от нерефлексивной жизни…»[249]. Непроясненной оказывается здесь как раз эта «зависимость», даже если допустить, что рефлексия терпит неудачу в радикальном отстранении от нерефлексивной жизни. Тем не менее описание различных видов «включенности» сознания и мышления в жизненный мир становится возможным только благодаря такому отстранению или, по крайней мере, благодаря постоянным попыткам осуществить его.
Несомненно, что гуссерлевские экспликации феноменологической редукции дают повод для подобного рода смешений. Гуссерль представляет редукцию как универсальный поворот, как своего рода религиозное обращение. Однако исходный пункт дескрипции самой редукции лежит в естественной установке. Иначе говоря, Гуссерль сначала описывает естественную установку как то, от чего следует отстраниться. Возникает вопрос: какова исходная точка описания естественной установки? При этом вполне оправдан вопрос Хайдеггера: насколько естественна эта естественная установка, не примешивается ли уже к ее описанию установка естественнонаучная?[250]
Насколько вообще совпадают принципы и предпосылки феноменологии Гуссерля? Провозглашая принцип беспредпосылочности, осознает ли Гуссерль все предпосылки своего собственного учения? Гуссерль, следуя Декарту, провозгласил своей целью создание философской науки, обладающей абсолютным основанием, свободной от всех непроясненных предпосылок. Насколько это соответствует действительности?
Чтобы ответить на этот вопрос, следует предварительно определить метод исследования, как это должен сделать каждый, приступающий к анализу гуссерлевской философии. В этом отношении возможны весьма различные позиции – от полного неприятия феноменологии до попытки защитить все ее положения и объявить их истинами в последней инстанции. Конечно, в современном философском мире эти крайности отыскать уже трудно, однако все же позиции в отношении феноменологии Гуссерля остаются существенно различными.
На первый взгляд, для прояснения исследовательской позиции в отношении феноменологии Гуссерля достаточно было бы отказаться от двух указанных крайностей – с одной стороны, от так называемой внешней критики, а с другой – от безоговорочного принятия гуссерлевской методологии. Избегая крайностей, мы попадаем в ситуацию «степени приверженности», т. е. мы должны определить, что в гуссерлевском учении остается для нас «незыблемым», что в той или иной степени приемлемым, что сомнительным, а что ошибочным. Ответы на эти вопросы весьма разнообразны не только в исследовательской и комментаторской литературе, не только в работах непосредственных учеников Гуссерля (например, у О. Финка и Л. Ландгребе), но прежде всего в трудах Хайдеггера, Шелера, Сартра, Мерло-Понти, а затем М. Фуко и Ж. Деррида.
Возможны ли, однако, степени приемлемости в отношении философии, претендующей на абсолютное самообоснование? Иначе говоря, какой методологии следовало бы придерживаться, чтобы отделить в феноменологии Гуссерля «пшеницу от плевел» (ибо феноменологический плод уже созрел)?
Когда Гуссерль выделял в учении Ф. Брентано «феноменологические зерна», он претендовал на создание нового, феноменологического метода. Как же обстоит дело с его собственным учением? Возможно ли исследовать феноменологию феноменологически, скажем, выявлять предпосылки феноменологической редукции с помощью феноменологической редукции?
Сомнения в том, достигнуто ли в феноменологии Гуссерля самообоснование, имеют различные основания. «Радикальное сомнение» состоит в том, возможно ли вообще ставить вопрос о самообосновании учения, исходной проблемой которого является проблема сознания. Хайдеггер полагал, что сама конституирующая инстанция нуждается в раскрытии своего бытия, иначе говоря, интенциональность требует обоснования: «Интенциональность основана в трансценденции Dasein и возможна единственно на ее основе»[251]. Хайдеггер подвергает критике Брентано, Гуссерля и Шелера за то, что они оставили нерассмотренным бытие того сущего, свойством которого они объявляли интенциональность[252]. Казалось бы, что при рассмотрении бытия сущего, в котором интенциональность находит свою основу, будет прояснено свойство рассматриваемого сущего (Dasein) – интенциональность. Однако если Гуссерль (вслед за Брентано) оставил, согласно Хайдеггеру, нерассмотренной бытийную основу интенциональности, то сам Хайдеггер парадоксальным образом оставил нерассмотренной саму интенциональность. И это несмотря на то, что в «предварительных замечаниях» издателя гуссерлевских «Лекций по феноменологии внутреннего сознания времени» Хайдеггер утверждал, что интенциональность для феноменологии – это «не пароль, но обозначение основной проблемы»[253].
Второй вид сомнений связан с попыткой отделить в рамках философии Гуссерля в строгом смысле слова феноменологию и метафизику Эти попытки, в свою очередь, реализуются различным образом. О. Финк ставит перед собой задачу выявить «концептуальные модели» в феноменологии Гуссерля, которыми он оперирует, но которые не стали темой его исследования[254]. И хотя Финк относит к эпигонству стремление выделить наивные предпосылки у того или иного мыслителя, хотя он пытается отличить методологическую наивность и оперативные понятия («не каждая наивная предпосылка мыслителя есть оперативное понятие»[255]), все же основная направленность критики Финка в адрес Гуссерля есть не что иное, как попытка преодолеть методологическую наивность посредством рефлексии на основные феноменологические процедуры[256].
В книге Г. Айглера[257] сделана попытка выделить уже не наивные, но метафизические предпосылки в философии Гуссерля. Г. Айглер полагает такой предпосылкой в гуссерлевских текстах о времени представление о «течении или потоке времени». Более радикальную попытку критики феноменологии предпринял Г. Аземиссен. Отделение метафизических и собственно феноменологических моментов в учении Гуссерля возможно будет только тогда, утверждает Г. Аземиссен, когда мы проверим, насколько феноменологические анализы Гуссерля соответствуют его принципам. Прежде чем отделить феноменологическое от метафизического, следует отличить феноменологически верное от феноменологически неверного. Феноменология и гуссерлевская философия не совпадают, «его философия лишь в той степени феноменологическая, в какой она удовлетворяет феноменологическому принципу»[258].
С такой постановкой вопроса следует, конечно, согласиться, тем более что критика Гуссерля у Аземиссена весьма содержательна. При этом, однако, проблема ставится, но не разрешается, ибо теперь вместо критерия отделения феноменологического от метафизического нужно обладать критерием феноменологически верного. Можно ли определить этот критерий как соответствие феноменологическому принципу?
2. Границы очевидности и очевидность границ
Феноменологический принцип, который имеет в виду Г. Аземиссен, – это гуссерлевский «принцип всех принципов»: «то, что каждое первично образующее данность созерцание (originär gebende Anschauung) есть правомерный источник познания, что все, что нам представляет себя в «интуиции» первично (так сказать, в своей живой действительности), следует просто принять так, как оно себя дает, однако только в границах, в которых оно себя здесь дает, [в этом] не может нас сбить с толку никакая мыслимая теория»[259].
Этому принципу, согласно Г. Аземиссену, должен следовать и сам Гуссерль, что происходит далеко не всегда. Тем самым, «истинно феноменологическое», или «феноменологически верное», Г. Аземиссен находит в принципе «первоначально интуитивно данного», в отказе от всяких теорий, т. е. конструкций. При этом, однако, не ставится под вопрос сам «принцип всех принципов». Не является ли все же сам этот принцип в определенном смысле конструкцией? Г. Аземиссен отмечает, что «подчеркнутое в конце формулировки ограничение предусматривает «в качестве принципиальной возможности отклонение от следующего норме пути». Эта тематизация гуссерлевского ограничения («но только в границах, в которых оно себя дает») является в высшей степени важной. Г. Аземиссен истолковывает это ограничение, в соответствии с Гуссерлем, как предупреждение относительно возможных ошибок, если мы не будем учитывать границы, в которых нечто «себя дает»[260].
Здесь следует, однако, обратить внимание на другое, на то, что Гуссерль, по-видимому, не осознавал: принцип изначальной интуиции не согласуется с требованием установления границ данного.
Само установление границ интуитивно данного, т. е. данного в созерцании и прежде всего в «простом» восприятии, уже неинтуитивно: в восприятии как таковом нам не даны границы опытов. Иначе говоря, гуссерлевский принцип не учитывает различия между идентифицирующей данностью и данностью различающей.
Казалось бы, все просто: мы воспринимаем танцующую на шаре девочку и сидящего атлета и понимаем, что перед нами не арена цирка, а картина Пикассо. Или же мы в цирке и видим там, допуская возможность такого совпадения, девочку, танцующую на шаре, и сидящего атлета, и понимаем, что мы не в музее. Или мы видим стог сена в поле и на картине Моне. У нас два вида данности, которые мы отличаем друг от друга. Однако само отличие, само различение мы не воспринимаем.
Речь идет здесь, однако, не о том, что, различая нечто, мы не обращаем внимания на «акт» различения. Речь о другом: если мы принимаем в качестве «правомерного источника познания» непосредственное, т. е. первично образующее данность (у Гуссерля дословно: «первично дающее») созерцание, и при этом выдвигаем требование, чтобы это данное было для нас данным только в определенных границах, тем самым это данное выступает уже как данное определенного опыта (в поле, в цирке, в музее) и в этом смысле релятивизируется.
Абсолютной непосредственности восприятия предмета противоречит тот факт, что восприятие имеет место всегда уже в границах определенного опыта, и проблема непосредственного-опосредствованного может вообще ставиться только в этих границах. Сами же рамки, или границы, опыта не даны в восприятии. Может быть, наряду с восприятием предмета существует еще один, равноизначальный «источник познания», а именно различение опытов (контекстов, ситуаций)?
Предположение о существовании двух равноизначальных источниках познания мы сделали только на основе рассмотрения гуссерлевского «принципа всех принципов»: при экспликации этого принципа Гуссерль проводит такое различие, которое ставит под вопрос созерцание в качестве единственного источника познания. Однако это не означает, что мы должны принять два равноизначальных и равноправных источника познания. Пока речь идет лишь о констатации: утверждая интуицию (созерцание) в качестве первичного источника, Гуссерль имплицитно принимает еще один источник. Неизбежно ли это? Воздерживаясь пока от ответа на этот вопрос, рассмотрим аналогичную ситуацию, связанную с вопросом о возможной ошибочности очевидности. Гуссерль неоднократно подчеркивал, что очевидность может быть ошибочной: «Возможность заблуждения принадлежит очевидности опыта и не отменяет ни ее фундаментального характера, ни ее действенности (Leistung), хотя очевидное осознание (Innewerden) заблуждения «отменяет» («aufhebt») соответствующий опыт, или саму очевидность. Очевидность нового опыта есть то, в чем неоспоримость предыдущего опыта претерпевает отмену, перечеркивание как модификацию веры (Glaubensmodifikation der Aufhebung, der Durchstreichung), и только так может очевидность претерпевать эту модификацию. Очевидность опыта, таким образом, всегда уже предполагается. Осознанное «отторжение» (Auflösung) заблуждения в изначальности [опыта]: «теперь я вижу, что это иллюзия» – само есть вид очевидности, а именно очевидность недействительности того, что дано в опыте, соответственно, очевидность «отмены» (прежде немодифицированной) очевидности опыта. Это распространяется также на любую очевидность и на любой «опыт» в самом широком смысле. Даже очевидность, представляющая себя в качестве аподиктической, может раскрыть себя как заблуждение и предполагает все же для этого некоторую подобную очевидность, о которую она «разбивается» (zerschellt)»[261].
Итак, согласно Гуссерлю, мы идем от очевидности к очевидности, причем каждая последующая очевидность может отменить, уничтожить предыдущую. Оставляя в стороне вопрос о бесконечном регрессе, который почему-то Гуссерля здесь не беспокоит, мы обращаемся к проблеме «уничтожения предыдущей очевидности». Она, говорит Гуссерль, «разбивается», мы «отторгаем» заблуждение, мы видим, что это была иллюзия, мы осознаем заблуждение с очевидностью.
В самом деле, мы говорим: «Я вижу, что это иллюзия». Гуссерль выделяет слово «вижу», однако не «осознает с очевидностью», что это метафора. Мы можем видеть какой-либо предмет, а затем осознавать, что это была иллюзия, что перед нами в действительности был другой предмет. Мы можем также видеть этот другой предмет, но мы не можем видеть (или вообще как-либо ощущать) переход к осознанию иллюзии. Иначе говоря, если очевидность связана, по Гуссерлю, с первичным, т. е. непосредственным, созерцанием, то переход от одной очевидности к другой и аннулирование предыдущей – это существенно иная операция сознания (мы сознательно избегаем слова «акт»), чем созерцание. Следуя Гуссерлю, можно было бы сказать, что «отторжение» иллюзии опирается на созерцание, однако смысл этой опоры, или фундирования, остается весьма неопределенным. Здесь опять-таки, как и при формулировке «принципа всех принципов», выявляется некий теневой источник, сопровождающий, если следовать логике Гуссерля, созерцание.
Кроме того, в рассуждении Гуссерля о возможности заблуждения не принимаются во внимание границы опыта, в которых мы отличаем действительное от кажущегося. Различение дамы и восковой куклы в музее восковых фигур (пример Гуссерля) и различение змеи и веревки (не в музее) предполагают совершенно разные исходные ситуации. Дело даже не в различных ситуациях и конкретных смешениях, а в изначальной «настроенности» на это различение. В отношении метафоры «видеть» можно привести более простой и более убедительный пример: я ищу кого-либо, вхожу в комнату и «вижу», что его/ее здесь нет. Вижу ли я отсутствие? Какой «комплекс ощущений» соответствует небытию искомого? Несомненно, что в этом описании, оперируя метафорами, Гуссерль не различает, по крайней мере, достаточно отчетливо, прямой и фигуральный смысл.
В какой мере вообще допустимо употребление метафор в философском тексте? Видимо, в той мере, в какой возможно осознать, что это – метафоры, т. е. различить прямой и переносный смысл. Для Гуссерля это составляет большую проблему: его манера письма такова, что он, как правило, вводит некоторый образ, берет это слово в кавычки, дабы продемонстрировать, что это образ, но уже через несколько строк это слово употребляется без кавычек и превращается в философский термин.
Почему вообще возникают трудности различения прямого и переносного смысла? Почему мы действительно зачастую видим в философских текстах их смешение?
Проблема не разрешается простым указанием на необходимость их различения. Она, собственно, состоит в том, что неясным остается формирование прямого смысла. То, что это формирование связывают обычно (и Гуссерль не исключение) только с созерцанием, а созерцание «работает» с образами, ведет к указанным трудностям.
Очевидность для Гуссерля есть предмет описания. Очевидность не есть особое иррациональное чувство, которое «добавляется» к размышлению, или интуиция гения, недоступная «простым смертным». Очевидность, по Гуссерлю, есть особый акт сознания, а именно акт отождествления замысла и созерцания. Мы усматриваем с очевидностью в том случае, когда у нас есть сознание (акт) тождества подразумеваемого и созерцаемого. В случае адеквации в широком смысле мы можем говорить, в соответствии с градациям осуществления, о ступенях и степенях очевидности. Это очевидность в более слабом смысле. В случае адеквации в узком смысле, адеквации «самой вещи», мы имеем очевидность в самом строгом смысле этого слова.
Очевидность не есть неинтенциональное ощущение, но всегда полагающий, объективирующий и синтезирующий акт. Акт очевидности есть акт синтеза, «акт совершеннейшего синтеза осуществления, который придает интенции, например интенции суждения, абсолютную полноту содержания, полноту содержания самого предмета»[262]. Тем не менее Гуссерль разделяет предрассудки платонизма, что очевидность – это характеристика созерцания: вещи – во внешнем восприятии, идеи – в категориальном созерцании, самого созерцания – во внутреннем восприятии или внутреннем сознании. В любом из этих случаев речь идет о предметности в самом широком смысле, ибо даже восприятие, по Гуссерлю, есть предмет рефлексии. Используя излюбленное выражение Гуссерля, можно было бы назвать такое понимание очевидности наивным или – иначе – буквальным: это то, что видно, то, что открывается нам, показывает себя и т. д. Как бы Гуссерль ни пытался отрицать, что очевидность в его понимании не есть некоторое «добавочное чувство», однако, если очевидность – это очевидность созерцания или усмотрения, то усмотрение с очевидностью отличается от простого усмотрения убежденностью, что обстоятельство дел именно таково, каким мы его видим. Дело, однако, не только в этом. При разъяснении того, что такое очевидность, Гуссерль опять-таки не принимает во внимание границы опыта, в котором нечто очевидно. Математическая очевидность, очевидность логического вывода, очевидность ситуации, положения, отношения, очевидность чувств – каким образом связаны очевидности тех или других видов опыта с созерцанием? При этом предполагается, что созерцание и очевидность – разные вещи, иначе зачем было бы вводить еще одно понятие? Можно спорить о том, лежит ли в основе математического усмотрения, логического вывода, в основе понимания ситуации, в основе эмоций и чувств непосредственное созерцание или нет, но бесспорно, что очевидность созерцания материальных вещей не определяет перечисленные выше виды очевидности.
Гуссерль не отрицал различия этих видов очевидности. Более того, он подчеркивал наличие степеней очевидности внутри каждого из этих видов. Однако при этом любой вид очевидности остается у Гуссерля скроенным по мерке созерцания вещи. «Местом» очевидности остается предметность, и как раз переход от одной степени очевидности к другой остается непроясненным. Описывая процесс осознания предмета как иллюзии, Гуссерль употребляет как синонимы модификацию веры (в существование определенного предмета) и перечеркивание, отмену этой веры. Однако модификация и перечеркивание – это нечто существенно разное. Как раз в процессе перехода от иллюзии к восприятию действительного предмета происходит тотальное перечеркивание, но не модификация. Веревка – это не модифицированная змея, а убеждение в том, что это веревка, не есть модификация убеждения, что это змея.
Возвращаясь к «принципу всех принципов», рассмотрим теперь, как Гуссерль конкретно описывает «первичный источник познания». При этом мы отвлекаемся от отмеченной выше противоречивости самого принципа в связи с введенным Гуссерлем ограничением. Иными словами, мы допускаем, что созерцание возможно вне границ какого-либо опыта.
В формулировке «принципа всех принципов» у Гуссерля сталкиваются активный и пассивный залог. Сначала созерцание характеризуется как «первично дающее», а затем как «просто» принимающее, или, если уже быть совершенно точным, созерцанию предписывается быть просто принимающим. О самом созерцании Гуссерль говорит только то, что оно «первично дающее». Это согласуется с пониманием интенциональности как «процесса», в котором созерцание наделяет предмет смыслом. Однако о самом созерцании речь больше не идет. Идет речь о предмете, о том, что он дает себя в этом созерцании «в своей живой действительности», «как живой». Возникает вопрос об источнике данности: формируется ли данность созерцанием («первично дающим») или же данность исходит от предмета.
Может быть, здесь мнимые трудности: предмет показывает нам себя, представляет себя нам, дает себя нам, а мы должны лишь, отстранившись от всех теорий, принять эту данность как таковую. Повторим еще раз, что мы отвлекаемся от вопроса, возможно ли принять данность как таковую вне границ какого-либо опыта. Допустим, что это возможно. Однако при этом остается вопрос, что означает: «предмет дает нам себя в своей живой действительности»? Перед нами пока только ряд метафор.
«Предмет представляет себя, дает себя» – эти метафоры имеют своим источником сферу деятельности, но не созерцания. Данность – это метафора. В феноменологии феномен определяется через данность, но данность не тематизируется. Говорится о том, что дано, как дано, но не говорится что такое «дано». Вопрос о данности так и не был поставлен в феноменологии. Не идет ли здесь речь о своего рода отделении от предметов «тонких поверхностей» и предоставлении их нашей чувственности?
Таким образом, даже если мы отвлечемся от вопроса о границах опыта, гуссерлевское описание первичного источника познания оказывается под вопросом, ибо под вопросом оказывается не только понятие очевидности, но и понятие данности.
Рассмотрим теперь модальный аспект «принципа всех принципов», учитывая необходимость границ данности: «…все, что нам представляет себя в „интуиции“ первично… следует просто принять (einfach hinzunehmen sei) так, как оно себя дает…» (выделено мной – В. М.).
Речь идет об императиве чистой пассивности, императиве отказа, императиве отрешенности. В этом, собственно, состоит смысл феноменологической редукции: с одной стороны, мы должны отстраниться от обыденной установки с ее верой в бытие мира; т. е. в конечном итоге это означает отстраниться от каузальной связи между миром и собственным «Я» (как бы ни понимать это последнее). С другой стороны, мы должны отстраниться от всех «теорий», т. е. от всех заранее принятых толкований данного. Ясно, однако, что коррелятом этого двойного отстранения является «метафорически», т. е. не дескриптивно, введенная данность. Другими словами, отстранение от предметной данности (от веры в ее существование и от теорий, ее объясняющих) не принимает во внимание то, от чего мы отстраниться не можем – от границ данности, или, лучше сказать, от различий между опытами. В этом и только в этом смысле полная редукция невозможна. Редуцируя предметности и теории, мы не можем редуцировать различия опытов как коррелят нашего изначального опыта сознания и опыта мира – опыта различения.
Еще раз обратим внимание на то, что, согласно гуссерлевскому принципу, мы должны просто принять нечто так, как оно первично дает себя «в интуиции» (т. е. в созерцании), однако в границах, в которых оно себя дает. Действительно ли можно воспринимать нечто в границах и воспринимать просто? Во всяком случае, здесь имеют место два элемента: предмет, который «себя дает», и границы, в которых он себя дает.
Казалось бы, на очереди вопрос о данности границ, ибо все, с чем сознание имеет дело, должно быть, по Гуссерлю, каким-либо образом дано. Однако вопрос о данности границ не ставится, Гуссерль ставит вопрос только о границах данности.
Возможно ли вообще в феноменологии Гуссерля поставить вопрос о данности границ? Граница, предел (одно из гуссерлевских «оперативных понятий») не есть, с одной стороны, нечто предметное, граница не является ни предметом внешнего, ни категориального, ни внутреннего созерцания; с другой стороны, граница не есть нечто, что характеризует сознание (в гуссерлевском понимании).
Может быть, сам вопрос о данности границ поставлен неверно, а вопрос о границах данности недостаточен, ибо, с одной стороны, данность оказывается «предельным понятием», а граница – весьма неопределенным? Может быть, следует поставить вопрос о границе как о первичной данности?
Прежде всего необходимо задать вопрос о том, что такое правильная постановка вопроса в феноменологии. Очевидно, что при ответе на этот вопрос мы должны следовать одному из основных принципов Гуссерля – принципу дескрипции. Критика феноменологии Гуссерля и выявление неявных предпосылок в его описаниях может осуществляться только тогда, когда предъявлено соответствующее описание. В данном случае речь идет о возможности описания границ опыта, о возможности сопоставления этого описания с описанием данности предмета и очевидности созерцания.
Для Гуссерля парадигмой описания является описание предметной данности, того, что мы идентифицируем и отделяем от другой идентифицированной данности. В этом случае описание состоит в констатации различия идентифицированных предметов между собой, а также предметов и их свойств. Видимо, описание границы различных опытов должно быть существенно иным. Во всяком случае, речь идет не о предметной идентификации границы, ибо граница как раз непредметна, но о фиксации различения, которое ведет к дальнейшим различениям, но не идентификациям.
Любое различие асимметрично. Асимметрия между данностью и ее границей «разрешается» у Гуссерля в пользу данности. Данность образует передний план этого различия, а граница – лишь фон. Предпосылкой гуссерлевских дескрипций и рассуждений о данности является ее самотождественность. Предпосылка тождества обнаруживает себя в гуссерлевских дескрипциях интенциональности и в полагании «просто предмета», в противоположность так-то и так-то интендированному предмету. В какой степени можно считать эту предпосылку неявной в феноменологии Гуссерля?
С одной стороны, Гуссерль не фиксирует каждый раз эту предпосылку, с другой стороны, именно тождество оказывается для него «абсолютно неопределимым». Предпосылка оказывается одновременно явной и неявной. Эта ситуация обнаруживает, что предпосылка тождества каждый раз вводится определенной процедурой и что в феноменологии или, если угодно, относительно феноменологии недостаточно указать на неявные предпосылки, но необходимо дескриптивно исследовать способ их введения. Феноменология имеет тем самым ресурс для анализа своих неявных предпосылок, т. е. ресурс для критики своих собственных оснований.
IV АНАЛИТИКА ОПЫТА И ИНТЕРПРЕТАЦИЯ ТЕКСТА
Логические исследования – исходный пункт феноменологического движения, одна из важнейших отправных точек философских поисков XX века. В этом произведении предпринята попытка осуществить прорыв «к самим вещам»: к сущности сознания и истине бытия. Прорыв к предельному опыту мышления потребовал разработки дескриптивного метода и отстранения от всякого рода истолкований этого опыта.
Обращение к ЛИ в начале XXI века – это своего рода возвращение к истокам. В европейской философии двух прошедших веков такое возвращение, или поиск начал, будь это досократики, Платон и Аристотель или же Кант и Гегель, обнаруживает себя как сущностное измерение самой философии. Другое дело, как понимать само это возвращение – как заклинание или анализ, как подражание или диалог, как усвоение языка или проведение различия между терминологией и постановкой проблем.
Не всякое философское произведение позволяет вступить с ним в диалог; напротив, великие системы, как правило, замкнуты, они не разрешают иного языка, чем их собственный, а на их собственном языке возможна только их собственная истина. ЛИ в этом смысле скорее исключение. В этом произведении обращение к опыту как предмету исследования и способу верификации делает возможным анализ, реальность поставленных проблем – возможность их критического обсуждения, язык, над которым не господствует терминология, – возможность обсуждать эти проблемы на другом языке.
С момента выхода в свет ЛИ прошло немногим более ста лет. Очевидно, что нет недостатка как в негативных, так и в позитивных характеристиках XX века, причем в различных и иногда противоположных оценках фактов, событий и тенденций. Дело здесь, однако, не столько в выборе той или иной интерпретирующей позиции, сколько в том, что в сами события и факты уже встроены интерпретации.
Два полюса реальности середины века – концлагерь и кинематограф – не только и не столько требуют истолкования, сколько анализа интерпретаций, благодаря которым (из-за которых) эти реальности возникают и существуют. То же самое относится и к другим «репрезентантам» времени. Разве наука не интерпретирует природу, разве техника не изменяет, перетолковывая, мир? Разве массовое уничтожение людей не есть результат интерпретативных идеологий, разве войны не ведутся из-за различия интерпретаций? Разве «логосы» власти – телевидение, радио и т. д. – это не фрагменты грандиозной мозаики ее самоистолкования? Разве «всемирная паутина» – это не глобальная «машина интерпретации»?
За пределами интерпретаций остается, пожалуй, только такой признак времени, как его калейдоскопичность и многообразие перемен. Множественность толкований находит свой предел в том, что сегодня уже нельзя представить или оценить происходящее с какой-либо одной или единой точки зрения. Мыслить саму «расчлененность времени» – эту возможность дает иерархический и аналитический опыт сознания, опыт различий и различения различий. Опыт этот, однако, не только отрицательный. Дело идет о поиске сбалансированных в отношении избытка и недостатка подвижных иерархий опыта и мира, сознания и бытия.
Наше время, как и всякое время, – только предварительное, накапливающее смысл и абсурд, опыт и схемы, реальность и иллюзии. И все же его абсолютный признак – это разграничение аналитикодескриптивного и ассоциативно-интерпретативного мышления и возникновение новых ориентиров коммуникации, где не слияние и «вчувствование», но границы и иерархии определяют стиль и формы общения.
Анализ опыта сознания и сознания как опыта в ЛИ, концепция многослойной интенциональности, идея интенционального анализа, аналитический и дескриптивный опыт ранней феноменологии в целом – все это сейчас более современно, чем это было сто лет назад.
Исходное различие нашего анализа ЛИ – между интерпретацией и анализом. Отсюда два разных направления нашей работы – интерпретативное и аналитическое, причем само это различие является аналитическим, но не интерпретативным. Гуссерль с полным основанием назвал свой труд «серией аналитических исследований». Поэтому речь у нас пойдет не только о темах, рассматриваемых или затрагиваемых в ЛИ, но прежде всего о том, каким образом можно исследовать аналитический философский текст. Иными словами, задача состоит в том, чтобы сделать предметом анализа специфику гуссерлевского анализа, отделив для этого интерпретативную составляющую его исследований от аналитической, и различить в феноменологии Гуссерля эксплицитную и имплицитную методологию.
Наше метаисследование не ставит перед собой задачи изложить учение Гуссерля в его терминологии, как это зачастую делается в работах по феноменологии, не является оно и сравнительным анализом, ибо выбор какой-либо основы для сравнения может быть сделан только после аналитического исследования, которое не выбирает аспекты, точки зрения и т. п., но выявляет, каким образом эти аспекты и точки зрения вообще могут быть выбраны.
ЛИ не только воплотили в себе опыт философского мышления, но и приоткрыли доступ к философскому мышлению как опыту. Замысел феноменологии сознания состоял прежде всего в том, что в само учение о сознании должен вовлекаться живой опыт сознания и экспликация опыта сознания должна совершаться не «извне» – с точки зрения социологии, физиологии и т. д., но «изнутри», т. е. на основе внутреннего опыта. Феноменология стремится раскрыть опыт только на основе опыта – опыт может быть явлен только в опыте, только через опыт. Apriori переосмысливается в феноменологии как первичный опыт, предшествующий любым теориям и конструкциям.
В какой мере этот замысел был реализован в ЛИ? Насколько этот замысел вообще может быть реализован; можно ли вообще записать невыдуманное? Не должны ли мы постоянно проводить различия между опытом и суждением, между размышлением и разъяснением, между анализом и интерпретацией, между философской рефлексией и педагогической деятельностью? Быть может, эти различия и есть то единственное «невыдуманное», с которым мы можем иметь дело, когда имеем дело с философскими и нефилософскими текстами, да и не только с текстами.
Феноменология – это прежде всего «философия с эмпирической точки зрения». Брентано назвал, правда, свой труд Психология с эмпирической точки зрения, однако под психологией он понимал учение о психических феноменах, т. е. учение о сознании. И это, конечно, неслучайно, ибо Брентано предпринял радикальное размежевание с господствующей в его время философией даже в отношении названия. В то же время не возникает сомнения, что это не психологическое, но философское произведение, и если учесть, что под «эмпирической точкой зрения» Брентано понимал прежде всего внутренний опыт, «внутреннее восприятие», то содержание его работы можно было бы назвать «философией сознания с точки зрения внутреннего опыта». Гуссерль, следуя Брентано, полагал, что метод феноменологии состоит прежде всего в дескрипции и рефлексии; последнюю он понимал как модификацию сознания, модификацию самого опыта сознания, а не как некоторое созерцание «жизни сознания» извне. Хайдеггер, разъясняя смысл термина «феноменология», указывал, что «ее сущностное основание не в том, чтобы действительно быть философским «направлением». Выше, чем действительность, лежит возможность»[263]. Феноменология, по Хайдеггеру, – это возможность мышления, но не действительность «школы».
Приоритет, который Хайдеггер отдает возможности, – вещь весьма спорная. Здесь, видимо, сказывается влияние классического немецкого идеализма. Однако хайдеггеровское различие между феноменологией как возможностью мышления (если под возможностью понимать опыт мышления) и феноменологической философией как совокупностью определенных текстов имеет большое значение. С одной стороны, пути феноменологии – это пути опыта сознания и опыта мышления, в сфере которых могут быть выявлены парадигмы описания любого опыта. С другой стороны, любой конкретный текст феноменологической философии не дает еще гарантии своей, так сказать, «феноменологичности». Иными словами, необходимо еще отделить в тексте дескрипцию опыта от фиксаций других функций сознания, чтобы получить доступ к опыту, воплощенному в тексте.
Феноменология Гуссерля не есть чтение или интерпретация каких-либо текстов, если, конечно, не принимать во внимание метафору «книги бытия» или «книги природы». Книга «сознание», будь она написана, уже не соответствовала бы своему названию. Сознание – это не текст, который уже написан или еще не дописан. Сознание – это прежде всего опыт, который можно идентифицировать и воспроизвести (выходя тем самым за пределы опыта) и аналитику которого можно осуществить. Однако аналитика опыта не является чтением и интерпретацией текста, как бы широко ни понимать эти термины. Сам опыт нельзя прочитать или интерпретировать: посредством опыта осуществляется аналитика мира, но сам опыт сознания не есть ни предметность мира, ни сам мир или «в-мире-бытие», доступные в той или иной степени для «прочтения».
Аналитика опыта предполагает, конечно, чтение и интерпретацию текста, даже если чтение понимать в широком смысле. Это, конечно, необходимое, но недостаточное условие доступа к опыту. Аналитика опыта не есть особого рода интерпретация, между ними нет отношения вида и рода; различие между ними аналогично гуссерлевскому различию между знаком как выражением и знаком как признаком и, соответственно, различию между выражением в «одинокой душевной жизни» и выражением в коммуникативной функции, о котором речь будет идти ниже.
Несомненно, что философское мышление, как и любое другое, если, конечно, вслед за Гегелем и Хайдеггером не считать мышление прерогативой философии, невозможно без языка. Философское мышление находит свое выражение в текстах (или же в устном творчестве) – будь это манускрипты или опубликованные работы. Однако соприкосновение с опытом мышления возможно только на основе опыта, но не интерпретации текста. Речь идет при этом не только о том, что система утверждений философа может быть интерпретирована по-разному. И тем более не о том, что возможна какая-либо окончательная интерпретация: сам смысл интерпретации заключает в себе продолжение и возможность других интерпретаций. Речь идет о другом: интерпретация ориентирована на высказанный смысл, но не на опыт мышления как переживание, на мышление как акт придания смысла, если следовать Гуссерлю, или на мышление как опыт нередуцируемых различений, если Гуссерлю не следовать, а точнее, если следовать имплицитной тенденции гуссерлевского мышления. Во всяком случае, Гуссерлю нельзя не следовать в самом различении смысла и опыта, в котором этот смысл выявляется или формируется. В этом состоит как раз гуссерлевская идея интенционально-конститутивного анализа.
Примечательно, что Ницше, несмотря на «филологическое» отождествление внутреннего опыта и текста, несмотря на «перспективизм» и, так сказать, склонность к интерпретации («нет фактов, есть только интерпретации» и т. д.), впервые, пожалуй, провел это исключительно важное различие между опытом и интерпретацией, или истолкованием, усматривая все же возможность, или, вернее, почти невозможность непосредственного доступа к внутреннему опыту: «читать текст как текст, не перемешивая его толкованиями, есть наиболее поздняя форма внутреннего опыта – быть может, форма почти невозможная»[264].
Любая интерпретация, какой бы адекватной и плодотворной она ни была, не затрагивает опыта мышления, доступ к которому призвана дать феноменология опыта и мышления. Гуссерль ставит вопрос о мышлении как переживании, противопоставляя акт мышления и содержание мышления как идеальное единство, т. е. как значение, или смысл. Постановка вопроса об акте мышления, или, лучше сказать, о мышлении как опыте, – исходный пункт второго тома ЛИ-исследований по феноменологии и теории познания. Этот вопрос здесь непосредственно связан с основой основ любого мышления – с логикой. Намечая задачи чистой логики в первом томе ЛИ, во введении во II том Гуссерль впервые ставит вопрос о переживании логического, или о логическом как переживании. Можно ли, однако, просто отождествить опыт и переживание в гуссерлевском смысле или опыт и внутреннее восприятие в смысле Брентано?
На вопрос, что такое опыт, можно искать ответ, только следуя опыту и феноменологии опыта, т. е. тем дескрипциям, которые опять-таки следуют опыту. Феноменологическая философия дает наиболее широкую основу для поиска ответа на этот вопрос, ибо стремится установить непосредственную связь между дескрипцией и опытом. Это не означает, однако, что мы должны заимствовать у Брентано или у Гуссерля какое-либо определение или понимание опыта. Экспликация опыта в текстах может не совпадать с опытом, воплощенным в этих текстах. Иными словами, эксплицитная методология может не совпадать с имплицитной. Например, разъяснения Гуссерля, что такое рефлексия и дескрипция, могут не совпадать с тем, как реально осуществляется рефлексия и дескрипция в работах Гуссерля.
Предполагает ли ответ на вопрос, что такое опыт, выход за его пределы, идет ли здесь речь об определении «условий возможности опыта»? Лишь в той мере, в какой при описании опыта используется объектный язык и опыт идентифицируется как опыт, мы можем говорить о выходе за пределы опыта, причем различие опыта и того, что вне опыта, принадлежит опыту. Однако речь не идет здесь об определении условий возможности опыта в кантовском смысле. Решающее отличие феноменологии, которой мы в этом следуем, от всех видов кантианства состоит как раз в том, что любое «условие возможности опыта» имеет своим истоком опыт, в то время как у Канта «условия возможности опыта» в принципе не могут быть сформированы в опыте. С феноменологической точки зрения, действительность опыта выше, чем его возможность; возможность опыта состоит в его действительности.
Разумеется, что понимание гуссерлевской аналитики опыта предполагает чтение текстов Гуссерля. Вопрос в том, поглощается ли это чтение интерпретацией, которая в свою очередь связана с пониманием и интерпретацией других текстов. В какой степени необходима интерпретация смысла текста (интерпретация – это всегда интерпретация смысла, но не всегда – текста; различие интерпретации текста и истолкования ситуации мы здесь не рассматриваем), в котором речь идет о первичном формировании смысла, о придании смысла и т. п.? Очевидно, что интерпретация неизбежна, ибо гуссерлевский текст есть не некая первичная данность, но феномен культуры, к изучению которого приступают отнюдь не в младенческом возрасте. Однако неизбежность интерпретации вовсе не означает ее тотальности. Интерпретация – это «неизбежное зло», уменьшение которого является задачей аналитики опыта, а в данном случае – задачей воспроизведения гуссерлевской аналитики. Перефразируя Ньютона, можно сказать: «Дескрипция, избегай интерпретации!». Аналогичным образом обстоит дело и с переводами с иностранных языков; когда говорят, что любой перевод – это интерпретация, то это верно лишь в той мере, в какой осознают, что интерпретация неизбежно вкрадывается в перевод и что переводчик должен осознавать, какова же его исходная и конечная интерпретация. Если бы перевод текста был всецело его интерпретацией, то тогда читатель имел бы дело только с переводчиком, но не с автором. Абсурдность этой ситуации заставляет поставить вопрос о том, что же содержится в переводе, кроме интерпретации. При этом речь идет не столько о передаче намерений автора, сколько о передаче артикуляции смысла. Особая ситуация с переводами философских текстов (и особенно фундаментальных) состоит в том, что здесь речь идет не столько о передаче выраженного или имплицитного смысла, сколько о передаче описания того, каким образом вообще артикулируется смысл. Различие между философским и любым нефилософским текстом состоит как раз в этом – в любом тексте, будь это религиозный, художественный, политический и т. д., имеет место артикулированный смысл, который необходимо расшифровать, понять и интерпретировать. Однако и в этих текстах есть нечто такое, что не поддается какой-либо интерпретации, ибо представляет собой не что-то артикулированное, но сам способ артикуляции. Философский текст отличается тем, что в нем как раз в первую очередь речь идет не о некотором «содержании», но о способе артикулировать, выделять, отделять, различать вещи, обстоятельства дел, свойства предметов, «психические акты» и т. д.
Если сказанное передать так: «философия занята прежде всего субъективным», то эта формулировка не избавляет от разъяснения, каким образом и для чего философия занята им. Ведь это можно понимать и так, что субъективное – это содержание философии, а различные философские учения по-разному интерпретируют субъективное. Впрочем, речь идет не об определении философии, но о специфике философского текста. Философское учение может объявить своим предметом бытие, однако в самом тексте раскрывается не «само бытие», но «смысл бытия» и при этом опять-таки возможен вопрос, каким образом артикулирован этот смысл. Необходимым фоном любого переданного содержания (в самом широком смысле) является выделяющая это содержание «инстанция», различающая и идентифицирующая субъективность.
Попытки получить доступ к субъективному предпринимались и предпринимаются в основном посредством реконструкции субъективного по той предметности или по тому содержанию, которое устанавливается (конституируется) и идентифицируется субъективностью. Однако именно такого рода реконструкции превращают субъективное в некоторую квазипредметность, которой предписывается лишь функциональная роль. Такая реконструкция имеет скорее практическое значение для регуляции деятельности и поведения. При этом сама реконструкция и ее процедуры должны быть, конечно, прояснены. Это означает, что должен быть сделан следующий шаг реконструкции, но уже не по объективациям субъективности, но в соответствии с тем опытом, в рамках которого могут возникать указанные квазипредметности («образы» вещей). Формально мы имеем здесь дело с бесконечным регрессом (или, если угодно, прогрессом), но реально речь идет лишь о нескольких возможных уровнях рефлексии.
В контексте проблемы определенности мира Гуссерль говорит по крайней мере о двух видах субъективности: «Конечно, если [таковы] природа, социальность, культура, если объективный мир таков, что делает возможным непрерывно прогрессирующее знание, тогда должна, конечно, и субъективность быть рациональной в той мере, в какой она должна быть реконструируемой из этой объективности и [должна быть] созерцаемой из субъективности в непрерывной согласованности. Но эта реконструируемость была бы только некоторой структурой рациональности и не означала бы еще (…) рациональности субъективности, определенной во всех своих моментах»[265].
В этом пассаже ощущается все же некоторая несогласованность. Разумеется, общий смысл этого отрывка предельно ясен: текучая жизнь субъективности не может быть полностью рациональной и определенной, в отличие от определенности природного бытия. Однако все не так просто, тем более что ничего специфически феноменологического (гуссерлевского) в такой интерпретации этого текста не содержится. Проблематичность такого противопоставления выявляет себя в том месте этого текста, когда Гуссерль говорит о реконструируемости субъективности из объективности, а затем добавляет, что эта субъективность должна быть созерцаемой из субъективности. Даже если допустить, что это невольная ошибка – Гуссерля или того, кто расшифровывал его стенографическое письмо, – и вместо субъективности во втором случае должно стоять слово «объективность», то это мало что меняет. Здесь мы имеем дело с тем редким случаем, когда замена термина на противоположный по значению («субъективность» на «объективность») не изменяет смысла проблемы и не отменяет проблематичности описания. Дело в том, что если «субъективность должна быть реконструируема и созерцательно дана в непрерывной согласованности из объективности», то всегда остается вопрос об исходной точке этого созерцания. Так или иначе, речь идет о двух субъективностях, из которых одна «согласованно созерцает» другую – реконструированную из объективности. Если же эта субъективность, как это следует из гуссерлевского контекста, представляет собой текучую, иррациональную, неопределенную жизнь, то о каком «согласованном созерцании» может идти речь? Иначе говоря, иррациональная текучая жизнь вряд ли может быть охарактеризована как согласованно наблюдающая или рефлектирующая субъективность. Можно было бы, конечно, ввести еще один уровень субъективности, так сказать, промежуточный – между текучей жизнью и реконструируемой субъективностью, однако это не отменяет проблемы соответствия этой субъективности и иррациональной жизни сознания. В Лекциях по феноменологии внутреннего сознания времени эта же проблема выступает как проблема соответствия «абсолютного, самоконституирующегося потока сознания» и уровня «ретенциально-теперь-протенциальных фаз».
Вопрос в том, насколько необходимо допущение иррациональной субъективной жизни в феноменологии сознания. Конечно, метафизика потока иррационального бытия может быть необходимой для романтически окрашенного мировоззрения, но является ли она необходимой для феноменологической дескрипции? Разрешима ли альтернатива рационально просчитываемой и иррационально текучей субъективности? Речь идет о разрешении этой альтернативы в контексте проблемы дескрипции опыта и противопоставления аналитики опыта и интерпретации. В целом же любая теория сознания, уже хотя бы потому, что создается не без участия человеческого сознания, соответствует определенному аспекту человеческого бытия. Теория отражения, активизм, интенциональность как «имманентная предметность», интенциональность как функционирующее смыслопридание, сознание как ментальная деятельность мозга, сознание как усмотрение сущностей и ценностей и т. д. – каждая из этих теорий так или иначе затрагивает определенное отношение человека и мира, однако далеко не каждая заботится о своем самообосновании, что как раз подразумевает аналитику осуществляемого сознанием опыта. Например, теория отражения как теория функциональных квазипредметностей (образов) может быть применима в сфере регуляции поведения и предметной деятельности. Однако в этой теории отсутствует анализ опыта сознания, и по простой причине: сам этот опыт даже не предполагается. Сознание предстает только как «субъективный образ объективного мира». Гуссерль, анализируя в ЛИ теорию отражения, указывает на то, что образ, чтобы стать образом, нуждается еще в чем-то ином, а именно в том, чтобы ему был придан смысл образа.
В то же время вопрос о том, каким образом осуществляется анализ опыта у самого Гуссерля, не решается простым указанием на теорию интенциональности. Последняя может выступать и как интерпретация (если речь идет об истолковании термина «интенциональность», о сравнении брентановского и гуссерлевского понимания интенциональности и т. д.), и как аналитика опыта, когда речь идет о введении основных различий, без которых теория интенциональности невозможна. Изложение того, какова структура интенциональности, относится к сфере интерпретации, различение различений – к аналитике опыта. Опыт различения снимает альтернативу между иррациональной текучей жизнью и рационализированными структурами субъективности. Различения не являются ни иррациональным потоком сознания, ни функциональными квазипредметностями. Различения, постоянно перестраивая свою иерархию, коррелятивны границам, отделяющим друг от друга предметности, сферы действия, различного вида опыты, т. е. границам, образующим мир человека. Благодаря опыту различений может быть написан и прочитан «текст мира», однако одно из немаловажных различий между текстом и не-текстом указывает на метафоричность этого выражения. Опыт как многообразие различений коррелятивен миру как иерархии различенностей – значений, опытов, регионов сущего.
Опыт различений можно назвать метасознанием, дающим доступ к аналитике опыта и, соответственно, к аналитике мира и отделяющим от аналитики опыта интерпретацию, которая связана всегда, явно или не явно с определенной концепцией сознания и, соответственно, с определенной концепцией мира как целостности.
Проследить на протяжении всего текста ЛИ различие между аналитикой опыта и интерпретацией, т. е. указать на то, где Гуссерлем осуществляется аналитика опыта, а где излагается теория сознания, которая может быть так или иначе интерпретирована, такая задача здесь не стоит. Речь идет лишь о проведении этого различия в решающих пунктах и о выявлении предпосылок, с одной стороны, аналитики опыта, с другой – интерпретации. Уже эта задача является достаточно сложной, ибо между аналитикой опыта и интерпретацией не непроходимая граница, но подвижная грань. Таким образом, задача состоит вовсе не в том, чтобы установить некоторое окончательное содержание ЛИ.
Гуссерль начинает II том ЛИ с обширного введения, где он разъясняет метод, каким должна пользоваться феноменология, чтобы в качестве нейтральной науки быть основой, с одной стороны, логики, а с другой – психологии. Уже указание на нейтральность феноменологии подразумевает, что феноменология не должна заимствовать какие-либо предпосылки из других наук. Рефлексия как метод исследования и беспредпосылочность как непременное условие исследования – эти два необходимых элемента феноменологии непосредственно связаны с задачами, которые ставит перед собой Гуссерль. Если в I томе Гуссерль разрабатывает программу чистой логики как основы наукоучения (под наукой здесь понимается теоретическое знание), то уже во Введении во II том речь идет о феноменологии логических переживаний.
Разъясняя идею чистой логики, Гуссерль различает номологические (абстрактные, теоретические) и конкретные (описательные) науки. Первые являются основными науками, из которых конкретные науки черпают свое теоретическое содержание. В отношении теоретического знания он различает три вида связей, которые имеют место в любом познании: «а) Связь переживаний в познании (Erkenntniserlebnis), в которых субъективно реализуется наука, т. е. психологическая связь представлений, суждений, усмотрений, предположений, вопросов и т. д., в которых осуществляется исследование (…) в) Связь исследованных в науке и теоретически познанных вещей, которые как таковые составляют область этой науки (…) с) Логическая связь, т. е. специфическая связь теоретических идей, которая конституирует единство истины определенной научной дисциплины»[266]. Гуссерль указывает на нераздельность и в то же время нетождественность связей вещей и связей истин. Вместе они образуют объективную идеальную связь, пронизывающую все научное мышление, т. е. составляют объективное основание науки, объективно-идеальные условия ее возможности.
Как бы ни относиться к гуссерлевскому различию между вещами и истинами, во всяком случае, оно не содержит в себе внутренних противоречий или эквивокаций. Другое дело – субъективные условия возможности теории. С одной стороны, к субъективным условиям причисляются акты мышления и познания (переживания в познании), которые трактуются как психологические. С другой стороны, идеальные условия возможности теории также разделяются Гуссерлем на субъективные и объективные. Получается так, что к субъективным условиям относятся как реально-психологические, так и идеально-ноэтические. К ноэтическим условиям Гуссерль относит способность отличать истину от лжи, отдавать предпочтение очевидному перед слепым предубеждением. Ноэтические – это условия, вытекающие из формы субъективности, но не связанные с какими-либо особенностями конкретных единичных субъективностей. Если принять в расчет, что очевидность – это также переживание, что форма субъективности в феноменологии – это не пустая форма кантовского трансцендентального субъекта, то налицо два вида переживаний и два вида субъективности.
Гуссерль не уделил должного внимания этой эквивокации в первом томе: субъективным здесь называется и психологическое, и ноэтическое. Очевидно, что мы имеем здесь дело с эквивокацией – если употребить излюбленный термин Гуссерля. В то же время эта эквивокация оказывается весьма продуктивной: она фиксирует исходную проблему феноменологии сознания: получить доступ к непсихологической субъективности, к таким формообразованиям субъективности, которые уже не являются фактами или событиями психологической жизни индивида.
В I томе Гуссерль терминологически не соотносит «реальную» и «идеальную» субъективность; эта эквивокация сохраняется в определенном виде и во II томе. И когда Гуссерль говорит о логических переживаниях, эта эквивокация способствует тому, чтобы понимать переживание в психологическом смысле[267]. Между тем речь идет об актах мышления, которые направлены на логическое, и сама эта направленность, пусть даже она ситуативно обусловлена, выходит за пределы каузальных связей, ибо в ней мыслится нечто, что трансцендентно каузальности.
Для того чтобы перейти от реконструкции гуссерлевского хода мысли к аналитике опыта, отметим, что, как бы Гуссерль ни понимал субъективное – психологически или непсихологически, – ключевым словом, обозначающим субъективное, у Гуссерля остается переживание. Реконструкция аналитики опыта отличается от реконструкции содержания. Последняя непосредственно связана с интерпретацией. Первая предполагает не только реконструкцию содержания (необходимость которой мы еще раз отметим), но и аналитику опыта, которая осуществляется вместе с реконструкцией аналитики опыта.
Итак, прежде всего следует указать на исходный пункт рассуждений Гуссерля, в котором обнаруживается этот опыт, – это различия связей вещей, связей переживаний, связей логических истин. Выделение этих регионов связей не следует логически из каких-либо предпосылок или аксиом, это различие, как и любое различие, не воспринимается органами чувств. Это одно из онтологических различий (вернее, два различия). На языке Гуссерля это означало бы выделение регионов бытия, однако лучше было бы оставить за этими регионами обозначение «регионы связей», ибо как раз то, что не воспринимается, но мыслится, причем не измышляется, но принуждает мыслить именно так, есть различенность, граница между вещами, переживаниями и истинами. Скорее саму эту различенность следовало бы назвать бытием, бытием иерархического мира человека. Мышление различенностей, а это не что иное, как опыт различений, указывает на онтологическую укорененность мышления и одновременно на его непредметность. Различение и различенность не подвластны интерпретации. Можно различным образом понимать логическое, вещественное и психическое, но проведение границы между ними нельзя каким-либо образом интерпретировать.
Граница между логическим и психологическим – это исходный пункт и одновременно цель гуссерлевских рассуждений в I томе ЛИ, это реальная предпосылка анализа и его конечная цель. Гуссерлевская аргументация, обнаруживающая различного рода следствия психологизма, как бы укрепляет эту границу: «Никакая мыслимая градация не может составить переход между идеальным и реальным»[268]. Кроме того, вычленение различного понимания предмета и задач логики, выведение упомянутых различных следствий психологизма – это также аналитика опыта или, лучше сказать, аналитический опыт. Доступ к этому опыту или хотя бы к реконструкции аналитического опыта других достигается переключением внимания от того, что выделяется, к самому «процессу» выделения. В другом, предметном, аспекте это можно было бы предварительно назвать «переключением внимания» (говоря на интерпретативном языке) с предмета на границу между этим предметом и другим предметом и т. п. Небезынтересно зафиксировать такое переключение у самого Гуссерля. Проведя указанное выше различие между вещами, переживаниями и истинами, Гуссерль пишет: «Ничто не может быть, не будучи так или иначе определено (ohne so oder so bestimmt zu sein); и то, что оно есть и так или иначе определено, именно и есть истина в себе, которая образует необходимый коррелят бытия в себе»[269]. Перевод достаточно точно передает смысл гуссерлевского обобщения предыдущего рассуждения относительно того, что связь вещей и связь истин даны всегда вместе и их нельзя оторвать друг от друга. Существование вещи и связь вещей приобретают объективную значимость, по Гуссерлю, только благодаря связям истин. Поскольку истина – это определенность бытия, то эта определенность служит одновременно условием бытия.
Как это ни странно, иногда недостаточно точно передать смысл, а именно, когда «речь идет» о «формировании» смысла, об аналитическом опыте. Кавычки в предыдущем предложении указывают, что эти языковые средства взяты из сферы интерпретации и применимы к аналитическому опыту лишь метафорически. Строго говоря, не «речь идет» о различии, но благодаря различию (различению) возможна речь, возможно письмо, возможен счет. Смысл отнюдь не формируется, т. е. «речь идет» не о процессе обработки чего-то бесформенного, но смысл выделяется благодаря приостановке различений. Как же можно говорить о различениях, если о них «не идет речь»? Дело как раз в том, что следует различать само различение и речь о нем, его обозначение, его классификацию и т. д. Различение – это внеязыковой опыт, который, в случае необходимости передачи его другим, маркируется, фиксируется в языке. В отличие от смысла, различение ничего не выражает, но лишь констатирует свое место в иерархии других различий. Выражение (выдавливание) – это всегда деформация опыта, это столкновение ассоциаций, настроений, чувств, осознания, размышления и т. д. Именно этот комплекс «выражается» в суждении, вопросе, просьбе и т. д. Как раз поэтому «выражение» можно по-разному интерпретировать. Можно совершать «археологические» открытия, склеивать фрагменты чувств, настроений и т. д., а из них создавать тексты преимущественно эстетического назначения, но это все имеет только косвенное отношение к аналитике аналитического опыта.
Опыт различений является простым, и даже простейшим, само собой разумеющимся опытом, и именно поэтому на него так трудно «обратить внимание», ибо «переключение внимания», о котором шла речь выше – это также один из видов различения. Если мы переключаем внимание, скажем, от куба, данного в одной перспективе, к кубу в другой перспективе, то это предполагает прежде всего различение перспектив. «Работа» различения первичней, чем видение того или иного куба. Различие перспектив, между которыми нет какой-либо средней, промежуточной, как раз и создает возможность видеть тот или иной куб.
Возвращаясь к приведенным выше словам Гуссерля, следует отметить, что буквальный перевод слов в скобках был бы все же полезней – не для уточнения смысла, но для того, чтобы сделать доступным аналитику аналитического: «Ничто не может быть без того, чтобы не быть так или иначе определенным», или не так буквально: «Ничто не может существовать, если оно не существует как нечто так-то и так-то определенное». Такой перевод делает более явным «переключение внимания» от вещей к их пределам, границам, к их определенности, которая и составляет их бытие. Гуссерль, правда, говорит о «бытии в себе» как о простом существовании вещей. Однако понимание истины как определенности вещей, само «переключение внимания» с вещей на их границы, само различие между вещами и их определенностью указывает на то, что Гуссерль невольно выходит за пределы своего понимания мира как совокупности предметов. Если строго следовать гуссерлевскому утверждению, то мир предстает отнюдь не как совокупность вещей, но как «совокупность» их определенностей, их границ. Различие истины в себе как определенности вещи (бытие) и бытия в себе как самой вещи (сущее) можно истолковать как «предтечу» хайдеггеровского онтологического различия. Несомненно, что хайдеггеровское различие бытия и сущего принадлежит как интерпретативному, так и аналитическому измерениям; в последнем случае оно оказывается достаточно продуктивным: бытие – это границы регионов «бытия», в том числе – региона «вещь»; сущее – совокупность регионов, среди которых регионы вещей, лучей света, звуков, запахов, идеальных предметностей и т. д. «Бытие сущего» не только «вне» любого сущего как его граница, но и «внутри» каждого региона как иерархия его внутренних различий.
Разумеется, это интерпретация, но в ее основе – серия различений: во-первых, воспроизведение самого хайдеггеровского различия, во-вторых, различие границ регионов и иерархии различий внутри регионов, в-третьих, различие совокупности вещей и совокупности регионов (часть и целое) и другие, менее явные различия.
Характерно, что Гуссерль завершает I том ЛИ именно рассматриваемым различием, а не каким-либо утверждением или тезисом. Различие логического, психологического и вещного составляет одну из предпосылок дальнейших феноменологических исследований.
Вопрос о предпосылках феноменологии (или феноменологических предпосылках) эксплицитно вводится Гуссерлем в § 7 Введения II тома ЛИ. Речь идет о «принципе беспредпосылочности теоретико-познавательных исследований», согласно которому необходимо исключить все допущения, «которые феноменологически не могут быть полностью и всецело реализованы». Эту формулировку можно было бы посчитать достаточно простой, если бы не необходимость разъяснения, что означает «феноменологически реализовать»?
В послегуссерлевской феноменологии вопрос о предпосылках обсуждался в основном в плане поиска у Гуссерля неявных предпосылок[270]. Однако вопрос о предпосылках имеет еще и другое измерение. В основном этот вопрос обсуждался как вопрос интерпретации основных гуссерлевских понятий, но не как вопрос аналитического опыта. Последователи и исследователи пытались обнаружить такой «слой» в гуссерлевских рассуждениях, который уже не мог быть предметом феноменологического анализа.
В рамках интерпретации (разумеется, той или иной интерпретации) может быть поставлен вопрос о тех или иных явных или неявных предпосылках; аналитика аналитического опыта позволяет поставить вопрос о «сути» предпосылок: о том, каковы, так сказать, предпосылки предпосылок, какие процедуры и функции сознания лежат в основе «формирования» предпосылок. Первое различие, которое уместно было бы здесь провести, – это различие между предпосылками теории, учения и т. д., которые могут быть явными или неявными, и предпосылками самого мышления – в данном случае мышления Гуссерля. Речь идет, конечно, не о психологических или биографических изысканиях, но о тех отправных пунктах, когда мыслитель достаточно отчетливо указывает на первичный опыт мышления, реализует этот опыт и в то же время отрицает этот опыт как первичный. Речь идет о противоречии между тем, что Гуссерль утверждает относительно сущности мышления, и тем аналитическим опытом, который в решающих пунктах его феноменологии играет решающую роль. Этот конфликт проявляется не только в ЛИ и более поздних работах, но уже в первой книге Гуссерля «Философия арифметики».
V ЧИСЛО И РАЗЛИЧИЕ
Счет, наряду с речью и письмом, – это одна из фундаментальных функций коммуникативного интеллекта. Находит ли свое основание счет в «субстанции числа» или же само понятие числа, а также понятие совокупности (множества) и количества берет свое начало в определенном опыте сознания? Каков генезис понятия числа – синтез и тождество или же различение?
Ответ, который в конечном итоге дает Гуссерль, состоит в том, что в основе представления о совокупности лежит синтез особого рода, который он называет «Kolligieren» – по-русски это было бы что-то вроде «коллективирования». Речь идет о «собирании в целое», если угодно, об образовании коллектива, т. е. множества, совокупности. Нельзя сказать, однако, что Гуссерль постепенно склонялся к этому решению в ходе исследования. Скорее это предпосылка, которая направляла его исследование и критику воззрений, непосредственно связывающих число и множество с различением.
Гуссерль обобщает некоторые из таких теорий, которые он считает более научными и правдоподобными, чем другие[271]. Основной ход рассуждения реконструируется Гуссерлем следующим образом: о множестве можно говорить только при наличии различных предметов. Если бы предметы были тождественными, то тогда перед нами был бы только один предмет. Эти различия между предметами должны быть заметны, в противном случае в нашем схватывании мы имели бы лишь не подвергнутое анализу целое, что делало бы невозможным представление о множественности. Поэтому представление о совокупности всегда предполагает представление о различии. Когда же мы отличаем один предмет совокупности от другого предмета, то вместе с различием всегда дано необходимым образом и его тождество с самим собой. «Мы получаем, следовательно, – реконструирует Гуссерль, – исходя из какого-либо конкретного множества, общее понятие множества, когда мы относим, различая, любое содержание к любому другому, при этом, однако, полностью абстрагируясь от особых свойств конкретно данных содержаний, рассматриваем любое из них просто как некоторое нечто, тождественное с самим собой. Так, некоторым образом возникает понятие множества как пустой формы различия (Verschiedenheit) «[272].
Гуссерль называет троих представителей реконструируемой им теории – Шуппе, Зигварта, Джевонса, ссылаясь также на Дюбуа-Реймона. «Сущность числа неопределима, – цитирует Гуссерль Шуппе, – так как она непосредственно вытекает из принципа тождества. Посредством него непосредственно полагается Одно и Другое, когда одно отличается от другого. Здесь, следовательно, дано многообразие (Mehrheit), или множество (Vielheit)». «Красное – это не зеленое и не синее, а не есть ни b, ни с, и b не есть ни а, ни с, и с опять-таки не есть ни а, ни b. Эти суждения простейшего вида образуют предпосылку при предицировании определенного числа, и для выражения того же самого смысла вместо простого различения можно назвать число; красный и зеленый и синий – это, скажем, не один, но три; можно также далее сказать (…) три различных цвета, однако это избыточная точность (…) «существуют три цвета» – это то же самое, что и «три различных цвета». То, что я не могу различить, я не могу сосчитать, это одно и то же».
Джевонса Гуссерль цитирует без перевода: «Number is but another name for diversity. Exact identity is unity, and with difference arises plurality». «Plurality arises when and only when we detect difference». «There will now be little difficulty in forming a clear notion of the nature of numerical abstraction. It consists in abstracting the character of the difference from which plurality arises, retaining merely the fact… Abstract number, then, is the empty form of difference; the abstract number three asserts the existence of marks without specifying their kind». «Three sounds differ from three colors, or three riders from three horses; but they agree in respect of the variety of marks by which they can be discriminated. The symbols 1+1+1 are thus the empty marks asserting the existence of discrimination»[273].
Очевидно, что ключевым термином реконструируемой теории является «пустая форма различия» – выражение, которое Гуссерль находит у Джевонса. Это выражение заслуживает пристального внимания: возможна ли вообще «форма различия», не является ли «форма» признаком тождества; не является ли тождество неявной предпосылкой рассуждений Джевонса, так же как и Шуппе?
Реконструкция Гуссерля не является, однако, простым реферированием. Гуссерль выдвигает возражения против теории и отвечает на них с позиций этой теории, он придает теории достаточно стройный вид, он изобретает символизм для этой теории… И отказывается от нее!
Первое возражение, которое выдвигает Гуссерль, состоит в том, что, с точки зрения этой теории, все числа – это «пустая форма различия». Чем же тогда три отличается от двух, четырех – от трех и т. д.? Не должны ли мы предполагать, замечает Гуссерль, что при числе два мы замечаем одно отношение различия, при числе три – два и т. д.
Выражение «отношение различия» (Unterschiedsrelation) заслуживает такого же внимания, как и «форма различия». «Отношение различия» предполагает тождество, правда, иным образом, чем «форма различия». Если последнее предполагает одну из форм – форму различия – как нечто самотождественное, то первое гуссерлевское выражение предполагает наличие самотождественных членов отношения. Тем самым предпосылки Гуссерля не отличаются кардинально от предпосылок Джевонса.
Гуссерль полагает, что рассуждениям Джевонса недостает глубокого психологического обоснования. Неясно, как соотносятся психологически «вариация меток» и «форма различия», означает ли «вариация меток» то же самое, что и число, или же она означает «форму различия». Гуссерль фиксирует это несовершенство теории и пытается его преодолеть следующим образом. Для простоты Гуссерль рассматривает совокупность трех предметов – А, В, С. В представление этой совокупности входят следующие отношения различия: (дуги обозначают эти отношения). Все эти отношения даны в нашем сознании вместе, и какое бы содержание мы ни подставили вместо А, В и С, эти отношения будут иметь место, они образуют «форму» различия, которое характеризует число «три». (Гуссерль берет слово «форма» в кавычки, очевидно, чувствуя, что здесь не может идти речь о форме некоторого бесформенного материала.) Здесь возникают, говорит Гуссерль, определенные возражения: ведь каждое из этих отношений должно быть тождественно с самим собой и отличаться от других: относительно этих различий верно то же самое, и таким образом, мы имеем своеобразный регресс в бесконечность.
Для Гуссерля, как известно, регресс в бесконечность является одним из самых веских аргументов против любой теории, которая обнаруживает ту или иную его форму. Вопрос в том, насколько такая критика применима к теории различий, мы оставляем пока открытым.
Гуссерль, однако, не останавливается на выдвинутом возражении и предлагает следующий выход: «если мы (…) переходим, различая, от А к В и от В к С, то тогда новое различение С от А более не требуется; когда мы оба эти различия AB и ВС, связанные посредством основания В, соотносим друг с другом посредством акта различения более высокого уровня (höherer Akt der Unterscheidung), то возможность того, что С и А сливаются, ео ipso исключена»[274].
Выражение «акт различения более высокого уровня» заслуживает еще большего внимания. Может ли вообще различение быть названо актом? В ЛИ мы находим предупреждение, что слово «Akt» берется не в первоначальном смысле actus, что «мысль о деятельности (Betätigung) должна быть совершенно исключена»[275]. Зачем же тогда оставлять, следуя традиции, этот термин? Почему чрезвычайно трудно отказаться от характеристики сознания как деятельности? У Брентано, который ввел в современную философию термин «интенциональный», также сохраняется такая характеристика: Брентано пишет о деятельности сознания, об актах сознания и т. п. Возможно, что само слово сознание (Bewußtsein), введенное в немецкий язык X. Вольфом, способствовало тому, что «сферу ментального» интерпретируют как особую деятельность. В концепции Гуссерля термин «акт» играет важную роль. Когда речь идет об интенции как целевой устремленности, то термин «акт», отмечает Гуссерль, является весьма подходящим. «Если воспользоваться образом, – пишет Гуссерль, – то деятельности, устремленной к цели (Tätigkeit des Abzielens), соответствует в качестве коррелята действие, достигающее цели (выстрел и попадание). Точно так же определенным актам как «интенциям»… соответствуют другие акты в качестве «достижений цели» или «осуществлений»[276]. Гуссерль, правда, делает оговорку, что осуществление – это тоже акт, и таким образом, фиксирует, что мы имеем дело с эквивокацией, с неоднозначностью смысла, однако он считает, что распознанная эквивокация не представляет опасности. Это замечание Гуссерля указывает фактически на отказ от разрешения указанной неоднозначности. Не избавляет от нее и термин Aktcharakter в ЛИ.
Описание актов с помощью образа, а именно деятельности, устремленной к цели, как раз создает трудности для выполнения указания Гуссерля (которое выглядит почти как приказ) избавиться от мысли о деятельности. Каким образом можно избавиться от этой мысли при слове «акт», если акт описывается в терминах деятельности, разве что вместо слова Betätigung употребляется слово с более широким спектром значений – Tätigkeit?
Однако дело, видимо, не столько в словесном ряде дескрипций, сколько в гуссерлевском истолковании предельных структур сознания как структур синтеза. (Описание этого понимания ведется нами на языке интерпретации и на языке Гуссерля: понять сознание как синтез, описать предельную интуицию относительно сознания, истолковать структуры сознания как… и т. д. – это язык истолкования, но не язык аналитики.) Этому истолкованию соответствует как нельзя лучше термин «акт». Синтез, с этой точки зрения, – первичный акт сознания, синтез – это, конечно, не деятельность в обычном смысле слова, не «манипулирование» психическими единицами, как бы их ни понимать, но все же определенная активность, которая, как явно или неявно предполагается, противостоит некоторой пассивности, а именно пассивности ощущений, о чем речь пойдет ниже.
Характерно, что Гуссерль ставит задачу определить, что такое акт сознания, но вовсе не наоборот – определить нечто «в сознании» с помощью термина «акт», как можно было бы предположить. В сноске к вышеупомянутому «приказу» Гуссерль соглашается с Наторпом, что нельзя «всерьез говорить о психических актах как деятельности сознания или Я». «Мы отвергаем «мифологию деятельности», – пишет Гуссерль, – мы определяем акты не как психическую деятельность, но как интенциональные переживания»[277]. Таким образом, не термин «акт» определяет нечто относительно сознания, не интенциональные переживания определяются как акты сознания, но наоборот, акты следует, согласно Гуссерлю, определить как интенциональные переживания. Не создается ли при этом новая мифология – мифология акта или типологического свойства акта (Aktcharakter)? Забегая вперед, отметим, что поиски определения акта связаны у Гуссерля с попыткой ввести родовую сущность интенции, т. е. интенции, которая не была бы ни интенцией восприятия, ни интенцией суждения, ни интенцией желания и т. д., но интенцией-сущностью сознания.
Очевидно, что вопрос о том, каким образом можно избежать характеристики сознания как деятельности, следует поставить иначе. Речь должна идти не о новом смысле слов «акт» и «деятельность» (пусть даже мы назовем деятельность сознания «ментальной» – все равно сознание попадает в род деятельности), но об опыте, который не требует такой характеристики и который является первичным опытом сознания, или, если угодно, первичным слоем сферы сознания, или, если неугодно слово «сознание», просто первичным человеческим опытом, да и первичным опытом живых существ вообще. Таким опытом является многообразие различений, которое всегда так или иначе выступает как определенная иерархия. Иерархия различений имеет место и в таком фундаментальном человеческом опыте, как счет.
В Философии арифметики Гуссерль, реконструируя теорию чисел как различений, предлагает весьма удачный символизм для такой иерархии. Однако язык, который принимает Гуссерль при реконструкции, остается языком «актов». «Акт различия» более высокого уровня соотносит, по Гуссерлю, два первых различия. Здесь содержится указание на иерархию различений, и в то же время само различие трактуется скорее как сравнение, как то, что скорее объединяет различаемые элементы, чем разъединяет их. Подчеркнем еще раз, что любая трактовка различения «выходит за пределы опыта» различения, остается в пределах интерпретации. В определенном смысле интерпретировать – это называть вещи не своими именами. Называть различения «актами» – как раз такой случай. Как же можно описать то, что Гуссерль представил в следующем символизме: Достаточно просто: это не акт различения более высокого уровня, но различение различений, т. е. двухуровневая иерархия различений. Гуссерль совершенно верно отмечает, что благодаря этому «акту различения более высокого уровня» становится ненужным особое различение С и А, ибо если А отличается от В, а В от С и сверх того различие отличается от различия то тогда А и С не могут быть тождественными.
Итак, – это схема простейшего числа – два, – схема числа три, – схема числа четыре и т. д. «Эти схемы, – пишет Гуссерль, – должны были бы считаться отображениями этих умственных (geistig) процессов, как они имеют место при представлении какой-либо совокупности или, соответственно, двух, трех, четырех и т. д. содержаний, и в рефлексии на эти умственные процессы, вполне определенное различие которых должно было бы быть внутренне заметным, возникают понятия о числах»[278].
Таким образом, Гуссерль отвечает на возражения, которые могли бы быть выдвинуты против этой теории, которая якобы приводит к бесконечному регрессу. Более того, в качестве преимущества этой теории Гуссерль отмечает, что она объясняет, почему мы имеем непосредственные представления только о малых числах, ибо из-за быстро увеличивающегося усложнения большие числа мы можем мыслить только символически. И в аспекте языка также можно найти преимущества теории; она устанавливает равнозначность смысла выражений: «А и В суть различные вещи» и «существуют две вещи»; или сказать: «три цвета» то же самое, что сказать: «три различных цвета».
Казалось бы, отмечает Гуссерль, что после такого обоснования и последовательного изложения эта теория заслуживает признания. Однако у нее нет, полагает Гуссерль, более глубокого обоснования, и если в отношении следствий теории устранены все возражения, то в отношении психологического фундамента это не так, теория в этом отношении не выдерживает критики.
Критика Гуссерлем реконструируемой им теории имеет совершенно определенную предпосылку – предпосылку тождества – и примечательна прежде всего тем, что Гуссерль предпринимает попытку выделить два смысла различия: 1) различие как результат сравнения и 2) различие как анализ, – не отдавая себе отчета в том, что такое выделение – это тоже различие, точнее, различение.
Конечно, соглашается Гуссерль с представителями теории, речь о совокупности может идти только тогда, когда имеются содержания, которые отличны друг от друга. Однако неверно, продолжает Гуссерль, что «эти различия должны быть представлены как таковые, иначе в нашем представлении было бы только лишенное различий единство и никакого многообразия». «Важно, – продолжает Гуссерль, – чтобы разделяли (auseinanderhalten): «заметить два различных содержания» и «заметить два содержания как отличающиеся друг от друга». В первом случае мы имеем, предполагая, что содержания наряду с этим единообразно объединены, представление о совокупности, во-вторых – представление о различии. Там, где дана совокупность, мы схватываем прежде всего абсолютные содержания (…) там же, где дано представление о различии (или комплекс таковых), мы схватываем отношения между содержаниями»[279].
Гуссерль недооценивает «силу различений», когда он разделяет два выражения: «заметить два различных содержания» и «заметить два содержания как отличающиеся друг от друга». «Разделять» означает здесь то же самое, что и «различать». Конечно, различить два различных выражения не тождественно пониманию этих двух выражений как различных. Дело в расстановке акцентов. В первом случае речь действительно идет о выделении многообразия выражений, о том, что имеет место их совокупность. Во втором случае мы обращаем внимание на само различие между выражениями и устанавливаем между ними отношение. Однако в том и в другом случае мы проводим серию различений, обращаем ли мы на них особое внимание или нет. То же самое верно и по отношению к содержаниям. Уже для того чтобы выделить какую-либо совокупность, нужно отделить ее от других совокупностей, сделать ее передним планом восприятия, счета или размышления, различая тем самым соответствующие «акты» сознания. В данном случае мы не обращаем внимание на сами различия между совокупностями и между «актами», но тем не менее проводим их. Если мы «просто» замечаем два различных содержания, если в результате мы имеем представление о совокупности, то в этом случае мы вовсе не устремлены к абсолютным содержаниям. В таком случае два содержания должны быть прежде идентифицированы как самотождественные, и только затем мы их можем различить; и когда мы это делаем, т. е. различаем самотождественные содержания, возникает представление о совокупности. Налицо предпосылка тождества, которое для Гуссерля абсолютно и неопределимо, как он далее станет утверждать в ЛИ. Гуссерль оставляет без объяснений, каким образом мы схватываем самотождественные содержания. «Самотождественное» выступает здесь как абсолютная предпосылка, а не результат или определенный момент в опыте, когда необходимо идентифицировать предмет. Например, в реальном опыте для человека, который может дотянуться до книг, лежащих на столе, и для человека, который находится в трех метрах от этого стола и тоже хотел бы взять со стола книги, этот стол не является одним и тем же предметом. В качестве самотождественного он выступает при идентификации и в «номинативном акте», когда, например, кто-либо называет предмет, на котором лежат нужные книги.
Не рассматривая вопрос о происхождении представления о совокупности, можно все-таки принять в качестве допущения, что к результату этого «процесса» применима характеристика «представление». Иначе говоря, мы действительно можем иметь о совокупности представление в том смысле, что мы всегда можем представить в восприятии, памяти или воображении определенную совокупность содержаний, т. е. предметов, например совокупность домов, коров, деревьев, а также «заводов, газет, пароходов» и т. д. Иное дело различие. Можно обратить внимание на различие, чтобы различить, какого рода это различие, точнее, какой тип различия мы осуществили или осуществляем, но нельзя представить каким-либо образом различие, ибо различие не имеет образа. Можно представить различаемые предметы, но нельзя представить ни само различение, ни границу между предметами. Различение и различенность (граница) – это предпосылка представления, но не наоборот. Невозможно что-либо выделить, понять это что-либо как самотождественное не различая. Различие вовсе не устанавливает отношение между различаемыми содержаниями, но является условием установления определенных отношений.
Примечательно, что Гуссерль, так же как Зигварт, которого он цитирует в критической части, т. е. после реконструкции, говорит о представлении о различии или о представлении различия (Unterschiedsvorstellung). Различие, как мы видели, мыслится Гуссерлем как установление отношений. Однако каким может быть представление о различии двух вышеуказанных выражений?
Насколько укоренена в мышлении основателя феноменологии предпосылка тождества, можно судить по его критике позиций Зигварта, который в определенной мере также представляет реконструируемое учение о числе. Гуссерль цитирует: «То, что в сознании присутствует несколько различных объектов, предполагает, пожалуй, различение; однако сначала осознается только результат этой функции, и это осознание состоит в последовательном [расположении] нескольких объектов, каждый из которых удерживается сам по себе»[280]. Гуссерль отказывает различению и отождествлению (Identischsetzen) в такой функции. Для него уже должно быть «многое и различное», чтобы эти функции могли осуществиться. Гуссерль строго придерживается здесь первого понимания различия – как результата сравнения, как разницы, и сами «акты» различения (das Unterscheiden) и отождествления определяет как судящую деятельность, как акты суждения. Самое примечательное состоит здесь в том, что даже в рамках первого понимания различия Гуссерль по существу поддерживает критикуемое им учение. Суждения, о которых говорит Гуссерль, следующего вида: «А тождественно самому себе, это означает А не есть В, С, D… но именно А. Такая рефлексия нацелена на то, чтобы предотвратить смешение А с другими содержаниями, цель, которая достигается, когда отыскиваются и выделяются «различия» А от В, С, D… (т. е. характерные признаки, которые присущи ему и не присущи другим). Однако тогда, когда развертывается этот процесс, А, В, С, D… уже присутствуют в сознании как отделенные друг от друга содержания…»[281]
В этом рассуждении весьма важно отличить описание опыта от интерпретации. Во-первых, само суждение «А тождественно самому себе» не есть суждение опыта. Трудно себе представить, чтобы в реальном опыте нормальный человек произносил фразы типа: «этот стол тождествен самому себе». Другое дело суждения: «А не есть В, не есть С и т. д.». Такого рода суждения встречают в реальном опыте достаточно часто, это суждения выбора: например, нам нужен этот стол, а не этот и не тот и т. д. В то же время первое суждение может быть интерпретировано как закон тождества в логике или как суждение, которое высказывается в рамках метафизической доктрины, рассматривающей мир как совокупность отделенных друг от друга предметов. (Именно к такой доктрине склоняется в определенной мере Гуссерль.) Во-вторых, реальному опыту противоречит утверждение, что мы различаем лишь уже выделенное; возникают вопросы: кем и когда выделенное, кем и когда эти содержания отделены друг от друга? Здесь явно присутствуют у Гуссерля следы упомянутой метафизической доктрины. Однако пусть даже мир состоит из отделенных друг от друга предметов. И все же при идентификации предмета мы осуществляем два базисных различия: во-первых, как мы уже упоминали выше, мы выделяем определенную совокупность предметов, из которых нам нужно выбрать один. Мы выделяем, скажем, совокупность столов из различных совокупностей предметов, а затем выделяем нужный нам стол, «выдвигая» его на передний план нашего поля зрения и нашего действия. Иначе говоря, при описании идентификации предмета Гуссерль не учитывает различия переднего плана и фона – различия, которому он стал уделять большое внимание в последующих работах. Даже при сравнении предметов, о котором, собственно, идет речь у Гуссерля, несколько предметов никак не могут одновременно и в равной степени актуально «присутствовать» в сознании. Переведя взгляд с одного предмета на другой, мы тем самым изменяем передний план и фон.
Нельзя, конечно, отрицать, что сравнение характерных признаков предметов принадлежит реальному опыту. Однако для этого идентификация предметов вместе со всеми «лежащими в ее основе» различениями уже должна состояться. В случае определения характерных черт мы не просто выбираем предмет из ему равных, но отбираем, например, наилучший. Так или иначе, следует различать различение и сравнение. Уже само слово «сравнение» (нем. Vergleichung) говорит о необходимости тождества при сравнении, тождества, в котором не нуждается различение. Это хорошо видно на примере одного из самых «фундаментальных» (кавычки опять-таки указывают на язык интерпретации, от которого трудно избавиться) различий: мы не можем вообще сравнивать передний план и фон, мы можем их изменять, менять местами, можем сравнивать несколько передних планов и, соответственно, несколько задних планов, однако сами передний план и фон не поддаются сравнению, ибо между ними нет ничего общего.
Надо признать, что относительно различений «психологист» Зигварт был более проницателен, чем «арифметик» и будущий «чистый логик» Гуссерль. Тем не менее гуссерлевский анализ, вопреки его интерпретативным утверждениям, не следует целиком и полностью предпосылке тождества. Гуссерль предполагает, что, может быть, у Зигварта речь идет о различии не как результате сравнения и, соответственно, как суждении, но о различии как анализе или «анализирующем выделении». Однако Гуссерль отвергает это предположение на весьма любопытном основании. Гуссерль цитирует Зигварта: «Представление о различии (…) развивается лишь тогда, когда в сознании осуществляется различение и в отношении этой деятельности осуществляется рефлексия»[282]. С точки зрения Гуссерля, «немыслимо, чтобы здесь подразумевалась иная психическая деятельность, чем акты суждения, в которых мы схватываем различия и, соответственно, равенства»[283]. Почему же все-таки Гуссерль считает, что у Зигварта речь идет не об аналитической деятельности? Ответ весьма любопытен: потому что анализ (das Analysieren) – это «вообще не психическая деятельность в собственном смысле слова, т. е. такая, которая могла бы попасть в сферу рефлексии»[284]. «Никто не может внутренне воспринимать аналитическую (analysierende) деятельность»[285], – заключает Гуссерль. С его точки зрения, мы можем только post festum констатировать, что ранее имело место единство, не подвергнутое анализу, а затем имеет место некоторое множество как результат анализа.
Как оценить эти рассуждения с точки зрения опыта? С одной стороны, Гуссерль совершенно прав в том, что «психические феномены», выделенные Брентано, которые он в данном месте перечисляет: акт представления, акты утверждения и отрицания, любовь, ненависть, воление – это не однопорядковые «явления» с анализом. Прав Гуссерль и в том, что анализ лучше не называть «деятельностью», впрочем, как и все остальные «акты сознания», о чем мы уже упоминали выше. С другой стороны, анализ выступает у Гуссерля как своего рода кантовская «слепая сила души», только у Канта это, как известно, синтез, а у Гуссерля – различение. Таким образом, Гуссерль указывает на «слой в сознании», которому даже отказано в том, чтобы быть психической деятельностью. Может быть, как раз на этом пути стоило бы искать «непсихологическую субъективность»? В буквальном смысле Гуссерль прав: внутреннее восприятие ничего не говорит нам об «аналитических способностях нашего ума», если, конечно, понимать внутреннее восприятие по-брентановски. Однако это не означает, что сам анализ недоступен анализу, и даже в обыденной жизни такой анализ возможен. Аналитика аналитического есть не что иное, как иерархия различений, многоуровневое различение различений, и количество уровней в этой иерархии не является предопределенным.
VI ЗНАЧЕНИЕ И ПРЕДМЕТ
Прежде чем далее рассматривать борьбу Гуссерля со своим собственным мышлением, мы перечислим различия, которые проводит Гуссерль в I Исследовании. Первое различие – между знаком как выражением, которое обладает смыслом, или значением (у Гуссерля это синонимы), и знаком как признаком, указанием, оповещением и т. п. Это различие разъясняется с помощью различия указания и доказательства. Затем Гуссерль критически рассматривает различие между физической стороной выражения и совокупностью «психических переживаний», которые обычно считают смыслом, или значением выражения. Гуссерль считает это различие неверным и прежде всего из-за отождествления переживания и значения (смысла). Задача, которая была сформулирована во Введении, состоит ведь в том, чтобы извлечь значение из психологической и грамматической оболочки. Для того чтобы верно провести различие между физической стороной выражения и его значением, Гуссерль вводит различие между выражениями в коммуникативной функции, где они играют роль признаков-указаний, и выражениями в «одиночестве душевной жизни». Последние уже не выступают как признаки, но «сами-себя-из-себя-показывают», если это выразить на хайдеггеровском языке. «Одинокая душевная жизнь» рассматривается Гуссерлем как своего рода пространство, в котором осуществляется сам акт придания смысла. Затем вводится различие между физической стороной выражения и актом придания смысла, причем от последнего отделяется акт, осуществляющий смысл. Соответственно последнему различию вводятся термины «интенция значения» и «осуществление значения». Осуществляться, или «заполняться», «пустая» интенция может, по Гуссерлю, в рисунке, знаке, символе (сигнификативное осуществление), однако наиболее совершенное осуществление она получает в созерцании, восприятии. Так, собственно, и происходит, по Гуссерлю, «движение» сознания – как осуществление интенции, причем очевидность, непременное условие познания есть осознание тождества мыслимого и созерцаемого.
Различие «интенции значения» и «осуществления значения» играет важную роль в концепции Гуссерля. Интенция значения – это по существу то искомое в переживании, которое позволяет мыслить чистое значение, и следовательно, логическое значение. Вопрос только в том, каково происхождение этой «интенции значения» в исследовании, иначе говоря, является ли различие интенции значения и осуществления значения различением опыта? Мы вернемся к этому вопросу позднее, а сейчас обратим внимание на § 11 I Исследования, где Гуссерль начинает серию различений другого типа. До § 11 речь шла об актах сознания, об актах придания и осуществления смысла. Теперь же речь пойдет о выражении, значении и предметности как о том, что дано «в» этих актах. Заметим, что Гуссерль ставит предлог «в» в кавычки (см. первый абзац § 11) и не находит терминологических средств, чтобы отстраниться от позиции Брентано, в соответствии с которой каждый психический феномен содержит в себе нечто в качестве объекта. Хотя Гуссерль постоянно употребляет термин «акт», все же поворот от актов придания значения к значениям как идеальным единствам и к подразумеваемой в этих актах предметности выглядит для читателя несколько неожиданным. И виной этому термины «интенция значения» (Bedeutungsintention) и «осуществление значения» (Bedeutungserfüllung), которые создают видимость, что речь уже идет о значении, а не о «психических переживаниях», которые, по Гуссерлю (см. § 2 Введения), функционируют в качестве «интенции значения» и «осуществления значения» и в этой функции принадлежат определенным языковым выражениям; из этих «психических переживаний» «значения» еще нужно извлечь. Речь, конечно, не о том, что значение (как идеальное единство) имеет интенцию, но о том, что в «психических переживаниях» имеет место интенция придать значение, иначе говоря, «намерение» наделить значением определенное языковое выражение или определенный предмет. Термин «интенция значения» означает по существу: «интенция-как-придание-значения», тем более что в IИсследовании (§ 9) Гуссерль указывает на синонимичность «интенций значений» и «актов, придающих значение». То же самое относится и к термину «осуществление значения» – не значение должно осуществляться, но акт придания значения.
Итак, Гуссерль противопоставляет «намерениям придать значение» само значение как идеальное единство. Это различие основывается на различии изменчивого и вечного, самотождественного, для чего выбираются примеры из области математики. Речь идет теперь не о реальных отношения актов «внутри» переживания, но об идеальных отношениях между выражением и значением. При этом термин «выражение» остается неоднозначным. Ранее (до § 11) речь шла о физическом явлении выражения (написанное слово, звук и т. д.) и выражениях как актах (смыслопридающем и осуществляющем), теперь же Гуссерль как бы забывает о выражении как акте и противопоставляет выражению in specie только физическое явление выражения («этот произнесенный hic et nunc звуковой образ, мимолетный и более не воспроизводимый звук».)
Аргументация существенно упрощается, так как противопоставляется не интенция значения (соответственно осуществление значения) и само значение выражения, но «мимолетный акт суждения» и якобы вечно существующие геометрические истины типа: «три высоты треугольника пересекаются в одной точке». Действительно, по сравнению с определенным актом суждения как конкретным переживанием, геометрическая истина «вечна», она не зависит от обстоятельств, при которых совершается акт суждения. (Хотя и это спорно, если вспомнить киркегоровского сумасшедшего, который твердит вечную истину «земля кругла».) Однако дело не только в этом. Акт геометрического суждения относится к тому, что Гуссерль в I томе ЛИ назвал «ноэтическими условиями теории», т. е. к особому «устройству» субъекта, способного совершать познавательные акты. В ЛИ это «устройство» называется наличием смыслопридающих и осуществляющих актов; именно от них необходимо отличать значения как идеальные единства, а не от актов как реальных переживаний. Ясно, что Гуссерль опирается здесь на предпосылку тождества, которая даже в случае геометрических истин оказывается сомнительной. Гегель заметил, что одна и та же истина, высказанная юношей и зрелым мужем, все же будет различной. Так и в случае геометрических утверждений. Высказанная школьником, который впервые об этом узнал, геометром, решающим сложную математическую задачу, строителем, производящим расчет, и т. д., эта истина будет различна потому, что она будет находиться в разных контекстах, в разных иерархиях значений, а ведь изолированных научных истин не бывает – и Гуссерль с этим бы согласился[286].
Следующее различие Гуссерля – между значением и предметностью: «предмет и значение никогда не совпадают»[287]. Это различие также опирается на тождество. «Различные выражения могут иметь одно и то же значение, но различные предметы, и обратно (…) они могут иметь различные значения, но один и тот же предмет», – утверждает Гуссерль[288]. Так это или не так «на самом деле», я здесь решать не берусь. Для этого необходимо было бы провести другие различия, уточняющие, что такое значение и, главное, что такое предмет. Здесь наша задача состоит в анализе гуссерлевской аргументации и гуссерлевских примеров, которые вовсе не убеждают принять высказанные им тезисы.
В качестве примеров Гуссерль выбирает, во-первых, имена и процесс именования (называния) и, во-вторых, математические объекты: «Два имени могут означать различное, но называть то же самое. Так, например, победитель при Иене – побежденный при Ватерлоо, равносторонний треугольник – равноугольный треугольник. Выраженные в этих парах значения, очевидно, различны, хотя они подразумевают один и тот же предмет»[289].
Позволим себе усомниться в таких, на первый взгляд, очевидных утверждениях. В первой паре оба значения относятся не к одному и тому же «предмету», но к «предмету», который имеет одно и то же имя, ряд тех же самых свойств, но в то же время массу различий, начиная с возраста и заканчивая политическим положением. Наполеон в 1806 г. и Наполеон в 1815 г. – это не один и тот же «предмет». Во второй паре точно так же имеет место субстантивация на основе предпосылки тождества. Верно, конечно, что у треугольника с равными сторонами равны и углы, но говорить, что это один и тот же треугольник вне контекста, вне математического рассуждения, – это означает превращать математический объект в платоновскую идею. Если спросить, что это за один и тот же треугольник, то ответ будет: равносторонний треугольник или равноугольный треугольник, смотря по тому, какую задачу мы решаем, что нам для этой задачи нужно – равные стороны или равные углы. Мы не можем одновременно сказать: «равносторонний треугольник» и «равноугольный треугольник», какая-то из этих характеристик все равно будет на первом плане, какая-то – на втором. Скорее это два разных объекта, отождествление которых может иметь конкретную цель в рамках определенного математического рассуждения. Отождествление этих объектов может быть результатом, но не может и не должно быть предпосылкой.
В примерах, иллюстрирующих обратное отношение – когда два одинаковых значения относятся к разной предметности, Гуссерль прибегает к той же тактике, только теперь самотождественным предстает значение: «Выражение конь, в каком бы контексте оно ни появлялось, имеет одно и то же значение. Если мы говорим один раз Буцефал – это конь, а другой раз – эта кляча – конь, то в переходе от одного высказывания к другому произошло, очевидно, изменение в смыслопридающем представлении. «Содержание» этого высказывания, значение выражения конь осталось, правда, неизменным, однако предметная отнесенность изменилась»[290].
Серьезное сомнение вызывает уже первое утверждение Гуссерля в этом примере. Дело не только в том, что не учитываются омонимы; по-русски, так же как и по-немецки, «конь» (Pferd) может означать кроме определенного вида животного еще и гимнастический снаряд (который, кстати, вполне мог бы получить имя «Буцефал» от гимнаста по имени Александр). Конь в качестве самотождественного значения, а не слова обыденного или профессионального языка, превращается у Гуссерля в платоновскую идею, и по контрасту с вечной и неизменной идеей можно теперь обращать внимание на различие всех имеющих место коней, от пони до Пегаса. Дело еще и в выбранных примерах, которые, собственно, примерами не являются, ибо в реальном опыте мы не произносим фразы типа «Буцефал – это конь» или «Холстомер – это конь», а только поясняем имена: «Буцефал – это конь Александра Македонского» и т. д. Можно, конечно, сказать: и Буцефал – конь, и эта кляча – конь, но этим как раз подчеркивается различие значений выражения «конь».
Проведя различие между значением и предметной отнесенностью выражения, Гуссерль указывает и на их связь, причем такую тесную, что почти сводит на нет их различие. Нельзя, по Гуссерлю, серьезно говорить о двух сторонах в выражении – о значении и о предметной отнесенности. Речь только о том, что «то же самое созерцание может (…) предлагать осуществление различным выражениям»[291]. Предпосылка тождества сочетается здесь (вероятно, для ее усиления) с персонификацией созерцания, и все это вместе подчинено у Гуссерля одной цели – оградить интенцию значения от возможных «влияний» и отождествлений. Для этого саму эту интенцию Гуссерль представляет как самотождественную. Отнесенность к предмету объявляется Гуссерлем несущественной «стороной» выражения, «сущность выражения заключается исключительно в значении»[292]. В последующих параграфах речь идет о том, чтобы показать: ни созерцание, осуществляющее значение, ни образы фантазии, которые могут сопровождать интенцию значения, не являются значениями. Эта стратегическая цель Гуссерля связана с идеей чистой логики – отделить связи значения, во-первых, от психологических и грамматических связей, а во-вторых, от «связей вещей». Последнее различие требует в свою очередь различать три разных смысла термина «содержание» (§ 14): содержание как предмет, содержание как осуществляющий смысл и содержание как смысл, или значение как таковые.
После перечисления основных и далеко не всех различий в I Исследовании обратим внимание на два различных типа этих различий. Первый тип преимущественно содержится в первых десяти параграфах и относится к различиям-в-опыте, для которых нет необходимости предполагать нечто общее, а затем выявлять разницу. Таковы прежде всего различия знака как выражения и знака как признака и указания, а также различие коммуникации и «одиночества душевной жизни»[293]. Сюда же, с некоторыми оговорками, следует отнести и различие интенции значения и осуществления значения. С другим типом различий мы имеем дело, начиная с § 11, где «методом» различения как раз служит тождество. Различая значение и предмет, Гуссерль поочередно, как мы видели, признает их самотождественными, и любое различие этого типа предстает прежде всего как различие «вечного» и изменчивого. Для подтверждения этого метода выбираются довольно искусственные примеры, имеющие лишь косвенное отношение к реальному опыту и к возможным в этом опыте суждениям. Дело опять-таки не в самих различиях, нельзя абстрактно предрешать вопрос, отличаются ли предмет и значение выражения, всегда ли то, о чем говорится, отличается от того, что говорится. Во всяком случае в обыденной речи говорят, когда находят общий смысл: мы говорим об одном и том же, а когда смысл разный – мы говорим о разных вещах.
Отделяя предмет от значения, Гуссерль не всегда предупреждает читателя, что речь идет о предмете выражения, т. е. о том, о чем высказываются, а не о предмете «независимом от нашего сознания», в данном случае – высказывания. Однако иногда все же происходит смешение двух различий – между значением и предметной отнесенностью выражений и между значением и предметом, как он «существует сам по себе». По крайней мере, рассуждение о том, что для употребления выражения со смыслом не имеет значения, существует предмет или нет, говорит о том, что под предметом здесь понимается не только «то, о чем говорится».
Отделение предмета от значения подчинено еще одной цели – определению осмысленности выражений независимо от предметности, к которой эти выражения отнесены: «Если значение отождествляется с предметностью выражения, то такое имя, как золотая гора, не обладает значением»[294]. По Гуссерлю, не только такое непротиворечивое выражение, как «золотая гора», имеет значение, но и круглый квадрат, четырехугольный круг и т. п. Тот, кто полагает, что такие противоречивые выражения не имеют смысла, смешивает, считает Гуссерль, само значение и возможность его осуществления. Разумеется, какого-либо осуществления таких выражений быть не может a priori, однако само значение от этого не страдает. Таким образом, и проблема осмысленности выражения решается Гуссерлем за счет различия интенции значения и осуществления значения и субстантивации первой. Для Гуссерля бессмысленными являются только грамматически неполные выражения: зеленый есть или. Даже четырехугольный круг легкомыслен не попадает в эту категорию.
Конечно, беспредметность не может быть критерием бессмысленности, однако вопрос о смысле противоречивых выражений все же нужно поставить иначе. Они, конечно, отличаются от абсурдностей типа зеленый есть или, но они лишь имитируют смысл, они обладают квазисмыслом, и если им приписать действительный смысл, то этим смыслом будет только то, что предмет, названный или описанный с помощью данного выражения, не существует. И как раз здесь значение и предметная отнесенность совпадут.
Проблема осмысленности или бессмысленности грамматически корректных выражений решается, я думаю, не с помощью тождеств, но с помощью различий. Любое суждение и даже любые противоречивые выражения типа «круглый квадрат» – это явно или неявно проведенные различия. В этом смысле Гуссерль абсолютно прав: сказать «А есть А», означает сказать «А не есть В, С, D и т. д.». Любое утверждение, например, это дерево зеленое, подразумевает, что это дерево не красное, не желтое и т. д. В то же время зеленое есть или не подразумевает какого-либо различия. Однако само проведение различий – это только необходимое, но недостаточное условие. Необходимо также, чтобы не нарушалась их иерархия. Говоря проще, т. е. на «языке тождеств», это означает, что проводимые различия должны относиться к одной и той же сфере, а на «языке различий» это означает, что различия различий должны быть различиями в определенной иерархии. Рассмотрим это на примере «четырехугольный круг легкомыслен», или сначала на примере еще более «легкомысленном», чтобы исключить противоречивые выражения: «бледные зеленые идеи бешено спят». Выделим возможные различия: спать/бодрствовать; бешено/спокойно; идеи/существа; зеленые/красные; бледные/яркие. Все различия, кроме идеи/существа, могут быть отнесены к классу живых существ. Однако живые существа не разделяются на идеи и существа, это различие не согласуется с другими; иначе говоря, различие этих различий не относится к опыту, не ведет к каким-либо новым различиям. (Мы абстрагируемся здесь от согласования различий спать/бодрствовать и спокойно/бешено.) Таким образом, при употреблении квазиосмысленного утверждения не соблюдается иерархия различий опыта, тогда как в осмысленном выражении эта иерархия сохраняется, например: яркие красные существа спокойно спят; теперь они могут спать спокойно и не опасаться своей собственной абсурдности. Заметим все же, хотя, может быть, это уже излишне, что анализ этого примера не есть и не может быть интерпретацией вышеприведенного утверждения.
Что касается противоречивых выражений типа круглый квадрат, то речь должна идти в аналитике опыта не о противоречивости уже «готовых» значений, но о противоречивости, или, лучше, несовместимости в самом опыте. В данном случае одно из важнейших различий в человеческом опыте и познании круг/квадрат выдается за отношение предмета и его свойства. В основе последнего отношения тоже различия, но другого типа. Между кругом и квадратом нет промежуточных различий (речь идет о восприятии, а не о том, что окружность можно представить как ломаную линию с бесконечным количеством углов). Между предметом и его свойствами можно всегда найти такие различия. По крайней мере таким различием всегда будет различие части и целого. Кажется, что выражение круглый квадрат (и ему подобные) имеет значение, потому что оно соотносится с вполне «осмысленным» различием, с различием круг/квадрат, которое служит источником многообразия других различий и, следовательно, значений. В то же время выражение золотая гора, хотя и беспредметно, так же как круглый квадрат, но все же имеет значение; между золотом и горой можно найти промежуточные различия, различия в опыте (гора/горсть, песок/золото и т. д.), которые служат в качестве исходной точки воображения, «осуществляющего» значение.
Вернемся теперь к гуссерлевским различиям опыта, к «подлинным различиям», из которых нас должно интересовать прежде всего различие интенции значения и осуществления значения.
Мы уже отметили ту важную роль, которую играет это различие у Гуссерля при развертывании его концепции значения для концепции чистой логики и для концепции интенциональности сознания в ЛИ. Теперь же необходимо определить, какой реальный опыт сознания за этим стоит, каково «происхождение» этого различия, какое преобразование получила первоначальная проблема, связанная с этим различием. В интерпретативном плане необходимо прояснить, что означает «пустая интенция», почему термины «Meinen» и «Vermeinen» становятся у Гуссерля синонимами и как лучше их передать по-русски, тем более что «Meinen» – это по существу синоним интенции значения. Первые два значения глагола «meinen», субстантивом которого является «das Meinen», это 1) иметь в виду, подразумевать и 2) думать, считать, полагать. От какого из этих значений следует образовать субстантив? На первый взгляд кажется, что искомый субстантив дает второе значение, а именно «полагание». При более точном рассмотрении, как любил выражаться Гуссерль, оказалось, что даже само образование субстантива «полагание» из глагола «полагать», значение которого (как «meinen») близко к значению «предполагать», «иметь мнение» и т. д., попросту неверно. «Полагание» (Setzen) означает «утверждение», «установление» и употребляется Гуссерлем только при констатации существования предмета. Там же, где вопрос о существовании открыт, где предмет только «подразумевается», или «имеется в виду», там всегда стоит «Meinen»; при переводе, чтобы избежать таких «неприглядных» субстантивов, как «подразумевание» или «имение в виду», лучше передавать Meinen как «подразумевающий [предметность] акт» и подобными выражениями. Однако на вопрос, почему «Meinen» и «Vermeinen» у Гуссерля синонимичны (ведь «Vermeinen» означает прежде всего ошибочно полагать), нельзя ответить, исходя только из различия «Meinen» и «Setzen». Для этого необходимо обратиться к исходной проблеме, описание которой потребовало термина «Meinen». Коротко эту проблему можно было бы назвать проблемой избытка и недостатка, или «нехватки».
В текстах, предшествующих ЛИ (1893–1894), Гуссерль ставит вопрос о соотношении созерцания и репрезентации. Потребность последней возникает тогда, когда нарушается привычный ход нашего сознания, иначе говоря, привычный ход восприятия предметов. Речь может идти как о внутренних, так и о внешних препятствиях. Для нас здесь не так уж важно, следовал ли здесь Гуссерль Гербарту, который полагал, что представления, входящие в сознание, создают друг для друга препятствия, и чем конкретно отличается позиция Гуссерля от позиции Гербарта[295]. Важно лишь то, что имеет место реальная проблема «нехватки», которая может быть описана на примере всем знакомого опыта. Здесь лучше выбрать пример, касающийся внешних препятствий, ибо внутренние препятствия (когда различные представления мешают друг другу, оттесняют друг друга и т. д.) указывают скорее на другую, хотя и связанную с проблемой нехватки проблему, они указывают на избыточность человеческого сознания. Простой пример приблизит нас к действительному опыту: мы видим определенный предмет или знакомого человека, и в определенный момент его скрывает от нас, скажем, проходящий поезд. Пока поезд не прошел, мы думаем, полагаем, подразумеваем, имеем в виду, что этот предмет или человек находится на прежнем месте или же недалеко от него. Мы «мним» (Meinen), но мы не видим увиденное нами ранее, мы «интендируем» предмет или человека, но они не даны в созерцании. Именно такую интенцию, которую «продуцирует» нехватка созерцания, Гуссерль назвал «пустой». Отсутствие созерцания, при том что мы подразумеваем предмет, вызывает «чувство пустоты, нехватки, препятствия»[296]. Это объясняет, почему для Гуссерля «Meinen» и «Vermeinen» – это синонимы: у нас ведь нет никаких гарантий, что подразумеваемое, т. е. интендируемое нами, все еще на том же месте или что оно вообще существует; вопрос об истинности или ложности нашего акта, в котором нечто подразумевается, даже не ставится. «Meinen» как «пуста я интенция» вне истины и лжи, и только созерцание, т. е. осуществление, дает возможность применения таких критериев.
Со словом «vermeinen» связана одна весьма примечательная ошибка в русском переводе статьи Гуссерля Философия как строгая наука. Гуссерль формулирует вопросы теории познания в связи с «наивностью» естествознания следующим образом: «Wie Spiel des erfahrungslogischen Bewußtseins objektiv Gültiges, für an und für sich seiende Dinge Gültiges besagen soll; warum sozusagen Spielregeln des Bewußtseins nicht für Dinge irrelevant sind; wie Naturwissenschaft in allem und jedem verständlich werden soll, sofern sie in jedem Schritte an sich seiende Natur zu setzen und zu erkennen vermeint – an sich seiend gegenüber dem subjektiven Fluß des Bewußtseins»[297].
В русском переводе то, что относится к естествознанию, передано так: «Как может естествознание во всех своих частях стать понятным, как только оно на каждом шагу отказывается полагать и познавать природу, существующую в себе, – в себе по сравнению с субъективным потоком сознания»[298].
«Vermeint» – переведено как «отказывается» т. е. в противоположном смысле. Очевидно что, переводчик (предположительно С. Гессен) не был знаком с проблематикой, связанной с употреблением «Meinen» и «Vermeinen» у Гуссерля. Однако предыдущие строчки, где Гуссерль пишет о вещах, которые существуют сами по себе, должны были бы навести на мысль, что речь идет о предпосылке естествознания, полагающем и познающем природу саму по себе. Видимо, сказалась неокантианская установка переводчика, которая привела не к ошибочной интерпретации, а к ошибке из-за интерпретации. Конечно, дословно перевести «vermeint zu setzen» вряд ли возможно, получилось бы что-то вроде: «подразумевает полагать», однако здесь следует учитывать близость «Vermeinen» и «Intention». Приведу свой перевод этого важного места: «Каким образом игра эмпирико-логического[299] сознания должна говорить об объективно значимом, значимом в отношении вещей, существующих в себе и для себя, почему, так сказать, правила игры сознания немаловажны в отношении вещей; каким образом должно естествознание стать во всем без исключения понятным, поскольку оно каждый раз намеревается полагать и познавать природу как существующую в себе – в себе, в противоположность субъективному потоку сознания…» Возможна, конечно, и деперсонификация естествознания, которое у Гуссерля что-то намеревается делать или что-то подразумевает: «поскольку в нем каждый раз подразумевается, что природа полагается и познается как существующая в себе». В любом случае речь идет о противопоставлении вещей, существующих «в себе и для себя», и потока сознания.
Дело, однако, не только в ошибке переводчика. Дело еще и в самой постановке вопроса, которая у Гуссерля далека от ясности, что и отражается в таком странном обороте, как «vermeint zu setzen». Эта постановка вопроса содержится уже в ЛИ и практически без изменений перенесена в статью Философия как строгая наука. В § 2 Введения во II том ЛИ Гуссерль указывает, что существуют теоретикопознавательные вопросы, которые, если взять их в наивысшей всеобщности, относятся к прояснению идеи чистой логики и которые мотивируют феноменологический анализ: «как следует понимать то, что объективность «в себе» становится «представленной», а в познании – «постигнутой», следовательно, в конце концов все же снова субъективной; что означает: предмет есть «в себе», а в познании «дан»; как идеальность общего в качестве понятия или закона может войти в поток реальных психических переживаний и стать достоянием познания мыслящего»[300].
Примечательно, что на последний вопрос, как идеальность общего может войти в поток реальных психических переживаний, сам Гуссерль дает во II и V Исследованиях четкий ответ: никак! То есть в потоке переживаний нет и не может быть идеальной предметности, например, теорема Пифагора не входит в этот поток как его составная часть[301].
Как бы ни оценивать постановку такого рода вопросов – или как не до конца проясненную, или как изложение вопросов, уже поставленных другими, в любом случае такая постановка вопроса бесперспективна потому, что в ней как раз не проясняется смысл «вещей, существующих в себе и для себя». Само требование Гуссерля вернуться «к самим вещам» (§ 2 Введения), которое превратилось в лозунг феноменологии, остается требованием, но не описанием опыта. Оно интерпретируется зачастую как выражение наивно-реалистической позиции Гуссерля в ЛИ, которую он будто бы преодолел в трансцендентальной феноменологии. Однако уже то, что это требование может быть интерпретировано по-разному, указывает: опыт вещи, опыт предмета остается непроясненным. Сомнительно, кроме того, что философия должна заниматься вещами, противопоставляя вещи и теории о вещах. Философия скорее занята миром, и в том числе миром вещей. На это указывает не только хайдеггеровский эксплицитный анализ «мирскости мира» (Weltlichkeit der Welt), но отчасти уже гуссерлевское понимание интенции как «подразумевания» (Meinen). Подразумевая нечто, имея в виду нечто, мы не сталкиваемся «с самой вещью» в наивнореалистическом понимании (такие столкновения возможны только телесно, но не «ментально»), но определяем прежде всего границы, в которых та или иная вещь может быть идентифицирована.
Интерпретативные цели – объяснение синонимичности «Meinen» и «Vermeinen» и оценка гуссерлевской постановки фундаментальных вопросов теории познания – сменяются теперь целями аналитическими. Дело идет о том, чтобы уловить трансформацию проблемы «нехватки содержания», или проблемы репрезентации, в иную проблему, проблему чистого (логического) значения, которая, в свою очередь, указывает на проблему избыточности человеческого сознания. Исходным моментом второй является результат первой: различие интенции значения («пустой интенции») и осуществления значения предполагает, что интенция значения – это своего рода изначальная пустота, которая заполняется сигнификативно или в конечном итоге созерцательно. Однако проблема репрезентации ясно указывает на «происхождение» этой «пустоты».
Гуссерль тщательно отличает интенцию значения от всех возможных ее «заполнений», но в то же время совершенно забывает о ее «созерцательных истоках». Чистая интенция из «чувства нехватки» превращается в переживание логического, переживание, которое, согласно Гуссерлю, нужно извлечь из психологической оболочки. Отличая переживание в обыденном смысле от переживания в феноменологическом смысле, Гуссерль не проводит тем не менее различия между «чистотой» логического переживания и «чистотой» других «психических переживаний». Ведь переживанием в феноменологическом смысле могут быть и «радость, которая меня переполняет», «образы фантазии, которые витают передо мной», и т. д. Как только мы отвлекаемся от внешних причин или внутренних мотивов радости или образов фантазии, они предстают как переживания-феномены, но это все же не логические переживания, или переживания логического. Существование последних допускается фактически только в качестве коррелята идеальных логических значений, «связей истин», последние, со своей стороны, не могут выступать в качестве коррелятов переживаний другого типа: логический вывод не может быть коррелятом радости, хотя радость может сопровождать переживание логического.
Антикантианская тенденция Гуссерля здесь очевидна: «Логические понятия, как обладающие значимостью единицы мышления, должны (…) вырастать благодаря (идеирующей) абстракции на основе определенных переживаний»[302]. Согласно Гуссерлю «чистого логика» должны интересовать прежде всего не психологический акт суждения, но логическое суждение, не «многообразные, дескриптивно весьма различающиеся переживания суждения», но «тождественные значения высказывания». Однако логика должны интересовать и типологические свойства актов, в которых реализуются акты логического представления, суждения, познания. Хотя анализ конкретных психических переживаний не входит, по Гуссерлю, в область чистой логики, все же он необходим для продвижения «чисто-логического исследования».
Ясно, что для Гуссерля логическое переживание есть парадигма всех остальных переживаний, так же как логическое значение – парадигма всех остальных значений. Более того, парадигмой для логического переживания является как раз логическое значение. Первое допускается постольку, поскольку имеет место второе. Противопоставив многообразные переживания суждения и тождественное значение высказывания, Гуссерль пишет: «Естественно, что этому идеальному единству соответствует в отдельных переживаниях определенная, всем им общая черта». (В первом издании фраза продолжена: «в которой реализуется сущность суждения как такового»[303]).
Это утверждение, особенно если рассматривать его первоначальный, более полный вариант в первом издании, указывает на неизбежность опыта сознания, в котором реализуется суждение, на неизбежность интенции суждения, на неизбывное желание речи, реализация которой только в познании соответствует идеальному единству, или значению.
На первый взгляд Гуссерль реализует здесь кантовскую методологию: исходя из результатов познания, следует задать вопрос, как они возможны. Может быть, «субъективно» сам Гуссерль вполне сознательно придерживался этой методологии. Однако ее реализации препятствует как раз понимание сознания как многообразных модусов интенции. Гуссерль исходит из наличия логических связей как связей значений (так же как Кант исходит из наличия синтетических суждений a priori в чистой математике), однако «способность», которая ответственна за усмотрение значения и связи значений, оказывается избыточной по отношению к последним. «Способность суждения» производит не только суждения, которые относятся к сфере науки (а ведь чистая логика – это основа наукоучения) и даже не только те суждения, которые имеют какое-либо значение. Разве «бледные зеленые идеи бешено спят» – это не суждение?
Чистая логика как учение о связях истин, как учение об условиях возможности теории, как учение о теории всех теорий по своему замыслу должна отбирать из всех суждений такие, которые относятся к «связям обоснований», к связям внутри теории и т. д. Логика устанавливает предел избыточности человеческой способности судить и тем самым делает возможной коммуникацию не только по поводу фантазий, чувств, настроений и т. п., но по поводу обстоятельств дел, по поводу свойств и связей вещей. Вопреки Гуссерлю, логика (и чистая логика) скорее практическая дисциплина, призванная предохранять познание от ошибок. Однако это не означает возврата к психологизму. Гуссерль слишком поспешно связал логику как «техническое учение» и психологизм (см. § 3 Пролегомен к чистой логике).
Из того, что логика не открывает истину (или истины), но полагает пределы, в которых может существовать истина, не следует, что эти пределы являются психологическими, что логические законы есть реальные части реальных переживаний. В этом смысле логические переживания – это не что иное, как осознание пределов, которые полагает логика способности суждения, являясь одним из необходимых условий познания.
Чистая логика в том виде, в котором она предстает в I томе ЛИ – это скорее фиктивная, чем реальная задача. Ей можно поставить в упрек излюбленный гуссерлевский регресс в бесконечность: рассматривая связи значений, «теория всех теорий» поневоле вынуждена рассматривать значение связи значений, затем связь значений связи и т. д. В § 29 I Исследования Гуссерль пишет: «В своем объективном содержании любая наука, как теория, конституируется из этого единого гомогенного материала; она есть идеальный комплекс значений»[304]. Слово «гомогенный» указывает, однако, на серьезную проблему, которая не получила достаточного прояснения у Гуссерля, а именно, проблему связи значений. Если теория состоит из значений как из гомогенного материала, тогда она не может быть комплексом значений, и проблема связи значений снимается сама собой, а теория лишается структурности. Если же теория – это комплекс значений, что же именно делает этот комплекс комплексом, что является соединяющим началом, заполняющим «промежутки» между значениями? Если считать эти «промежутки» значениями, то тем самым воспроизводится «третий человек» Аристотеля, и комплекс значений теряет свои очертания. Если же отсылка от одного значения к другому имеет не характер значения, а знака как оповещения, или указания, то нарушается однородность теории.
Очевидно, что эта проблема возникает из-за атомизации значений, что неизбежно при понимании сущности сознания как синтеза, а его основной функции – как идентификации. Значение мыслится по образу и подобию самотождественного предмета, значение, по Гуссерлю, это эйдос, которым сознание наделяет предмет. Гуссерль подчеркивает, что значение и предмет никогда не могут быть тождественными, однако значение все же мыслится им как некая форма, которую одна, в основе своей текучая и активно формирующаяся субстанция – сознание – дает, или предоставляет, другой – аморфной «совокупности» ощущений, из которой формируются идентифицируемые предметы. Относительно ощущений возникает та же самая проблема: когда Гуссерль утверждает, что один и тот же комплекс ощущений может быть подвергнут различным схватываниям, или, иначе говоря, различным образом интерпретирован, то возникает вопрос, что же превращает комплекс ощущений именно в комплекс, что является связующей силой, сводящей ощущения в комплекс, и наконец, что позволяет нам идентифицировать комплекс ощущений, еще не одушевленный, как любил выражаться Гуссерль, актом схватывания. Эта проблема опять-таки возникает из-за атомизации ощущений, которой Гуссерль неоднократно пытался избежать.
Тема ощущений, однако, возникает только в V Исследовании, в I Исследовании речь идет в первую очередь о значении. Здесь Гуссерль ставит перед собой задачу показать непредметность значений и их независимость от какого бы то ни было рода предметности. Однако Гуссерль не только не избегает характеристики значений, заимствованных из сферы предметного мира и человеческого поведения, но делает их основными: сознание дает смысл предмету, сознание придает, наделяет (verleihen) предмет значением, сознание как бы дает значение взаймы предмету, как будто между сознанием и предметом ленные отношения – сознание дает предмету значение в пользование, и предмет становится призванным в сферу сознания предметом. Кроме того, Гуссерль прямо нарушает свой принцип различия значения и предмета: «Значения образуют (…) класс понятий в смысле «общих предметов»»[305].
Как бы О. Финк ни пытался в своей известной статье[306] защитить феноменологию Гуссерля от обвинений в интуитивизме, интуитивизм несомненно имеет место у Гуссерля, причем в решающем пункте – в теории значения. Об этом говорит и весь словесно-терминологический ряд, характеризующий акты сознания: «схватывать», «усматривать», «постигать» и т. д. Другое дело что к интуитивизму гуссерлевское учение о сознании не сводится, ибо строгой корреляции «самотождественного предмета» (соответственно, самотождественного значения) и актов сознания нет и не может быть именно в аспекте тождества, т. е. именно потому, что акт сознания, интенциональное переживание никогда не предстает у Гуссерля некоторой «точечной» самотождественной интуицией. Здесь, однако, необходимо провести различие между гуссерлевской интерпретацией нетождественности акта сознания как синтетической функции и гуссерлевской аналитикой опыта, которая обнаруживает нетождественность опыта сознания как различающую функцию.
Чистая логика оказалась «полезной фикцией»; исследование «оболочки» чистых логических значений – переживаний логического – привели (через попытку отделить чистую интенцию значения) к различию интенции и ее осуществления.
Со времен Декарта и Бэкона было проведено изрядное количество различий, характеризующих сознание, разум, познавательную способность и т. п. Какими бы ни были эти различия, с их помощью выделялись определенные модусы мыслящей субстанции или «силы» познавательной способности, которые располагались в определенной иерархии и между которыми пытались установить взаимосвязь. (Сюда можно отнести, например, различие между перцепцией и идеей у Юма.) В полной мере такая методология осуществлена в Критике чистого разума.
Различие между различиями Декарта, Локка, Юма, Канта (и другими «великими различиями») и различием Гуссерля (а также некоторыми различиями, проведенными Брентано) существенное. С одной стороны, это различие сделано, как и все остальные, «со стороны» и носит исследовательский характер, с другой стороны, и это более важно, это различие характеризует предельное, если угодно, изначальное свойство сознания – проводить это различие. Иначе говоря, не столько «в» сознании выделяются акт придания значения (интенция значения) и его осуществление, сколько сознание характеризуется как их различение, как постоянное «напряжение» между ними.
Из всех упомянутых и не упомянутых гуссерлевских различий в I Исследовании различие интенции значения и осуществления значения не только является основным в методологическом аспекте, но и является – как «различающая сила сознания» – различием по преимуществу. Опыт и аналитика опыта приходят здесь в соприкосновение. Аналитика ничего не привносит в опыт и не открывает нечто существовавшее в опыте до аналитики. Аналитика не конструирует и не усматривает, аналитика различает различия и фиксирует их иерархию, она различает в опыте то, благодаря чему опыт может стать анализом опыта, и делает своим предметом «аналитические способности ума».
Различие интенции значения и осуществления значения прямо указывает, в рамках рассуждений Гуссерля, на парадоксальность гуссерлевской мысли, на противоречие между декларируемыми принципами и реально осуществляемым анализом. Если очевидность определяется Гуссерлем как тождество подразумеваемого и данного, а иначе говоря, тождество интенции и ее осуществления, то тогда следует признать, что предпосылка тождества не является первичной (по крайней мере, при определении очевидности), что очевидность предполагает различие того, что должно «в» очевидности совпасть. Тождество выступает в качестве результата, но не исходного пункта.
За пределами поставленных Гуссерлем целей различие интенции значения и осуществления значения указывает на избыточность сознания, на многообразие интенций, из которых лишь малая часть осуществляется в знаковой форме или в созерцании, указывает на многообразие различий и различений, лишь некоторые из которых реализуются в познании. Однако Гуссерль попытался снять эту проблему, введя «родовую сущность интенции»: самотождественность, по Гуссерлю, должна все же контролировать и сферу актов.
VII ЗНАК, МОНОЛОГ, КОММУНИКАЦИЯ
Можно ли считать, что теоретическое размышление, будь то в сфере математики и физики или теологии и философии и т. д., это всегда своего рода «беседа с самим собой», или же любое размышление, в том числе и теоретическое, включает в себя коммуникативную стратегию? Можно ли обнаружить чистый, некоммуникативный источник чистого, некоммуникативного значения, значения «в себе» и «только для нас»? Можно ли обнаружить самотождественное значение и его самореферентный источник с помощью тождеств? Или здесь не обойтись без «подлинного» различия, не предполагающего тождества – каковым является различие двух смыслов термина «знак».
Итак, чистая интенция значения (чистый акт придания значения) заключена в оболочку конкретного психического переживания – такой образ предлагает Гуссерль. Конкретное психическое переживание имеет функцию чистой интенции значения. Чистый акт придания значения – это ядро оболочки, или тело, облаченное в грамматические и конкретные психологические одеяния (Gewand), если не только достроить образ Гуссерля, но и обратить внимание на то, что интенция значения имеет, по Гуссерлю, телесно-атомарную природу. При постановке задачи – обнажить значение, избавив его от грамматических и психологических одежд, Гуссерль уже предполагает в качестве ядра, или тела, чистую интенцию значения как чистое переживание. Однако чистое переживание не может быть ничем иным, как переживанием логического, или логической формой переживания. Таким образом, значение как объект чистой логики, которое еще только предстоит освободить от психологической оболочки, уже выступает в качестве образца для ядра психического переживания – это чистый опыт придания значения, или интенция значения, благодаря которому возможно само значение.
Круг в рассуждениях Гуссерля указывает не на логическую ошибку, но на предельную ситуацию рассуждения вообще – речь идет об опыте сознания, но не об определении понятий через род и видовое отличие. Прорыв феноменологии как раз и состоял в отказе от родовидовых отношений как отношений, определяющих мышление, и в попытке получить доступ, с одной стороны, к опыту сознания как таковому, с другой – к самим вещам, т. е. вещам, которые еще не классифицированы, не рубрицированы, не «определены понятиями». Об этом говорит гуссерлевский лозунг «к самим вещам», об этом говорит структура хайдеггеровского вопроса о смысле бытия. Если бытию нельзя дать дефиницию, ибо оно предельно широкое понятие, то это еще не означает, что бытием не следует заниматься. К бытию следует получить доступ не через дефиницию, но попытавшись войти в круг «бытие – вопрошающее-о-бытии-сущее».
Гуссерль, как известно, ставил вопрос не о бытии сущего, но о бытии сознания, или вопрос о сознании как регионе бытия. Другим регионом бытия выступает у Гуссерля мир как совокупность предметности. Кроме того, Хайдеггер вполне осознанно полагает круг в основу постановки вопроса о бытии, а для Гуссерля сам круг при постановке вопроса о сознании не входит в сферу анализа. Проводя аналогию с Хайдеггером, можно сказать, что этот круг состоит не только в том, что психическое переживание как «сущее, вопрошающее о своем бытии», уже «руководится в поисках» логическим значением, которое указывает, что бытие психического переживания (чистое переживание) есть не что иное, как переживание логического. Круг у Гуссерля обнаруживается и при попытке охарактеризовать основную «единицу» сознания как переживание. В явном виде этот круг, или скорее тавтология, имеет место в Идеях I, где Гуссерль определяет переживание как то, что входит в поток переживаний: «Под переживаниями в самом широком смысле мы понимаем все то, что наличествует в потоке переживаний…»[307]. Гуссерль пишет это в контексте различия интенциональных и неинтенциональных переживаний; речь идет о том, что в потоке переживаний имеют место не только интенциональные переживания. Тем не менее «поток переживания», так же как, впрочем, и «поток сознания», вводится Гуссерлем или без каких-либо разъяснений, или же с помощью описаний, которые по сути своей тавтологичны.
«Поток переживания», или «поток сознания», есть, несомненно, метафизическая предпосылка Гуссерля, если, конечно, под этим понимать не «метафизику присутствия», но определенную интуицию бытия сознания, а именно сознания как Гераклитова потока. Сам Гуссерль осознает свое глубинное миропонимание только в позднем творчестве. В КМ сфера феноменов сознания определяется как сфера гераклитова потока[308]. В рукописях 30-х годов мы находим следующие слова: «Первичный феномен в отношении опыта мира, познания мира… есть Гераклитов поток субъективной данности мира (Weltgabe), субъективно предданного мирского…»[309].
Если первичная сфера сознания – это поток, то первичная сфера не-сознания – это сфера определенных, самотождественных предметностей в самом широком смысле. Соотнесение этих двух сфер представляет собой, как известно, основную задачу феноменологии.
Если мир для Гуссерля – это совокупность самотождественных предметов, то основным типом отношений сознания к предмету должна быть идентификация. Эта идентификация, однако, не равнозначна распознаванию (рекогниции) предмета как зачисления его в определенный класс предметов – манекен или человек, пень или волк, змея или веревка и т. д. Эта идентификация сходна, например, с узнаванием в толпе близкого нам человека, имя которого означает для нас его личность. Такого человека мы не относим к какому-либо классу людей, такой человек предстает перед нами так, как он есть, «в своей воплощенной самости».
Сверхзадача феноменологии – найти доступ к самости любых предметов. Смысл лозунга «к самим вещам!» в своей негативной направленности – это запрет родовидовых определений, запрет любой схематизации предмета; в своей позитивной направленности-поиск структуры сознания, обеспечивающей доступ к воплощенной самости предмета. Сознание в своей основе уже не может быть ни схемой предмета, ни образом его (Кант), ни знаковой системой. Сознание должно так «коснуться» предмета, чтобы предмет предстал в своей собственной значимости.
Гуссерль мыслил способ такого «касания» как придание предмету значения, а само сознание – как смысловую направленность на предмет, или устремленность к предмету, т. е. интенцию. В какой мере Гуссерлю удалось осуществить этот замысел – это другой вопрос, во всяком случае попытка прорвать заслон родовидовых определений и получить доступ к самому опыту сознания и к самим предметам была сделана.
Итак, по Гуссерлю, интенциональное отношение есть акт придания смысла, или значения, предмету. Это означает, что сознание снабжает предмет некоторым единством, т. е. значением. Придание предмету единства делает, собственно, предмет предметом и составляет основу основ идентификации предмета. В свою очередь значение или единство формируется в сознании благодаря изначальному свойству сознания – синтезу.
Такова исходная проблемная ситуация, и для ее экспликации необходим определенный «материал», т. е. определенная предметная сфера, в которой возможна идентификация как таковая, или, иначе говоря, идеальная, неэмпирическая идентификация. Такая идентификация возможна только в сфере идеальных объектов, где отпадает необходимость схематизации предмета, подведения его под некоторый род, ибо «общий предмет» – это уже род.
Мы имеем, с одной стороны, идентифицирующее сознание как поток переживаний, с другой – «раз и навсегда» идентифицированные идеальные – прежде всего математические – объекты; с одной стороны – «живую жизнь сознания», с другой – вечные, застывшие формы. Однако сделанное таким образом противопоставление, повод к которому дает сам Гуссерль, не выражает все же глубинного хода его мысли.
Для Гуссерля сознание (пере-живание, Er-lebnis) – это не просто самостоятельная сфера бытия или определенная форма жизни. Сознание – это жизнь как таковая, которой не угрожают случайности и которая не подчиняется ни законам вероятности, ни какого-либо рода необходимости.
Сознание как жизнь есть осуществление актов придания смысла и переход от одного акта к другому, от одного значения к другому. Только в сфере идеальной предметности, полагает Гуссерль, возможен непосредственный, неотягощенный эмпирической референцией переход от значения к значению. В этом смысле математическое мышление, опытом которого обладал Гуссерль, – это сфера чистой жизни сознания.
Аналогично Канту, который предпослал вопросу о возможности априорных синтетических суждений указание на наличие таковых в чистой математике, Гуссерль так же, как мы видели, указывает на теоретическое знание как на сферу непосредственного развертывания значений. Внутри теории каждое значение как бы освобождается от предметности, связи значений – иного рода, подчеркивает Гуссерль, чем связи вещей. Математические примеры Гуссерля отнюдь не случайны. С помощью этих примеров Гуссерль, правда, стремится противопоставить мимолетность психического акта и вечность математических истин. Однако «вечность» математических истин как раз и заключается в том, что в них реализованы связи «бессмертных» значений, но не «смертных» вещей. Мы берем слово «вечный» в кавычки, так как любая математическая истина имеет смысл только в рамках определенной теории, в рамках заданной системы аксиом. В этом смысле математические истины относительны и преходящи, если, конечно, мы не будем без всякой причины утверждать, что 2 × 2 = 4. Однако математические истины абсолютны и непреходящи в том смысле, что они не только «состоят» из непредметных значений, но что каждое значение отсылает непосредственно к другому значению, минуя предметы, не являющиеся значениями. В сфере математического можно, конечно, вслед за Гуссерлем различать предмет и значение (равносторонний треугольник и равноугольный треугольник именуют один и тот же предмет, но имеют разные значения). Однако даже если проводить это различие, быть может, как раз в математике наиболее релевантное, то все же математический предмет, или, лучше, объект – это опять-таки определенная совокупность значений, совокупность в этом смысле «гомогенная».
Математические объекты – это вид общих, или идеальных предметностей. Сущность, или бытие, идеальных предметов состоит в непосредственной связи значений в едином комплексе и, как следствие, в их воспроизводимости, или повторяемости, но не наоборот, как полагает Деррида. «Непосредственный» означает здесь только то, что ни одно значение этого комплекса не имеет эмпирической референции.
Здесь необходимо сделать существенную оговорку: говоря о связях значений, мы следуем логике Гуссерля, в основе которой предпосылка атомарности, или изначальной синтетичности, значений. Эта предпосылка неизбежно приводит, как мы видели, к постановке вопроса о связи значений. Однако отсюда еще не следует, что проблема связи значений как предметных атомов – монад – вообще разрешима. Наше возражение Деррида возможно только в рамках этой логики, ибо Деррида также принимает эту логику, полагая идеальные объекты в качестве смысловых единиц.
Общая задача Гуссерля в этом контексте – показать независимость значения, а следовательно, и сознания от коммуникативного знака, созерцания и образа фантазии. Эта задача, понятая феноменологически, предполагает выявление сферы сознания, в которой значения находят свое непосредственное выражение. Эту сферу Гуссерль назвал – если переводить буквально – одинокой душевной жизнью (einsames Seelenleben). Этот весьма необычный термин появляется уже в первом параграфе I Исследования, который посвящен различению двух смыслов знака. С одной стороны, знак выступает как признак, как оповещение или указание, с другой – как выражение, обладающее значением.
При внимательном, «медленном» чтении этого параграфа мы наталкиваемся как на логические, так и на языковые трудности. «Каждый знак есть знак для чего-либо, однако не каждый имеет некоторое «значение», некоторый «смысл», который «выражен» посредством знака (…) А именно знаки в смысле признаков (метка, клеймо и т. д.) ничего не выражают, разве что наряду с функцией оповещения они выполняют еще некоторую функцию значения»[310]. Обратим внимание прежде всего на то, что слова «значение», «смысл», «выражен» Гуссерль берет сначала в кавычки. Это означает, что он маркирует их как термины. Иначе говоря, Гуссерль проводит определенную границу между обычным (и весьма неопределенным пониманием этих слов) и контекстом логических исследований. Позже, в пятом параграфе, Гуссерль проводит эту терминологическую границу, однако только в отношении «выражения». К выражениям Гуссерль относит речь и любую ее часть, причем неважно, обращена ли эта речь к кому-либо или нет. Напротив, мимику и жесты Гуссерль не причисляет к выражениям. Мимикой и жестами мы можем непроизвольно сопровождать нашу речь, говорит Гуссерль, однако мы делаем это не с целью сообщить нечто, кроме того, по мимике и жестам, без всякой речи можно «воспринять» душевное состояние другого. «Такого рода «проявления» (Äußerungen) не суть выражения в смысле речи, – пишет Гуссерль, – в сознании того, кто «проявляет» себя таким образом, они не находятся в феноменальном единстве с выраженными переживаниями, как это происходит в случае речи; в них ничего не сообщается другому, при их проявлении недостает интенции, чтобы явным образом сформировать какую-либо «мысль», будь это для других, будь для самого себя, когда находятся наедине с собой»[311].
Итак, выражение, по Гуссерлю, – это всегда речь. Речь – это всегда сообщение, будь это другим, будь это самому себе. Сообщается всегда некоторая «мысль», интенция, т. е. значение. Мимика и жесты «не имеют никакого собственного значения»[312]. Гуссерль отмечает, что необходимо совершать насилие над языком, чтобы терминологически фиксировать понятия. Обычный смысл слова «выражение» отбрасывается; с этой точки зрения, даже выражение лица – это не выражение; под выражением понимается только речевое сообщение, причем это сообщение может иметь место в ситуации коммуникации, а может иметь место и без коммуникации. При этом различие между коммуникативной и некоммуникативной ситуацией мы берем как абсолютное, т. е. монологическую речь, или сообщение себе самому, мы не будем считать косвенным видом коммуникации. То, что косвенная коммуникация вообще возможна, не вызывает сомнения. Однако нас интересует другое: какой вид речи или сообщения реализуется вне коммуникации, причем без мимики, жестов или чего-нибудь в этом роде. Что можно сообщить самому себе, не считая это сообщение сколько-нибудь важным для коммуникации? Здесь как раз важно различать что и о чем. Очевидно, что такое сообщение должно быть нацелено на нечто неэмпирическое. Однако и по поводу содержания неэмпирических утверждений – математических, логических, метафизических и т. д. – возможна коммуникация. Может быть, речь идет о неэмпирическом сообщении самому себе о себе самом, например о допущенной ошибке в рассуждениях или об оценке своих собственных результатов, о размышлении по поводу своих воспоминаний, надежд и т. д.? Может быть, речь идет о рефлексии? Ведь именно в рефлексии знаки, а они неизбежны, непосредственно выражают значения, хотя эти значения могут претерпевать существенные изменения. Тем не менее ни теория как нечто неэмпирическое, ни рефлексия не дают «некоммуникативной гарантии». Любой опыт может быть коммуникативным, а может и не быть таковым. «Объективно» и «исторически» любое содержание сознания прямо или косвенно коммуникативно, однако речь ведь идет не об объективных критериях. В мышлении как монологе, но не в коммуникативной практике проводится важнейшее экзистенциальное различие – между коммуникативным и некоммуникативным. Коммуникативное не может провести этого различия именно в силу своей коммуникативности.
Прежде чем обратиться к рассмотрению опыта сознания, в котором возможны выражения в собственном смысле, вернемся к трудностям первого параграфа I Исследования.
«Не каждый знак имеет значение, которое выражено с помощью знака», – утверждает Гуссерль. Это утверждение страдает, однако, эквивокацией, если употребить излюбленное выражение Гуссерля. Оно может означать, что существуют знаки, которые имеют значение, и знаки, которые не имеют значения. На первый взгляд – это единственно возможный вариант. Однако, если мы сделаем акцент на слове «выражено», то мы можем прочитать это предложение так: не каждый знак имеет значение как нечто выраженное с помощью этого знака. Т. е. знак может иметь значение, но знак не выражает значение. Второй вариант может быть подкреплен цитированным выше утверждением Гуссерля о том, что знаки как признаки ничего не выражают, разве что наряду с функцией оповещения они выполняют и некоторую функцию значения. Гуссерль не говорит, каким образом может знак как признак иметь значение, однако отсюда ясно, что исходным различием Гуссерля все же является различие между выражающими знаками (им непосредственно присуще значение) и знаками, которые указывают на нечто, которые оповещают о чем-либо, но которые «ничего не выражают». Выделяя два смысла термина «знак», Гуссерль делает акцент не на сформированное, но на формирующее, т. е. не на знак как установленный признак, но на функцию признака – оповещать, не на значение как выраженное, но на акт придания значения (das Bedeuten) как акт выражения. Говоря в самом начале параграфа о выраженном значении и признаке, Гуссерль сразу же переходит к «выяснению отношений» между актом придания значения и оповещением. Основной тезис Гуссерля в этом контексте: «Придание значения (das Bedeuten) не есть вид функционирования знака (Zeichensein) в смысле оповещения (Anzeige)»[313]. Однако, высказав этот тезис, Гуссерль добавляет: «Только потому его объем является более узким, что придание значения – в коммуникативной речи – каждый раз переплетено с некоторым отношением оповещения, и, в свою очередь, оповещение образует более широкое понятие именно потому, что оно может иметь место и без такого переплетения. Однако выражения развертывают свою функцию значения и в одиночестве душевной жизни, где они больше не функционируют как признаки. В действительности оба понятия знака не образуют отношения более широкого и более узкого понятия»[314].
Мы видим здесь довольно-таки странный вид аргументации. Сначала утверждается, что акт придания значения не есть вид оповещения, затем утверждается обратное: объем понятия акта придания значения более узкий, чем понятия оповещения, однако при этом делается ограничение: так обстоит дело в коммуникативной речи (mitteilende Rede). В пятом параграфе, однако, слово mitteilen употребляется для обозначения сообщения, которое может быть обращено как к другим, так и к себе самому Здесь же, в первом параграфе, mitteilende Rede противопоставляется одинокой душевной жизни, и поэтому мы понимаем это выражение как «коммуникативную речь», подразумевая под этим прежде всего различного рода эмпирические сообщения.
Существует, однако, основание прочитать этот текст следующим образом: в коммуникативной речи дело представляется так, что понятие акта придания значения имеет более узкий объем по сравнению с оповещением, или функцией признака, ибо в коммуникативной речи акт придания значения всегда переплетен с оповещением. В свою очередь понятие знака как оповещения – так дело предстает в коммуникативной речи – имеет более широкий объем по сравнению со значением, так как знак как признак может выступать и без такого переплетения. Одна из основных стратегий I Исследования, и особенно первого параграфа, состоит в том, чтобы определить контуры лингвистического анализа знака, т. е. рамки, в которых знак может рассматриваться как феномен коммуникации. Если проводить различие между знаком как выражением и знаком как указанием в этих рамках, то тогда между ними можно установить отношение рода и вида. Это и хочет подчеркнуть Гуссерль.
Для Гуссерля важно очертить сферу, в которой между знаком как значением и знаком как признаком – родовидовые отношения, для того чтобы отделить сферу, где между ними нет таких отношений. Для Деррида[315] эта ситуация выглядит следующим образом: в реальной беседе (collocution réelle) выражение всегда связано со знаком как оповещением, или указанием (l’indice). Чистоту выражения мы должны выследить в языке без коммуникации, в речи как монологе, в немом голосе «одинокой душевной жизни».
Почему же кажется, что Деррида адекватно воспроизводит Гуссерля, чуть ли не излагает гуссерлевский текст? Ответ на этот вопрос простой, но печальный: потому что мы привыкли «мыслить» мышление в родовидовых отношениях, потому что до сих пор мыслить для нас – это относить идентифицированный предмет к какому-либо ряду предметов. В сущности это платоновское понимание мышления, гносеологически переосмысленное Кантом как способность суждения, т. е. умение соотносить общее и частное. Интерпретация мышления искажает его; не какая-либо неверная интерпретация, но любая: интерпретация с необходимостью прибегает к идентификации, чтобы определить «смысл» мышления, а это означает так или иначе его схематизировать. Прорыв феноменологии Гуссерля – это поиски до-логической, и в то же время дескриптивной, но не иррациональной основы мышления.
При переводе гуссерлевского текста Деррида передает das lebendige Wechselgespräch как la collocution vivante, но в изложении Гуссерля vivante (живая) заменяется на réelle (реальная). Конечно, в определенном смысле это синонимы. Однако эта замена все же неслучайна: деконструкция ведь тоже в некотором смысле «строгая наука». Для Деррида «реальная беседа», или, лучше, реальное языковое общение, реальный обмен знаками – исходная ситуация как практических действий, так и мышления. Любой опыт в основе своей лингвистичен, а языковый опыт – это всегда опыт общения и сообщения.
Важно отметить при этом, что исходить из ситуации «реального языкового общения» – это значит исходить из чего-то самого по себе аморфного, ибо реальное общение может быть и по поводу логических структур, и по поводу основоположений морали, и по поводу эмпирических предметностей или ситуаций. Однако все же существует радикальное различие между размышлением логика или математика и беседой того же логика или математика о своих собственных результатах. Так же как существует радикальное различие между угрызениями совести и лекцией по этике.
Деррида представляет дело так, будто из этого «реального языкового общения» (неявно предполагается – всеобщего медиума) могут быть выделены различного рода «беседы». Ход мыслей Гуссерля предстает при этом таким образом, как будто Гуссерль пытается изолировать, выделить из реальной языковой коммуникации «чистую экспрессивность». Тем самым Деррида как бы заставляет Гуссерля, вопреки его «намерениям», мыслить в родовидовых определениях: реальный обмен знаками – это общая ситуация, чистая экспрессия – это частный случай общения, пусть даже это фиктивное общение.
Деконструкция, которая всегда нуждается в конструкции (следовательно, в родовидовых определениях, с помощью которых живой опыт мышления всегда можно превратить в конструкцию), использует здесь достаточно тонкий метод.
Деррида утверждает, что Гуссерль пытается разрушить родовидовые отношения между знаком как выражением и знаком как признаком (не утверждать этого Деррида не может, ибо это утверждает эксплицитно Гуссерль). Однако, согласно логике Деррида, это разрушение происходит с помощью тех же самых родовидовых определений.
Если все же прочитать Гуссерля еще внимательней и еще «медленней», чем Деррида, то становится очевидным как раз противоположный ход мысли автора Логических исследований. Гуссерль пишет: «Если мы ограничимся сначала, как это мы непроизвольно привыкли делать, когда мы говорим о выражениях, теми выражениями, которые функционируют в живом языке общения, то понятие признака по сравнению с понятием выражения представляется более широким по объему»[316].
Отметим, что Деррида, цитируя это место, как бы не замечает, что ограничение Гуссерль как раз проводит в отношении этой самой «реальной беседы», или «реального диалога». Иными словами, Гуссерль отделяет «реальную беседу» от чего-то такого, что реальной беседой не является, разъясняя родовидовое положение дел в этой «живой реальности».
Гуссерль исходит, как мы видели, не из некоторой неопределеннокоммуникативной ситуации, но из различий логического и психологического, логического и вещного, логического и грамматического. Именно эти различия направляют ход той или иной «реальной беседы», но не наоборот, как будто из «всеобщей» коммуникативной практики выделяются те или иные тематические сферы.
Для Деррида коммуникативная практика – это своего рода метафизическая предпосылка. Ему кажется «странным парадоксом», что «значение (le vouloir-dire) должно было бы изолировать концентрированную чистоту своей экс-прессивности как раз в тот момент, когда подвешивается отношение к определенному вне»[317]. Хотя, замечает Деррида, это вовсе не парадокс, но сущность феноменологического проекта в целом, ибо редукция открывает в сфере чистого выражения отношение к объекту, устремленность к объективной идеальности. «…Трансцендентальный феноменологический идеализм отвечает на необходимость описать объективность объекта (Gegenstand) и присутствия присутствующего (Gegenwart) (…) исходя из некоторого «внутреннего»»[318].
Такая характеристика феноменологического проекта в целом весьма сомнительна, ибо редукция – так, как она раскрывается у Гуссерля в Идеях I, т. е. там, где феноменология заявляет о себе как о трансцендентализме и идеализме, – «подвешивает» не только эмпирические предметы, но и предметы идеальные. Эту характеристику можно отнести, с определенными оговорками, только к исходному пункту феноменологии, к контексту исследования сущности логического, где значение как таковое, т. е. чистое значение, находит свое непосредственное «внешнее» в чистой предметности. Однако эту проблему следует конкретизировать, ибо у Брентано, например, открытие чистой направленности не потребовало понятия идеального объекта, а Дж. Э.Муру для «открытия сознания» потребовалось всего два ощущения – синего и зеленого[319].
Дело, однако, не только в вопросе соотнесения общей интерпретации феноменологии с конкретными работами Гуссерля, хотя это тоже важно. Дело в том, что мышление Гуссерля предстает у Деррида опять-таки как выделение вида предметности – идеальной предметности – из категории предметности вообще. Деррида говорит, правда, не о предметности, но о «внешнем»: отношение к определенному внешнему подвешивается и тем самым открывается отношение к «внешности внешнего».
Гуссерль, устанавливая общую категорию предметности, дает, конечно, повод для такой интерпретации. Однако ход его мысли заключается прежде всего в том, чтобы в контексте исследования логического провести различие между сознанием фактического и сознанием логического. Между этими типами сознания нет какого-либо «среднего», нейтрального сознания, также как нет некоторой нейтральной установки между естественной и феноменологической.
Соответственно, между эмпирическим и идеальным предметом нет какого-либо «нейтрального» предмета. Для того чтобы различить эмпирический и идеальный предмет, не нужно проводить редукцию, скорее это различие является одним из возможных исходных пунктов редукции.
Редукция нужна не для того, чтобы подвесить один вид предметов и выявить отношение к другому виду. В редукции подвешивается как эмпирическая, так и идеальная предметность, и выявляется различие интенции индивидуального и интенции общего.
Рассмотрение принадлежащей Деррида интерпретации гуссерлевской теории знаков в целом потребовало бы подробного анализа того, каким образом гуссерлевский идеальный объект превращается у Деррида в свою повторяемость, а за потоком внутреннего сознания времени скрывается «метафизика присутствия». В отличие от философского размышления, которое может иметь неявные предпосылки, но никогда не имеет заранее определенной цели, деконструкция такую цель имеет, она нацелена на поиски метафизики присутствия и, конечно, обнаруживает таковую. Ибо, как заметил Карл Поппер, если хотят найти подтверждения, то всегда их найдут. Такого рода подробный анализ не входит здесь в нашу задачу, и мы коснемся только попытки Деррида представить сферу чистой интенции как сферу воли.
Предпосылкой этой интерпретации, подчеркнем – интерпретации, но не анализа – служит допущение, скажем сразу – ложное допущение, что можно исключить «указание» и оставить «выражение»[320]. Здесь следовало бы различить исключение и различие. Например, мы различаем белое и черное; мы можем исключить черное и что-то сказать о белом. Однако черное всегда при этом подразумевается. Гуссерлевское различие выражения и указания подразумевает, что они корреляты, поэтому в рамках анализа нельзя просто отбросить указание и рассуждать о выражении. Такое исключение – признак интерпретации, которая требует некоторой первоначальной субстантивации интерпретируемого. Тем не менее различие между различием и исключением весьма существенно, и, говоря об исключении чего-то из чего-то, мы рискуем опять попасть в сферу родовидовых определений.
Интерпретация строится вокруг перевода гуссерлевского термина «Bedeutung» (значение) как vouloir-dire, что отнюдь не является искусственным словом и означает «значить», но что буквально можно перевести как «хотеть-сказать». С точки зрения Деррида, не может быть выражения без волящей интенции. Если интенциональность нельзя просто отождествить с волей, то все же, считает Деррида, кажется, с достаточной степенью определенности, что для Гуссерля – в сфере переживания выражения – интенциональное сознание и волящее сознание суть синонимы. А если все же любое переживание может быть переведено в переживание выражения (как это якобы Гуссерль санкционировал в Идеях I), то тогда можно было бы сделать вывод, что, несмотря на всю тематику рецептивности и пассивного синтеза, понятие интенциональности остается в традиции волюнтаристской метафизики.
В чем видит Деррида волюнтаризм трансцендентальной феноменологии? В том, что «смысл хочет обозначить себя, он выражается только в значении (un vouloir-dire), которое есть не что иное, как желание присутствующего смысла высказать себя (vouloir-se-dire de la présence du sens)»[321]. При всей экстравагантности этого пассажа, при всей неявной психологизации смысла – как будто смысл это существо, наделенное «Я», которое во чтобы то ни стало хочет заявить о своем присутствии, – здесь не говорится ничего, кроме: к сущности смысла принадлежит то, что он обнаруживает свое присутствие, он желает себя высказать. Видимо, гуссерлевская «волюнтаристская метафизика» (для Гуссерля смысл и значение – синонимы) может существовать только на французском языке, где «значить» – это «хотеть сказать».
Для Гуссерля различие между непосредственным выражением душевной жизни и жестом радикально, абсолютно, принципиально, если, конечно, жест понимать в прямом смысле. Эта оговорка необходима, ибо сейчас борьба за «жест» против его подавления «волевой интенцией смысла» ведется так успешно, что «жест» уже стал синонимом стиля мышления.
Смысл этого различия Гуссерля состоит в том, что непосредственная связь значений, или смысловая связь, если она существует, то заявляет именно о себе, если угодно, о своем присутствии; выражение лица или жесты, сопровождающие коммуникацию, заявляют не о себе, но о чем-то ином.
Все рассуждение Деррида основано на предположении, что для Гуссерля интенция и воля в сфере чистой экспрессии тождественны. Такое предположение, однако, лишено оснований. Для Гуссерля сфера чистого выражения – это душевная жизнь как таковая, которая, собственно, и представляет собой «чистую экспрессивность». Эта экспрессивность не активна и не пассивна, в ней происходит формирование конфигураций смысла, своего рода «выдавливание» (если переводить буквально экс-прессивность или немецкое Aus-druck) определенных форм значений из гомогенного материала жизни.
Такое понимание выражения ничего не говорит о первичности волевой интенции, оно говорит скорее о радикальном различии мышления и коммуникации, что не мешает им быть коррелятами. Знак как выражение есть не что иное, как непосредственное выражение мышления. Это не внешнее, коммуникативное слово, «повторенное внутренне», это выражение «внутреннего мышления», которое может состояться, а может и не состояться в языке. Знак как выражение – это знак значения, коммуникативный знак – это знак вещи. Различие между значением и вещью конкретизируется здесь в аспекте выражения.
Различие между «одиночеством душевной жизни» и коммуникацией – это различие между первичным опытом, который поддается анализу, но не нуждается в интерпретации, и коммуникативным опытом, для которого интерпретация необходима. Именно поэтому Гуссерль не включает в сферу выражений выражение лица, жест и т. п.: все это требует интерпретативного к ним отношения. Выражение как речь, исходящая из «одинокой душевной жизни», не нуждается в интерпретации, но может быть подвергнута анализу.
Гуссерлевскому выражению «одинокая душевная жизнь» можно придать более слабый и более сильный смысл. Первый заключается в том, что мы находимся вне реальной коммуникации, например, одни в доме. Другой, более сильный смысл, указывает на то, что одинокая душевная жизнь и коммуникация не противоречат друг другу, но и не соприкасаются, они лежат как бы в разных плоскостях. Чтобы подчеркнуть этот смысл, мы переводим einsames Seelenleben как одиночество душевной жизни, понимая одиночество как принципиальную несводимость душевной жизни, или сознания, ни к логическому или психологическому, ни к этическому или эстетическому, ни к какому-либо другому опыту, кроме опыта различений, который «присутствует» в любом опыте, если это опыт. Одиночество различений позволяет нам различать логическое и психологическое, логическое и грамматическое, лингвистическое и нелингвистическое и т. д.
Единственный пример, который приводит Гуссерль в § 8 в качестве монологической речи: «Ты сделал это дурно, ты не можешь так больше делать», – это пример из сферы морального сознания. Пример этот при всей его простоте указывает на фундаментальное различие добра и зла, различие, которое может быть осуществлено только вне коммуникации, в одиночестве душевной жизни. Это различие столь же фундаментально, как и различие теоретического и эмпирического, идеального и реального, выражения и знака. Любое из этих различий может быть зафиксировано с помощью знаков и эксплицировано в коммуникации. Однако сами различения не имеют ни знаковой, ни коммуникативной природы. Одиночество душевной жизни как раз и говорит об отсутствии какого бы то ни было посредника между тем, что различено.
Из того, что невозможно выделить сферу чистой экспрессивности значений, не следует, что «значение» поглощается коммуникацией. Различие между ними, как и всякое различие, подразумевает различие переднего плана и фона. Фоном чистой экспрессивности является коммуникация с ее знаками-указаниями вещей, процессов, ситуаций и т. п. Однако коммуникативная практика, если она осуществляется людьми, а не компьютерами, не может не иметь фона непосредственно доступных значений.
Проблема значения в феноменологии обсуждается здесь в основном в интерпретативном аспекте и на интерпретативном языке. В аналитическом аспекте здесь только указывается на различие и коррелятивность «чистой экспрессивности» и коммуникативного обмена знаками. Вопрос, однако, в том, является ли вообще экспрессивность характеристикой значения, принадлежат ли выражение и значение одному и тому же измерению. Значение как значимость – это скорее свойство мира и только в переносном смысле может характеризовать выражение и суждение. Значение как граница, как различенность (именно границы формируют значимость) – это условие коммуникации, определение ее границ, ее тем и тематизированных в ней предметностей.
VIII ДЕСКРИПЦИЯ И МЕТОД
1. Первое и второе издания Логических исследований и Идеи чистой феноменологии и феноменологической философии
Замысел второго издания ЛИ возник у Гуссерля уже в 1905 г. в связи с попыткой В. Питкина (оставшейся неосуществленной) предпринять английский перевод. В августе 1905 г. Гуссерль отметил в письме к В. Хокингу: «Со времен Логических исследований я значительно продвинулся вперед, и конечно, трудно работать над объединением нового и старого»[322]. Гуссерль приступил к переработке ЛИ сразу же после выхода в свет Идей чистой феноменологии и феноменологической философии. Книга I (Идеи I) в апреле 1913 г. в «Ежегоднике по философии и феноменологическим исследованиям». И уже осенью 1913 г. вышло в свет второе издание первой части второго тома.
Гуссерль считает в это время Идеи I своим основным философским произведением и сожалеет в предисловии ко второму изданию ЛИ о том, что невозможно «поднять старое произведение во всех отношениях до уровня Идей»[323]. Автор Логических исследований признается, что надеялся избежать их новой публикации, распределив их содержание в ряду новых феноменологических исследований[324]. Однако это потребовало бы, полагал Гуссерль, многих лет работы, и от этого проекта пришлось отказаться.
Гуссерль выбирает «средний путь»: отказываясь от радикальной переработки и считая в то же время недобросовестным перепечатывать старое произведение без всяких изменений, ибо он видит в нем ошибки, неточности и т. д., он формулирует три максимы, которыми он руководствовался, осуществляя подготовку ЛИ ко второму изданию.
Содержание второй и третьей максим не составляют какой-либо проблемы. Во второй максиме речь идет о том, чтобы сохранить при переработке в целом весь строй и стиль старого произведения и в то же время подчеркнуть новые тенденции в мышлении, которые не получили должного выражения в первом издании. Третья максима напоминает читателю, что ЛИ – это не целостная книга в литературном смысле, но цепь исследований, уровень которых постоянно повышается. Этот характер ЛИ, замечает Гуссерль, сделал возможной такую переработку, что в последнем исследовании достигнут уровень Идей. Гуссерль и здесь не упускает случая подчеркнуть, что Идеи остаются эталоном, к которому должны быть в идеале «подтянуты» ЛИ.
С первой максимой дело обстоит не так просто. Косвенно она ставит под сомнение схему постоянного прогресса в феноменологических исследованиях от ЛИ до Идей и даже представление о том, что в Идеях достигнут более высокий уровень феноменологических исследований. Косвенно эта максима указывает на иное отношение между этими работами Гуссерля, которое предварительно можно определить как отношение между конкретными феноменологическими исследованиями и попыткой сформулировать основные принципы феноменологии.
Гуссерль начинает изложение первой своей максимы с императива: не допускать в новое издание ничего такого, что не было бы достойно тщательного изучения. «В этом отношении, – пишет Гуссерль, – можно было оставлять и отдельные ошибки, если я мог считать их естественным исходным уровнем для истины, которая подвергает переоценке их оправданные мотивы (ihre guten Motive)»[325].
Такие весьма неопределенные указания вообще трудно отнести к разряду максим, тем более что Гуссерль не уточняет, о каких, собственно, ошибках идет речь. Возникает вопрос, почему все-таки Гуссерль считает возможным оставить отдельные ошибки? Почему нельзя исправить эти ошибки на исходном уровне?
Если читатель должен получить доступ сначала только к исходному уровню феноменологических исследований, то почему читатель второго издания должен осваивать эту первичную ступень как содержащую «отдельные ошибки»?
Гуссерль утверждает, что не хочет снова вводить читателя в заблуждение из-за упущений, колебаний, очевидных недоразумений и т. д. Критерий отличия одного рода ошибок от другого вроде бы ясен: одни могут служить трамплином для истины, а другие – нет. Однако где гарантия, что определенные колебания не послужат в дальнейшем плодотворным исходным пунктом исследований?
То обстоятельство, что Гуссерль не исправил определенные ошибки, говорит скорее о том, что это вовсе не ошибки, подлежащие исправлению, а именно вопросы, требующие более тщательного изучения. Ясно, что при переработке ЛИ Гуссерль усматривал «ошибочность» тех или иных рассуждений и дескрипций всегда с точки зрения Идей. Об этом свидетельствует прежде всего изменение терминологии во втором издании. «Эмпирический», «дескриптивный», «дескриптивно-психологический» заменяются на «феноменологический» или «чисто феноменологический». Последний термин встречается, правда, и в первом издании, но как второстепенный. Можно привести пример и другого рода, когда «духовное Я» (geistiges Ich) заменяется Гуссерлем на «эмпирическое Я», как это происходит в § 1 V Исследования. Если это вырвать из гуссерлевского контекста, то такая замена покажется весьма странной, а в рамках классического немецкого идеализма прямо-таки невозможной. Абсурдно было бы заменить у Гегеля слово «духовный» на слово «эмпирический», и наоборот. Тем не менее такая замена у Гуссерля возможна, ибо как «духовное», так и «эмпирическое» по-разному обозначают здесь внутреннюю жизнь сознания, которая доступна дескрипции. Еще одна характерная замена касается одного из ключевых терминов – «психический акт», который даже вынесен в название второй главы V Исследования. Во втором издании Гуссерль заменяет здесь брентановский термин на «интенциональное переживание». С этим связана не только критика брентановского понимания интенциональности (которая имеет место, конечно, и в первом издании), но и общая тенденция гуссерлевского мышления времени Идей I, тяготеющая к трансцендентализму с его «структурной чистотой» и отклоняющаяся тем самым от понимания внутреннего опыта как внутреннего восприятия у Брентано.
Характерны также вставки, добавления и изменения, сделанные Гуссерлем в общеметодологическом аспекте. Гуссерль стремится подчеркнуть всеобщность результатов феноменологического усмотрения. И хотя учение о постижении сущностей было развито в Идеях I, тем не менее Гуссерль использует этот термин во втором издании ЛИ. Уже в § 1 Введения ко II тому, характеризуя феноменологию как область нейтральных – между психологией и чистой логикой – исследований, Гуссерль следующим образом изменяет текст. Если в первом издании феноменология, по Гуссерлю, служит психологии как эмпирической науке тем, что она «анализирует и описывает (…) представления, суждения и процессы познания как переживания», то во втором издании Гуссерль добавляет: «Своим чистым и интуитивным методом она анализирует и описывает в сущностной всеобщности». В V Исследовании в § 27 «внутренний опыт» меняется на «непосредственную интуицию», «внутреннее восприятие» – на «феноменологическое постижение сущностей», «дескриптивный анализ» – на «интуитивный сущностный анализ» и т. д.
В целом, однако, дело идет не просто о различии в терминологии между Идеями I и ЛИ. В ЛИ нет какой-либо специфически феноменологической терминологии, за исключением термина «интенциональность», взятого у Брентано, и нескольких более или менее удачных составных терминов типа «Bedeutungsintention», «Aktcharakter», «bewußtseinsmäßiges Wesen» и т. п. Хайдеггер отмечал, «что Гуссерль в Логических исследованиях, где он проводит исследования конкретно феноменологически, как раз отказывается от употребления слова «феномен»«[326]. Хайдеггер по существу прав; хотя в нескольких местах слово «феномен» все же присутствует в ЛИ (см. II Исследование, § 10, 31, 37 и др.), «феномен» не становится еще одним из основных терминов. Терминология ЛИ вполне традиционна: знак, значение, смысл, содержание, единство и множество, часть и целое, переживание, представление, суждение, чувство и т. д. и т. п. Эти термины являются также словами обыденного языка, и дескрипции в ЛИ развертываются на его основе, но не на основе искусственно введенных терминов. Иную ситуацию мы видим в Идеях I. Даже беглый взгляд на оглавление работы показывает, что она изобилует новой терминологией, которая должна выделить феноменологию как особое философское учение: «эпохе» и «редукция», «созерцание сущностей» и «региональная эйдетика», «естественная установка» и «чистое сознание», «hyle» и «morphe», «noesis» и «noema», «cogitatio» и «cogitatum» и, наконец, «чистое Я».
Разумеется, эти слова также не выдуманы Гуссерлем, они позаимствованы из разных учений и эпох, кое-что у Платона и Аристотеля, кое-что у скептиков, кое-что у Декарта, кое-что у Канта и неокантианцев. Однако они не являются словами обыденного языка и предназначены в Идеях для формулировки основных принципов феноменологии как учения, но не для конкретной феноменологической работы. ЛИ (особенно II том) и Идеи I – это философские произведения различного типа, между ними нет отношения более высокого – более низкого уровня, как полагал Гуссерль.
Во Введении ко II тому ЛИ Гуссерль формулирует цели и задачи исследования, а также один из основных принципов своего исследования-принцип беспредпосылочности. На этом, собственно, изложение методологических принципов в ЛИ завершается. В то же время в Идеях I Гуссерль занимается в основном вопросами метода. В Идеях I рассматриваются не столько сами поставленные проблемы, сколько сущность феноменологии – как она должна решать эти проблемы. Реальный опыт и его дескрипция, из которых могли вырасти «правила метода» Идей I и прежде всего основа основ феноменологического метода – феноменологическая редукция, – содержатся как раз в ЛИ и в анализе внутреннего сознания времени (лекции 1905–1907 гг.).
2. Редукция и опыт
В ЛИ нет термина «феноменологическая редукция», но означает ли это, что процедура, которую назовет таким образом Гуссерль в лекциях 1907 г. и позднее в Идеях I, здесь отсутствует? Иными словами, существуют ли в ЛИ предпосылка, или аргументация, которую Гуссерль явным образом принимает и которая при желании может быть преобразована в принцип эпохе? Несомненно, такая предпосылка имеет место. Ведь эпохе – это попытка отстраниться от существования предмета, достичь безразличия по отношению к его существованию. Именно такую предпосылку мы находим в ЛИ, причем она имеет отношение не к какому-то второстепенному вопросу, но непосредственно к проблеме интенциональности. Эта предпосылка есть безразличие к существованию или несуществованию предмета при сохранении того же самого интенционального акта. Предмет может и не существовать, это ничего не меняет в строении и сущности интенционального акта. Например, «Юпитера я представляю не иначе чем Бисмарка, Вавилонскую башню не иначе чем Кёльнский собор»[327]. Сейчас речь не о том, верна или неверна эта аргументация, но о том, что она не просто присутствует, но пронизывает, явно или неявно, все рассуждения об интенциональности. Эту аргументацию Гуссерль воспринял у Брентано, однако Брентано не нуждался в какой-либо теории редукции, ибо он не затевал борьбы с «естественной установкой», в которой мы якобы верим в существование предметов нас окружающих[328]. Если Брентано характеризует психический феномен, акт сознания посредством имманентной предметности, интенциональной «инэкзистенции» (Inexistenz) объекта, то Гуссерль в теории интенциональности стремится развести интенциональный акт как таковой с его структурой и сущностью (для этого выбирается, собственно, термин Aktcharakter), данность предмета и предмет как таковой. Безразличие к существованию предмета из предпосылки – не то чтобы неявной, но все же не объявляемой в качестве предпосылки – становится основной темой размышлений о методе. Безразличию к существованию предмета соответствует безразличие к существованию своего собственного «эмпирического Я», этого вещеобразного предмета, по выражению Гуссерля. Существуют и другие «приметы» редукции во втором томе ЛИ. Во Введении Гуссерль говорит о «противоестественной» (widernatürlich) направленности созерцания и мышления в феноменологическом анализе, об обращении к актам сознания и т. д. В V Исследовании он даже в языковом плане весьма близок к этому термину: «…если мы затем ограничиваем чисто психическое Я его феноменологическим содержанием, тогда оно редуцируется (выделено мной. – В. М.) к единству сознания, (…) к реальному (real) комплексу переживаний»[329]. Можно привести и другие примеры из ЛИ. Кроме того, разве «исключение объективного времени» в Лекциях по феноменологии внутреннего сознания времени (1905) не является феноменологической редукцией?
Отчасти это так, однако простого ответа на этот вопрос нет. Весьма сомнительным является представление о том, что Гуссерль терминологически зафиксировал и разработал в Идеях то, что неявным образом осуществлял в первых своих феноменологических исследованиях. Читателю могло показаться, что именно к этому выводу мы его и склоняем. Вовсе нет! ЛИ – это исследование «самих вещей», правда, вещей специфических – самих переживаний: переживаний логического, переживаний представления, суждения, а также выделение и исследование их коррелятов – логической истины, представленного, обсуждаемого и т. д. Идеи I – это скорее интерпретация аналитической работы, осуществленной в ЛИ, в анализах внутреннего сознания времени и других исследованиях. Цель этой интерпретации – систематизировать основные правила метода. Систематизация, однако, далеко не безобидная процедура. Строгая фиксация терминов – это скорее нечто противоположное брентановскому и гуссерлевскому понятию философии как строгой науки.
Редукцию в качестве основы метода можно сравнить с локковским абстрактным треугольником, который не должен быть ни косоугольным, ни прямоугольным, ни тупоугольным. Гуссерль подвергает критике локковскую теорию абстрагирования во II Исследовании, однако пользуется подобной теорией при создании учения о редукции. Редукция, как и абстрактный треугольник, только указывает на определенный опыт, но редукцию как таковую нельзя охарактеризовать с точки зрения какого бы то ни было опыта. Как «опыт» отстранения от существования предметов и «Я», как «опыт» нейтрализации различий между видами существования предметов – отстранение не интересуется различиями в отстраненном – редукция как таковая, как и «родовая сущность интенции», превращается в абстракцию, претендующую на статус некоего первичного философского опыта.
Одно дело попытаться определить феноменологическое содержание, или состав, определенной «связки» переживаний и назвать это редукцией. Этот процесс можно определить дескриптивно, верифицировать или фальсифицировать. Можно (и нужно) конкретно рассмотреть, что означает такое сведение, возможно ли оно и т. д. При этом необходимо иметь в виду, что возможность такой редукции основана на различии сознания (акта и содержания, смысла) и предмета. Например, в V Исследовании, § 2, Гуссерль отделяет момент ощущения цвета от окраски предмета. Предмет вообще может не существовать и вместе с ним его окраска, однако комплекс ощущений «цвет» может существовать и тогда, когда мы обманываемся относительно существования предмета.
Можно (и нужно) обсуждать, насколько безразлично для интенционального акта и комплекса ощущений существование предмета. Какой бы точки зрения здесь ни придерживаться (я полагаю, к примеру, что это не так, что существование предмета небезразлично для интенционального акта – даже если придерживаться терминологии Гуссерля и оставаться «внутри» его рассуждений – и мы не представляем Юпитера и Вавилонскую башню точно так же, как Бисмарка и Кельнский собор), но этот вопрос опять-таки можно обсуждать на почве опыта.
Другое дело обсуждать универсальный принцип редукции, или феноменологического эпохе, т. е. обсуждать возможность «заключить в скобки» «весь мир». Ясно, что здесь волей-неволей мы покидаем почву опыта. «Истинный позитивист» в феноменологии М. Мерло-Понти ставит под вопрос, как мы видели, возможность осуществления полной редукции[330].
Невозможно оспаривать сам тезис Мерло-Понти на основе опыта, можно, однако, обсуждать причины, по которым полная редукция невозможна, обсуждать их, оставаясь на почве опыта и не прибегая к предположению абсолюта. Как раз для «абсолютного духа» невозможно отстраниться от мира! Редукция невозможна скорее из-за избыточности сознания как избыточности различений, от которых мы не можем отстраниться, но не из-за какой-либо «нехватки», не потому, что мы не можем стать абсолютным духом. Если полагать, что мир – это совокупность предметов с их каузальными и функциональными связями, а сознание – синтетическая функция смыслопридания, то тогда в принципе можно представить себе процедуру отстранения от каузальных и функциональных связей предметов, для того чтобы исследовать сам процесс смыслопридания и его результаты – смыслы, или значения. Такова схема Гуссерля, но на практике эту процедуру невозможно осуществить, ибо отстраняться можно только от определенных связей и исследовать можно только определенные процессы смыслопридания. Можно было бы возразить, что редукция является просто обобщением опыта, однако эпохе и редукция получают в Идеях I другой статус. Это «врата» феноменологии, лишь войдя в которые, или, вернее, преодолев порог которых, мы оказываемся в регионе бытия или, если угодно, в доме бытия под названием «чистое сознание». Разумеется, нельзя отрицать возможность некоторой метафизической или даже религиозной интерпретации феноменологической редукции. Возможно также, что различные интерпретации будут полезны для приобретения какого-либо нового вида опыта. Однако все это из области возможного, а не действительного. Во всяком случае, гуссерлевское сравнение эпохе с религиозным обращением в Кризисе европейских наук не так уж хорошо сочетается с «исключением трансценденции Бога» в Идеях I (§ 58).
Если внимательно и непредвзято прочитать параграфы Идей I, в которых Гуссерль вводит феноменологическое эпохе (§§ 31–35), то вряд ли можно обнаружить какое-либо описание этой процедуры, кроме метафор-синонимов «исключение», «выведение из игры», «заключение в скобки» и т. д. Единственным, пожалуй, обращением к опыту сознания, однако все-таки косвенным, является сравнение эпохе с попыткой универсального сомнения Декарта, «на место (…) [которой] мы могли бы теперь поставить универсальное[331] «έποχή» в нашем строго определенном и новом смысле». Не оспаривая новый смысл эпохе (эта тема относится к теме Декарт – Гуссерль и здесь нами не рассматривается), можно поставить под сомнение «строгую определенность смысла» описания с помощью указанных метафор.
Принцип редукции находится в определенном противоречии с принципом беспредпосылочности в ЛИ, согласно которому нельзя брать в качестве предпосылки то, что нельзя феноменологически, т. е. дескриптивно, реализовать. Заключение в скобки «естественного» мира – это лишь видимость дескрипции, которая по своему смыслу обязана быть конкретной. Речь идет, конечно, не о том, чтобы описывать конкретные предметы, скажем розу или медную пепельницу, феноменология – это учение об опыте сознания, но не о розах. Роза или пепельница могут стать предметом феноменологического описания только как корреляты определенного – подчеркнем, определенного – опыта, т. е. определенной иерархии различений.
Когда же Гуссерль приводит конкретные примеры эпохе в § 35, то оказывается, что речь идет опять-таки о различиях, причем о различиях первичных: во-первых, о различии воспринимающего переживания и того, что воспринято, т. е. cogitatio и cogitatum. Гуссерль рассматривает здесь пример с белой бумагой в полумраке, отделяя «воспринимающее видение» и «осязание» от объективного качества вещей. Это различие аналогично тому, которое проводит Гуссерль в ЛИ относительно цвета и которое мы уже упоминали. В ЛИ дело обходится без абстрактных принципов, а в Идеях I тот же самый тип различия выступает как пример принципа. Во-вторых, Гуссерль проводит важное различие между передним планом и фоном на примере восприятия обычных вещей – книг, карандашей, чернильницы. Это тот же самый тип различия, что и различие между передним планом и фоном в Лекциях по феноменологии внутреннего сознания времени, причем в его описании употребляется одно и то же слово «Hof» (ореол, гало). Опять-таки, в Лекциях 1905–1907 годов не требовался общий принцип, примером которого выступало бы указанное различие. К этому различию мы вернемся позже, когда будем обсуждать вопрос о «чистом Я».
Эти и другие первичные различия являются базисными для опыта сознания и не нуждаются в некотором принципе для своего осуществления. Напротив, любой принцип может быть только эмпирическим обобщением различий, обобщением, которое может уступить место другому обобщению.
Приведем пример несколько более сложный. После того как Гуссерль впервые вводит «эпохе», он сразу же говорит о необходимости ограничить его действие. Первый абзац § 32 Идей I – пожалуй, самое интересное место в гуссерлевских рассуждениях об этом принципе. Ограничить эпохе следует потому, что иначе под его действие попала бы и та научная область, которую Гуссерль хочет открыть, т. е. область чистого сознания. Тогда, говорит Гуссерль, ни один тезис не остался бы немодифицированным. Отсюда следовало бы, что все, что говорится о чистом сознании, говорится в некотором модифицированном смысле, и т. д. in infinitum. Действительно, странная была бы картина, если бы мы «вывели из игры» интенциональность, ноэтико-ноэматические структуры и т. п. Таким образом, Гуссерль неявно вводит различие между эпохе и не-эпохе внутри феноменологии, различие, которое неподвластно эпохе, не принадлежит эпохе. Иными словами, чтобы провести феноменологическое эпохе, необходимо, оказывается, провести определенное различие, которое гарантирует доступ к чистому сознанию, так сказать, в оригинале. Различие между областью переживаний, рефлексии на эти переживания и «естественным» миром с его «естественными» предметами «лежит в основе» эпохе, но не наоборот. Еще более сложный вопрос состоит в том, насколько само различие между сознанием и предметом нуждается в более тонких различиях. Отчасти мы будем его обсуждать в дальнейшем.
Сравнение ЛИ и Идей I мы проводим не из абстрактного историко-философского интереса в плане истории идей, творческой эволюции философа и т. д. и т. п. Такие исследования весьма полезны, но только тогда, когда найдена точка отсчета, исходный пункт, основание для сравнения. Сравнение этих двух работ интересует нас не в аспекте эволюции, а в аспекте противопоставления реализованных в них стилей философской работы. Если в ЛИ на первом плане оказывается сама философская работа, то в Идеях на первом плане – принципы этой работы. Это различие создает совершенно разную атмосферу вокруг этих произведений, совершенно разные вопросы, которые возникают относительно поставленных в них проблем. Все-таки рассуждения о философии отличаются от самой философии. (Это различие недостаточно учитывают, когда отождествляют историю философии с философией или когда полагают, что основным вопросом философии является вопрос, что такое философия.)
Основу сравнения ЛИ и Идей I нужно искать не на некоторой метафизической высоте, с которой можно обозреть все и вся; такой основой служит для нас вещь более простая – сопоставление принципов с опытом сознания как опытом различений. Не всякое различение является различением опыта, или, иначе говоря, различением как опытом. Например, таковым не является кантовское различение (различие) вещи в себе и явления. Это скорее различие-результат, результат определенных различений, скрытых за «тартюфством научности». Тогда как различение звука и света имеет непосредственное отношение к опыту. Причем дело вовсе не в том, что само различие должно быть «ощущаемым». Как раз различие звука и света, а также цвета и запаха и т. д. неощутимо. В этом отношении нет различия между этими различиями и кантовским различием. Однако в отношении различаемого между ними существенные различия. Онтологические различия типа звук/свет – это исходные точки дальнейших различений, причем различений различного уровня: различие между различными звуками, различными их функциями (символическая, сигнальная, эстетическая и т. д.), различие между ощущением звука и ощущаемым звуком. Эти различения как раз и образуют сферу опыта, который можно было бы назвать «акустическим». То же самое относится к опыту «оптическому», а также опыту вкусовых ощущений, опыту обоняния и опыту прикосновения. Можно выбрать, конечно, и другие названия; важно лишь подчеркнуть, что речь идет не только о чувственном опыте, который, само собой разумеется, всегда связан с телесным опытом. Первичные различения цветов, звуков, запахов и т. д. – это столь же опыт сознания, сколь и опыт тела, которое для этого и обладает органами. Однако любой опыт обладает лабильной иерархией, как это было видно уже на примере опыта акустического. В него входит не только непосредственное слышание (еще необходимо уточнить, возможно ли оно), но и, скажем, воспоминание об услышанном, причем, опять-таки, это услышанное могло быть символом, сигналом и т. д. Переключение от символической к сигнальной или эстетической ипостаси звука уже не является телесным опытом, хотя и не теряет связи с ним. Воображение в процессе создания музыкального произведения еще более отдалено от чувственного и, следовательно, телесного опыта. В частности, поэтому тактильный опыт лучше назвать опытом прикосновения, где тактильные ощущения являются исходным или конечным (в зависимости от характера опыта) уровнем в иерархии опыта.
Различие явления и вещи в себе – это различие-принцип, цель этого принципа – отделить сферу опыта от сферы, лежащей вне его. Само это различие не исходит из каких-либо различий опыта; здесь различаются не «регионы бытия», но абстракции, которые в своей дальнейшей дифференциации приводят опять-таки к абстракциям. Причем существенное отличие различаемых состоит в том, что явления в своем разделении на «материю» и «форму» и т. д. хотя бы формально имеют отношение к опыту, который предстает как система синтезов аморфного многообразного. Что касается второго различаемого, то, с точки зрения опыта, вообще бессмысленно спрашивать, что такое вещь в себе. Однако то, что не дифференцируется в опыте, подлежит другой процедуре, а именно интерпретации, в рамках которой становится возможной дифференциация вещи в себе как свободы воли, бессмертия души и Бога. Быть может, необходимость в интерпретации возникает там и тогда, где и когда недостает опыта?
Гуссерлевская редукция как различие региона сознания и заключенного в скобки мира не тождественна, разумеется, кантовскому различию явления и вещи в себе; и особенно, так сказать, со стороны «явлений». Однако существенное сходство состоит в том, что гуссерлевское различие – это также принцип, который определяет сферу возможного опыта и сферу феноменологических исследований (регион чистого сознания) за счет безразличия к другой сфере. В конце концов, Кант ведь также очерчивает сферу возможного опыта за счет исключения из опыта вещей в себе, за счет безразличия к ним в сфере опыта. Здесь мне следовало сказать (так, пожалуй, порекомендовали бы мне некоторые историки философии), что гуссерлевские заключенные в скобки предметы – это, конечно же, не кантовские вещи в себе. Однако все же лучше было бы воздержаться от подобного утверждения, которое, как и ему противоположное, не то чтобы имеет мало смысла, но получает свой смысл только в толковании. Перефразируя Ницше, можно сказать, что нет никаких кантовских вещей в себе, есть только их интерпретации. Повторим еще раз: бессмысленно обсуждать, оставаясь на почве опыта, что такое вещь в себе. С точки зрения опыта, можно обсуждать только различие вещи в себе и явления как установление границ опыта или же обсуждать вопрос, какой опыт «зашифрован» в этом различии (вероятно, опыт принципиальной частичности восприятия). «Саму» же вещь в себе можно только интерпретировать, превращая ее из различаемого «элемента» кантовского различия в некую неуловимую или даже весьма уловимую (например, шопенгауэровская «воля») субстанцию. Различения вне опыта тем и отличаются от различений опыта, что в них сравнительно легко оторвать различаемое от самого различения. Ибо в этих различениях различают абстракции. Напротив, различения опыта, как правило, продуктивны для дальнейшего опыта, и это означает, что они ведут к новым различениям.
Конечно, мы можем сравнивать «заключенные в скобки предметы» и «вещи в себе», но только учитывая их «происхождение», т. е. различие, которое их вводит. Тогда мы, по крайней мере, не теряем связи с опытом. В противном случае мы имеем дело только с интерпретацией. Например, заключенные в скобки предметы мира в некотором смысле даже противоположны вещам в себе. О последних мы знаем только, что они существуют, и больше ничего, о первых мы можем знать все что угодно и сколько угодно, но мы как бы «не знаем», что они существуют. Слова «в некотором смысле» выдают здесь интерпретацию, которая может быть оценена критически, вместо нее может быть дана другая – с этим мы не спорим (хотя это вполне приемлемая интерпретация, ибо согласуется с «определениями», которые можно разыскать в интерпретируемых текстах).
Различие между аналитикой опыта и интерпретацией можно выразить и так: в первом случае мы различаем различия, во втором – сравниваем «субстанции»: вещи, смыслы, интуиции, точки зрения, утверждения и т. п. Следует также упомянуть о том, что вопрос о редукции обсуждается нами в основном в плане интерпретации методологии Гуссерля.
Сравнивая различия, вводимые Кантом и Гуссерлем, можно увидеть сходное именно в различии: граница между опытом и не-опытом характеризуется как безразличие, причем как искусственно достигаемое безразличие, что само по себе требует описания специфических процедур. Проводя границу между опытом и не-опытом, мы должны стать, по этой логике, безучастными к тому, что остается «за границей», за своего рода «железным занавесом». Различие характеризуется, таким образом, через безразличие, дифференция – через индифферентность. Именно это и обнаруживает внеопытное происхождение этих различий, устанавливающих непроходимую границу между опытом и не-опытом. Граница между ними, однако, вовсе не абсолютна; вопрос ведь не только о том, где «разум» вышел за пределы опыта и какие вопросы не следует задавать, чтобы не перейти эти пределы; вопрос о постоянном взаимном переходе опыта и не-опыта, вопрос о том, что опыт нуждается для своего закрепления в средствах, которые уже опыту не принадлежат, вопрос о том, каким образом опыт становится не-опытом и каким образом то, что вне опыта, влияет на опыт. Вопросы эти сформулированы, правда, абстрактно, однако их конкретизация возможна на пути различения различий – различий опыта и различий вне опыта.
3. Чистое Я и переживание
После вопроса о редукции ни один вопрос не является более важным в плане сравнения различных стилей гуссерлевских исследований, как вопрос о «чистом Я». Здесь мы, по всей видимости, сталкиваемся с той «ошибкой», которую Гуссерль сознательно оставил во втором издании ЛИ. И во втором издании ЛИ, и в Идеях I Гуссерль указывает на изменение своей позиции.
Ситуация с «чистым Я» оказывается гораздо более сложной, чем с редукцией, ибо здесь необходимо принимать в расчет различие между аналитикой опыта и методологической составляющей в самих гуссерлевских рассуждениях. Двойственность этих рассуждений требует эксплицитного проведения этого различия и обусловливает два измерения в исследовании соответствующих гуссерлевских текстов – интерпретативное и аналитическое. Последнее «по своему смыслу» уже выходит за рамки изучения каких бы то ни было текстов.
В сфере интерпретации достаточно оправданными были бы следующие рассуждения: введение редукции вовсе не означало, строго говоря, изменения позиции. Это был переход, повторим еще раз, к другому стилю работы, это был своего рода скачок, резкий поворот к системосозидающему творчеству. Как это ни парадоксально, в случае с «чистым Я», когда автор ЛИ и Идей I неоднократно говорит об изменении своей позиции, мы имеем дело все же с аналогичной ситуацией. Здесь нет смены позиций, здесь имеет место размежевание уровней и сфер исследования. «Чистое Я» вводится как методологический принцип, его и следовало бы назвать «методологическим Я», «чистое Я» не есть переживание или его часть, чистое Я «в себе и для себя не поддается описанию»[332], оно неподвластно редукции (ибо оно и не переживается, и не является предметом), чистое Я – это «трансцендентное в имманентном»[333]. Позитивно «чистое Я» характеризуется как «взгляд», как «луч взгляда», оно внутри любой «направленности», любой позиции, любого претерпевания, страдания и т. д.
Не кто иной, как Гуссерль, подтверждает то, что мы имеем дело с другим типом анализа. В специальном добавлении к § 8 V Исследования он пишет: «Следует особо подчеркнуть, что высказанная здесь позиция по вопросу о чистом Я (которой, как уже сказано, я более не придерживаюсь) не имеет значения для исследований, содержащихся в этом томе. Как ни важен этот вопрос вообще, а также чисто феноменологически, все же наиболее широкие проблемные сферы феноменологии, которые в той или иной степени общности касаются реального (reell) содержания интенциональных переживаний и их сущностного отношения к интенциональным объектам, могут подвергаться систематическому анализу без постановки вопроса о Я. Исключительно такими сферами ограничиваются данные исследования. Принимая во внимание обсуждение приведенных выше высказываний в такой значительной работе, как недавно появившийся 1-й том вторично переработанного «Введения в психологию» П. Наторпа, я их просто не вычеркнул»[334].
Таким образом, «отсутствие» чистого Я и его присутствие вовсе не противоречат друг другу. Одно – для одного, другое – для другого. Однако это «другое» – принцип исследования, но вовсе не предмет исследования. То, что чистое Я вводится Гуссерлем «чисто» в методологических целях, становится очевидным во второй книге Идей (Идеи II), где чистое Я выполняет роль, так сказать, опоры при переходе от конституирования материального тела к телесности, а затем к психологическому и духовному[335]. Однако во втором издании ЛИ Гуссерль пытается ввести этот принцип для обоснования уже ранее добытой очевидности. Так же как и в случае с редукцией, мы имеем здесь дело с введением принципа post festum, причем в данном случае этот принцип не обосновывает, но скорее разрушает определенную серию дескрипций. Речь идет о § 6 V Исследования, где Гуссерль выбирает в качестве исходной очевидности cogito, ergo sum. В сфере этой очевидности, которая, как утверждает Гуссерль вслед за Декартом, вне всяких сомнений, «Я» «не может быть эмпирическим». В первом издании стояло: «не может быть полностью эмпирическим». Удаление слова «полностью» полностью разрушает дальнейшие дескрипции, чего Гуссерль не заметил или же, как говорится, не хотел замечать. Уже в следующем предложении Гуссерль говорит, что очевидность «я есмь» зависит от определенного, не очерченного в строгих понятиях эмпирического представления о «Я». Если «Я» вообще не может быть эмпирическим, о каких эмпирических представлениях о «Я» может идти речь? Все дальнейшие дескрипции как раз и построены на том, что существует «невыразимое ядро» – и не только в очевидности я есмь, но во всех суждениях типа: я воспринимаю то-то и то-то, я радуюсь, я воображаю нечто и т. д. «Например, эта радость, которая меня наполняет, эти образы фантазии, витающие передо мной в данную минуту и т. п. Все эти суждения разделяют участь суждения я есмь; они не схватываются и не выражаются целиком понятийно и очевидны только в своих живых интенциях, которые подобающим образом не могут быть выражены в словах», – пишет Гуссерль[336]. Таким образом, речь идет об эмпирическом «Я» в его неопределенности и о существовании некоторого «ядра» очевидности. Эти описания Гуссерля весьма точно фиксируют неточность, неопределенность очевидности в упомянутых случаях[337]. Эти описания совершенно не требуют какого-либо чистого Я и не сочетаются с утверждением Гуссерля, что Я в этих дескриптивных состояниях (так это было бы лучше обозначить) не может быть эмпирическим. С другой стороны, конечно, «не полностью эмпирическое Я» (в первом издании) требует все же разъяснений. Предполагается ли здесь, что какая-то часть этого «Я» является эмпирической, а другая нет, или же имеется в виду возможность «эмпирического Я» становиться в определенный момент (времени?) неэмпирическим, или же подразумевается переход от «эмпирического Я» к неэмпирическому?
Чтобы решить, о каком же «Я» идет здесь речь – об эмпирическом, не вполне эмпирическом или же вообще не об эмпирическом, следует обратиться к тому, каким образом и в каких сопоставлениях и противопоставлениях Гуссерль вводит термин «эмпирический» в связи с «Я». «Первое понятие сознания» (§ 1 V Исследования) Гуссерль определяет во втором издании следующим образом: «Сознание как совокупный реальный (reell) феноменологический состав [эмпирического Я, как переплетение психических переживаний в единстве потока переживаний]»[338], изменяя «духовное Я» (в первом издании) на «эмпирическое Я».
Это не означает, что Гуссерль вводит термин «эмпирическое Я» только во втором издании. Он широко пользуется им в 1-й главе V Исследования и в первом издании. Иногда, впрочем, Гуссерль обходится при определении первого понятия сознания как без «эмпирического», так и без «духовного». Таково определение в заголовке § 2 (первое издание): «Сознание как феноменологическое единство переживаний, [составляющих] Я (Icherlebnisse)». Термин «эмпирическое Я» используется Гуссерлем прежде всего для сопоставления обычного, «естественного» понимания «Я», или, как выражается Гуссерль, «Я в смысле обыденной речи» с вещью, обладающей свойствами и признаками. Такое сопоставление выглядит странным: «Я в смысле обыденной речи есть эмпирический предмет – собственное Я, так же как чужое, и всякое Я, точно так же как любая физическая вещь, как дом или дерево и т. п.»[339]. Странным это кажется лишь потому, что обычно, когда речь идет о «Я», т. е. когда в размышлении или беседе делается акцент на «Я», то тогда как раз отстраняются от «смысла обыденной речи». При этом могут иметь в виду личность – свою или других, трансцендентальную инстанцию и т. д. Гуссерль же имеет в виду не рассуждения о «Я», но речь типа «ну, я пошел», «я думаю, что», «мне приятно», «мне больно» и т. д. Если посмотреть на такие «Я» со стороны, как мы смотрим на дом или дерево, то все эти «Я» представляются нам как переплетение «свойств», образующих некоторое единство, т. е. единство переживаний и ощущений. «Я пошел» или «я ухожу» как раз и будет в основе своей Ichleib (если, конечно, имеется в виду стандартная ситуация сообщения, что выходишь, например, из дома), т. е. «Я» как тело, или «Я» как плоть. Это «я пошел» состоит из множества кинестетических ощущений, пространственных и темпоральных ориентаций. Вот эту совокупность всех переживаний и ощущений Гуссерль приравнивает к совокупности всех свойств и признаков какой-нибудь вещи. Именно поэтому он и заменяет «духовное» «эмпирическим» – прежде всего для того, чтобы согласовать терминологию. Было бы уж слишком смелым сказать, что наше «духовное Я» – это вещеобразный предмет. «Духовное Я» не исчезает, но остается именно там, где во втором издании речь идет о психологическом субъекте, о феноменологическом Я.
Сопоставление эмпирического Я с вещью служит для Гуссерля исходным пунктом для первых различий первой «редукции»: «Если мы отделяем Я как одушевленное тело (Ichleib) от эмпирического Я, если мы затем ограничиваем чисто психическое Я его феноменологическим содержанием, тогда оно редуцируется к единству сознания, следовательно, к реальному (real) комплексу переживаний, определенную часть которого мы (т. е. каждый для своего Я) с очевидностью обнаруживаем как присутствующую в нас, а остальную часть обоснованно предполагаем. Феноменологически редуцированное Я не есть, таким образом, нечто особенное, парящее над многообразными содержаниями, оно просто тождественно своему собственному единству связей. В природе содержаний и законах, которым они подчиняются, заложены определенные формы связей. Они протекают многообразными способами от содержания к содержанию, от комплекса содержаний к другому комплексу, и в конце концов конституируется единое совокупное содержание, которое есть не что иное, как само редуцированное феноменологическое Я. Этим содержаниям, как и содержаниям вообще, присущи свои закономерно определенные способы сближения друг с другом, сплавления в более обширные единства, и, таким образом, их единством и тождественностью уже конституировано феноменологическое Я, или единство сознания, без того чтобы требовался помимо этого некий особый Я-принцип, который служил бы опорой всем содержаниям, еще раз их всех объединяя. И в том и в другом случае действие такого принципа было бы непонятным»[340].
Если «Я» «просто тождественно своему собственному единству связей», то возникает вопрос, зачем вообще тогда это словечко «Я»? Гуссерлевская аналитика опыта принимает, как бы сказал Гуссерль, Я-язык (Ichsprache), что способствует превращению аналитики в интерпретацию. Сказав «эмпирическое Я», трудно затем не сказать на этом языке «чистое Я». Так, собственно, и происходит; Гуссерль противопоставляет эмпирическое и неэмпирическое в сфере сознания как «эмпирическое» и «чистое Я». Между тем «Я» во всех определениях и описаниях первого понятия сознания с успехом может быть заменено притяжательными местоимениями: сознание как феноменологическое единство своих собственных переживаний – моих, твоих и т. д. Так, во всяком случае, точнее, ибо «чужое Я» может быть «его Я» или «ее Я», а может быть и «твоим Я», и тогда не будет таким уж чужим. Если же единство переживаний – как свое, так и чужое – называть «Я», разделяя «всякие Я» на свое и чужие «Я», тогда такого рода язык – язык интерпретации – подталкивает к выделению особого центра сознания и дальнейшей его субстантивации или же «трансцендентализации». Интерпретация вытесняет опыт, и вместо описания различных «сцеплений переживаний» – это все же язык, который приближает нас к опыту, – мы получаем новую «субстанцию» – «Я», требующую истолкования.
Таким образом, те рассуждения, которые мы проводим в рамках интерпретации, так или иначе связаны с интерпретативным аспектом гуссерлевских исследований, иначе говоря, с теми моментами, когда аналитика опыта переходит в интерпретацию. Между ними нет непроходимой границы, всегда возможен взаимный переход, однако феноменология ориентирована на фиксацию этих различий (что опять-таки приближает нас к опыту), по крайней мере, принципиально: от «теорий» к «самим вещам», тогда как «постсовременность» тяготеет именно к самому этому переходу, произвольно или непроизвольно (в данном случае это одно и то же) комбинируя аналитику и интерпретацию. «Постсовременные» тексты, и прежде всего Делеза и Деррида, построены как раз на искусном чередовании опыта и интерпретации. Аналитика как бы соскальзывает в интерпретацию, а интерпретация намекает на некоторый опыт. Эта игра может доставлять эстетическое удовольствие, но, увы, она идет не на равных; опыт и аналитика опыта всегда терпят ущерб: опыт заменяется знаком опыта, мысль – обсуждением мысли, аналитика – игрой ассоциаций. Критика всякого рода субстантиваций в феноменологии со стороны философов постмодерна (да простят мне такую субстантивацию) не учитывает того, что свои объекты эта критика выбирает из методологической, интерпретативной составляющей гуссерлевского мышления. Можно сколько угодно критиковать гуссерлевское «присутствие субъекта», «одинокую душевную жизнь», «чистое Я» и т. д. – и нужно это делать, – только это еще не затрагивает другого, аналитико-эмпирического измерения гуссерлевской мысли.
Если «наивность» (в феноменологическом смысле) Гуссерля состоит в его убеждении, что он всегда описывает опыт, тогда как зачастую дескрипция переходит в истолкование самим же Гуссерлем введенных терминов, то «наивность» Деррида при всех попытках быть абсолютно ненаивным – что само по себе противоречиво, ибо любой абсолют вызывает подозрение в наивности – состоит в стремлении любой опыт истолковать как коммуникативную языковую игру. В принципе, любой релятивизм наивен именно потому, что сама «релятивность», или относительность, возводится в абсолют.
Примером интерпретации своего же собственного текста является гуссерлевская попытка во втором издании (в добавленной сноске) обосновать очевидность «я есмь» с помощью чистого Я: «В изложении, которое взято из первого издания без существенных изменений, не уделяется должного внимания тому, что эмпирическое Я – это трансценденция того же ранга, что и физическая вещь. Если исключение этой трансценденции и редукция к чисто феноменологически данному не удерживает никакого чистого Я в качестве своего «остатка», то никакой действительной (адекватной) очевидности «Я есмь» дано быть не может. Но если эта очевидность действительно адекватна, – а кто станет это отрицать? – то как мы можем миновать допущения (Annahme) чистого Я? Это именно Я, схваченное в осуществлении очевидности cogito, и чистое осуществление схватывает его ео ipso феноменологически «чисто» и с необходимостью в качестве субъекта «чистого» переживания типа cogito»[341].
Эта сноска достойна внимательного интерпретативного чтения: сначала утверждается, что без чистого Я как «остатка» (после редукции) не может быть очевидности Я есмь. Затем констатируется, что адекватность этой очевидности отрицать невозможно. И вывод: мы не можем обойтись без допущения чистого Я. Здесь явно происходит замена дескрипции формально-логическим рассуждением типа: ((не-А > не-В) & В) > А. Смущает прежде всего в этом рассуждении то, что вначале утверждается, что чистое Я – это необходимое условие Я есмь, причем утверждается это без какой-либо аргументации, затем утверждается адекватность очевидности я есмь, причем Гуссерль как бы апеллирует ко всем и каждому: «а кто может это отрицать?» Последнее как раз ставит под сомнение sine qua non чистого Я: если для всех это и так очевидно (отвлекаясь от вопроса, действительно ли дело обстоит таким образом), то тогда к чему вообще чистое Я как основание этой очевидности? Очевидность «эта радость», «эта фантазия» и т. д. не станет очевиднее, если допустить «существование» чистого Я, а ведь в качестве вывода как раз и утверждается неизбежность его допущения. Гуссерль, правда, выбирает более мягкий оборот: «мы не можем миновать это допущение». Однако речь все же идет о неизбежности или необходимости. Странным выглядит само это словосочетание: бывает необходимость вывода, но не бывает необходимости допущений или гипотез. Гипотезы необходимы, но принятие той или иной гипотезы, в отличие от ее проверки, никогда не является необходимостью.
Во всяком случае, вывод проясняет: чистое Я – это допущение. Вопрос в том, может ли вообще какое-либо допущение лежать в основе очевидности? Очевидность – это как раз то, что не нуждается в каких-либо допущениях. Если Я есмь очевидно, то это не означает необходимости допускать чистое Я. Во всяком случае, в первом издании этого не требовалось, не требуется этого и в реальном опыте – и не только в суждении я есмь, которое все же является особым опытом, но и в «суждениях» я радуюсь и т. п. Переходя к аналитике опыта, мы должны ставить другие вопросы и обращать внимание на другие вещи в гуссерлевских дескрипциях, и в частности, не на интервенцию чистого Я в область эмпирического, но напротив, на вторжение дескрипции в «область» чистого Я, которое, как мы видели, «в себе и для себя описать невозможно». Такая постановка вопроса еще принадлежит интерпретации, но может послужить исходным пунктом аналитики. При этом вопросы аналитики касаются уже не «природы» чистого Я и даже не его функций, но определенного «движения» в самом описании опыта, определенной трансформации границ опыта, а точнее – выявления новых границ опыта с помощью чистого Я. На старом добром полусубстанциалистском-полутрансценденталистском языке это называлось бы «событием мысли» или как-нибудь еще более возвышенно. Аналитика использует более скромный язык – язык различений и ставит вопрос о том, вводит ли термин чистое Я какое-либо различение, кроме терминологического. Иначе говоря, вопросы аналитики не о том, что такое чистое Я, и не о том, перешел ли Гуссерль на позиции Наторпа, но вопросы: какое различие вводится при помощи чистого Я, какие различия опыта, какие новые границы опыта обозначаются у Гуссерля различием эмпирического и чистого Я? Тогда можно было бы поставить вопрос, насколько удачен или неудачен этот термин.
В этой связи следовало бы прежде всего обратить внимание на то, каким образом вводит Гуссерль «чистое Я» в Идеях I. Это делается как бы мимоходом и в кавычках. В § 33 Гуссерль говорит о новом регионе бытия, о том, что же остается после эпохе в качестве «феноменологического остатка». Гуссерль стремится показать, что благодаря эпохе мы не только ничего не теряем, что, напротив, мы приобретаем новый регион бытия. Бытие, которое мы открываем, есть «не что иное, – пишет Гуссерль, – как «чистые переживания», «чистое сознание» с его «коррелятами сознания», а с другой стороны, с его «чистым Я»…»[342] Все перечисленное Гуссерль предлагает изучать исходя из Я, из сознания, из переживания – как они даны нам в естественной установке. Сам этот ход является естественным, ибо, не будь его, феноменология превратилась бы в «метафизическое конструирование», и этот ход мысли указывает на то, что гуссерлевское чистое Я далеко не кантовская «чистая апперцепция». Скорее «направленность на» чистого Я в cogito» – так озаглавил Гуссерль § 37 Идей I – говорит о близости чистого Я с «родовой сущностью интенции» в ЛИ. Иными словами, это вовсе не функция, связывающая представления, т. е. одно представление с другим представлением для образования понятия о предмете. Чистое Я – это скорее характеристика каждого представления, а также суждения, оценки, сомнения и других модусов сознания как «Я-взгляда», который «в зависимости от акта, в восприятии – воспринимающий, в фантазии – фантазирующий, в удовольствии – испытывающий удовольствие, в волении – волящий, и т. д.»[343]. Изменяясь от акта к акту, чистое Я никак не может быть чистым Я Критики чистого разума, оно даже не может быть «чистым» в смысле независимости от какой бы то ни было предметности. Насколько удачным является термин чистое Я у Канта, настолько неудачным является он у Гуссерля. Этот термин препятствует по существу пониманию подлинных открытий Гуссерля и способствует только умножению интерпретаций. Для дескрипции акта этот термин просто излишен. Сказать, что воспринимающий или волящий акт направлен – каждый своим особым образом – на объект, и сказать, что в каждом из этих актов «чистое Я» есть каждый раз особый взгляд на предметность, – это означает сказать одно и то же.
Гуссерль пытается говорить одновременно декартовским («cogito») и кантовским («я мыслю») языком, хотя и делает в одном месте оговорку: «на кантовском языке (не станем решать, в его ли смысле)»[344]. Действительно, «я мыслю» «сопровождает» наши представления по-гуссерлевски совсем не так, как по-кантовски. Гуссерлевское «Я» изменяется от переживания к переживанию, оставаясь при этом неуловимым. Любопытный текст, который как нельзя лучше иллюстрирует эту ситуацию, находится в § 34 Идей I. «Само Я, к которому они (переживания. – В. М.) все отнесены, или которое «в» них «живет», действуя, страдая, [в которых оно] спонтанно, рецептивно и «ведет себя» каким-либо образом, мы оставляем без внимания, и причем Я в любом смысле. В дальнейшем мы займемся этим основательно»[345]. Это своего рода ирония: сказав достаточно много о «Я», о том, что «Я» может действовать в действии, претерпевать воздействие, быть спонтанным и т. д., Гуссерль вдруг утверждает, что ничего вообще о «Я» не говорил. На деле же мы имеем дело не с иронией, а с различием между интерпретацией и аналитикой: то, что до сих пор говорилось о «Я», – это только указание на некоторый неопределенный смысл этого термина в связи с различного рода переживаниями. Однако до сих пор не было проведено ни одного различия в сфере опыта, которое как-то оправдывало бы введение чистого Я. «Заняться основательно» как раз и означает провести такие различия.
Мы возвращаемся здесь к уже упомянутому различию переднего и заднего планов, или переднего плана и фона. В § 35 Идей I это различие вводится Гуссерлем (в ряду других различий) в качестве примера возможной модификации переживания как акта в «неактуальность». Иначе говоря, акт переходит, модифицируется в не-акт. Этому различию предшествует различие между объективными свойствами вещей (в гуссерлевском примере – это белая бумага) и cogitatio, т. е. конкретным переживанием сознания[346]. Отделив cogitatio от вещи, Гуссерль различает теперь в самом cogitatio передний план и фон. Основной тезис Гуссерля в границах этого различия (на языке интерпретации мы должны были бы сказать «в данной связи» или «в данном контексте» ит. п.): «Схватывание – это выхватывание, любое воспринятое имеет в опыте задний план»[347]. Второе утверждение бесспорно, к тому же оно подтверждается простыми описаниями. «Вокруг бумаги лежат книги, карандаши, чернильница и т. д.»[348] Первое утверждение о «выхватывании» не имеет такой универсальности, как второе. Сомнительность всего тезиса в целом состоит в том, что эти утверждения даны через запятую, как будто бы «восприятие – это выхватывание предмета из других предметов, которые образуют его фон. Однако это не так, как бы это ни казалось верным. Дело в том, что выхватить предмет из фона, т. е. вообще лишить его заднего плана, невозможно, о чем как раз говорит второе утверждение. Это не слишком удовлетворительное описание, ибо «выхватывание» предмета характеризует не восприятие вообще, но определенные действия, связанные с восприятием, скажем поиски предмета, например, поиски чернильницы среди бумаг, книг и т. п. В этом случае бумаги и книги как раз не являются фоном чернильницы; это предметы, фоном которых может быть чернильница. Если мы говорим, что «выхватываем» (взглядом) чернильницу из книг и бумаг, то это не означает, что мы выхватываем ее из предметов, образующих фон. Скорее мы выхватываем предмет из «потока» различений (мест, форм, цветов) и проводим различие между комплексом различенного и его фоном, причем фоном не только предметным (т. е. теми предметами, которые «окружают» «выхваченное»), но и непредметным фоном потенциальных различений поля зрения, если речь идет о визуальном восприятии. Однако в этом описании мы уже не нуждаемся в слове «выхватить», так же как и в слове «схватить», с помощью которого Гуссерль практически всегда характеризует акты сознания. «Выхватить» из различений означает приостановить различение, определив тем самым границы различенного, т. е. границы предмета. Метафора «выхватить» ориентирует на то, что взгляд как бы жонглирует предметами, подхватывая один и отбрасывая другой. Однако это не так. Взгляд всегда делит пространство, отделяет один цвет от другого, одну форму от другой, так же как в сфере эмоций и чувств «взгляд» не «выхватывает» (эмоциональное) состояние, но выделяет, отграничивает его от других состояний, осуществляя переход от одного состояния к другому.
Характеризуя задний план опыта, Гуссерль говорит об ореоле, или гало, любого восприятия вещи. Речь идет не об ореоле вещи, но об ореоле сознания, причем сознание обладает сущностной возможностью модифицировать первоначальное восприятие, возможностью «свободного поворота взгляда», и именно «духовного взгляда». Переведем это на другой язык: каждое восприятие имеет определенные границы, причем несколько различных границ поля восприятия. К сущности этих границ принадлежит возможная модификация взгляда, т. е. переход через границу. Речь идет при этом о переходе от одного восприятия к другому, о пересечении границ различных видов опыта.
Интуитивистский язык Гуссерля (восприятие как некая сила, ореол, обрамляющий усмотрение как некую целостность и т. д.) не выдерживает «натиска» его мышления. Вдруг, как говорится, откуда ни возьмись, является «свободный духовный взгляд», сущность которого состоит не в обращенности к объекту, но в перемене направленности. Этот переход, никак не определяемый ни предметностью, ни восприятием-интуицией, и есть, собственно, чистое Я в гуссерлевской аналитике.
Различие переднего плана и фона – одно из самых фундаментальных различий человеческого опыта, ибо любое различие характеризуется через это различие. Анализ этого различия обнаруживает возможность перехода от одного опыта (предмет и фон) к другому (другой предмет и другой фон), говоря точнее и в более общем плане, переход от одной иерархии различий к другой. Сам этот переход, или трансформация иерархий, есть некоторая «способность» (сама по себе почти неуловимая) нашего сознания. Гуссерль зафиксировал эту способность, назвав ее – весьма неудачно – чистым Я. В описании различия переднего плана и фона мы имеем дело не с интерпретацией (не все в мире поддается интерпретации), но с гуссерлевской аналитикой опыта, которая делает возможным дальнейший анализ.
Тему перехода от одного уровня конституирования к другому Гуссерль развивает, как мы уже упоминали, в Идеях II. В целом в Идеях II чистому Я уделяется гораздо больше внимания, чем в Идеях I. И хотя язык, на котором ведется экспликация, субстанциалистский (например, «существует столько же чистых Я, сколько реальных Я» и т. п.), однако повсюду, где речь идет о чистом Я, речь идет о границе и переходе. Даже тождественность, или Habitus, чистого Я описывается Гуссерлем как принятие определенных тем – опыта, суждения, радости, воления, т. е. как отграничение одной темы от другой. Habitus, или «устойчивые мнения», т. е. акты, в которых нечто имеется в виду, есть не что иное, как иерархия тематизации, иерархия опыта в широком смысле.
Прежде чем вернуться к ЛИ, отметим еще два важных различия, которые проводит Гуссерль в § 35 Идей I, – между актуальным и потенциальным сознанием и между бодрствующим и смутным «Я». Гуссерль не проводит здесь четкого различия между этими различиями, а также между ними и различием переднего и заднего планов. Не рассматривая здесь эти несовпадения подробнее, мы лишь отметим соответствие между двумя последними различиями, которые проводит Гуссерль в § 25 Идей II: полностью смутное сознание характеризуется отсутствием различия «между действительным полем зрения» (aktuelles Blickfeld) и смутным фоном»[349]. Соответственно, бодрствующее сознание предполагает различие между передним планом и фоном. Таким образом, «бодрствующее Я», или «бодрствующее сознание», что скорее метафора-интерпретация, чем описание, получает у Гуссерля достаточно четкое основание в аналитике различий.
Возвращаясь к ЛИ, причем к первому изданию, попробуем задать не интерпретативные, но аналитико-эмпирические вопросы. Нас интересует не что такое чистое Я, существование которого в первом издании к тому же отрицается, но определенные дескрипции опыта, определенные «ситуации» опыта, которые можно было бы обозначить чистым Я.
Гуссерль не очень заботится о систематичности изложения. Выделяя два контекста, в которых употребляется термин «сознание»: 1) отделение сферы психологии от сферы естественных наук и 2) определение сущности психического акта, он указывает, что для одной цели пригодно одно понятие сознания, для другой – другое. Однако он выделяет не два, а три понятия. Кроме рассмотренного нами первого понятия выделяются еще два: «сознание как внутреннее обнаружение (Gewahrwerden) собственных психический переживаний» и «сознание как общее обозначение любых «психических актов», или «интенциональных переживаний»«.
Даже в интерпретативном измерении было бы необоснованным полагать, что какое-то из этих понятий верное, а какое-то неверное. Задача, которую ставит перед собой Гуссерль, состоит в том, чтобы все эти понятия подвергнуть, так сказать, феноменологической обработке. Заимствуя эти определения из современной ему психологии и прежде всего у Брентано, Гуссерль дескриптивно видоизменяет их, подчиняя одной цели – описать сущность психического акта, или интенционального переживания. Поэтому и кажется, что только третье понятие является сугубо феноменологическим. Однако уже при экспликации первого понятия речь идет о различии переживания в феноменологическом и обыденном смыслах, а при экспликации второго – об очевидности, где, собственно, и вводится эта тема.
В аналитическом измерении, различая эти понятия и принимая в расчет проблему чистого Я, нас должно интересовать в первую очередь второе понятие – сознание как внутреннее обнаружение (или осознание) собственных переживаний. Первое понятие сознания выделяется Гуссерлем для разграничения феноменов, принадлежащих психологии, и феноменов, принадлежащих физическим наукам. В вышеприведенном примере цвет как ощущение – это предмет психологии, цвет как свойство предмета – предмет объективной науки. Третье понятие уже по своему названию служит второй из выделенных задач – прояснить сущность психического акта. Однако зачем вводит Гуссерль второе понятие сознания и для чего он выводит первое понятие сознания из второго?
Мы возвращаемся здесь к § 6 V Исследования, который мы рассматривали до этого в плане интерпретации. В § 5 Гуссерль рассматривает второе понятие сознания, которое определяется в заглавии несколько иначе, чем в § 1: «внутреннее сознание как внутреннее восприятие». Оба термина, несомненно, взяты у Брентано, однако, в отличие от Брентано, Гуссерль проводит важное различие между внутренним и адекватным восприятиями. Разумеется, адекватным восприятием может быть только внутреннее, но не каждое внутреннее восприятие адекватное: «было бы лучше провести терминологическое различие между внутренним восприятием (как восприятием собственных переживаний) и адекватным (очевидным восприятием)»[350]. Тем самым Гуссерль разграничивает первое и второе понятия сознания и подвергает критике концепцию Брентано, которая, по его мнению, способствует их смешению.
Что же заставляет Гуссерля вновь соединять эти два понятия, выводя первое из второго, т. е. из того, которое он выделил по существу из первого? Почему второе понятие сознания оказывается «изначальнее», чем первое?
Какая-либо интерпретация, которая постаралась бы свести концы с концами, вряд ли здесь возможна. Тем более что само «происхождение первого понятия из второго» вообще не поддается интерпретации, поскольку это не «сопоставление понятий», но описание определенных структур опыта. Суть этого «происхождения», или выведения, состоит в «растягивании» благодаря «ретенции» и воспоминанию первой очевидности «я есмь» или очевидностей «я радуюсь», «я воображаю» и т. д. до «феноменологического Я, которое конституирует эмпирическое Я», или, говоря проще, до переплетения переживаний, которое называется «эмпирическим Я».
Выведению первого понятия из второго предшествует, как мы видели выше, констатация очевидностей «эта радость переполняет меня», «эти образы фантазии витают передо мной» и т. д. Это очевидности внутреннего и адекватного восприятия. Отказываясь от брентановского различия первичной и вторичной направленности акта, Гуссерль не находит в первом издании ЛИ никаких средств, чтобы выразить различие между радостью или фантазией (как актами сознания) и очевидностью, что мы радуемся, а не печалимся, фантазируем, а не, скажем, экспериментируем. Как бы там ни было, очевидность, что мы переживаем радость, не есть радость, а очевидность, что мы фантазируем, не есть фантазия.
По Брентано, каждый акт нашего сознания сопровождается внутренним восприятием, которое является источником очевидности. Так, акт радости сопровождается, по Брентано, актом внутреннего восприятия радости, однако то, что внутреннее восприятие радости не есть сама радость, Брентано не фиксирует.
Внутреннее восприятие у Брентано – это тоже своего рода интуиция-схватывание, как и внешнее. Аналитика опыта переходит у Брентано в интерпретацию, когда реальный опыт очевидности, отделяющий представление от представления, суждение от суждения, одно эмоциональное состояние от другого, все же интерпретируется как своего рода захват одного акта другим. В опыте дана граница, отделяющая, например, радость от безразличия и т. п., но в опыте не может быть выделен какой-либо вторичный акт, схватывающий первичный опыт. В этом смысле критика Гуссерля справедлива, однако это критика Брентано лишь в интерпретативном аспекте. Иначе говоря, Гуссерль совершенно прав в том, что «мы должны отстраниться от теорий такого типа, пока феноменологически (в первом издании – «эмпирически». – В. М.) не доказана необходимость допустить непрерывное действие внутреннего восприятия»[351]. Однако, с другой стороны, Гуссерль упускает из виду тот опыт, который зафиксировал, пусть неадекватно, Брентано, и указывает на этот опыт в первом издании ЛИ лишь косвенно: с помощью второго понятия сознания – как внутреннего (и адекватного) восприятия – Гуссерль вводит характеристику сознания, которой недостает первому понятию, а именно прерывность, переход, дисконтинуальность. «Связке», или «переплетению», психических переживаний недостает, так сказать, опорных точек, точек нового начала (первичная импрессия), точек перехода, границ, отделяющих одно переживание от другого. Переплетение переживаний – как сознание – было бы хаотичным, если бы внутреннее восприятие не отделяло один тип переживаний от другого, один уровень в подвижной иерархии переживаний от других. В этом смысле можно считать второе понятие сознания «более первичным», предшествующим первому понятию[352], – границы как диспозиции предшествуют конкретному «переплетению» переживаний.
В Идеях I, II, соответственно, во втором издании ЛИ Гуссерль прямо-таки штурмует эту проблему. Речь постоянно идет, как мы видели, не только об «объективном» переходе, не только о переводе «духовного взгляда» с предмета на предмет, но и о «субъективном» переходе, о границе между «духовным взглядом» «я воспринимаю» и «духовным взглядом» «я сужу», «я желаю» и т. д. Речь идет, таким образом, о «субъективном в субъекте», не об акте сознания как предметно отнесенном, но о возможности перехода от акта к акту. В § 80 Идей I Гуссерль непосредственно указывает на этот опыт. И хотя в соответствии со своими методологическими установками Гуссерль хочет представить чистое Я как нечто «сверхчеловеческое», ход дескрипций говорит сам за себя: речь идет все время о различии актов сознания, каждый из которых обладает своим собственным «чистым» субъектом акта» (Гуссерль берет в кавычки слово «чистый»). Гуссерль различает «само переживание и чистое Я акта переживания» (Erleben), или «чисто субъективное в модусе переживания и остальное, так сказать, оторванное от Я (ich-abgewandte) содержание переживания»[353]. При этом, как мы уже упоминали в интерпретативном рассуждении, само по себе чистое Я не есть какой-либо объект, не есть нечто, что может быть описано, и вообще не есть Нечто. Гуссерль называет его «субъективно ориентированной стороной переживания», т. е. субъективной и непредметной стороной субъективного, в отличие от объективно ориентированной стороны субъективного, т. е. переживания. Эта субъективная сторона переживания, которая вовсе не является какой-то «стороной», ибо это не аспект и не часть переживания (язык здесь неадекватен опыту), выполняет функцию, отделяющую одно переживание от другого, если, конечно, принять язык «переживаний» и «переплетения переживаний».
Разница в результатах, к которым приходит дескрипция опыта у Гуссерля и гуссерлевская интерпретация «понятия» чистого Я вовсе не есть «судьба» этого различия вообще. Результаты аналитики и интерпретации могут, в принципе, совпадать. В данном случае различие в результатах зависит от неоднородности в гуссерлевских рассуждениях. В интерпретативном измерении на первый план выходит чистое Я как центр, к которому направлены переживания. В интерпретации Г. Шпета, например, чистое Я «составляет подлинную и истинную характеристику абсолютного бытия»[354].
Аналитическое измерение гуссерлевского текста не совпадает с интерпретативным и в определенном аспекте противоречит ему. С одной стороны, заглавие § 80 Идей I «Отношение переживаний к чистому Я» подталкивает к тому, чтобы считать чистое Я чем-то внешним по отношению к каждому переживанию. Отсюда возможны по крайней мере две, причем противоположные, интерпретации: 1) сближающая Гуссерля с Кантом и неокантианством и 2) шпетовская, развивающая онтологию сознания. С другой стороны, соотнесенность чистого Я и переживаний указывает, что «существуют столько же чистых Я, сколько реальных», что чистое Я – это не центр, связывающий направляющиеся к нему переживания, но предел каждого из них. Интерпретации чистого Я, исходящие из кантовской мысли, заняты в основном проблемой единства сознания и единства предметности, а также проблемой единства сознания и предметности, феноменологические интерпретации (т. е. исходящие из различия сознания и предмета) заняты вопросами трансцендентного и имманентного, чистого сознания, ограничения эпохе и т. д.; оба этих вида интерпретаций нельзя отнести всецело к интерпретативному измерению мысли, однако они имеют лишь косвенное отношение к опыту.
В Идеях I реализован в основном интуитивистский подход, в ЛИ – аналитический. Это не означает, конечно, что в Идеях полностью отсуствует аналитика опыта, а в ЛИ нет интерпретативных рассуждений. Речь идет о преобладающей тенденции, для выделения которой нужны определенные критерии, ориентиры. Для нас таким ориентиром служит опыт как многообразие различений, «лежащих в основе» любого рода идентификаций и синтезов.
Если сама тенденция Гуссерля переработать ЛИ, учитывая концептуальные схемы Идей I, не вызывает сомнений, то сомнения возникают по другому поводу – способствовали ли эти изменения прояснению первоначального замысла феноменологии в ЛИ?
Трудно, как отмечал Гуссерль, объединять в одно целое старое и новое. Вопрос в том, необходимо ли и возможно ли это в принципе, не ведет ли это скорее к смешению различных «пластов мышления», нежели к улучшению первоначального произведения. Самым известным примером в этом отношении является Критика чистого разума Канта. Изменения, которые внес Кант во второе издание и которые он сам считал лишь улучшениями в изложении, существенно преобразовали его труд. Шопенгауэр, к примеру, полагал, что этим Кант испортил свое гениальное произведение. Следует, однако, заметить, что в другом отношении Кант был гораздо более точным, нежели Гуссерль, различая стиль и способы исследования в своих произведениях. Так, в Пролегоменах ко всякой будущей метафизике Кант пишет: «В Критике чистого разума я в этом вопросе приступил к делу синтетически, а именно занимался исследованиями в самом чистом разуме и в самом этом источнике старался определить на основе принципов и начала, и законы его чистого применения. Эта работа трудна и требует от читателя решимости постоянно вдумываться в такую систему, которая кладет в основу как данное только сам разум и старается, таким образом, не опираясь ни на какой факт, развить познание из его первоначальных зародышей. Пролегомены, напротив, должны быть предварительными упражнениям: они должны скорее указывать, что нужно сделать, чтобы осуществить, если возможно, некоторую науку, нежели излагать самое эту науку. Они должны поэтому опираться на что-то уже достоверно известное, из чего можно с уверенностью исходить и добраться до неизвестных еще источников, открытие которых не только объяснит то, что мы знали, но и покажет нам сферу многих познаний, которые все проистекают из этих же источников. Метод исследования в пролегоменах, особенно в тех, которые должны служить подготовкой к будущей метафизике, будет, таким образом, аналитическим»[355]. Обозначение исследовательского метода как «синтетического», а метода «упражнений» как «аналитического» соответствует одному из основных кантовских различий. Само это обозначение спорно, как и интерпретация различия синтетического/аналитического у Канта. Бесспорно, однако, кантовское различие стилей «Критики» и «Пролегомен», так же как бесспорно различие стилей ЛИ и Идей I, различие, которое Гуссерль интерпретировал как различие в уровне исследований и попытался устранить.
Во время одного из визитов к Гуссерлю Дильтей сказал его супруге: «Логические исследования – это введение в новую эпоху философии. Это произведение выдержит еще немало изданий; употребите все Ваше влияние, чтобы оно не было переработано, это исторический памятник, и он должен оставаться таким, каким он был создан»[356]. С одной стороны, Дильтей, конечно, прав: «средний путь», который избрал Гуссерль, оказался весьма неудачным, ибо нечто среднее между ЛИ и Идеями I вряд ли возможно. С другой стороны, его оценка ЛИ как исторического памятника верна только в рамках герменевтической традиции или же с обыденной точки зрения, когда любое дошедшее до нас значительное философское (и не только философское) произведение считается памятником мысли.
«Памятники мысли» – это, так сказать, «музейное» название; памятник напоминает нам о ком-то или о чем-то. В терминах гуссерлевского IИсследования памятник – это указание, отсылка, признак и т. п., но не непосредственное выражение значения. Зачисление философского произведения в разряд памятников означает признание, что с этим произведением утрачена живая связь опыта мышления. В случае ЛИ это не так. ЛИ – это, конечно, исходный пункт феноменологического движения, но одновременно ЛИ – это нечто большее. ЛИ не только открывают новую эпоху в философии, но до сих пор продолжают быть живым источником философской мысли.
Кроме того, в определенном смысле все изменения, произведенные авторами выдающихся философских произведений во втором и последующем изданиях, на благо. Эти исправления нередко указывают, благодаря контрасту, на тот или иной ход мысли философа, который остался бы незамеченным, если бы автор не обратил на него внимания вычеркиванием или исправлением. К примеру, не будь второго издания Критики чистого разума, не состоялась бы и хайдеггеровская интерпретация кантовской философии. Вопрос о возможности обращения к первоначальному тексту – это скорее вопрос издательской политики, которая должна учитывать первое издание. Укажем здесь на весьма полезное переиздание первого издания V Исследования[357].
IX АБСТРАГИРОВАНИЕ И ТОЖДЕСТВО
Кульминацию гуссерлевской борьбы за тождество мы находим во II Исследовании, где речь идет о принципиальном различии интенции общих и интенции индивидуальных предметов. Нет ничего парадоксального в том, чтобы прояснить тождество с помощью различий, если тождество считать в определенном смысле результатом различений, т. е. приостановкой различений, или, говоря точнее, выявлением границ определенной иерархии различений, за пределами которой «лежит» другая иерархия. Однако у Гуссерля «разъяснение» тождества через различия принимает парадоксальный характер: тождество полагается «абсолютно неопределимым» и, следовательно, первичным, но дескриптивно оно выявляется все же за счет различий.
Тема II Исследования – абстрагирование и статус абстракции. Основной вопрос, который обсуждает Гуссерль, – это несводимость вида как общего предмета к индивидуальному, или единичному, предмету или к какому-либо сочетанию индивидуальных предметов. Если в I Исследовании Гуссерль тщательно отделяет значение как таковое, во-первых, от физической стороны выражения и, во-вторых, от осуществления значения, то во II Исследовании он ставит перед собой задачу показать отличие значения видового от значения индивидуального (единичного). При этом Гуссерль полагает, что вид дан в сознании нового типа, существенно отличающегося от сознания индивидуального предмета. Речь идет о том, чтобы описать тот опыт, благодаря которому мы можем иметь в виду не только отдельный красный предмет или момент красного как свойство предмета, но и вид, красное как таковое. Такой опыт Гуссерль называет «идеацией». С точки зрения Гуссерля, этот опыт заключается в том, что над восприятием единичного предмета, например предмета красного цвета, как бы надстраивается акт иного, неэмпирического созерцания, в котором мы постигаем вид «красное». «Значение как вид, – пишет Гуссерль, – вырастает (…) на указанной подпочве посредством абстрагирования – однако (…) не в том искаженном смысле, который господствует в эмпирической психологии и теории познания»[358]. Гуссерль подвергает критике теории абстрагирования, которые так или иначе пытаются представить абстрактное, или общее, как результат манипуляций с единичными предметами. Получаем ли мы общее, отвлекаясь от всех особенностей предметов, принадлежащих к определенному классу (Локк), выступает ли у нас в качестве общего единичная идея, представляющая весь класс предметов, достигаем ли мы представления об общем концентрацией внимания на каком-либо единичном предмете (Беркли) или общее – это имя, которое мы даем группе сходных предметов (Юм) – так или иначе, абстракция предстает как некоторая модификация единичного представления или их группы. С точки зрения Гуссерля, представление об общем не выводится из представления о единичном, первое представление не есть модификация второго. II Исследование носит в основном критический характер, и наиболее важной является здесь гуссерлевская критика Юма и «современного юмизма». Эта критика в конце II Исследования, переход к III Исследованию («Учение о части и целом») и его первые параграфы составляют сердцевину ЛИ, если это произведение рассматривать не как предварительный очерк системы, реализованной в Идеях, но как аналитическую феноменологию сознания.
Вернемся сначала к собственной теории Гуссерля, которую мы, собственно говоря, уже изложили, ибо ничего большего эта теория не содержит. Гуссерль дает пояснение к этой теории в первых четырех параграфах II Исследования и сразу же переходит к критике. Гуссерль утверждает, что не требуется обширных рассуждений, чтобы оправдать его позицию: «Все, на чем мы настаиваем – действительное различие между видовыми и единичными представлениями (…) – гарантировано для нас с очевидностью»[359]. Заметим сразу же: гарантировано с очевидностью различие между видовыми и единичными представлениями, или, иначе говоря, между представлением видового и представлением индивидуального, между интенцией общего и интенцией индивидуального. «Очевидность различия», хотя это, строго говоря, метафорическое выражение (ибо различие как раз видеть нельзя), все же верный ориентир аналитического мышления. Лучше было бы говорить о достоверности различий, но в данном случае это не столь важно. Важно лишь то, что Гуссерль начинает излагать свою теорию с констатации очевидных различий и лишь затем переходит к тождеству Самотождественность индивидуального предмета для Гуссерля является само собой разумеющейся; это является даже исходным пунктом, когда речь идет о тождестве вида, тождестве как таковом, которое Гуссерль отличает от равенства. Прежде чем говорить о тождестве вида, Гуссерль проводит в § 2 II Исследования ряд важных различий для того, чтобы убедиться, «что в познании вид (Spezies) действительно становится предметом и что по отношению к виду возможны суждения той же самой логической формы, как и по отношению к единичным предметам»[360]. Иными словами, доказательство самотождественности и предметности вида ведется с помощью различий, чего Гуссерль не замечает. По Гуссерлю, значение выступает в мышлении как единство и поэтому мы можем говорить о нем как о единстве, мы можем сравнивать его с другими значениями как единствами, оно может быть тождественным субъектом многих предикатов «точно так же, – добавляет Гуссерль, – как и другие предметы, не являющиеся значениями: лошади, камни, психические акты и т. д.»[361]. (Перечисление само по себе весьма примечательное, даже независимо от нашей темы).
Получается так, что психический акт может быть тождественным субъектом многих суждений, но это возможно, согласно вышеприведенным рассуждениям Гуссерля, только потому, что он сам в себе является тождественным, что явно противоречит пониманию психического акта у самого Гуссерля. Однако для нас важнее здесь то, что значение мыслится Гуссерлем по аналогии с предметами, и это как раз не согласуется с одним из основных гуссерлевских различий – между значением и предметом. Кроме того, если абсолютное тождество вида всегда выступает в качестве основы, то возникает вопрос: какова основа сравнения значений? Если это тоже значение, тогда мы опять получаем «третьего человека» и бесконечный регресс. Уже упоминавшаяся нами «атомизация» значений связана как раз с их мнимой самотождественностью, т. е. с переносом представления о самотождественных предметах, таких как камень или лошадь (сомнительность и этой характеристики здесь следует иметь в виду), на значения.
Весьма краткая теория абстрагирования у Гуссерля порождает, как говорится, больше вопросов, чем ответов. В контексте критической направленности II Исследования возникает вопрос: избавился ли сам Гуссерль от того, чтобы единичное, или индивидуальное, полагать исходным пунктом абстрагирования? Видимо, нет, ибо, по Гуссерлю, как раз восприятие индивидуального предмета является исходным пунктом нового вида созерцания, созерцания общего. Идеация, или процесс усмотрения идеи, т. е. общего, заключается в том, что мы якобы изменяем интенцию и вместо красного момента «видим» красное как таковое.
Мы оставляем здесь без внимания вопрос о реальности такого опыта и, соответственно, о реальности (адекватности) его дескрипции. Пусть даже «постижение» общего как бы надстраивается над созерцанием индивидуального, пусть даже постигаемое нами общее, общее как вид (красное как таковое) самотождественно, но все же изменение ориентации нашего созерцания предполагает различение интенций (если употребить гуссерлевский термин), различение ориентаций в нашем видении. Вопрос только в том, что является исходной точкой этого различения. Иначе говоря, действительно ли исходной точкой абстрагирования является индивидуальный предмет и его восприятие? Вопрос этот разрешим только в том случае, если будет поставлен вопрос об индивидуальном предмете.
Сам термин «индивидуальный» указывает на нечто отрицательное – «неделимый». Неделимое – это то, что не поддается дальнейшему делению. Неделимое – это результат, «остаток» деления, это результат выделения предмета из группы предметов, в которой каждый предмет рассматривается не как индивидуальный, а как член группы, как предмет, имеющий сходство с другими предметами. Даже если допустить, что из созерцания индивидуального камня – вот здесь лежащего передо мной – возникает посредством идеации абстракция «камень», то следует принять в расчет, что сначала должно возникнуть представление об индивидуальности этого камня благодаря выделению представления этого камня из представления о множестве камней. То же самое можно сказать не только о камне, лошади или психическом акте, но и о другом человеке. Не посредством изменения в созерцании близкого друга возникает представление о дружбе, но из опыта многообразных отношений с другими людьми выделяется опыт, с которым связан конкретный человек – неделимый для нас и, как говорится, разделяющий все с нами, но не «разделяющий» нас близкий друг.
Что касается «идеи красного», то это вымышленная абстракция, в отличие от действительных абстракций «красный цвет», «красный предмет» и т. д. По Гуссерлю, не-абстракцией является «вот этот оттенок красного», данный в опыте. Я думаю, что и определенный оттенок красного – все же абстракция, ибо в опыте невозможно воспринять оттенок красного, не воспринимая другие его оттенки или другие цвета и их оттенки. Не-абстракцией, т. е. реальным опытом, будет только опыт различия между цветами, между оттенками цветов, между предметами различного цвета и т. д.
Абстрагирование возможно только тогда, когда имеет место иерархия многообразий[362]. Абстракцию «красный предмет» можно получить тогда, когда существует не только многообразие красных предметов, но и многообразие предметов другого цвета. Всматриваясь в некий единичный красный предмет или «момент красного», мы должны учитывать, что этот предмет или момент уже выделен из определенного многообразия, а само это многообразие выделено из определенной иерархии многообразий.
По сравнению с Беркли, Юм более определенно связывает абстракцию с множеством сходных предметов, однако Юм, так же как Гуссерль, не различает единичный (индивидуальный) предмет и предмет как член множества. В то же время не следует полностью отбрасывать идею представительства у Беркли, ибо она говорит как раз о соотнесенности единичного предмета и множества. Видимо, абстрагирование – это значительно более сложный процесс, чем это полагал Гуссерль; анализ и описание этого процесса предполагает прежде всего анализ и описание различий, но не «самотождественность вида» как исходный пункт.
Для Гуссерля группа предметов может быть оценена с точки зрения равенства, за которым обязательно стоит тождество. «Такая же шляпа, такой же пиджак» – с точки зрения Гуссерля, должно существовать основание для сравнения этих предметов, которые «равны во всем, что вызывает наш интерес относительно такого рода вещей». Иначе говоря, вещи равны в определенном аспекте, и здесь, с точки зрения Гуссерля, заключено тождество. «Каждое равенство имеет отношение к виду, которому подчинены сравниваемые [предметы]; и этот вид не есть снова просто равное по отношению к обоим, и он не может быть таковым, так как иначе был бы неизбежен дурной regressus in infinitum (…) Если две вещи одинаковы относительно формы, то тождественным является вид формы; если они одинаковы по цвету, то это вид цвета, и т. д.»[363]. Для Гуссерля тождество – это не предельный случай равенства: «Тождество абсолютно неопределимо, но не равенство»[364].
Одной из бед философии являются абстрактные примеры: «такая же шляпа», «такой же пиджак». Уже это обстоятельство закрывает дорогу к рассмотрению вопроса об абстракции и абстрагировании, это рассмотрение не должно начинаться с абстракции. Выражение «такая же шляпа» имеет столько же смысла, сколько выражение, скажем, «если я пойду». Дело здесь не только в «неполноте» этих выражений. Свой смысл, или значение, любое выражение получает только в контексте определенного опыта. Тогда обнаруживается, что прежде всего вступают в силу различения. «Такая же шляпа» может означать: «такая мне не нужна, такая у меня уже есть», т. е. я различаю между тем, что у меня есть, и тем, чего у меня еще нет. Или: «моя шляпа уже износились, нужно купить себе точно такую же новую», т. е. я различаю между новым и старым в связи со своими определенными потребностями. В любом случае идентификация нужной или ненужной шляпы происходит уже в определенной, выделенной из других сфере наших потребностей, в данном случае «в мире шляп».
Выделяя основные виды отношений (сходство, тождество и т. д.), Юм не присоединил к ним различение (difference), ибо он считал различение чем-то сугубо отрицательным. Если положительное ассоциировать с предметами, тогда Юм, пожалуй, прав. Следует вообще обратить внимание на то, что у Юма различению не находится места среди отношений, и он это специально подчеркивает. «Положительный» Юм не знал, что делать с различением.
Если, однако, положительное рассматривать как характеристику опыта, то как раз положительным следует считать различие, точнее, различение как первичный опыт, без которого невозможен никакой другой опыт. Скорее отрицательным является в опыте как раз тождество, т. е. то, что приостанавливает различение, то, что создает устойчивость различий. Если обратить внимание на различие наших потребностей или на многообразие различений, совершаемых «чисто» телесно при любом нашем движении, то вряд ли можно считать различие чем-то отрицательным. Общим в мире потребностей или в мире телодвижений будет не локковская абстракция «потребность» или «телодвижение», но как раз весьма сложная иерархия потребностей и иерархия движений в соответствии с определенной ситуацией, которая также может быть охарактеризована через различение. Например, при приветствии мы протягиваем руку или приподнимаем «ту же самую» шляпу или отдаем честь (если мы на военной службе) и т. д. Точно так же в сфере потребностей мы выбираем (различаем) сначала определенную сферу – одежду (шляпа, пиджак, и т. д.), а затем уже начинаем различать в этой сфере до тех пор, пока это необходимо, пока мы не останавливаемся и не находим то, что нам нужно, и уже после этого можем сказать: «такая же шляпа», «такой же пиджак». Увы, «шляпы как таковой» или «вида формы» шляпы как самотождественной субстанции не существует (если, конечно, не быть большим платоником, чем сам Платон), и сравнивают шляпы и пиджаки не на основе какой-то самотождественной формы, а на основе человеческого тела – своего, если приобретаем их для себя, или чужого, если приобретаем их для других. Когда Гуссерль говорит, что мы сравниваем предметы в определенном аспекте, то этот аспект и есть та потребность, которую мы реализуем. Что же заключено в этом аспекте – равенство как предметно-отрицательное, как то, где мы больше не проводим различий или не можем их провести и называем это аспектом, или же тождество вида как нечто позитивномистическое? Разве «аспект» может быть предметным и в этом смысле положительным, разве «аспект» – это не опыт, выделяющий предметность или ее свойства?
В любом случае, сравнивая предметы или приравнивая их друг к другу, мы имеем дело с множеством, с многообразием предметов. Если мы говорим: «такая же шляпа», то это предполагает, что мы имеем дело по крайней мере с двумя шляпами.
Видимо, все критикуемые Гуссерлем теории абстрагирования, как и сама теория Гуссерля, не являются просто неверными, но относятся лишь к различным аспектам проблемы. Чтобы не объявлять сразу же локковский «никакой» треугольник абсурдным, а попытаться понять, какой опыт сознания здесь неявно имеется в виду, необходимо задать вопрос: что означает получить общую идею треугольника? Ответ здесь достаточно простой: получить идею треугольника означает выделить треугольник из других геометрических фигур, отделив сначала мир геометрических фигур от мира лошадей, камней, психических актов и т. п. При этом надо бы иметь в виду, что так же как «лошадь вообще» означает, что мы выбираем, т. е. имеем в виду множество лошадей, а не психических актов или камней и т. д., так же и «геометрическая фигура вообще» означает, что мы будем говорить не о лошадях, но о мире геометрии, который населяют точки, прямые, плоскости, треугольники, квадраты, трапеции и т. д. Когда нам необходимо получить общую идею треугольника, мы не интересуемся, какой это треугольник – остроугольный, тупоугольный или прямоугольный, нам важно лишь то, что это треугольник, а не квадрат или трапеция. Ошибка Локка состоит не в том, что он допускал существование треугольника без какого-либо конкретного признака, но в том, что основой получения этой общей (general) идеи он считал единичную идею, ибо единичные идеи, по Локку, «первыми воспринимаются и различаются»[365]. Дети легко усваивают, по Локку, единичные идеи, а взрослым необходимо приложить усилия (pains and skill), чтоб составить эту, еще не самую трудную из абстрактных идей. И то и другое неверно: дети получают идею единичного вместе с идеей общего, т. е. благодаря их различению, а для взрослых не составляет никакого труда говорить о треугольнике вообще. Верно, однако, другое описание Локка, а именно что эта идея треугольника «есть нечто несовершенное, идея, в которой соединены части нескольких различных и несовместимых друг с другом идей»[366]. Сам Локк указывал на абсурдность этой идеи, но в то же время подчеркивал ее необходимость для понимания и расширения познания. Действительно, выделение класса треугольников – первый шаг на пути к познанию свойств треугольника, шаг, который предполагает фон, на котором это делается, будь это квадраты, трапеции или ромбы. Этот шаг, как правило, забывается, и тогда первичной полагают идею треугольника как единичную идею, которую якобы можно легко усвоить и, главное, усвоить непосредственно. Однако субстанции треугольника все же не существует, и понять, что такое треугольник, можно только благодаря различию нескольких геометрических фигур. Точно так же нельзя понять, что такое число 3, не отличив его от других чисел.
Критика локковской теории у Гуссерля следует только явному плану рассуждений Локка. Эта критика в целом справедлива, хотя в определенном смысле схематична. Основной упрек в адрес Локка, как, впрочем, и Юма, состоит в том, что у них отсутствует важное различие – между представлением и представленным, между актом сознания и интендированным предметом. Этот упрек справедлив, но он не касается того неявного плана в рассуждениях Локка и явного – у Юма, где их теории абстрагирования обращены к многообразию предметов, где теории Локка и Юма явно учитывают аспект коммуникации – то, что гуссерлевская теория абстрагирования вовсе не затрагивает.
В определенном смысле этот упрек может быть отнесен к самому Гуссерлю. Когда речь идет о различии представления и представленного, то, согласно одному из основных принципов самого Гуссерля, речь идет о корреляции акта и содержания (восприятие и воспринятое, воспоминание – вспомненное и т. д. – в статье Философия как строгая наука приводится целый список таких соответствий). Вопрос в том, если содержанием сознания будет какое-либо различие, скажем, определенных цветов, что же будет соответствовать этому различию в качестве «акта сознания»? Можно ли «проведение различия» назвать «схватыванием»? Если принимать в расчет различие «содержания сознания» как значения и предмета, то вопрос можно сформулировать так: соответствуют ли различия в самих вещах (в предметах) чему-либо в сознании (как акте)?
Критика Юма построена у Гуссерля именно на том, что, различая предмет и сознание, мы якобы обнаруживаем такие различия в самих предметах, которым ничего не соответствует в сознании. Тем самым концепция distinctio rationis, согласно которой в предметах нет никаких различий, кроме тех, которые мы сами проводим, считается опровергнутой. Гуссерль приносит в жертву опыт различения, чтобы избежать релятивизма, которым, по его мнению, страдает юмовская концепция.
Здесь мы подходим к тому пункту ЛИ, где наиболее отчетливо проявилось несоответствие между осуществляемым Гуссерлем анализом опыта и его интерпретацией сознания. В определенном смысле это кульминация ЛИ. Гуссерль должен по существу отказаться от принципа коррелятивности сознания и предметности в пользу интерпретации сознания как схватывающего акта, синтеза. Наибольший интерес в этом отношении представляет собой § 5 III Исследования, где Гуссерль переносит различие самостоятельных и несамостоятельных (отделимых и неотделимых) содержаний на предметы: «Достаточно нам вместо «содержание» или «часть содержания» сказать «предмет» или «часть предмета» (учитывая то, что термин «содержание» мы рассматриваем как более узкий, ограниченный феноменологической сферой), и мы получаем объективное отличие, свободное от всякой связи с актами схватывания (auffassende Akte), с одной стороны, и с любыми подлежащими схватыванию феноменологическими содержаниями – с другой. Таким образом, не понадобится никакой обратной отсылки (Rückbeziehung) к сознанию, скажем, к различиям в «способе представления», чтобы [четко] определить обсуждаемое здесь различие между «абстрактным» и «конкретным». Все определения, основывающиеся на таких отсылках, либо неверны, либо невразумительны (по причине смешения с другими понятиями абстрактного), или же они суть не что иное, как субъективно ориентированные выражения чисто объективного и идеального положения вещей, сколь бы ни были вообще эти обороты речи сами собой напрашивающимися и употребительными»[367].
Итак, объективное отличие, или различие, никак не связано, согласно Гуссерлю, с актами схватывания и вообще не требует никакой отсылки к сознанию. Оценивать это утверждение следует по аналогии с оценкой гуссерлевского утверждения о том, что «никто не может внутренне воспринимать аналитическую деятельность». Это утверждение, как мы видели, верно в том случае, если под внутренним восприятием понимать сопровождающий акт схватывания первичного акта сознания, как это понимал Брентано. Точно так же и здесь: утверждение Гуссерля можно считать верным, если под сознанием понимать акты схватывания. Тогда действительно «различию в вещах ничего не соответствует в сознании». Однако гуссерлевское утверждение из Философии арифметики не затрагивает одного из существенных принципов самого Гуссерля – принципа коррелятивности. Здесь же Гуссерль стоит как бы перед выбором – или сохранить принцип коррелятивности и признать, что различию в самих вещах соответствует сознание различия, т. е. различающее сознание, а говоря проще, различение, или же придерживаться концепции сознания как схватывающих актов и отказаться при этом от принципа коррелятивности. Гуссерль, как мы видим, выбирает последнее.
Возможен ли вообще анализ этой явной предпосылки философии Гуссерля? Вопрос о том, почему Гуссерль принимает концепцию сознания как многообразия схватывающих актов, содержит в себе как интерпретативную, так и аналитическую составляющую. В первом случае речь должна идти прежде всего о тех непосредственных влияниях, которые испытал Гуссерль и которые очевидны: Кант, неокантианцы, современная ему психология. Однако в таком случае остается одна немаловажная «лакуна», а именно Ф. Брентано, у которого в явном виде эта предпосылка отсутствует, а влияние Брентано в период написания ЛИ было наиболее сильным. Интерпретативное исследование, каким бы тщательным оно ни было, оказывается явно недостаточным для выявления предпосылок гуссерлевского анализа.
Предметом аналитики опыта должен стать определенный анализ опыта и определенные предпосылки этого анализа у Гуссерля. Таким анализом является анализ опыта тождества и, соответственно, предпосылка тождества, которая играет у Гуссерля важную, если не важнейшую роль не только в теории абстрагирования, но и в концепции интенциональности. Как раз здесь обнаруживается общее в методологии Гуссерля и Брентано, общее в обосновании различия через тождество, а именно обоснование различия самой интенции и предмета интенции тем, что предмет как самотождественный может быть предметом различных интенций: «В представлении нечто представляется, в суждении признается или отвергается, в любви – любится, вненависти ненавидится, в желании желается и т. д.»[368]. Это определение интенциональности (и коррелятивности) принимает без всяких оговорок и Гуссерль. В этом определении подразумевается, что это нечто может быть одним и тем же, что вариабельность интенции, или «жизнь сознания», его свобода и т. п. обосновывается с помощью противопоставляемого этой «свободе» самотождественного и неизменного нечто, или предмета.
Эту методологию – признание одной стороны различия в качестве тождественного для того, чтобы другую сторону представить как изменчивую, – Гуссерль широко применяет и при анализе сущности интенционального акта, а именно при различии материи и качества акта (§§ 20–22 V Исследования). На этой же предпосылке тождества основывается Гуссерль при анализе иллюзии: с его точки зрения, самотождественный комплекс ощущений может быть «интерпретирован» схватывающим актом по-разному: то мы видим даму, то восковую фигуру (см. § 27 V Исследования).
Таким образом, в решающих пунктах концепции интенциональности предпосылка тождества играет решающую роль. Кроме того, в отличие от «различия в самих вещах», тождеству в самих вещах Гуссерль находит соответствие в сознании – «сознание тождества».
Прежде чем рассмотреть, как же Гуссерль анализирует опыт тождества, рассмотрим для сравнения аналогичный анализ у Локка и Канта. Если измерять качество анализа его действительным обращением к действительному опыту, то локковский анализ превосходит в определенном аспекте как гуссерлевский, так и кантовский. Задача, однако, состоит не столько в том, чтобы правильно распределить призовые места, сколько в том, чтобы найти и указать на такой пункт анализа у Гуссерля, где он выходит за пределы предпосылки тождества и тем самым выходит за искусственные пределы концепции сознания как синтеза.
В отличие от Гуссерля, для которого тождество – исходный пункт, а опыт тождества – изначальный, Локк ставит вопрос о происхождении идей тождества и различия, о том, из какого опыта мы получаем эти идеи. Пусть даже термину «идея» недостает у Локка четкости, однако в данном случае ясно, что речь идет об опыте, о сознании тождества (и различия). Эти идеи, утверждает Локк в 27-й главе II книги Опыта, мы получаем при сравнении какой-либо вещи с «нею же самой», какой она была в другое время и в другом месте. Локк пишет: «Другим частым поводом к сравнению является для ума сама суть вещей, когда, принимая какую-нибудь вещь за существующую в определенное время и в определенном месте, мы сравниваем ее с нею же самой, существующей в другое время, и на основании этого образуем идеи тождества и различия. Когда мы видим, что какая-нибудь вещь находится в каком-нибудь месте в какой-нибудь момент времени, мы уверены, что это (чем бы она ни была) есть та самая вещь, а не другая, которая в то же самое время существует в другом месте, как бы ни были похожи и неразличимы эти вещи во всех других отношениях. И тождество состоит в том, что идеи, которым оно приписывается, совсем не отличаются от того, чем они были в тот момент своего прошлого существования и с чем мы сравниваем их теперешнее существование»[369].
Очевидно, что Локк определяет тождество (в опыте) отрицательно, и это самое главное: идеи тождественны, когда мы не можем отличить одну идею от другой.
Отметим, что определение тождественного как неразличимого исходит из опыта, но определение различного как нетождественного является формальным и из опыта не исходит. Локк начинает свой анализ с утверждения, что сравнение лежит в основании идей тождества и различия. Однако сам анализ опровергает (правда, незаметно для Локка) это утверждение, которое носит интерпретативный характер: различие между «этой самой вещью» и другой лежит в основе любого сравнения вещи «с нею самой»; определенность вещи оказывается не чем иным, как отделейностью ее от другой.
Предел локковского анализа опыта состоит в утверждении, что тождественными идеи признаются тогда, когда их нельзя различить. Аналитика опыта различий позволяет сделать еще один шаг, который, собственно, открывает бесконечное поле анализа. Речь идет об обнаружении того, что предполагается в утверждениях Локка, но не представлено эксплицитно: когда мы утверждаем тождество «идей», иначе говоря, предметов, свойств, отношений и т. п., мы достигаем предела возможных для нас hic et nunc различений. Иными словами, «фоном» тождества являются многообразные попытки провести различие, причем в случае предметов восприятия различие неизбежно остается, каким бы полным ни было тождество.
При анализе понятий тождества и различия в «амфиболии рефлективных понятий» Кант указывает только на пространственное различие (В 319–320), оставляя в стороне различие во времени. При анализе опыта тождества, а именно способности сознавать, «…что мыслимое нами в настоящий момент тождественно с тем, что мы мыслили в предыдущий момент…» (А 103), Кант опять-таки не выделяет различие между настоящим и предыдущим моментом как неустранимое из опыта различие, причем различие, предшествующее установлению тождества. В отличие от Локка Кант сводит одно тождество к другому тождеству, а именно: в основе указанного опыта тождества лежит единство сознания, трансцендентальная апперцепция – «чистое первоначальное неизменное сознание» (А107)[370].
Гуссерлевское описание сознания тождества, пожалуй, еще в меньшей степени соприкасается с опытом, чем кантовское. Речь идет скорее об интерпретации ранее принятой схемы. В V Исследовании (§ 14) Гуссерль проводит различие между ощущаемым содержанием и предметом, применяя туже самую «методологию тождества» – изменение содержания происходит на фоне тождественности предмета: «Я вижу вещь, например эту коробку, но я не вижу моих ощущений. Я вижу постоянно одну и ту же коробку, как бы ее ни вращать или поворачивать. У меня при этом постоянно то же самое «содержание сознания» – если мне нравится называть воспринятый предмет содержанием сознания. При каждом повороте у меня новое содержание сознания, если я называю так – намного более подходящим образом – пережитые содержания. Следовательно, переживаются весьма различные содержания, и все же воспринимается один и тот же предмет. Следовательно, далее, пережитое содержание, вообще говоря, – это не сам воспринимаемый предмет (…) То, что мы предполагаем (vermeinen) [далее] схватывать в восприятии один и тот же предмет при изменении пережитых содержаний, само опять-таки есть нечто, принадлежащее сфере переживаний. Ведь мы переживаем «сознание тождества» (Identitätsbewußtsein), т. е. это намерение (dieses Vermeinen) схватывать тождество. Я спрашиваю теперь, что же лежит в основе этого сознания? Не будет ли здесь верным ответить, что, хотя с той и другой стороны даны различные содержания ощущений, они, однако, [схвачены, апперцепированы] в «том же самом смысле», и что [схватывание] в соответствии с этим «смыслом» – это типологическое свойство переживания, которое в первую очередь обусловливает «существование предмета для меня»? И далее, что сознание тождественности осуществляется на основе обоих этих переживаний с их характерными свойствами как непосредственное сознание того, что оба они подразумевают именно то же самое? И не является ли это сознание снова актом в смысле нашей дефиниции, актом, предметный коррелят которого заключен в названной тождественности? Я бы полагал, что все эти вопросы с очевидностью требуют положительного ответа»[371].
Эта обширная цитата представляет собой довольно сложный текст, хотя он и кажется поначалу простым. Кто будет оспаривать, что, поворачивая перед собой коробку, скажем, коробку спичек, мы видим одну и ту же коробку? Между тем это не является, строго говоря, описанием опыта «естественной» идентификации вещи. Скорее здесь описан искусственный или аномальный опыт. В этом легко убедиться, вращая перед собой коробку спичек и сосредоточиваясь на том, что это одна и та же коробка. Одной из черт аномального опыта является, так сказать, излишество идентификаций. Можно, конечно, возразить, что речь идет о рефлексии, которая, согласно Гуссерлю, должна быть «противоестественной». Однако если последнее и считать верным, то все же речь идет здесь об изменении установки, но не о превращении естественного, нормального опыта идентификации коробки спичек в самых разных реальных ситуациях (зажечь газ, прикурить и т. д.) в мысленный эксперимент вращения спичек перед собой. Описать такие идентификации реального опыта – дело значительно более сложное, чем описать вращение коробки перед собой. Такого типа задачи ставил перед собой Хайдеггер в «Бытии и времени», говоря о «сподручном», и он справедливо полагал, что в гуссерлевских описаниях естественной установки присутствуют элементы научной систематики.
Таким образом, гуссерлевское различие переживаний изменяющихся содержаний и восприятия самотождественного предмета релевантно только искусственному или аномальному опыту. Еще раз подчеркнем, что речь идет не просто о рассматривании вещи с разных сторон – в этом нет ничего искусственного или аномального, но об опыте, когда рассматривание вещи сопровождается сознанием, что это та же самая вещь. Обозначить это сознание как имплицитное явно недостаточно, это сознание тождества при рассматривании предмета является также переходным, изменчивым и содержит в себе важное различие: в нормальном опыте рассматривания вещи идентификация ее или уже произошла (по крайней мере, предварительно, когда нам нужно, например, приобрести ручку, а не карандаш, книгу по зоологии, а не по антропологии и т. п.), или же еще не произошла окончательно, когда мы рассматриваем вещь, чтобы убедиться, что это та же самая вещь. (Во втором случае предварительная идентификация также должна иметь место.) Таким образом, идентификация может быть как исходным пунктом рассматривания, так и целью. Однако и в качестве исходного пункта идентификация – это уже свершившийся опыт различия, это уже результат приостановки различения при выборе предмета.
Гуссерль не проводит различия между «прошлым» и «будущим» сознанием тождества, хотя косвенно указывает на него и на имплицитный характер такого сознания. Тяжеловесную гуссерлевскую конструкцию «wahrnehmend zu erfassen vermeinen» с излюбленным «vermeinen» можно передать как «мы предполагаем схватывать в восприятии» (дословно: «мы имеем в виду схватывать воспринимая). Это «vermeinen» указывает и на то, что идентификация уже совершилась, и на то, что сознание тождества не образует «переднего плана» сознания. Однако дескрипции Гуссерля все-таки противоречивы. Говоря о сознании тождества как переживании, в следующем предложении Гуссерль косвенно указывает уже на целевой характер сознания тождества; он определяет его как «dieses Vermeinen, Identität zu erfassen», т. е. «это намерение схватить тождество». «Vermeinen» здесь синоним интенции как целеустремленности. Конечно, можно было бы переводить «vermeinen» как в одном, так и в другом случае как «подразумевать», используя более сложный синтаксис, например: «то, что мы подразумеваем (или имеем в виду), что при изменении пережитых содержаний» и т. д. А во втором случае вместо «намерения схватить тождество» – «этот акт, в котором подразумевается тождество», но тогда это различие между прошлой и будущей идентификацией, конечно, имплицитное различие, совсем бы исчезло, хотя осталось бы указание на имплицитный, или потенциальный, характер сознания тождества.
И все же в ЛИ Гуссерль склоняется при описании сознания тождества к актуальности этого сознания. Об этом говорит прежде всего характеристика этого сознания как акта, причем акта схватывания различных содержаний «в одном и том же смысле». Очевидно, однако, что эта схема еще менее приемлема, чем схема различного схватывания одного и того же комплекса ощущений. Последняя схема по крайней мере заимствована из сферы практики: из одной и той же глины может быть сделан как сосуд, так и кумир. Однако из разных материалов нельзя создать вещь как форму: создавая вещь из различных материалов, например дом, мы не интерпретируем эти материалы «в том же самом смысле», мы скорее различаем их, например, по добротности. Идентификация дома как дома не происходит как отнесение различных содержаний к одной и той же вещи. Такое описание не только значительно упрощает этот весьма сложный процесс, дескрипция которого должна, видимо, сопрягаться с дескрипцией мира (причем не обязательно в хайдеггеровском смысле, но обязательно тематически), но и является по существу тавтологией. Тавтологичность гуссерлевских описаний сознания тождества очевидна: сознание тождества определяется как способность схватывать различные содержания «в одном и том же смысле», т. е. тождество сводится к тождеству, и это не случайно; для Гуссерля тождество остается изначальной характеристикой предметности, а коррелятом тождества является акт схватывания тождества. Именно тождество как предпосылка анализа и вынуждает Гуссерля придерживаться, по крайней мере на методологическом уровне, концепции сознания как схватывания. Тождество, если его понимать не как результат и не как цель, а как исходный пункт, нельзя различить и даже нельзя «синтезировать». Таким образом, интерпретированное тождество можно только схватить, постигнуть, констатировать.
В КМ (§§ 17–18) Гуссерль определяет синтез как изначальную форму (Urform) сознания, а идентификацию – как основную форму синтеза. Здесь Гуссерль рассматривает пример, аналогичный примеру с вращением коробочки в ЛИ. Однако в КМ после многолетних штудий, обозначенных позднее как Анализ пассивного синтеза, для Гуссерля уже недостаточно зафиксировать «сознание тождества», но необходимо дать ему «синтетическое» обоснование: «Если мы рассмотрим основную форму синтеза, а именно синтез идентификации, то он предстает перед нами прежде всего как всепроникающий (allwaltend), пассивно протекающий синтез в форме непрерывного внутреннего сознания времени»[372]. Несмотря на то что Гуссерль явно указывает на пассивность синтеза идентификации, он все же не указывает явно на имплицитный характер сознания тождества. Пассивный синтез, по Гуссерлю, «создает это сознание тождества как единое (…) и тем самым каждый раз делает возможным знание (Wissen) о тождестве»[373]. Слово «знание» указывает скорее на активное сознание переднего плана, хотя, конечно, может интерпретироваться и как «пассивное знание». Дело, однако, не только в том, что остается нерешенным вопрос об эксплицитном или имплицитном характере сознания тождества. (Решить этот вопрос в общем виде нельзя, ибо сознание тождества выступает как эксплицитно, так и имплицитно, в зависимости от обстоятельств. Наше возражение Гуссерлю состояло в том, что в избранных им примерах он не проводит этого различия.) Дело в другом – как понимать само это имплицитное сознание? Как многообразие имплицитных различений, т. е. различий, проведенных и переведенных в разряд диспозиций, или же как пассивно протекающий синтезирующий поток? Преимущество первого пути состоит в том, что мы находимся в сфере опыта: диспозициональное сознание различений может быть переведено в позициональное, т. е. в явное. Во втором случае мы «выходим за пределы опыта»: протекающий пассивно синтез, так же как и абсолютный поток сознания времени – это допущения трансцендентализма кантовского типа, когда за каждой нашей познавательной способностью предполагается априорная в кантовском смысле форма.
Иными словами, речь идет не о том, чтобы отрицать наличие «пассивного сознания» и тем самым отрицать одно из важнейших различий опыта – между активным и пассивным, но речь идет о том, как понимать пассивное – как синтез, который «в-себе-и-для-себя» описать невозможно и который якобы проявляет себя для нас в различных формах, или же пассивное – это диспозиции опыта различий?
Ситуация с описанием опыта тождества существенно изменяется, когда Гуссерлю необходимо описать реальный, а не сконструированный опыт, т. е. не вращение коробочки или игральной кости, а выделение самостоятельной, или отделимой, части целого. Здесь мы опять обращаемся к § 5 III Исследования, где Гуссерль, как мы видели, отказывается от принципа коррелятивности, когда речь идет о различии. Однако сама постановка проблемы описания отделимого в представлении содержания (например, головы лошади) опровергает последующие выводы Гуссерля.
«Такая отделимость, – пишет Гуссерль, – подразумевает не что иное, как то, что мы можем удерживать в представлении это содержание [тождественным] при неограниченной (произвольной, не сдерживаемой никаким законом, коренящимся в сути этого содержания) вариации связанных с ним и вообще данных вместе с ним содержаний; помимо этого также подразумевается, что это содержание никак не затрагивалось бы уничтожением любого состава данных вместе с ним содержаний»[374].
Хотя слово «тождественным» (identisch) появляется лишь во втором издании ЛИ, ясно, что и в первом издании речь идет об удержании тождественности содержания. Удерживать тождество определенного содержания можно только от различий, которые могут появиться и фактически появляются при вариации связанных с ним других содержаний. Таким образом, при описании реального опыта мы находим у Гуссерля не интерпретацию тождества как схватывания в «одном и том же смысле», но анализ тождества, где тождество выступает как результат и как предел различений.
Явно принимаемая Гуссерлем предпосылка тождества соответствует его пониманию значений как своего рода ментальных атомов, субстанций, очищенных от психологических и грамматических оболочек. По существу Гуссерль понимает, как мы уже указывали, значение по аналогии с самотождественным предметом, и по преимуществу идеальным. На основе такого понимания значения развертывается и так называемая «чистая грамматика» в IV Исследовании. По аналогии с различием самостоятельных и несамостоятельных частей Гуссерль вводит различие самостоятельных и несамостоятельных значений – основное различие IV Исследования. Такое различие правомерно только на основе предпосылки самотождественности и «субстанциальности» самостоятельных значений.
Каким образом разрешить дилемму между субстанциальной теорией значения, согласно которой существуют значения «число», «лошадь» и т. д., и узуальной теорией, согласно которой значение выражения – это его употребление? Или, если персонально, – между ранним Гуссерлем и поздним Витгенштейном? Когда Гуссерль определяет, причем неоднократно, значение как идеальное единство, он не указывает, единством чего является значение. Быть может, разрешение дилеммы станет возможным, если значение понимать как единство различений, соответствующее единству различенного? Тогда значение выражения «три высоты треугольника пересекаются в одной точке» (излюбленный пример Гуссерля) предстанет не вечным, независимым от каких бы то ни было «психических актов» и даже от существования человечества идеальным предметом, но единством различий, тождественным для тех, кто мыслит в пределах определенной иерархии.
Различение как стихия опыта и одновременно стихия анализа как многоуровневого различения не может существовать без тождества, однако не в качестве исходного пункта, но в качестве результата, ибо в опыте нельзя проводить различия, не завершая их в идентификации предметов. «Переход» от различения к тождеству – это и есть процесс «формирования» смысла и смыслового поля коммуникации.
Переход от различий к тождеству связан с одним из основных различий, которое характеризует любое различие, – с различием переднего плана и фона. Различие переднего плана и фона, их принципиальная «асимметрия» – источник такого опыта сознания, как предпочтение. В свою очередь устойчивое предпочтение определенного переднего плана и забвение фона характеризует объективирующую функцию сознания, приостанавливающую дальнейшие контекстуальные различения и определяющую тем самым границы предмета. Объективирующая функция трансформирует сознание как опыт различений в сознание как идентификацию, «рекогницию» предмета.
Вопрос в том, достаточно ли для постановки вопроса о значении и для описания человеческого бытия и опыта в целом различия между различением и различенным, или, на языке интерпретативном, между сознанием и предметом. Поиски посредника между ними, начиная с Критики чистого разума, привели к появлению целого ряда своеобразных квазипредметных или функциональных начал, от «неизвестного корня чувственности и рассудка» и «воли» до общественной и коммуникативной практики. Искомый посредник превращается, как правило, в абсолют, претендующий на роль смыслоформирующей инстанции.
Проведение основных различий феноменологии, различий, не нуждающихся в исходном тождестве, – таково брентановское различие психических и физических феноменов, таковы гуссерлевские основные различия в ЛИ, таково хайдеггеровское различие бытия и сущего – и феноменологическая тематизация мира у Гуссерля и Хайдеггера позволяют иначе поставить вопрос о посреднике между различающей способностью человека и различенными предметами, иначе говоря, позволяет иначе поставить вопрос о мире – о мире как иерархии различенностей.
X ТОЖДЕСТВО И ИНТЕНЦИОНАЛЬНОСТЬ
Различие между загадкой и проблемой можно провести не только в отношении сознания, но и в отношении объекта, или предмета. Однако дело здесь обстоит несколько иначе. Во-первых, объект не есть непосредственно нам присущее и в этом смысле не есть само собой разумеющееся, а во-вторых, объект не есть нечто загадочное. В сфере познания и действия объект, в самом широком смысле, можно отождествить с проблемой, в сфере чувств – с ценностной ориентацией. Проблемы бывают весьма трудными, при попытке их разрешить зачастую возникают недоумения, в определенной ситуации нечто может предстать перед нами загадочным, но в целом проблема не есть загадка. Если перед нами проблема, мы знаем хотя бы в общих чертах, как ее решать, проблематичное подразумевает, что мы уже вступили в его сферу.
Так обстоит дело, если перед нами определенный объект, т. е. определенная проблема или ценностная ориентация. Но если мы обратимся к понятию объекта, к абстракции «объект», если мы попытаемся дать дефиницию объекту, мы испытаем затруднение другого рода, чем при оперировании с определенным объектом. Здесь мы оказываемся если не перед загадкой, то, во всяком случае, перед проблемой преодоления тавтологии. Если объект понимать как то, что представлено субъекту, как то, что представляет субъект, то легко заметить, что это будет лишь разъяснением латинского слова. Объект – это то, что лежит перед субъектом, то, что субъект бросает перед собой и т. д. Термин «представление», который сам нуждается в экспликации, не может служить в качестве объясняющего начала. В самом широком смысле, представить нечто – это означает иметь это нечто в качестве объекта. Тем самым круг в определении замкнулся.
Дело, однако, не только в трудности соотнести значения слов «представление» и «объект». Вопрос в том, возможна ли вообще постановка проблемы сознания без постановки проблемы объекта, и наоборот, возможно ли поставить вопрос об объекте, не поставив вопрос о сознании?
При постановке этих вопросов мы различаем две противоположные философские позиции: 1) позицию, согласно которой существует радикальное различие между сознанием и объектом и 2) позицию, согласно которой такого радикального различия не существует, различие между сознанием и объектом, или между субъективным и объективным, относительно и существует только в рамках определенного опыта. Первая позиция является исходным пунктом феноменологии, вторая позиция присуща прежде всего кантианству и неокантианству, а также целому ряду учений, школ и течений в философии XIX и XX вв., в которых представлено несубстанциалистское понимание объекта (Маркс, Ницше, прагматизм и др). Покажем это на примере неокантианства как непосредственного оппонента феноменологии.
1. Субъективное и объективное как функции знания
Э. Кассирер полагает в качестве основного признака метафизики противоположность между мышлением и бытием, между субъектом и объектом познания. Никакая диалектика не может, согласно Кассиреру, уничтожить это различие. Метафизике Кассирер противопоставляет как непосредственный опыт, которому якобы «совершенно чужда противоположность между «субъективным» и «объективным», так и «систему опытного знания», которая «образует первоначальное единство» субъективного и объективного.
Анализ в каждом конкретном случае должен выявить, какие элементы опыта субъективны, а какие объективны. «…Вопрос уже больше не гласит: какое разделение в абсолютном лежит в основании противоположности между „внутренним“ и „внешним“, „представлением“ и „предметом“? – пишет Кассирер, – а лишь гласит: исходя из каких точек зрения и вследствие какой необходимости – само знание доходит до такого разделения?»[375] Отсюда следует, что знание и познавательные акты будто бы не имеют никакого отношения к человеческой субъективности и не субъективность различает субъективное и объективное, но некоторая высшая инстанция – Кассирер называет ее «само знание» – разделяет и связывает в единое целое, в единую и в то же время подвижную систему сознание и объект. Тем самым сознание лишается важнейшего опыта различия сознания и не-сознания, это различие полагается прерогативой высшей инстанции. Основным свойством сознания полагается при этом синтез-схватывание объектов и тем самым отделение их друг от друга, вырезание объектов из «многообразного представлений».
Фактическая элиминация проблемы сознания посредством уничтожения границы между субъективным и объективным не воспрепятствовала, а, видимо, даже способствовала постановке проблемы формирования и изменения объекта. Придание термину «опыт» весьма широкого смысла, включающего как объект, так и сознание, позволило Кассиреру говорить о «градации степеней объективности», об объекте как члене ряда опытов.
Любой опыт, по Кассиреру, не имеет в себе самоценности, свою ценность он обретает лишь в связи с другими опытами, в связи с достижением новой, более широкой точки зрения. Остановки в этом постоянно возобновляющемся процессе, согласно Кассиреру, «дают в каждый данный момент определение понятия объективности»[376].
Нет сомнений, что такое понимание объекта имеет определенные основания. Во всяком случае, эта интерпретация опыта и объекта, данного в опыте, предвосхищает попперовское понимание конвенционализма, когда эксперты решают, закончена ли проверка в эксперименте или нет.
Однако остается вопрос, кто же совершает эту остановку, об остановке какого процесса идет речь – ведь понятие опыта, включающего в себя и субъективное, и объективное, остается неопределенным. Отрицая самостоятельный характер субъективного, Кассирер не замечает, что в его размышлениях содержится как верное, так и весьма противоречивое. «Субъективное, – пишет Кассирер, – не есть данный, сам собой разумеющийся исходный пункт, отправляясь от которого, мы должны в умозрительном синтезе достигнуть мира объектов и построить его; оно представляет собой только результат анализа, предполагающего определенный состав (Bestand) опыта, предполагающего, следовательно, прочные закономерные отношения между содержаниями вообще»[377]. Верно, конечно, что субъективное не есть всеобъемлющий синтез мира, верно, конечно, что следует анализировать состав опыта и связи его элементов, однако разве не субъективность анализирует и синтезирует? Не сам же опыт подвергает себя анализу? Это удивительное противоречие содержится и в выше приведенных словах Кассирера о том, что само знание, исходя из определенной точки зрения, производит разделение субъекта и объекта.
В каком же «пространстве» совершается познавательный акт, как и благодаря чему возникает единство опыта, каким образом в этом единстве опыта возникают точки зрения и анализ? Вполне последовательным ответом на этот вопрос был бы следующий: единство опыта конституируется трансцендентальным субъектом, который у Кассирера, вслед за Г. Когеном, интерпретируется как «само знание», или процесс познания.
Неокантианцы, как, впрочем, и другие течения и школы философии XIX века, осознанно или неосознанно, но весьма последовательно реализовали в различных проблемных сферах принципы кантовской философии. Лишь в XX веке, во многом благодаря Гуссерлю, кантовская философия стала интерпретироваться как философия субъективности. Эту видимость, видимость автономии субъективности, видимость поворота к субъективности порождает кантовское понятие трансцендентального субъекта.
Тем не менее кантовская философия – это философия единства опыта, единства субъективного и объективного, единства, которое обретает свою основу в трансцендентальном субъекте. Кантовский трансцендентальный субъект создает как объект, так и опыт. По Канту, нам дано многообразное представлений (das Manningfaltige der Vorstellungen) в чувственном созерцании, но связи многообразного не могут быть нами восприняты через чувства; связь есть действие рассудка, которое Кант называет синтезом. Эта связь и есть опыт. Кант дважды говорит о том, что рассудок создает опыт – так начинается введение в I издание Критики чистого разума, это же повторяет Кант в параграфе 14, который не претерпел изменений во II издании: «…вполне вероятно, что рассудок с помощью этих понятий сам может быть творцом опыта»[378].
С другой стороны, в § 1 Трансцендентальной эстетики Кант говорит о том, что нам даны предметы, даны посредством чувственности. Что же все-таки дано, позволено будет спросить, – предмет или «многообразное представлений»? Последнее выражение весьма своеобразно, и чтобы каким-то образом сблизить оба вида данности, Н. Лосский добавляет в русском переводе слово «содержание». Образуется выражение, которое создает видимость предметности, – «многообразное [содержание] представлений». Намой взгляд, следовало бы не сближать, но разделять эти два вида данности, обращая при этом внимание на различие между терминами «предмет» и «объект» у Канта.
«Предмет» фиксирует у Канта исходную точку познания, неопределенное начало, констатацию того, что нечто аффицирует нашу чувственность. «Объект» – обозначает уже нечто сформированное нашим рассудком, связь представлений, идентифицированную как нечто устойчивое. «Объект» у Канта – это, по существу, познанный предмет. Такой переход от предмета к объекту можно было бы истолковать как частичное сохранение и как существенную трансформацию аристотелевско-схоластической традиции у Канта. Объект – это нечто представленное, это ментальный образ вещи, или предмета. Однако этот образ – связь представлений – мы создаем, по Канту, сами. Тем самым Кант впервые обращает внимание на проблему формирования объекта, полагая, что в основе этого формирования-синтезы рассудка.
То, что «все наше познание начинается с опыта» (Кант), и то, что «опыт есть первый продукт, который производит наш рассудок» (Кант), не является противоречием. Скорее, мы можем говорить о соотнесенности познавательного акта и предмета в единой сфере опыта. Однако в этой сфере – и в этом радикальное отличие кантианства от феноменологии – теряется различие сознания и предметности.
В трансцендентальном субъекте, согласно кантовскому ходу рассуждения, конституируется единство опыта, в котором мы лишь в рефлексии можем выделять субъективные и объективные элементы. У Канта субъективное фактически вытесняется из опыта и низводится до «условий его возможности», условий, которые, будучи взятыми сами по себе, суть ничто. В основе трансцендентального субъекта – чистое воображение, а не какой-либо реальный, т. е. соотнесенный с миром и объектами мира, опыт сознания – восприятие, суждение, память, сомнение, фантазия – как опыт среди других опытов – и т. д.
Это новое понимание субъективности, не воспринимающей, познающей или чувствующей, но прежде всего деятельной субъективности. Чем же иным может быть чистое воображение, как не чистой деятельностью, первичной деятельностью, деятельностью как таковой, «материальные» воплощения которой не замедлили явиться в виде воли (Шопенгауэр), воли к власти, или воли к воле (Ницше), практики (Маркс), математического естествознания (Г. Коген), общества (М. Хоркхаймер), безосновной основы (М. Хайдеггер) – основы как субъективного, так и объективного.
Основной проблемой философии деятельности становится проблема формирования объектов деятельности, которые мыслятся как продукты деятельности. Среди таких продуктов и человеческая субъективность, ставшая объектом изучения-воздействия экспериментальной психологии. Однако для того чтобы истолковать сознание как продукт деятельности, не как руководство, а как «орган руководства» (Ницше), т. е. как проводник некоей руководящей силы, необходимо было и сознание интерпретировать как деятельность. Между сознанием как продуктом первичной деятельности, как бы ее ни интерпретировать, и объектом как продуктом первичной деятельности уничтожается принципиальное различие.
2. Самотождественность предмета и тематизация сознания в феноменологии
В феноменологии – у Ф. Брентано и Э. Гуссерля – в определенном смысле противоположная ситуация: тематизация сознания проводится за счет забвения проблемы объекта. Самотождественность предмета, или объекта (в дальнейшем – синонимы) выступает одновременно и как явная, и как неявная предпосылка учений о сознании у Брентано и Гуссерля. Явная – там, где речь идет о различии значения и предмета или о различии данности предмета (im Wie) и просто предмета. Неявная – там, где речь идет о тематизации сферы сознания в целом, о тематизации интенциональности как сущностного свойства сознания. Отделить психические феномены от физических (Брентано) или выделить сферу горизонтно функционирующей интенциональности, представить сознание как жизнь, как внутреннюю темпоральность и т. д. становится возможным только за счет «умерщвления» объекта, за счет превращения объекта в некий X, который не имеет своего собственного облика, но всегда выступает только в качестве определенной данности. В свою очередь эта данность соответствует (коррелятивна) определенному модусу интенции. Феноменология, по Гуссерлю, должна рассматривать бытие только как коррелят сознания – как воспринимаемое, вспоминаемое, подвергающееся оценке, сомнению и т. д. и т. п.[379]. Сам объект (под бытием Гуссерль имеет здесь в виду, конечно, объект) остается лишь фоном, некоей неуловимой основой, которая выступает то как воспринятое, то как вспомненное, то как воображаемое и т. д. Ни Брентано, ни Гуссерль не анализировал сам способ рассуждения, посредством которого вводится интенциональность сознания и сфера сознания отделяется от сферы физических феноменов или предметов. Тем не менее этот способ рассуждения, остающийся в тени, достаточно прост. Речь идет о различии за счет тождества: если один и тот же предмет может быть представлен в представлении, если о нем можно нечто выказать, если его можно вообразить и т. д., то само представление, суждение (как акт), воображение и т. д. отличаются по своей сущности, а не только функционально, от предмета. Они обладают внутренней жизнью, внутренней различенностью; их можно изучать, сопоставлять друг с другом, отстраняясь от «самого» предмета. Однако это уже заранее сделано, ибо превращение объекта в точку (центральную точку ядра ноэмы) есть не что иное, как отстранение от него или, лучше сказать, его отстранение. Допущения самотождественности предмета – это своего рода эпохе до эпохе. В основе своей это совершенно обыденный взгляд на вещи, а именно, что на одну и ту же вещь можно взглянуть по-иному. Насколько это является само собой разумеющейся «истиной»?
У Брентано различие между актом представления и представленным, между актом суждения и обсуждаемым положением дел, между любовью и тем, что любится, возможно провести только тогда, когда предполагается Нечто, которое в любви любится, в суждении признается или отвергается, в представлении представляется. Однако Нечто, как и X, не имеет собственного облика, но только «свои» модификации. Такое допущение, или, вернее, отсутствие анализа понятия объекта, ведет к немалым трудностям в учении о сознании.
Я приведу полностью слова Брентано, с которых, говоря без всякого преувеличения, начинается феноменологическая философия. Брентано пишет: «Каждый психический феномен характеризуется посредством того, что схоласты Средневековья назвали интенциональным (а также, пожалуй, ментальным) существованием в нем некоторого предмета (intentionale (auch wohl mentale) Inexistenz eines Gegenstandes), и что мы, хотя и не вполне избегая двусмысленности выражений, назвали бы отношением к содержанию, направленностью на объект (под которым не следует понимать некоторую реальность), или имманентной предметностью. Каждый [психический феномен] содержит в себе объект, хотя и не каждый одинаковым образом. В представлении нечто представляется, в суждении нечто признается или отвергается, в любви – любится, в ненависти – ненавидится, в желании – желается и т. д.»[380]
Термин «intentionale (mentale) Inexistenz» предмета можно также перевести как «интенциональная (ментальная) присущность предмета». Перевод «Inexistenz» как «присущность» соответствует значению слова «Einwohnung», которое Брентано выбирает, характеризуя учения своих предшественников. «Уже Аристотель, – пишет Брентано, – говорил об этой психической присущности (Einwohnung). В своих книгах о душе он говорит, что ощущаемое как ощущаемое находится в ощущающем, чувство принимает в себя ощущаемое без материи, мыслимое находится в мыслящем рассудке»[381].
Вполне допустим перевод Inexistenz как «внутреннее существование» (К. С. Бакрадзе[382], В. В. Анашвили[383]) или «внутренняя наличность» (Н. В. Мотрошилова[384]), хотя словосочетание «ментальное внутреннее» выглядит как плеоназм. Однако при этом следует иметь в виду следующее: речь идет не о том, что предмет находится внутри психического феномена так, как будто в этом феномене может находиться еще что-либо, но о том, что предметность имманентна, внутренне, интенционально присуща психическому феномену. Брентано, как мы видим, употребляет также выражение «каждый психический феномен содержит в себе нечто как объект». Однако это не означает, что психический феномен содержит в себе нечто большее, чем объект, или имманентную предметность.
Почему же все-таки сам Брентано отмечает, что выражения, с помощью которых он описывает основной признак психических феноменов, не лишены двусмысленности? Обратим внимание прежде всего на то, что термины «предмет, содержание, объект, имманентная предметность» выступают как синонимы. Вопрос в том, направлен ли психический акт на реальный объект или на имманентный предмет? Брентано дает ответ на этот вопрос: под объектом не следует понимать нечто реальное, объект может и не существовать вне нашего сознания, но тем не менее – то, что мы представляем, то, что нам дано как нечто, это и есть объект. Означает ли это, что «имманентный предмет», или «имманентный объект» – это то же самое, что и «представленный объект»? Означает ли это, что психический феномен направлен на «представленный», или «мыслимый» объект?
Такое возражение выдвинул против Брентано А. Гефлер (Höfler): тот, кто представляет А, тот имеет в качестве объекта (предмета), или содержания, «представленное А», причем «объект», «предмет» употребляются как синоним «содержания». Ученик Брентано, издатель многих его произведений и его постоянный защитник Оскар Краус отрицает, что Брентано отождествлял объект с мыслимым объектом. Согласно Брентано мы слышим звук, а не услышанный звук. И все же О. Краус вынужден признать, что в главном труде Брентано есть весьма неясные места по этому вопросу. Что касается синонимичности «содержания» и «интенционального объекта», то О. Краус считает это чисто терминологическим вопросом. Вслед за Брентано он полагает, что лучше было бы не говорить об объекте представления как о содержании представления. Термин «содержание» следовало бы применять к другому классу психических феноменов – к суждению[385].
Решается ли этот вопрос терминологически? В письме к своему ученику Антону Марти от 17.03.1906 г. Брентано пишет: «Когда я говорил об «имманентном объекте», то я прибавлял выражение «имманентный», чтобы избежать недоразумения, так как некоторые называют объектом то, что находится вне духа. Я, напротив, говорил об объекте представления, который точно так же присущ представлению, когда ему ничего не соответствует вне духа.
Однако мое воззрение состояло не в том, что имманентный объект = «представленный объект». Представление имеет объектом (имманентным, так как лишь его, собственно, следует называть объектом) не «представленную вещь», но «вещь», таким образом, например, представление лошади [имеет объектом] не «представленную лошадь», но «лошадь».
Этот объект, однако, не существует. Представляющий имеет нечто объектом без того, чтобы он поэтому существовал»[386].
Как мы видим, этот вопрос весьма труден и вряд ли разрешим чисто терминологически. Обратим внимание на два основных момента. Во-первых, Брентано утверждает, что некоторые называют объектом то, что находится вне духа. Однако в настоящее время не только некоторые, но, пожалуй, все употребляют термин «объект» в таком значении. Во-вторых, Брентано утверждает, что объект представления присущ представлению, когда ему ничто не соответствует вне духа. Затем Брентано утверждает, что этот объект не существует. Последнее утверждение может подтолкнуть к переводу Inexistenz как «несуществование». Конечно, так переводить не следует, но все же некоторый оттенок смысла следует иметь в виду: речь идет о различии реального существования и существования исключительно «в» духе. Последнее и есть Inexistenz.
В каком же смысле употребляет термин «объект» Брентано? Речь идет опять-таки о терминологии, воспринятой Брентано у схоластики. Только начиная с Нового времени, начиная с Декарта термины «субъект» и «объект» стали употреблять в современном значении: субъект – это мыслящий человек (или же абсолютный разум – важно только, что субъект – это мыслящая инстанция); объект – это предмет, существующий независимо от субъекта, на который направлены познавательные усилия субъекта. Терминология схоластики соответствовала аристотелевскому воззрению: субъект – это то, что лежит в основе; по Аристотелю, это единичная вещь, объект – это ментальный образ вещи, ее смысл, как бы платоновская идея вещи внутри нашего духа. Именно здесь возникает проблема: что же представлено нам – предмет (лошадь, дерево и т. д.) или же ментальный образ вещи. Если это ментальный образ, то психический акт направлен на то, что представлено, т. е. на представленную вещь. Если же мы примем первый вариант – то, что, собственно, утверждает Брентано, – и скажем: нам представлен предмет, то ментальный образ вещи, или «имманентная предметность», опять-таки будет ничем иным, как «представленным предметом».
Отсюда ясно, что критика А. Гефлера не лишена оснований. Ибо в брентановском определении психического феномена мы читаем: психический феномен направлен на объект, под которым не следует понимать некоторую реальность. Направленность на объект как «имманентную предметность», отношение к «содержанию» (т. е. не к реальному предмету, а к имманентному) есть как раз направленность к «представленному предмету».
Конечно, Брентано не имел в виду, что мы сначала представляем вещь, а затем направляем свое внимание к «представленной вещи». Однако двусмысленность выражений, отмеченная самим Брентано, не исключает такого толкования. Эта двусмысленность состоит, на мой взгляд, в столкновении двух существенно разных и даже противоположных способов описания в одном и том же контексте. Речь идет о «направленности к объекту», или «отношении к содержанию», с одной стороны, и о «ментальном существовании» или, можно сказать, о ментальном присутствии предмета – с другой. Иными словами, с одной стороны, психический феномен характеризуется как направленность на объект, а с другой – как то, что содержит в себе нечто как объект. «Быть направленным на» и «содержать в себе» – эти два вида описания не согласуются друг с другом; во всяком случае, «направленность на» ориентирует нас на реальный объект, а «содержимость» – на имманентный. Это легко показать на примере поля зрения: если мы говорим: «я вижу предмет», в смысле «я визуально направлен на предмет», тогда само поле зрения на втором плане; если же речь идет о том, что предмет появляется в нашем поле зрения или находится в нашем поле зрения, тогда на втором плане – предмет.
Брентано имеет в виду следующее: наша направленность на объект доставляет ему интенциональное, или ментальное, существование. Однако речь ведь должна идти не об объекте, речь должна идти об акте сознания, о его сущностной характеристике. И эта сущностная характеристика есть не что иное, как ментальное существование объекта. Таким образом, как бы ни решался вопрос о природе объекта, акт сознания определятся через объект с прибавлением свойства «ментальный».
Понятие объекта заимствуется Брентано из схоластики и не подвергается анализу. Основное «свойство» этого объекта – самотождественность, которая является необходимым допущением, для того чтобы, во-первых, дать отличительный признак психических феноменов и, во-вторых, поставить вопрос о независимости сознания (психических феноменов) от реальных предметов мира.
Брентано подчеркивает, что объекту, т. е. имманентному объекту, может ничего не соответствовать в реальности. Однако при этом данность как ментальное присутствие не исчезает. Сознание не определяется, таким образом, существованием или несуществованием реальных предметов, сознание содержит в себе предметно-смысловой образ, смысловой слепок предмета, но сам предмет может не существовать, он может быть иллюзорным. Этот аргумент, который неоднократно воспроизводит затем Гуссерль, является одним из важнейших моментов феноменологической постановки проблемы сознания. Второй аргумент, основанный на рассуждении обыденного опыта (повторим это еще раз), состоит в следующем: психические феномены, или, используя гуссерлевскую терминологию, модусы сознания, многообразны (ранее мы уже познакомились с перечислением Брентано). Это многообразие или по крайней мере часть его может быть отнесено к одному и тому же объекту. Один и тот же объект можно представить, можно о нем высказать суждение, можно любить его, ненавидеть, сомневаться в его существовании и т. д. и т. п. Тем самым становится возможным исследовать само это многообразие модусов сознания независимо от предмета и отделять объект, или предмет, от его данности. Между этими аргументами существует определенная связь, ибо несуществование предмета – это тоже своеобразный вариант его самотождественности: то, что не существует, полагается как тождественно несуществующее.
Итак, два аргумента, позволяющие говорить о самостоятельности сферы сознания: 1) безразличие данности по отношению к существованию предмета и вытекающее отсюда различие предмета и содержания представления, суждения и т. д. и 2) возможная тождественность предмета, в отличие от многообразия актов сознания. Мы не будем касаться здесь первого аргумента, а лишь выскажем сомнение относительно второго. Остается ли предмет действительно тем же самым, если на него направлены различные акты сознания? Когда мы говорим об одном и том же предмете, мы должны иметь в виду, что тождественность предмета – это тоже данность. Причем тождественность предмета как данность (иначе говоря, осознание того, что перед нами один и тот же предмет) формируется или принимается как уже сформированная. Не будет ли это наивной позицией допускать тождественность предмета и не поставить вопрос о том, каким образом была сформирована данность этой тождественности? Иными словами, если мы признаем, что сущность сознания заключается в придании смысла, почему идентификация ускользает при этом от анализа?
Самотождественность предмета выступает в качестве неявной предпосылки другой важной характеристики психических феноменов. Брентано обращает внимание прежде всего на то, что как бы ни различались психические феномены, мы можем констатировать, что ни один из них невозможен, если не опирается на представление. Именно представление лежит в основе всех актов сознания. Не только любое суждение или предположение, но и любое душевное переживание опирается на представление. Нельзя судить о чем-либо, не представив, о чем мы судим, невозможно радоваться или печалиться, не представляя, хотя бы очень смутно или только косвенно, предмет нашей радости или печали.
В то же время это не означает, что все психические акты сводятся к представлениям и, соответственно, выводятся из них. Суждение и сомнение, надежда и отчаяние и т. д. обладают собственным своеобразием, однако не могут иметь места без лежащего в основе представления.
Это утверждение о первичной роли представления кажется самоочевидным, однако все же требует критического анализа[387]. Прежде всего отметим, что это утверждение сыграло большую роль в становлении феноменологии в целом. Речь идет прежде всего о различии представления и суждения, иначе говоря, первичного опыта сознания и познающего сознания. Тем самым Брентано преодолевает тенденцию немецкого и прежде всего гегелевского идеализма – отождествлять сознание и познание. Это, в свою очередь, открывает возможность исследовать обширную сферу сознания, не примеривая каждый раз опыт сознания к гносеологическим структурам. Кроме того, выделение представления в качестве первичного акта сознания, лежащего в основе всех без исключения других актов познания, говорит о том, что сферу сознания Брентано мыслит всецело как сферу опыта, но не как сферу трансцендентальных структур, «схематизма чистого рассудка», «чистой апперцепции». Как мы увидим далее, единство сознания для Брентано – это также факт опыта, но не формальное условие объединения представлений.
Тем не менее это утверждение требует анализа. Дело в том, что в представлении, как мы видим, Брентано различает акт представления и то, что представлено, – представленное. Это одно из важнейших феноменологических различий, в котором как раз отделяется «само сознание» от того, что дано сознанию. Однако в утверждении о том, что представление лежит в основе всех других психических феноменов, как раз не различается акт и предмет, или акт и содержание. (Пока мы не будем различать предмет и содержание). Иными словами, Брентано не указывает на то, что же, собственно, лежит в основе других психических актов – акт представления или представленное. Конечно, мы можем рассуждать следующим образом: если нельзя судить о чем-либо, не представив это «что-либо», то наше суждение основано на представленном. Иными словами, акт суждения надстраивается на то, что представлено, но не на акт представления. В свою очередь, представленное соотнесено с актом представления, и акт суждения (и все другие акты) отнесен к фундирующему акту представления лишь посредством представленного. При этом фундирующая отнесенность акта представления к акту суждения, сомнения, радости и т. д. остается непроясненной. Из аргументации Брентано следует лишь то, что в основе любых актов сознания лежит то, что представлено в акте представления. Это в свою очередь подталкивает к тому, чтобы считать основой всех других актов сознания идентифицированный в представлении предмет.
В гуссерлевской феноменологии не только сохраняется предпосылка тождества предмета, но и вводится еще одна предпосылка тождества. Эта предпосылка выявляется при рассмотрении гуссерлевской критики Брентано. Основная цель Гуссерля – сопоставить понятие психического феномена у Брентано и свое собственное понятие переживания. Основной точкой расхождения между Гуссерлем и Брентано является вопрос об очевидности внутреннего восприятия; с точки зрения Гуссерля, в теоретико-познавательном отношении внутреннее и внешнее восприятия имеют совершенно равный статус, т. е. оба могут быть ошибочными. Исходная точка расхождения Брентано и Гуссерля в этом вопросе – различное понимание восприятия. Согласно Брентано восприятие в собственном смысле – это внутреннее восприятие, которое как бы вбирает в себя, принимает в себя свой предмет; для Гуссерля восприятие в собственном смысле – это внешнее восприятие, это апперцепция, это предметное схватывание. Поэтому и данности внутреннего опыта Гуссерль интерпретирует как явления, точнее, как явленности. Истолковав внутреннее восприятие по образцу внешнего, что само по себе весьма сомнительно, Гуссерль затем проводит анализ различных значений термина «явление». Явлением может быть названо, во-первых, конкретное переживание явления, а во-вторых, сам являющийся предмет. Однако ошибочным было бы, согласно Гуссерлю, называть явлением реальные составные части переживания. Эти составные части не являются нам, но нами переживаются.
Основная мысль Гуссерля в данном контексте такова: не все во внутреннем опыте воспринимается, а значит – является. Переживание содержит в себе как акты, так и не-акты – ощущения, которые «оживляются» актами. Истолковав ощущения (не-акты) как содержание переживания – в отличие от его формы – акта, Гуссерль отождествляет затем таким образом понятое содержание и брентановское понимание содержания. Тем самым, то, что Брентано относил к объекту, к физическому феномену, Гуссерль относит к сфере психического. Насколько правомерно такое отождествление? При всех противоречиях и двусмысленностях Брентано никогда не отождествил бы содержание, которое он всегда понимал как предметное содержание, и некий комплекс ощущений, который оживляется психическим актом. Выделение такого комплекса ощущений есть, по существу, метафизическая предпосылка Гуссерля, которая может быть описана только посредством тавтологии: части конкретного переживания – это то, что нами непосредственно переживается.
Другое направление гуссерлевской критики – это брентановское понятие физического феномена. Гуссерль полагает, что в понятии физического феномена Брентано смешивал содержание и внешний предмет. Для предметной стороны сознания, т. е. для феноменальных предметов, Гуссерль предлагает следующее деление: внутренние, имманентные предметы и внешние, трансцендентные предметы. Таким образом, по Гуссерлю, не все то, что Брентано относит к физическим феноменам, является таковым; «часть» этого относится к психическому. С другой стороны, акты сознания – это еще не все, что следует относить к психическому.
Благодаря такому переструктурированию сферы сознания Гуссерль достигает важного результата. Понятие интенциональности теряет ту двусмысленность, которой оно обладает у Брентано. Интенциональность – это направленность на предмет, но не на содержание сознания. Внутренний или внешний предмет, материальный или идеальный предмет, вымышленный или действительный предмет не может быть уже отождествлен с направленностью на предмет, направленность на предмет не содержит уже в себе предмет как часть.
Сама направленность на предмет интерпретируется Гуссерлем как значение предмета, которое никогда не совпадает с самим предметом. В свою очередь, формирование значения раскрывается Гуссерлем структурно. Наиболее общей структурой является здесь гносеологическое переосмысление аристотелевского отношения формы и материи, так называемое оживление данных чувственности актами сознания.
В то же время такое понимание сознания не лишено внутренних проблем. Прежде всего это касается уже выявленной нами предпосылки тождества. Наряду с предпосылкой тождественности предмета (эта предпосылка, как мы видели, является общей для Брентано и Гуссерля) Гуссерль вводит еще одну предпосылку тождества. Комплекс ощущений мыслится им как тождественный при различных схватываниях, при различных актах сознания. Излюбленный пример Гуссерля при анализе проблемы заблуждения – «человек или манекен» (дама или восковая кукла) – интерпретируется следующим образом: мы имеем один и тот же комплекс ощущений, но один раз наш схватывающий акт интерпретирует этот комплекс как даму, а другой раз – как куклу. Можно сказать, что несмотря на существенное различие между позициями Маха и Гуссерля, все же остается нечто общее. Гуссерль допускает фактически нейтральный комплекс ощущений, который затем по-разному может быть предметно интерпретирован. Эта в высшей степени сомнительная предпосылка противоречит собственным установкам Гуссерля: сфера сознания – это поток переживаний, их связей, сцеплений, конфигураций; в этом смысле здесь нет и не может быть чего-либо «нейтрального», самотождественного, ожидающего своего предметного истолкования.
Вторая трудность касается различия значения и предмета и связана с первой предпосылкой, из которой Гуссерль, в отличие от Брентано, сделал последовательные выводы. Различая «просто предмет» и «предмет как он дан», Гуссерль, по существу, приходит к кантианской позиции, полагая предмет в качестве некоего X, носителя всевозможных признаков. Но если предмет, на который направлено сознание, есть просто X, то под вопрос ставится сама предметность сознания. Причем предпосылка самотождественности оказывается действенной у Гуссерля не только по отношению к объекту, но, в отличии от Брентано, она становится действенной по отношению к самой интенциональности. В отличие от Брентано, который считает представление основой всех других физических феноменов, не отрицая интенционального своеобразия последних, Гуссерль без всякой аргументации и дескрипции вводит понятие родовой сущности интенции, или интенции как родовой сущности акта. Рассматривая в V Исследовании значение брентановского различия психических и физических феноменов, Гуссерль выделяет то, что как раз отсутствует у Брентано, – некоторую общую интенцию, интенцию вообще, обозначая ее специальным термином Aktcharakter, который можно перевести как типологическое свойство акта. Гуссерль пишет: «Оценивать ли брентановскую классификацию «психических феноменов» как соответствующую действительности или даже признавать за ней основополагающее значение для методов психологии в целом – значение, которое придавал этой классификации ее гениальный автор, – мы это не обсуждаем. Только одно мы принимаем в расчет как важное для нас: что существуют сущностные видовые различия интенционального отношения, или, короче, интенции (которая составляет дескриптивный родовой характер акта). Способ, каким «простое представление» некоторого положения дел полагает свой «предмет», иной, чем способ суждения, которое считает положение дел истинным или ложным. И опять-таки иным является способ предположения и сомнения, способ надежды или боязни, способ удовольствия и неудовольствия, устремления и отстранения, разрешения теоретического сомнения (решение относительно суждения) или практического сомнения (волевое решение в смысле взвешенного выбора), подтверждения теоретического полагания (осуществление интенции суждения) или полагания воли (осуществление интенции воли) и т. д. Конечно, если не все, то большинство актов суть комплексные переживания; весьма часто сами интенции при этом комплексные. Интенции душевной жизни выстраиваются на интенциях представления или суждения и т. п. Однако нет сомнения, что при разложении этих комплексов мы всегда достигаем первичных интенциональных характерных свойств, которые, по своей дескриптивной сущности, не позволяют редуцировать себя к каким-либо иным психическим переживаниям; и опять-таки нет сомнения в том, что единство дескриптивного рода «интенция» («типологическое свойство акта») («Aktcharakter») обнаруживает видовые различия, которые основываются в чистой сущности этого рода и предшествуют как Apriori всей эмпирически психологической фактичности»[388].
Здесь мы имеем дело с достаточно тонким различием между Брентано и Гуссерлем. Из брентановского определения: каждый психический феномен характеризуется ментальным присутствием в нем предмета, не вытекает, что существует психический феномен как таковой, который не был бы ни представлением, ни суждением, ни любовью или ненавистью. Напомним, что основному признаку психических феноменов у Брентано предшествует другой признак, а именно: психические феномены или сами являются представлениями, или как представления лежат в основе других психических феноменов. Из того, что существует многообразие интенций, не следует, что существует интенция как таковая, если интенция обязана быть дескриптивным положением дел.
Гуссерль, в отличии от Брентано, ставит перед собой задачу определить сущность психического акта как такового, и поэтому он вынужден перейти к построению различных структурных моделей сознания. В частности, в ЛИ идет речь о качестве и материи акта как о структурных его компонентах. Как мы уже отмечали, в основе этих рассуждений Гуссерля также лежит предпосылка тождества, или, вернее, тождество выступает как необходимая предпосылка различия между материей и качеством. Сначала постулируется тождество качеств, для того чтобы выявить различную материю акта, а затем полагается тождество материй, для того чтобы показать различие качеств. В феноменологии Гуссерля сталкиваются, таким образом, два стиля или два способа мышления. С одной стороны, Гуссерль проводит различия, которые не предполагают тождеств: таково различие между двумя смыслами термина знак, таково различие между связями переживаний, между связями вещей и связями истин. С другой стороны, различия, которые существуют за счет тождеств, и в этом случае методология превалирует над дескрипцией.
Введя родовую сущность интенции, Гуссерль был вынужден по существу перейти к построению различных моделей сознания. Объявляя дескрипцию основой феноменологического метода, Гуссерль в то же время полагает в качестве «единицы» сознания то, что, в принципе, не поддается описанию, – интенцию как таковую или переживание как таковое. Тем самым разработка региона «чистое сознание» становится возможным только как структурирование переживания, как структурная модель.
Важно отметить, что любые модели и структуры, при всех действительных достижениях феноменологии, не заменяют описания опыта и не отменяют вопроса о сознании как опыте. Сознание предстает в феноменологии Гуссерля как некоторая общая структура опыта, но не как определенный опыт, и не последнюю роль играет в этом предпосылка самотождественности объекта. Вопрос о сознании как направленности на объект, или предмет, предполагает, что мы уже ответили на вопрос о предмете. В то же время понятие объекта, или предмета, само требует своего прояснения в свете определенного понимания сознания.
3. Различение и структура
Итак, мы можем сформулировать следующую дилемму: или тематизация сознания вытесняет проблему объекта – тождество объекта выступает как неявная предпосылка; или же постановка вопроса об объекте как функции, а не субстанции, вытесняет проблему сознания – субъективное понимается как нечто еще не ставшее объективным.
Прежде чем пытаться разрешить эту дилемму, необходимо присмотреться, присуще ли этим двум тенденциям – феноменологической и кантианской – нечто общее в понимании сознания.
Различие между сознанием и объектом или тождество сознания и объекта еще не раскрывает исходного понимания сознания. Прежде всего общим является подход к изучению сознания, а именно структурный, если не сказать структуралистский. Познавательная способность раскрывается у Канта как система: основные элементы этой системы – априорные формы чувственности и рассудка образуют в своем соединении познание и опыт. Последние оказываются вторичными по отношению к системе априорных форм. В феноменологии также, как мы видели, господствует структурный метод: на вопрос, что есть сознание, Брентано отвечает: сознание (психический феномен) содержит в себе объект, сознание характеризуется направленностью на объект. Такой подход сохраняется и у Гуссерля, причем то сознание определяется через интенциональность, то интенциональность – через сознание. В Идеях I, например, мы встречаемся со следующей формулировкой: «Мы понимаем под интенциональностью свойство переживаний «быть сознанием о чем-либо»»[389].
Упрек Хайдеггера в целом справедлив: во всех этих формулировках не говорится «структурой чего, собственно, должна быть интенциональность»[390]. Согласно Хайдеггеру, бытие сознания остается нераскрытым. Осталось нераскрытым это бытие и в трудах Хайдеггера, ибо для Хайдеггера основной проблемой стала проблема бытия, а сама постановка проблемы сознания стала ассоциироваться с субъективизмом.
Структурному подходу к сознанию как в кантианстве, так и в феноменологии соответствует понимание сознания прежде всего как синтеза, объединяющего внутренние структуры сознания, синтеза, превращающего «многообразное представлений» в единство предметности. В феноменологии это в большей степени присуще Гуссерлю, нежели Брентано, хотя и у последнего основной характеристикой сознания остается «схватывание». И Брентано, и Гуссерль апеллируют к опыту сознания, но само сознание предстает как абстрактный феномен, модусами которого являются восприятие, память, суждение, радость и т. д. Хайдеггеровский вопрос можно было бы перефразировать так: модусами чего являются восприятие, суждение и т. д.? Если «субстанцией» этих модусов считать синтез, то мы приходим к парадоксальной ситуации трансценцентализма: субстанция модусов опыта сознания сама опытом не является, ибо синтез не является опытом. Предполагая синтез, мы можем иметь в опыте результаты синтеза, но не само его осуществление. В таком случае сознание предстает как нечто, что доступно лишь косвенно, но его объективациями.
В целом такой подход к проблеме сознания, когда сущность сознания выносится за пределы любого конкретного опыта, присущ не только кантианству и феноменологии. Сознание как опыт превращается в «понятие сознания», т. е. в абстракцию, что открывает путь к построению различных моделей сознания, т. е. открывает возможность структурного подхода к сознанию. Возможности иного пути открывает опыт сознания как опыт различений, который как бы пронизывает все остальные виды опыта. Речь идет не об истолковании понятия сознания, но об обращении к опыту, который доступен каждому.
XI РАЗЛИЧЕНИЕ И ИЕРАРХИЯ ОПЫТА
Первичный опыт, который лежит в основе понимания любой предметности в самом широком смысле слова, был рассмотрен в I разделе как опыт различений. Это поставило под сомнение, казалось бы, неоспоримое мнение, что на одну и ту же вещь можно взглянуть по-иному. Иначе говоря, сомнению была подвергнута первичность идентификации по отношению к различению и даже их равнозначность. Однако при этом не был поставлен, во-первых, вопрос о переходе от различия к идентификации, т. е. вопрос о происхождении тождества: если мы говорим о тождестве объекта, то необходимо феноменологически показать, как сознание достигает смысла его самотождественности. Во-вторых, не был поставлен вопрос и об объекте: если сознание приобрело свой различающий «облик», то объект оставался безликим и неопределенным, «бесцветным». При постановке вопроса о сознании не было принято во внимание «понятие» мира как двустороннего коррелята: с одной стороны, коррелята сознания, а с другой – коррелята предмета. Классификация различий была проведена фактически в соответствии с традиционным делением «познавательных способностей». Не был учтен также опыт бихевиористской психологии, которая в лице Е. Толмэна и Е. Боринга отказалась от менталистской концепции сознания и впервые связала сознание и различение.
1927 год был урожайным на дифференции. Одновременно с онтологической дифференцией, т. е. одновременно с Бытием и временем, появилась статья Е. Толмэна, в которой он впервые явно сближает сознание и различение: «Сознание имеет место там, где организм в определенный момент раздражения переходит от готовности реагировать менее дифференцированно к готовности в той же ситуации реагировать более дифференцированно (…) Момент этого перехода есть момент сознания»[391]. Позднее этот взгляд обобщил Е. Боринг: «Различение (discrimination) – это физическая функция организма. Это критерий ума, сознания, знания. Животные, дети и невменяемые взрослые (irresponsible adults) признаются обладающими сознанием только в той степени, в какой они различают, т. е. в той степени, в какой они реагируют дифференцированно (разделяющим образом) на дифференцированную ситуацию»[392]. Эта концепция не была далее развита, бихевиористы только указали на ведущую деятельность в установлении отношений, а именно на различающую активность.
Примечательно также, что К.-Ф. Грауман в своей статье Сознание и осознанность[393], рассматривая эту концепцию наряду с другими, критикует ее: «то, что сознание есть не что иное, как способность различать, не представляется, очевидно, серьезным»[394]. Грауман признает, однако, что способность различать есть существенная функция сознания, которая допускает объективный анализ. При этом ясно, что Грауман возвращается к субстанциалистскому пониманию сознания: различение интерпретируется здесь как некоторая функция неизвестного нечто, названного «сознанием».
В отличие от феноменологии Гуссерля, теории сознания Толмэна и Боринга представляют собой попытку непосредственного доступа к сознанию – не через интенциональность как направленность на объект, не через структурирование сознания как региона бытия, но через непосредственную отсылку к опыту различения как к самому сознанию. Однако теории Толмэна и Боринга недостаточно радикальны, различение отождествляется в этих теориях с выбором. Способность различения интерпретируется как физическая функция и исключительно как реакция на уже дифференцированную ситуацию. Опыт бихевиористы понимают, с одной стороны, слишком узко: речь идет только о реакции на ситуацию, а с другой стороны, слишком широко: не проводится ясное различие между человеческим и не-человеческим опытом. Кроме того, Толмэн не преодолевает полностью субстанциалистскую модель: сознание понимается как момент перехода от менее тонких различий к более тонким. Сам этот переход следовало бы понимать как различие более высокого уровня, как различие различений, которое являются как раз основным признаком человеческого сознания. Это, в свою очередь, ведет к постановке вопроса о смысле перехода в сфере сознания, иначе говоря, о переходе как таковом в сфере внутреннего опыта: чем обеспечивается такой переход? В то же время идея перехода от менее дифференцированной к более дифференцированной реакции содержит в себе имплицитно идею иерархии, которая является одной из основных характеристик человеческого сознания.
1. Опыт и сознание
Опыт лежит в основе не только иерархий сознания и философского мышления, но и всех регионов человеческого бытия – ценностных ориентаций, эмоциональных состояний, познания, телесности, деятельности и др. Опыт – это первичная попытка и способность быть сознающим, телесным, мыслящим, любящем или ненавидящем, действующим и т. д. Опыт – это выделение первичных ориентаций и предметностей этих регионов, своего рода их подпочва и в определенном смысле «общий знаменатель». Опыт как первичный доступ к тому, чтобы быть сознающим, телесным, действующим и т. д., есть не что иное, как различение, умение различать: умение быть – это умение различать.
Различение опыта сознания, опыта мышления, опыта деятельности, эмоционального опыта (и многих других) не подразумевает какого-то нейтрального опыта, опыта как такового, модификациями которого являлись бы указанные опыты. Само различение этих опытов – это изначальный факт опыта сознания, факт, что такое различение имеет место. Опыт мышления, специфика которого состоит как раз в многоуровневом различении различений (а также различенностей и различенных) есть экспликация этого факта. В самом деле, если любой опыт – это многообразие различений, то мышление, различающее опыты, – это различение различений. Впрочем, различение различений присуще не только опыту мышления, но и любому другому опыту, ибо любому опыту присуща «рефлексия», как модификация этого опыта. Брентановскую идею о том, что представление сопровождается представлением этого представления, следовало бы понимать именно таким образом: первичное различение как первичное многообразие различений сопровождается различением различений, что ведет к выделению определенных различий и к очевидности такого выделения. Тем не менее опыт мышления качественно отличается от всех других опытов именно тем, что иерархия различений в этом опыте принципиально открыта и никогда не может быть завершена.
Утверждение, что многообразие различений составляет любой опыт, что различение «пронизывает» любой опыт, не следует понимать так, как будто существует некое «чистое различение» аналогично кантовскому «чистому синтезу». Также не существует, разумеется, и «чистого опыта». Тождество различения и опыта означает, что любой опыт (как различение) имеет место в определенном регионе человеческого бытия или на пересечении нескольких регионов, различение – это всегда различение в рамках определенного опыта.
В то же время, отрицая существование нейтрального опыта, – само это словосочетание противоречиво – мы все же полагаем в качестве «субстанции» всех опытов опыт сознания. Привилегированное положение опыта сознания состоит прежде всего в том, что многообразие различений сознания имеет своим коррелятом первично различенное, тогда как все без исключения другие виды опыта ориентированы на воспроизводимое различенное, на воспроизведение уже проведенных различий. Не столько сила воображения, сколько сила различения как опыт сознания лежит в основе творчества в любом виде опыта. При этом, однако, различение как опыт сознания не нужно понимать как «акт», «производящий» различия. Различение «производит» лишь ничто, разделяющее различенное.
Например, приступая к тому или иному виду деятельности, мы уже имеем различенными хотя бы предмет и орудие деятельности. В опыт деятельности встроен опыт телесности (хотя опыт телесности имеет место и за пределами опыта деятельности) с его телесными здесь и теперь, с его различениями в специфическом пространстве деятельности, различениями уже дифференцированного в сфере физиологического и физического (гравитация, свет, звук и т. д.).
Напротив, опыт сознания не содержит в себе заданных различений, хотя благодаря этому опыту возможно различать уже заданные различения и впервые проведенные. Опыт сознания пронизывает любой другой опыт, ибо содержит в себе все многообразие возможных различий. В нашем примере: здесь/там, теперь/позже/раньше, свет/звук, гравитация/невесомость, предмет/другой предмет, орудие/другое орудие и т. п.
Опыт сознания проникает в опыт телесности и деятельности как первичное пространство различий, пространство первичных ориентаций. Термин «пространство» понимается здесь не в смысле переноса физического понятия в сферу «гносеологии». Напротив, пространство как опыт сознания, точнее, как определенный уровень в иерархии сознания, понимается здесь в собственном и первичном смысле: это выделение многообразных типов ориентаций. Первичное различение отграничивает определенный опыт и, соответственно, регион бытия: жизненно важное пространство, архитектурное, художественное, сакральное, спортивное пространство, пространство орудийной деятельности и массовой информации, пространство образования и познания, где, собственно, и выделяется физическое и геометрическое пространство, и т. д. вместе с соответствующими опорными точками (предметностями) ориентаций, как то: предметы обихода, музеи, театры, концертные залы, храмы и предметы культа, спортивные сооружения, библиотеки и лаборатории, компьютеры и радиоприемники, телевизоры и газеты.
Вторичные различения – внутри определенного опыта – дают единичные или индивидуальные предметы, скажем, определенное телесное движение или определенную информацию и т. д. Достигая индивидуального, т. е. неделимого, атомарного – все эти слова лишь перевод с одного языка на другой – предмета, мы делаем приостановку различений; не различая далее, мы приостанавливаем опыт и входим в сферу возможных идентификаций и синтезов как сферу вне опыта, или не-опыта. Эта приостановка всегда относительна, ибо приводит к новым различениям и зачастую к новым видам опыта.
Единичные предметы как раз не даны изначально в опыте, но выделяются, если угодно, формируются в опыте. Вопрос не в том, как из созерцания единичного, или на основе созерцания единичного, постигается общее в «абстрактном» мышлении. Вопрос в том, как мы получаем доступ к единичному. Единичное, уже по своему смыслу, как единица, принадлежит определенному общему. Единичный предмет всегда существует в рамках какого-либо опыта (или пересечения опытов).
Весь вопрос в том, что принимается за точку отсчета: предмет или опыт. Если исходить из предмета и называть его при этом индивидуальным, неявно признавая его самотождественность, то все попытки объяснить общее оказываются тщетными. В проблеме общего и единичного, или индивидуального, т. е. неделимого, следует исходить из опыта как многообразия различений. При этом общее есть не что иное, как сам этот опыт, как некоторое многообразие различений, определяющее границы опыта, в котором даны те или иные предметности. Индивидуальный, т. е. неделимый далее, предмет образуется в результате той или иной приостановки различений. Любое понимание общего в качестве сущностей, форм, идей и т. д. есть не что иное, как гипостазирование единичного, или индивидуального, которое само первоначально требует экспликации в качестве единичного. В этом смысле идея – это не «то, что видно в вещи» (А. Ф. Лосев), но то, что как раз лишает зрения «в чистом свете».
В основе различения пространств лежит опыт сознания (приостановка различений – это переход к различиям другого типа), однако этот опыт не принимается в расчет; почему он «забывается», «вытесняется» и т. п. – это вопрос особый. Различия фиксируются, но только социологически, культурологически и т. д. Только в феноменологической философии нащупывается корреляция между опытом сознания, или субъективностью (если пользоваться терминологией Гуссерля и Хайдеггера), и пространством.
Подвергая критике натурализм (и натурализацию сознания), Гуссерль указывает на его генезис: «Натурализм – это последствие открытия природы, природы в смысле единства пространственно-временного бытия, подчиняющегося точным законам природы»[395]. Речь идет об открытии физического пространства и времени, при этом подразумевается, но не раскрывается форма субъективности, или опыт сознания, посредством которого осуществляется открытие единства пространственно-временного бытия. В том, что здесь не упоминается субъективность, проявляется своеобразная наивность гуссерлевской феноменологии. Гуссерль пишет о натурализации сознания так, как будто эта натурализация осуществляется какими-то силами извне. Указывая на формы радикального и последовательного натурализма – популярный материализм, монизм ощущений, энергетизм, Гуссерль не принимает во внимание, что все эти формы исходят из модифицированного и деформированного определенным образом опыта сознания. Например, исходя из многообразия ощущений как непреложного факта в опыте сознания, эмпириомонизм превращает опыт сознания как различение ощущений в сферу сознания, состоящую из ощущений, как атомов или элементов. Эти элементы, как известно, интерпретируются затем (ибо опыта такой трансформации не существует) как нейтральные элементы мира.
Следует ли Хайдеггер в этом контексте Гуссерлю, формулируя свой риторический вопрос: «А если, однако, объективность объективного мирового пространства с неизбежностью остается коррелятом субъективности определенного сознания, которое было чуждо эпохам, предшествовавшим европейскому Новому времени?»[396]
Казалось бы, он так или иначе возвращается здесь к гуссерлевской мысли о корреляции смысла (в данном случае смысл – это «объективное мировое пространство и его объективность») и сознания, подчеркивая при этом поглощение физико-техническим пространством иных пространств, например художественного пространства, а также пространства повседневных действий и повседневного общения. Такое поглощение уместно было бы как раз назвать агрессивностью. Однако словосочетание «субъективность сознания» указывает не только на одну из субъективистских корреляций; мысль Хайдеггера состоит в том, что любая коррелятивность сознанию является субъективистской. В попытке раскрыть художественное пространство скульптуры Хайдеггер избегает слова «сознание» и уже не говорит, конечно, о скульптуре как «корреляте сознания». В то же время выражение «субъективность сознания» у Хайдеггера весьма неоднозначно. Ему не удается и здесь «избавиться от сознания»: если субъективность определенного сознания, коррелятивная объективности пространства была чужда другим эпохам, то по логике вещей этим эпохам была свойственна некоторая другая субъективность сознания. Как это ни парадоксально, Хайдеггер прибегает здесь к объективистскому описанию: корреляция объективности объективного мирового пространства и субъективности сознания только обозначается, но не раскрывается.
Очевидно, что под субъективностью (сознания) Хайдеггер понимает то, что мы назвали не-опытом в сфере сознания, т. е. систему утверждений, тождеств, синтезов, в которых реализуется понятие о некотором объективном пространстве. Кроме того, Хайдеггер не различает открытие физического пространства, пространства классической механики, и превращение этого пространства во вместилище всех других пространств. «Значительный вклад» в это превращение внес Кант, превратив ньютоновское пространство в априорное вместилище явлений.
Таким образом, речь должна идти не об одном, но по крайней мере о двух коррелятах «субъективности сознания», причем первому из них – физическому пространству – соответствует опыт познающего сознания, а второму – философски интерпретированному всеобъемлющему пространству – «внеопытная» сфера сознания как определенная система трансцендентальных утверждений. Собственно говоря, под «субъективностью сознания» Хайдеггер неявно понимает сознание как суждение, сознание как приговор предметности быть той или иной ячейкой мирового пространства. Если сознание трактовать в первую очередь как систему суждений, тогда справедливым, конечно, является противопоставление объективного пространства как коррелята субъективности сознания и художественного пространства, которое не является, разумеется, коррелятом сознания как системы суждений. Тем не менее различия (или лучше – различенности) замкнутых пространств скульптуры, о которых пишет Хайдеггер, различия мест и ориентаций – все это коррелят опыта сознания как различения.
То, что предметность понимается как коррелят сознания, не заключает еще в себе субъективизма. Субъективизм имеет место тогда, когда сфера сознания повернута к предметности своей «вне-опытной» поверхностью. Тем более что «субъективность сознания» не единственна: субъективизм принимает все новые и новые формы. Вслед за открытием природы как единства пространственно-временного бытия, подчиняющегося точным законам природы (Галилей, Ньютон), произошло открытие природы как всеобщего предмета труда, подчиняющегося законам общественно-исторической практики (Маркс). Впрочем, второе открытие природы, так же как и первое, можно считать эпохальным в том смысле, что в этих открытиях раскрылась эпоха, хотя, конечно, формулировки принадлежат авторам: Марксу, Галилею, Ньютону. Однако и опыт сознания – это опыт не столько индивидуальный, сколько общий. И за «субъективностью сознания» как двух разных систем утверждений, коррелятом которых являются указанные открытия природы, всегда стоит определенный опыт и переход этого опыта различений в сферу идентификаций.
Сегодня мы можем спросить: какова же «субъективность сознания», коррелятом которой является третье открытие природы как всеобщего объекта информации – научной, политической, промышленной, метереологической, туристической и т. д.? Какова «субъективность сознания», коррелятом которой является особый вид информации – массовой информации, т. е. информации, манипулирующей и манипулируемой массами? Ответы на эти вопросы предполагают исследование определенного опыта сознания, выделяющего особое пространство информации, а также исследование перехода от этого опыта сознания к соответствующей внеопытной сфере или, используя для ее характеристики выражение Хайдеггера, к определенной субъективности сознания.
Оправданность термина «опыт сознания» состоит в том, как это уже ясно из вышеизложенного, что, исходя из различия опыта и не-опыта сознания, т. е. из различия в сфере сознания области различений и области идентификаций и синтезов, можно ставить вопрос о деформации опыта, о его «догматизации», об ошибках и несбалансированности этих областей.
«Сам по себе» опыт безошибочен, различия суть таковы, каковы они есть, различия и только различия суть первичные данности, источник очевидности, хотя это всегда очевидность в определенном опыте; ошибочными могут быть идентификации и синтезы, причем ошибка – это каждый раз ошибка в рамках определенного опыта.
Темпоральный и пространственный опыты сознания равно первичны. Различие между пространством и временем (как опытами) – это изначальное различие опыта сознания. Если опыт сознания дает первичный простор, «открывает горизонты» для различного типа опытов, полагая в то же время их границы, то опыт времени выделяет различные опыты как различный ритм человеческого бытия. Если фундаментальным пространственным различием является «ближе/дальше» (ближний/дальний; досягаемость/недосягаемость и т. д.), то фундаментальным темпоральным различением является «раньше/позже», «применимое» уже к самим различениям любого опыта: серия различений в рамках любого опыта темпорально структурируется посредством «раньше/позже»[397]. Мы берем слово «применимое» в кавычки, ибо речь идет не о том, что имеет место некоторое чистое различие «раньше/позже» или «ближе/дальше», но об опыте сознания как различении различий, т. е. о различении различных «позже/раньше», равно как и «ближе/дальше». Так же как в пространственном опыте нет чистого здесь и чистого там, ибо различие здесь/там – это приостановка различения ближайшего/отдаленного, так и в темпоральном опыте нет чистого теперь и чистого не-теперь. Различие раньше/позже можно обозначить также как различение еще-не-теперь/уже-не-теперь. Если мы приостанавливаем различение еще-не-теперь/уже-не-теперь, мы получаем серию теперь-точек (в терминологии Гуссерля), или настоящее время. Оно, очевидным образом, вторично, производно от опыта и «лежит» вне опыта. Как только мы обращаемся к опыту, настоящее исчезает, оно превращается в точку, в пустоту между «раньше» и «позже». В этом смысле, следует различать время как опыт сознания, т. е. многообразие различений раньше/позже, разумеется, осуществленных в рамках определенного опыта (телесности, деятельности и т. д.) и время вне опыта (но опять-таки в сфере сознания) как приостановку опыта, его фиксацию. Фиксация теперь («удержание теперь-точки») превращает настоящее в единственно подлинное время, объявляя прошлое тем, чего уже нет, а будущее – тем, чего еще нет. Время как опыт замещается безвременьем структуры: прошлое-настоящее-будущее, где настоящее, поглощая различие раньше/позже, может постоянно раздвигать границы, например: наши дни – наша эпоха – наша эра – наша цивилизация.
И все же, несмотря на то, что различения – это всегда различения определенного опыта, опыт сознания выделен как осознание этого «факта», т. е. как распределение различений по многообразию типов опыта, как различение различений. Кроме того, к опыту сознания относится не только различение опыта и не-опыта, т. е. различение различения и идентификации и различение различения и синтеза, но и опыт равновесия между опытом и не-опытом, т. е. различение таких идентификаций и синтезов, в которых воплощен недеформированный опыт. Последний опыт может быть назван регулятивным принципом, но все же это принцип, в основе которого – опыт. Противоположностью равновесия в опыте является предпочтение – динамичный посредник между различением и идентификацией, опыт, провоцирующий каждый раз изменение конкретной иерархии идентификаций.
2. Сознание, различение, мир
Сознание не есть нечто гомогенное, и поэтому недостаточно указать на различение как первичный опыт сознания. Сознание представляет собой скорее сложную иерархию опыта, функций, ориентаций, ментальных состояний.
При таком понимании сознания становится очевидным, что сформулированная выше дилемма: или сознание – ментальная субстанция, радикально отличная от самотождественных предметов мира, или же сознание – это набор функций, зависящий от предметов как функций, вполне разрешима. Феноменологический принцип остается в силе: сознание предмета никогда не равно предмету сознания. Но в тоже время объект нельзя понимать как некоторую самотождественную субстанцию. То, что нам первично дано, – это не объект, или предмет, вещь или положение вещей, но контрасты, различия, дифференции. Не спонтанные иррациональные силы, но различия и только различия могут быть объективированы. Объективация различий есть не что иное, как различение между дальнейшими возможностями различений и достигнутым их многообразием. Иначе говоря, объективация – это приостановка различений, а объект – это достигнутое в каждый конкретный момент и в каждой конкретной ситуации многообразие различений. Формирование объекта есть не что иное, как этапы приостановки различений.
Способ бытия различения – это само различение, оно обнаруживает себя именно как различение. Как сказал бы Хайдеггер: различение само себя в себе показывает – но в том-то и дело, что не только само себя. Здесь как раз более релевантен гуссерлевский образ горизонта: различие может указывать на другие различия. В этом смысле истинное различение ведет к другим различениям, но не останавливается на каком-либо достигнутом тождестве.
То, что в первичном опыте различения может быть названо «субъективным», – это само различение; то, что может быть названо «объективным», – это различенное. Различение между различением и различенным опять-таки принадлежит к сфере опыта различения.
Понимание сознания как опыта различений, опыта, который пронизывает все другие виды опыта, приоткрывает доступ к новому типу онтологии – эмпирической, антиконструктивистской, открытой. Если объект, или сущее, – это приостановленное различение, то мир предстает как гигантское многообразие различенностей-границ, относительно которых имеет смысл провести фундаментальное различие между нерукотворными и рукотворными.
Исходя из различия между различением (опытом сознания), различенностью сущего (миром) и различенным (предметом), сознание может быть понято как многообразие различений, предпочтений и идентификаций, образующих подвижную иерархию, или серию иерархий, коррелятивную миру как иерархии контекстуальных границ, упорядочивающих многообразие различных типов опыта (повседневной жизни, познания, экономической и политической деятельности, эстетического восприятия, этического предпочтения и т. д.), ценностей и предметов.
Различие между различением и идентификацией составляет ключевой момент философской проблемы сознания. Как многообразие различений, сознание – это непосредственный и первичный опыт человека, пронизывающий все другие виды опыта и обеспечивающий возможность перехода от одного опыта к другому; источник и граница человеческого бытия.
Сознание – смыслообразующее начало психической жизни. Если способность различать характеризует психическое и живое вообще, то человеческому сознанию свойственна уникальная способность различать типы различий и их иерархии, что лежит в основе типологии смыслообразования.
Неизбежный переход от различений к идентификациям в процессе любого рода коммуникации позволяет отнести термин «сознание» как к самому этому переходу (переход в сфере сознания – прерогатива предпочтения), так и к идентификации, которая, в свою очередь, есть исходный пункт сравнения и классификации. Сравнение (и классификация) предполагает тождество, различение – нет.
Различение нельзя определить через род и видовое отличие, ибо само различие между родом и видом – это одно из различий. Различение можно сопоставить с идентификацией, ассоциацией (синтезом), сравнением и классификацией (иерархия функций сознания); с представлением, суждением, оценкой, предположением (иерархия модусов предметного отношения); с чувством и волей (иерархия ценностных ориентаций); с эмоциями (иерархия ментальных состояний); с пространством и временем (иерархия первичных телесных ориентаций), с этическим, эстетическим, познавательным и др. опытами (иерархия опытов), и наконец – с иерархией указанных иерархий только на «основе» самого различения. В этом смысле различение самореферентный (хотя и не замкнутый) опыт.
Различение не вторично и не первично, но коррелятивно различенности, оно не активно (спонтанно) и не пассивно (рецептивно): в опыте различения в той же степени продуцируются, в какой воспринимаются, различия. Различие между спонтанностью и рецептивностью – это одно из различий, определяющее конкретные виды опыта. Различение не интуитивно (это не акт восприятия, но то, что «наличествует» в любом акте), и его нельзя представить наглядно; различение непредметно и не определяется через предмет. Различение никогда не может быть единственным, вне иерархии или ряда: любое различение – это по существу различение различений. Например, различая два цвета, мы сразу же выделяем (различаем) контекст, в котором мы проводим это различение: красный и зеленый могут быть сигналами светофора, символами общественных движений, обозначением степени спелости определенных фруктов и овощей и т. д. Каждый из этих контекстов занимает определенный уровень в контекстуальной иерархии (встроен в другое контекстуальное различение): водитель/пешеход, избираемый/избиратель, продавец/покупатель и т. д.
Различение – это не образ, не знак, не предмет, но источник образа, знака, предмета (как различенного); различение – всегда сопряжено со значением образа, знака, предмета. Само значение – это не ментальный атом, способный к соединению с другими атомами, но отношение уровней контекстуального деления.
Например, сигнал светофора – это знак запрета или разрешения движения, однако значение, которое получает цвет, – это не знак. Значение быть знаком основано на значении внезнаковой природы: в данном случае значение – это необходимость различения движений транспортных потоков или движения транспорта и пешеходов. Значение как различие определяет возможный набор знаков-носителей этого значения (сигнал с помощью цвета, жест регулировщика). Значение – это прежде всего свойство мира, а затем уже свойство предметов, образов или знаков.
Не сознание наделяет предмет значением, как бы испуская ментальный атом, который достигает предмета, но предмет становится значимым, когда он коррелятивно различению обнаруживает свои функции на границе двух или нескольких опытов и контекстов. Различение ориентаций в мире – «работать», «обедать», «отдыхать» и т. д. – делает значимыми соответствующие объекты.
Дескрипция опыта различений, т. е. дескрипция первичного сознания, возможна только как воспроизведение определенных различений в рамках определенного опыта и контекста. Она всегда опирается на определенный уровень рефлексии, которая не есть нечто внешнее сознанию, но лишь определенный уровень различения различений.
Таким образом понятая рефлексия позволяет выделить четыре первичных различия, характеризующих сознание, во-первых, как опыт различений, во-вторых, как переход от различения к идентификации, в-третьих, как иерархию опыта, функций, ориентаций, ментальных состояний: 1. Различие между различением, различенностью и различенным; 2. Различие между передним планом и фоном в самом широком смысле. 3. Различие между нормой и аномалией; 4. Различие между игрой и тем, что игрой не является (речь, конечно, не о том, что игра есть нечто «несерьезное», речь о различиях типа: чувство голода/организация помощи голодающим или описание голода, например, у К. Гамсуна; болезнь/искусство врачевания; любовь/объяснение в любви; вера/языковая игра теологии и т. д.).
Два первых различия можно назвать формальными, два последних – содержательными. Различие между этими различиями определяет, собственно, различие между формальным и содержательным. Два первых различия дополняют друг друга: с одной стороны, само выделение переднего плана и фона как первичной характеристики любого различия в целом, а не только различенного, т. е. предметного (передним планом может быть определенное различение), предполагает уже отделение различения от различенности и различенного. С другой стороны, второе различие неизбежно является исходным пунктом в описании и экспликации первого различия, в частности в описании перехода от различения к идентификации. Акцент на различении (первичный из всех передних планов) выделяет опыт в собственном смысле, его самоотнесенность (любое различение – это различение различий), то, что можно было бы назвать первичным самосознанием; акцент на различенности выявляет коррелят абсолютной дискретности различения, а именно: различие дискретности и непрерывности как основное свойство мира: речь идет о границах определенных опытов и контекстов и иерархии этих границ; акцент на различенном указывает на идентифицированный предмет, причем понятия трансцендентного и имманентного получают отчетливый дескриптивный смысл: различие различения и различенного характеризует трансцендентность предмета по отношению к опыту (различенное нельзя редуцировать к различению); различие между различенностью (опытов, контекстов) и предметом (различенным) характеризует имманентность предмета миру (предмет – всегда в определенном опыте и контексте). Иначе говоря, имманентное и трансцендентное приобретают рациональный, т. е. лишенный мистических оттенков, смысл только тогда, когда различие между ними проводится «на основе» различия между различением, различенностью и различенным.
Различие переднего плана и фона, их принципиальная «асимметрия» – источник такого опыта сознания, как предпочтение. В свою очередь устойчивое предпочтение определенного переднего плана и забвение фона характеризует объективирующую функцию сознания, приостанавливающую дальнейшие контекстуальные различения и определяющую тем самым границы предмета. Смысл объективности предмета достигается приостановкой различений. Объективирующая функция – почва для трансформации сознания как опыта в сознание как идентификацию, рекогницию предмета, который трактуется при этом как «сформированный» или из комплексов ощущений, в которые вносится связь, или в результате практической деятельности, удовлетворяющей те или иные потребности. Это подталкивает к субъективистски-объективистской позиции (при которой, в частности, проблема трансцендентного и имманентного оказывается неразрешимой): сознание создает предмет, который предстает затем перед сознанием как мнимо независимый от него материал познания или деятельности. Противоположная, неагрессивная позиция состоит в том, что предмет выделяется из мира как иерархии контекстов и оказывается коррелятом сознания как различения. Связи и отношения – в предметах, в сознании как первичном опыте – лишь различения; посредником между ними выступает мир как различие дискретности опытов и непрерывности контекстов.
Значение – это свойство мира как иерархии различенностей. В свою очередь мир – это не совокупность предметов и даже не совокупность положений дел. Мир – это вообще не то, что имеет место. Мир – это то, что не имеет места, что не случается, не выражается, не переживается и т. д. Мир – это иерархия различенностей, не улавливаемых органами чувств и не конструируемых интеллектом. Такова различенность между звуком и светом – собственно говоря, это различенность между звуковыми и световыми различиями; такова различенность между теплым и холодным, твердым и мягким и т. д. При этом само различение и сама различенность не ощущается и не конструируется. Таково и одно из важнейших различий познания и практики: мы видим предмет благодаря различию предмета и фона, однако мы не видим самой границы между фоном и предметом.
XII ДЕСКРИПЦИЯ И ДЕФОРМАЦИЯ ОПЫТА (вместо заключения)
Вопрос об основаниях опыта, или о первичном опыте, может быть разрешен только на основе опыта. Вряд ли можно позитивно или негативно ответить на вопрос, играет ли синтез фундаментальную роль в «сфере сознания», не принимая во внимание философскую риторику и суггестивный характер философии. Скорее можно сказать, что «синтетическая сила» или «деятельность сознания» затеняет первичный опыт: сила синтеза как бы оттесняет опыт различений.
Понятие собирающей, формирующей, объединяющей и обрабатывающей силы, которое восходит к греческим понятиям логоса, идеи и формы, господствует в новоевропейской традиции и лежит в основе самого господства понятий. Кульминационным пунктом этой традиции является кантовская «трансцендентальная апперцепция» как собирающая предмет из представлений. От этой традиции едва ли можно просто дистанцироваться. Мы имеем дело здесь со своего рода трансцендентальной видимостью, и наше восприятие и наше мышление постоянно представляются нам как связующие силы, ибо «естественная рефлексия» направлена на уже состоявшиеся и усвоенные мысли других или же на результаты своего собственного восприятия и мышления. В то же время реализовавшийся в этом процессе опыт различений растворяется в результатах.
Радикализация рефлексии, превращение рефлексии, обращенной к готовым результатам, в феноменологическую рефлексию, обращенную к конститутивным процессам, – это путь преодоления указанной трансцендентальной видимости. Достаточно ли радикальна, однако, рефлексия в феноменологии Гуссерля?
1. Дескрипция, трансцендентальная наивность и оперативные понятия
Пересмотр своих собственных оснований, предпосылка радикальной самокритики не только не противоречит принципу беспредпосылочности, но и упрочивает его. В негативном плане рефлексия – это преодоление наивности; радикализация рефлексии призвана преодолеть уже наивность не естественной установки, но наивность установки феноменологической. В самом широком смысле трансцендентальную наивность Гуссерль и Финк связывают с темпоральностью субъективности: при попытке эксплицировать самовосприятие, при попытке эксплицировать свой собственный «горизонт бытия» «я сталкиваюсь со своей имманентной временностью и тем самым со своим бытием в форме бесконечного потока переживаний (…) Протекая в живом настоящем, экспликация, в пределах сферы восприятия, может обнаружить только протекающее в живом настоящем. Мое собственное прошлое она раскрывает наиболее первичным образом посредством воспоминаний»[398]. Однако очевидность воспоминания несовершенна, и можно говорить о причастности к очевидности только на основе следующего закона: «сколько видимости, столько и бытия (которое только прикрыто, искажено этой видимостью)»[399].
Согласно Гуссерлю необходимость критики трансцендентального познания связана именно с необходимостью критики трансцендентального воспоминания – насколько последнее обладает аподиктичностью[400]. Именно эту идею Гуссерля подхватывает Финк: «Теперь, после преодоления мирской наивности (Weltnaivität), мы находимся в [ситуации] трансцендентальной наивности. Она состоит в том, что мы растолковываем (auseinanderlegen) и развертываем трансцендентальную жизнь только в [текущем] настоящем (Gegenwärtigkeit), не проникая аналитически во «внутренние горизонты» этой жизни, [т. е.] в [ее] конститутивную работу»[401].
Мы не будем здесь рассматривать и оценивать, насколько успешным было преодоление трансцендентальной наивности у Финка в VI Картезианской медитации, для нас важнее указать еще на одну форму критики феноменологии изнутри, которая также связана с именем Финка. Речь идет о так называемых «оперативных», или функциональных, понятиях феноменологии Гуссерля. Темой рассмотрения у Финка становится само мышление мыслителя: «Мы имеем как бы двойственную тематику: философствующее мышление становится «темой» относительно своих высказываний о том, что для него самого является первичной темой»[402]. Мышление фиксирует себя в понятиях, развивает свою мысль Финк, образование понятий нацелено на фиксацию продуманного в мышлении, это «тематические понятия». «Однако преобразовании тематических понятий, – пишет Финк, – мыслители-творцы используют другие понятия и мыслительные модели, они оперируют интеллектуальными схемами, которые они совершенно ^фиксируют предметно. (…) Их понятийное понимание движется в некотором понятийном поле, в некотором понятийном медиуме, на которые они сами совершенно не могут обратить свой взгляд»[403]. Мысль Финка, критически обращенная к феноменологии Гуссерля, вырастает из последней. С точки зрения Финка, Гуссерль не просто различал между тематическим и не-тематическим, он «тематизировал» само это различие, введя термины «наивность и рефлексия», «естественная установка» и «трансцендентальная установка». Финк полагает, что метод эпохе понимают слишком узко, если видят в нем лишь момент «отказа от веры», разрушение предшествующей «наивности». «Скорее нужно как раз эту «наивность» подвергнуть мыслящему рассмотрению, чтобы наблюдать себя, так сказать, в нашей собственной мирской тематике (Welt-Thematik)», – отмечает Финк[404]. И все же, с точки зрения ассистента Гуссерля, высоко ценимого Гуссерлем и долгое время работавшего с ним, в гуссерлевской феноменологии можно указать на оперативные понятия, т. е. понятия, которые используются для раскрытия той или иной темы, но сами не тематизируются, не становятся темой анализа. Примечательно, что к таким понятиям Финк относит вовсе не второстепенные, но как раз основные понятия феноменологии: «феномен» (причем Финк анализирует пять разных значений этого понятия у Гуссерля), «эпохе», «конституирование», «исполненная работа» (Leistung – труднопереводимый на русский язык термин), «трансцендентальная логика».
Эти вопросы, поставленные Финком и отчасти Гуссерлем, чрезвычайно важны. Они касаются предельных основ философского мышления, которое, согласно глубокой мысли Финка, никогда не может полностью устранить оперативные понятия. Последние всегда остаются тенью философии. «Само мышление основывается в том, что не вызывает сомнения (das Unbedenkliche). Свой творческий подъем оно осуществляет посредством употребления не вызывающих сомнения остающихся в тени понятий»[405].
Речь у Финка идет, конечно, не о том, что мышление не может ставить под вопрос свои результаты. Речь о другом: мышление не может подвергать сомнению сам акт мысли – «просто-напросто» потому, что предметом мысли сначала выступает предметность в самом широком смысле и мысль о предметном, но не акт мысли и его непосредственное выражение в языке. Иначе говоря, мыслитель не может контролировать шаг за шагом свое творческое мышление; в таком случае творческое мышление потеряло бы свою основу – свободу мышления – и превратилось бы в свою противоположность. Здесь Финк абсолютно прав: мышление не может сомневаться в своих собственных актах. И дело не в том, что мы в состоянии отделить одну данность от другой, каким бы образом они ни попадали в наше «поле зрения» – сновидчески, иллюзорно или же в нормальном восприятии, – мы всегда отличаем ель от майского жука (пример Гуссерля), камин от шахматной доски (пример Вл. Соловьева); дело в самом «акте мысли», который вообще выпадает при этом из сферы идентификации.
Важность поставленных Финком вопросов не исключает, конечно, того, что предложенное им направление их решения и прояснения ситуации «перепрыгивания собственной тени», т. е. тематизации оперативных понятий, отнюдь не бесспорно. Самокритика не гарантирует истинности.
Финк прав, конечно, что речь идет не о психологическом процессе мышления, но о «сущностных отношениях». Для Финка это каждый раз конечная перспектива человеческого понимания мира. Однако дело в том, что конечная перспектива мышления имеет своим источником не «узость сознания», но многообразие перспектив, лучше сказать: иерархию перспектив. Другими словами, не недостаточность человеческого мышления, но его избыточность, избыточность различений – исток разделения «света и тени», эксплицитно создаваемой понятийности и понятийного фона, от которого невозможно отстраниться (Финк справедливо утверждает, что «оперативное затенение не означает, что затененное как бы лежит в стороне, вне сферы интереса, – это скорее сам интерес»[406]), актуальностей и потенциальностей сознания.
Другой весьма спорный пункт в рассуждениях Финка – это его понимание философии как «интерпретации» и, соответственно, экспликативной речи о философии – как интерпретации интерпретации[407]. И хотя Финк берет в первом случае слово «интерпретация» в кавычки, а также смешивает гегелевский и хайдеггеровский языки, все же ясно, что он не различает анализ и интерпретацию хотя бы потому, что называет попытку провести различие между тематическими и оперативными понятиями в мышлении философа интерпретацией интерпретации. Оставляя в стороне вопрос, можно ли вообще интерпретировать интерпретации, мы хотим подчеркнуть, что именно различие между анализом и интерпретацией, различие неустранимое, во многом определяет и различие между тематическим и оперативным.
Финк усматривает возможность исследования оперативных понятий в том, что можно проследить генезис этих понятий из значений слов обыденного языка, что можно фиксировать метафоры как метафоры. Трудно переоценить важность такой постановки вопроса. В то же время остается неясной программа «трансцендентального языка» у Финка, о котором речь идет как в этой статье, так и в VI Картезианской медитации. Должен ли создаваемый «трансцендентальный язык» быть языком, на котором «говорит» трансцендентальный опыт, или же этот язык должен быть языком описания трансцендентального опыта? Не попадаем ли мы в таком случае в бесконечный регресс, ведь любому философскому и даже метафилософскому языку должен соответствовать определенный опыт?
Выявлять истоки оперативных понятий в обыденном языке необходимо, но недостаточно. За каждым понятием обнаруживается, если говорить на языке Гуссерля, конститутивная работа, даже за понятием конституирования. Как определить характер этой работы и язык ее описания? Может быть, трудность заключена как раз в том, что такие термины, как «акт», «конституирование», «работа» (Leistung) и т. д., не адекватны опыту мышления, может быть, речь об «акте мысли» уже является метафорической, так же как речь о потоке внутреннего времени (на что обращает внимание Финк)? Во всяком случае, рефлексия в феноменологии Гуссерля остается одним из «оперативных» понятий; мысль Гуссерля о том, что рефлексия – это модификация сознания, не обрела своей конкретизации; строго говоря, не был раскрыт ни опыт, соответствующий самой «работе» интенциональности, ни опыт, соответствующий анализу сознания. Таким опытом, как мы видели, является многоуровневый, иерархический опыт различений.
Дальнейшая радикализация рефлексии требует подвергнуть сомнению само различие оперативных и неоперативных понятий. Иными словами, сомнению должен быть подвергнут характер того, что, по Финку, не вызывает сомнения. Разумеется, оперативные понятия могут основываться на других понятиях, но это не может продолжаться бесконечно. Из существования оперативных понятий вовсе не следует, что область «неоперативного» должна быть также понятийной сферой. Речь должна идти не столько о затенении понятий, сколько об опыте, который затеняется посредством понятий. Тематическое формирование понятий основывается скорее не на «вытесненных» интеллектуально-понятийных моделях, но на опыте, который не является понятийным. Как бы ни толковать мышление, его основа не является понятийной; до-понятийный опыт – его подвижный фундамент. Таким образом, различие тематического и нетематического должно быть дополнено другим различием – между понятийными схемами и не-схематичным опытом, или между понятийным уровнем опыта и первичным опытом различений. Подчинение опыта понятиям – специфическая черта «синтетической» философии Канта. Как мы уже отмечали, предисловие к первому изданию Критики чистого разума, где, так сказать, «синтетическая составляющая» гораздо сильнее, чем во втором издании, начинается, по существу, с парадокса: «Без сомнения, опыт есть первый продукт, который производит наш рассудок»[408].
Установка Гуссерля противоположна: не понятийный рассудок создает опыт, но в опыте мы должны искать источники наших понятий. Формально Гуссерль принимает кантовскую установку, и синтез оказывается у него «изначальной формой сознания». Однако гуссерлевский синтез – это не слепая сила души и не источник понятий, но синтез многообразных содержаний опыта, формирующий представление об одной и той же вещи. И все же синтез оказывается у Гуссерля оперативным понятием, причем не только в том смысле, который придает «оперативности» Финк, т. е. не только понятием с затененной основой, но и активно затеняющим понятием. Если у Канта синтез вообще затеняет первичность опыта, претендуя на роль его создателя, то в методологических рассуждениях Гуссерля синтез затеняет и вытесняет первичный опыт сознания – опыт различений.
Хранительницами первичного опыта в феноменологии Гуссерля оказываются рефлексия и дескрипция, которые всецело основываются на опыте различий. Наилучший пример этого дается в I Исследовании, где сама рефлексия не только обнаруживает себя как серия различений (см. VI раздел), но и интенциональность сознания предстает как различие интенции значения и осуществления значения. Дескрипция различий не может быть ничем иным, как различением различений; рефлексия как серия различений обнаруживает первичный опыт сознания как изменчивую иерархию различений.
В этой связи гуссерлевский тезис о том, что рефлексия – это модификация сознания, можно назвать «трансцендентально наивным». Это не означает, что сам по себе тезис является ложным. В определенном контексте он совершенно верен – когда рефлексия, как вырастающая из первичного опыта, противопоставляется конструкции. Однако доступ к первичному опыту мы все же получаем благодаря рефлексии. В этом смысле первичный опыт сознания есть «модификация» рефлексивного различения. Иначе говоря, из рефлексии как серии различений мы «узнаем» о первичном опыте различений. Это знание возможно только как воспроизведение наличной здесь и теперь иерархии различений.
Может быть, тогда уместно было бы назвать первичным опытом сознания рефлексию, а воспроизводимый в рефлексии опыт ее продуктом? Однако в этом как раз и состоит различие между естественной и радикальной рефлексией. Первая выделяет «единицы сознания»: восприятие, память и т. д., вторая воссоздает опыт, названный первичным только потому, что он является условием возможности всех без исключения видов опыта. Опыт различений – это первичное Apriori, обнаружить, открыть которое призвана радикальная рефлексия как опыт различений. Дескрипция и рефлексия становятся оперативными понятиями только при допущении синтеза в качестве изначальной силы (или формы) сознания. В этом случае ни рефлексия, ни дескрипция не поддаются дескрипции и оказываются вне сферы феноменологии.
2. Опыт, кризис, агрессия
Аналитика «пассивного синтеза» у Гуссерля – это чрезвычайно важная попытка описания опыта как конститутивного процесса. Однако не только пассивный синтез, но и пассивные различения должны быть приняты в расчет, хотя, конечно, «пассивные» – только в кавычках, так как сами различения нельзя охарактеризовать как активные или пассивные. Говоря точнее, речь идет о различениях, которые еще не различены как различения и не «встроены» в определенную иерархию различений. Речь идет, во-первых, о том, чтобы в том или ином конститутивном процессе констатировать определенные различия, т. е. отличить их от других различий и тем самым отличить один конститутивный процесс от другого. Во-вторых, речь идет о том, чтобы указать на отсутствие тех или иных «нормальных» различий в том или ином опыте, указав тем самым на деформации опыта. Иными словами, если первичный опыт сознания – это опыт различений, то первичные деформации опыта – это нехватка различий. Любая норма предполагает многообразие (набор) определенных различений. Любая аномалия – их нехватку. При этом норму и аномалию следует сопоставлять в рамках определенного опыта, а не «абстрактно»: художник различает больше оттенков цвета, чем «нормальный» человек. Это не означает, что последний – аномалия художника.
Различая опыт и понятия, различение и синтез, мы различаем тем самым дескриптивное и недескриптивное. Само это различение исходит из дескрипции, ибо недескриптивное не имеет доступа к одному из различенных, т. е. к опыту (понятийные различия исходят из тождеств, из того, что за пределами опыта). Дескриптивное и недескриптивное – корреляты, передний и задний планы этой корреляции могут меняться местами, однако само различие между ними можно провести только тогда, когда на переднем плане – дескрипция. Аналогично: различие «сильней», чем синтез, ибо можно различить различие и синтез, но нельзя их «синтезировать». Различие опыта и понятия также говорит нам о том, что опыт и понятие мы различаем на основе опыта, но не наоборот. Понятия и синтетическая деятельность вообще недоступны непосредственной дескрипции, они могут быть причастны дескрипции только косвенно, через дескрипции результатов. Деформации опыта также доступны дескрипции только косвенно, однако, в отличие от понятий и синтезов, они доступны дескрипции через описание нормального опыта. Конечно, речь идет не об объективной временной последовательности осознания – сначала нормы, а затем аномалии. Видимо, норма осознается как норма только при наличии аномалий, а констатация аномалий может быть различной и вовсе не дескриптивной.
И все же дескрипция ориентируется на опыт, ибо аномалия – это нехватка различений, зафиксировать которую возможно лишь при обращении к опыту, в котором эти различения «наличествуют». Деформации опыта, так сказать, полудескриптивны; над аномалиями господствует идентификация (например, idée fixe); деформация или аномалия – на границе дескриптивного и недескриптивного, они причастны дескрипции, но все же выходят за пределы дескриптивного опыта. Тем не менее мы будем говорить о дескрипции деформации, подразумевая ее косвенный характер.
Различая опыт и понятия, мы характеризуем опыт различений как неагрессивное начало сознания, а понятийный синтез – как агрессивное. Иначе говоря, речь идет не о понятии силы и агрессивности, но о силе и агрессивности понятий. Однако если мы хотим придерживаться опыта, то следует обратить внимание еще на один, и весьма важный аспект проблемы агрессивности и неагрессивности сознания. Так же как в вопросе о сознании, мы задаем не вопрос «что такое агрессия?», но вопрос «что такое агрессия как опыт, точнее, как деформация опыта?». Речь идет о дескрипции агрессии как опыта, т. е. о дескриптивном положении дел в такой деформации опыта, как агрессивность. Разумеется, не только агрессивность можно представить дескриптивно как деформацию опыта. К числу важнейших деформаций принадлежит также кризис, или кризисное сознание. При описании кризиса и агрессивности в качестве фона, или «оперативного понятия», нам послужит нечто недескриптивное, а именно понятие силы.
Речь идет, таким образом, не о каком-либо психологическом, медицинском, социологическом или политическом смысле понятий кризиса и агрессивности, ибо речь вообще не идет о кризисе и агрессивности как понятиях, но о соответствующих конститутивно-деструктивных процессах опыта. Конечно, невозможно полностью отстраниться от объективного, понятийного смысла кризиса и агрессивности; дескрипция должна осуществлять свое движение зигзагообразно, как это сформулировал Гуссерль, и всегда подразумевать объективное.
Рассмотреть кризис как конститутивное состояние и сопоставить его с опытом различений тем более необходимо, что греческое слово «кризис» означает как раз разделение или отделение. В качестве деформации опыта, если угодно, «осознания» разделения, кризис необходимо отличать от различения. В разделении (как кризисе) нет места различению переднего и заднего планов. Кризис – это, по существу, граница как таковая, не признающая по-граничного. Напротив, любое «истинное различение» подразумевает различение переднего плана и фона, последнее «содержится» в любом различии. В этом смысле каждое различение – это различение различений. Из этого первичного различения различений развертывается иерархическое самоконституирование опыта различений. Если различение «не забывает» о фоне, то в опыте кризиса фон под угрозой. Кризис как разделение затеняет различение различений, вытесняет различение переднего плана и фона, уничтожает оттенки.
Кризисное сознание, или кризисный опыт, может быть далее охарактеризовано как деформация отношений целого и его частей. Объективно кризис означает угрозу целостности, «субъективно», точнее, конститутивно – отсутствие четких различий между самостоятельными и несамостоятельными частями этой целостности: превращение несамостоятельных частей в самостоятельные (например, попытку превратить ощущения как несамостоятельные части опыта в самостоятельный предмет наблюдения) или превращение самостоятельных частей в несамостоятельные (например, проект построения федеративного и одновременно тоталитарного государства).
Как правило, кризис связан со вторым процессом – с усилением целостности, с разрушением равновесия между частями и целым. Это равновесие может быть достигнуто, если целое выстраивают из частей, но не «нарезают» части из целого. Кризисное сознание – это вовсе не нигилистическое сознание разрушения или уничтожения. Скорее это попытка любой ценой удержать целостность, попытка, которая не находит своего основания в отношении частей к целому и во взаимном отношении частей.
Кризисное сознание – это также деформация темпоральности опыта, жесткое разделение между прошлым, настоящим и будущим. Конститутивно и на языке Гуссерля это можно определить как нарушение ретенциально-протенциальных функций внутреннего сознания времени. В кризисном сознании настоящее выступает как таковое – без ретенциальных и протенциальных «оттенков», а следовательно, как иллюзорное настоящее. На языке «сочленений» едва ли можно выразить это лучше, чем у Шекспира: «The time is out of joint».
Однако возможен и другой язык – язык различений, точнее, язык, указывающий на их нехватку. В кризисном сознании нет различий между передним планом и фоном времени: прошлое рассматривается только как то, что уже миновало, а не как прошлое настоящего. Будущее – как то, чего еще нет, а не как проект настоящего – проект, определяющий настоящее, и проект, определяемый им.
Если кризисное сознание обращается к прошлому как к «своей опоре», тогда прошлое превращается в настоящее, а «настоящее настоящее» объявляется недействительным. Если опору находят в будущем, тогда живут в будущем как в настоящем. Само собой разумеется, кризисное сознание можно описать и как систему ложных идентификаций и синтезов, однако опыт подсказывает нам, что они лишь «результаты» различений. Идентифицируем мы, собственно, определенное многообразие различений, возможные пределы которых образуют границы предметов. Синтезируем мы собственно различения (а не мифические чувственные данные или кантовское аморфное «многообразие»), что делает наш опыт темпоральным и историчным.
Попытаемся теперь выявить основные направления косвенного описания агрессии как деформации опыта сознания. Как и кризисное, агрессивное сознание характеризуется прежде всего нехваткой различений. Объективный смысл агрессии – вторжение с целью превратить «объект агрессии» в несамостоятельную часть, «подчинить своей воле». Конститутивно агрессия связана с избытком сил – не с соизмерением своих сил с силами противника, но именно с «ощущением» такого избытка. Однако не каждый избыток сил и не всякая чрезмерная активность ведут к агрессии. К агрессии может привести только такой избыток сил, при котором недостает различия своего и чужого. Агрессия всегда стремится присвоить и объединить; это избыток сил единения.
Конститутивно феномен агрессивности предполагает деформацию опыта чужого, когда собственное навязывается чужому в качестве образца. Конститутивно агрессии, так же как и кризису, недостает различия самостоятельных и несамостоятельных частей. Однако в отличие от кризисного сознания в деструктивном опыте агрессии эта нехватка проявляется в опыте чужого: агрессия уравнивает в этой нехватке собственное и чужое. (Другая крайность – рабство – это также деформация опыта чужого, когда чужое принимается в качестве образца для собственного, которое конституируется как несамостоятельная часть.) Различие между собственным и чужим – одно из фундаментальных различий не только опыта сознания, но и человеческого мира, это необходимая граница, структурирующая наш мир. Нехватка этой дифференции деформирует, и иногда весьма значительно, порядок значимостей жизненного мира.
Со стороны темпоральных отношений «агрессивная интенция» также в определенной мере близка кризисному сознанию. Конститутивно агрессия ориентирована на настоящее, причем на моментальное настоящее; агрессия – это как бы внутренний блицкриг. Агрессивность вытесняет из опыта еще в большей мере, чем кризисное сознание, временной интервал между решением и осуществлением. (Речь идет, конечно, не об объективном планировании агрессии – оно вполне возможно, но об отсутствии «внутреннего расстояния» между замыслом и реализацией; на языке Гуссерля – между интенцией значения и осуществлением значения.) Агрессивность ищет моментального осуществления.
Таким образом, можно выделить по крайней мере четыре момента в самоконституировании деструктивно-агрессивного сознания:
1. Желание моментального осуществления.
2. Отсутствие дистанции между своим и чужим.
3. Отсутствие опыта различения между самостоятельными и несамостоятельными частями в предмете опыта.
4. Избыток синтетических, объединяющих сил при вытеснении опыта различий.
Единство, общность, сплоченность как ценности – в объективном, социальном смысле – редко подвергались радикальной критике. Не впадая в руссоизм, можно, однако, констатировать, что единство как объединение упрочивает свое положение одной из «высших ценностей» в эпоху трансцендентальной апперцепции и мирового разума, прогресса и порядка, корпоративности и коммуникации, в эпоху компьютерного моделирования «картины мира». В современном мире почти утрачено различие между единством как объединяющей агрессивной силой и единством как промежуточным результатом различений.
Это «объективное» различие социального мира имеет свой коррелят в сфере сознания. Вопрос здесь состоит опять-таки не в том, что есть единство как понятие (единство как понятие – это объединяющая сила), но в том, что есть единство как опыт, и каким образом в опыте проводится различие между единством как опытом и единством-вне-опыта как объединяющей силой познания и деятельности.
В контексте проблемы единства сознания различие между единством как опытом и единством как объединяющей силой выступает в качестве различия конкретного единства переживаний и простой, неделимой силы, сцепляющей наши представления. Франц Брентано был одним из первых, кто обратил внимание на различие простоты и единства при постановке проблемы единства сознания. С Брентано начинается спор о необходимости допущения «Я» как силы, связующей наши представления.
В противовес Канту Брентано не считал необходимым допущение «чистого Я»; единство сознания не обеспечивается, по Брентано, некоторой простой, неделимой силой, которая вне переживаний, но представляет собой фактическое, каждый раз иное сочетание переживаний. Примерно той же позиции придерживается, как мы видели, и Гуссерль периода Логических исследований.
Вопрос о единстве сознания, вопрос о первичности или вторичности «Я» аналогичен вопросу о первичности или вторичности различения и синтеза: его нельзя решить позитивно или негативно раз и навсегда, ибо именно «Я», с которым должны сообразовываться наши представления (вопрос только в том, каким образом они распознаются как таковые, т. е. идентифицируются), затеняет опыт различений. «Я» может стать первичным по отношению к опыту различений и ассоциаций, если этот опыт синтетически группируется для «нападения» (убеждения, увещевания, призыва и т. д.) или для «защиты» (отстаивания своих убеждений, несогласия). В таком случае «Я» – это функция идентификации, которая при определенных фактических условиях может стать функцией агрессии или ее отражения.
Неагрессивное сознание как опыт различений не нуждается в «Я» как регулирующей силе. С «точки зрения» опыта, «Я» – это граница неагрессивного сознания, сознания как опыта, различающего сознания. С понятийной и синтетически деятельной точки зрения, «Я» – это центр управления, объединяющий как познавательные силы, так и устремления деятельности. Усиление «Я», как усиление идентификации, ведет к выходу за пределы опыта, и наоборот: выход за пределы первичного опыта требует усиления Я, т. е. более жесткой идентификации.
Обнаруживающие себя в опыте различений единства – это сочетания подвижных иерархий различений, промежуточные результаты опыта, образующие основу для дальнейшего его осуществления. За пределами опыта различений единство – это объединение тождественного, требующее «высшей инстанции», уравнивающей, т. е. деформирующей, различное; различное не может быть объединено, если оно не уравнено «в определенном аспекте». Не будет лишним еще раз подчеркнуть: сравнение и различие различны; «Я» – основа деформирующего сравнения представлений. Единство в сфере опыта и единство за его пределами образуют корреляцию переднего и заднего планов, которые могут меняться местами как в сфере сознания, так и в социальном мире. В отношении единства это различие определяет различие между нормой и аномалией.
Болезнь-к-единству-за-пределами-опыта – это болезнь хронической усталости, главной опасности Европы, о которой предупреждал Гуссерль в Венской лекции (1935) и которая теперь угрожает не только Европе. Речь, конечно, о внутренней усталости как следствии перенапряжения сил познания и деятельности. Каким же образом можно восстановить равновесие между внутренним и внешним, между опытом и суждением, между различением и синтезом? Каким образом можно снова отыскать путь к бодрствующему сознанию, нехватка которого есть именно внутренняя усталость? Вероятно, существует много путей поиска ответов на эти вопросы. Но каковы бы они ни были, они могут и должны быть путями опыта. И не последний из них – это опыт сознания как опыт различений.
Примечания
1
См.: Урманцев Ю. А., Трусов Ю. П. О специфике пространственных форм и отношений в живой природе // Вопросы философии. 1958. № 6; они же. О свойствах времени //Вопросы философии. 1961. № 5.
(обратно)2
См.: Блауберг И. В., Юдин Э. Г. Становление и сущность системного подхода. М., 1973. С. 139–141.
(обратно)3
Копнин П. В. Гносеологические и логические основы науки. М., 1974. С. 478.
(обратно)4
Гулыга А. В. Кант. М., 1976. С.5.
(обратно)5
Мотрошилова Н. В., Соловьев Э. Ю. От защиты «строгой науки» к утверждению иррационализма // Вопросы философии. 1964. № 5. С. 92.
(обратно)6
См.: Analecta Husserliana. The yearbook of phenomenological research/Ed. by A.-T. Tymieniecka. Vol. I–XXII. Dordrecht-Boston: D. Reidel, 1971–1986.
(обратно)7
Этой теме, а также сравнительному анализу учений Канта и Гуссерля, Канта и Хайдеггера были посвящены весьма немногочисленные публикации: Гайденко П. П. Проблема интенциональности у Гуссерля и экзистенциалистская категория трансценденции // Современный экзистенциализм. М., 1966; Бочоришвили А. Т. О замечаниях М. Хайдеггера на статью Эдмунда Гуссерля // Бочоришвили А. Т. Философия, психология, эстетика. Тбилиси, 1979; Мотрошилова Н. В. Гуссерль и Кант: проблема «трансцендентальной» философии // Философия Канта и современность. М., 1974; Гайденко П. П. Учение Канта и его экзистенциалистская интерпретация // Философия Канта и современность; Бородай Ю. М. Воображение и теория познания. М., 1965.
(обратно)8
Зелены И. Марксистский и феноменологический взгляд на так называемый кризис науки // Вопросы философии. 1973. № 1. С. 46.
(обратно)9
Ссылки на «Критику чистого разума» даны в тексте. Указывается стандартная пагинация немецких изданий, где А – первое издание, а В – второе издание, и соответствующее место русского перевода по изданию: Кант И. Критика чистого разума // Собр. соч.: В 6 т. М., 1964. Т. 3. В большинстве случаев перевод сделан или уточнен автором.
(обратно)10
Heidegger M. Kant und das Problem der Metaphysik. Frankfurt am. M., 1973. S. 160.
(обратно)11
Это опять-таки не означает, что объективная сторона дедукции теряется. Она вообще не вызывает сомнения у Канта, в то время как субъективную дедукцию очень трудно удержать в исследовании, и к тому же, по мнению Канта, она может не вызвать в читателе полной убежденности (А XXIII; Т. 3, 78–79).
(обратно)12
В дальнейшем эти термины мы будем употреблять как синонимы.
(обратно)13
Кант указывает, что само слово понятие (Begriff) могло бы дать повод к признанию необходимости осознания единства синтеза воспроизведения, а значит, и созерцания.
(обратно)14
Кант лишь вскользь упоминает во втором издании о синтезе аппрегензии (В 160; Т. 3, 210); синтез воспроизведения вообще не рассматривается.
(обратно)15
Синтез рекогниции в том виде, как он представлен в сформулированном вопросе, есть сущность, аналогичная «нынешнему королю Франции» у Рассела.
(обратно)16
Речь идет не о том, что воспроизведение было бы бесполезным, как это дано в русском переводе, но о том, что оно невозможно без сознания тождества воспроизводимых в последовательности представлений.
(обратно)17
Различие между философскими и научными затруднениями рассматривал Л. Витгенштейн.
(обратно)18
Гумбольдт В. Избранные труды по языкознанию. М., 1984. С. 76–77.
(обратно)19
См. там же. С. 28.
(обратно)20
Специфика кантовской постановки вопроса заключается также в том, что не язык объективирует представления, но созерцания удостоверяют предметность языка: «Слова понятны нам лишь в том случае, если им соответствует что-то в созерцании» (А 277; Т. 3, 325).
(обратно)21
Первой формой априоризма, в котором поставлена эта проблема (в мифологической форме), была, очевидно, теория воспоминаний Платона.
(обратно)22
Husserl E. Logische Untersuchungen. Bd. II. Т. 1. Tübingen, 1968. S. 346.
(обратно)23
Husserliana III. Haag, 1950. S. 181 (в дальнейшем: Hua).
(обратно)24
Hua I. Haag, 1950. S. 183.
(обратно)25
Hua III. S. 177.
(обратно)26
Hua III. S. 181.
(обратно)27
Эту тему мы будем обсуждать подробнее в связи с феноменологическим понятием онтологии (см. гл. III, § 3).
(обратно)28
Шестов Л. Умозрение и откровение. Париж, 1964. С. 306.
(обратно)29
Там же.
(обратно)30
Hua VI. Haag, 1954. S. 140
(обратно)31
Гуссерль Э. Философия как строгая наука. Логос. 1911. № 1. С. 26.
(обратно)32
Эти лекции вместе с лекциями 1905–1910 гг. в 1928 г. опубликовал М. Хайдеггер (см.: Husserl E. Vorlesungen zur Phänomenologie des inneren Zeitbewußtseins. Halle, 1928). Исследования Гуссерля по феноменологии времени с 1905 по 1917 г. собраны в: Hua X. Haag, 1966.
(обратно)33
См.: Hua III. S. 208–209.
(обратно)34
Hua VI. S. 172.
(обратно)35
Hua X. S. 10.
(обратно)36
Гуссерль выделяет несколько этапов рефлексии на удовольствие от «теоретически последовательного движения мысли»: 1) рефлексия на прошлую длительность удовольствия (когда оно не было в фокусе рефлексии); 2) рефлексия на более ранние напряжения теоретической мысли, которые породили его; 3) рефлексия на взгляд, который был ранее направлен на удовольствие, 4) рефлексия на изменение направленности удовольствия, и т. д.» (Hua III. S. 179–180).
(обратно)37
Hua III. S. 179.
(обратно)38
Термин «Zeitbewußtsein» можно перевести как «осознание времени», однако в ходе дальнейшего рассмотрения вопроса станет ясно, что перевод этого термина как «время-сознание» соответствует общему замыслу лекций Гуссерля.
(обратно)39
Термин «Zeitbewustsein» можно перевести как «осознание времени», однако в ходе дальнейшего рассмотрения вопроса станет ясно, что перевод этого термина как «время-сознание» соответствует общему замыслу лекций Гуссерля.
(обратно)40
Hua X. S. 4.
(обратно)41
Ibid. S.5.
(обратно)42
Ibid. S. 6.
(обратно)43
Hua X. S. 8.
(обратно)44
Hua X. S. 9–10.
(обратно)45
Brentano F. Psychologie vom empirischen Standpunkt. Bd. I. Leipzig, 1924. S. 125.
(обратно)46
См.: Ingarden R. A priori knowledge in Kant vs. a priori knowledge in Husserl. Dialectics and Humanism. Autumn 1973. P. 17–18.
(обратно)47
Боль, например, может иметь предметную отнесенность – к предмету, вызвавшему боль, и к члену тела, в котором непосредственно боль ощущается. Однако боль как ощущение не содержит в себе предметного смысла.
(обратно)48
Husserl E. Logische Untersuchungen. Bd. II. TI. 2. Tübingen, 1968. S. 243.
(обратно)49
Hua III. S.223.
(обратно)50
Ibid. S. 316.
(обратно)51
Hua III. S. 321.
(обратно)52
Гуссерлевские понятия ноэсиса и ноэмы подробно рассматриваются в книге: Шпет Г.Г. Явление и смысл. М., 1914. С. 126–183.
(обратно)53
Ноэмата – множественное число от слова «ноэма».
(обратно)54
Мы касаемся здесь учения Ф. Брентано о времени только на основе изложений Гуссерля.
(обратно)55
Hua X. S.12.
(обратно)56
Hua X. S.11.
(обратно)57
Ibid. S. 17.
(обратно)58
Ibid. S. 15.
(обратно)59
Hua X. S. 24–25.
(обратно)60
Ibid. S.27.
(обратно)61
См. ibid. S. 28.
(обратно)62
Такое расслоение восприятия звука позволяет выделить по крайней мере три объекта рефлексивного наблюдения: 1) первоначальное впечатление; 2) его удержание (ретенцию); 3) то, что удерживается в ретенции, т. е. сам тон.
(обратно)63
Hua X. S.16.
(обратно)64
Hua X. S. 118.
(обратно)65
Ibid. S. 34.
(обратно)66
Мерло-Понти сохраняет немецкий термин, специальный анализ которого можно найти в книге: Sokolowski R. Husserlian Meditation. Evanston, 1974. P. 89–93. По-русски Abschattungen можно передать как «профили», «перспективы», «наброски» и т. д.
(обратно)67
Merleau-Ponty М. The Phenomenology of Perception. N. Y., 1962. P. 417.
(обратно)68
Hua X. S. 80.
(обратно)69
Ibid. X. S.119.
(обратно)70
Точно так же убедить кого-либо в существовании музыкального слуха можно только тогда, когда этот «кто-то» его имеет.
(обратно)71
Brand G. Welt, Ich und Zeit. Haag, 1955. S. 68.
(обратно)72
Ibid. S. 75.
(обратно)73
Гуссерль Э. Философия как строгая наука. С. 26.
(обратно)74
Перцепция может иметь дело с разнообразными объектами, сохраняя при этом особый, перцептивный характер акта. То же самое относится к памяти, фантазии и к другим модусам сознания.
(обратно)75
Р. Моррисон, например, считает, что, по Канту, «единство сознания имеет понятийный, а не временной характер» (Morrison R. P. Kant, Husserl and Heidegger on time and the unity of «consciousness» // Philosophy and Phenomenological Research. Buffalo, 1978. V. XXXIX. N 2. P. 184).
(обратно)76
Hua X. S. 35–36.
(обратно)77
Ibid. S. 36.
(обратно)78
Ibid. S. 39.
(обратно)79
Hua X. S. 100.
(обратно)80
Ibid. S. 46. Представление понимается здесь в смысле воспроизведенного образа.
(обратно)81
Линдсей П., Норман Д. Переработка информации у человека. М., 1974. С. 417.
(обратно)82
Там же.
(обратно)83
Hua X. S. 54.
(обратно)84
Hua X. S. 55.
(обратно)85
Hua VI. S. 138–140.
(обратно)86
Hua X. S.42.
(обратно)87
Итеративность, повторяемость рефлексии опять-таки выступает в качестве одного из ее основных свойств.
(обратно)88
В художественной форме тщетную попытку самоидентификации существом, у которого несколько «историй», превосходно выразил С. Лем (см.: Лем С. Маска // Химия и жизнь. 1976. № 7, 8).
(обратно)89
Память от фантазии, в частности, можно отличить по тому признаку, что память памяти возможна, а фантазия фантазии нет.
(обратно)90
Hua X. S. 64.
(обратно)91
Ibidem.
(обратно)92
Ibid. S. 63.
(обратно)93
Hua X. S. 73.
(обратно)94
Ibid. X. S. 75.
(обратно)95
Hua X. S. 74–75.
(обратно)96
Ibid. S. 76.
(обратно)97
Ibid. S. 111–112.
(обратно)98
Hua X. S.112.
(обратно)99
Ibid. S. 112–113.
(обратно)100
Hua X. S.83.
(обратно)101
Hua III. S. 190.
(обратно)102
Ibid. S. 180.
(обратно)103
Heidegger М. Sein und Zeit. Tübingen, 1979. S. 4.
(обратно)104
Ibid. S. 5.
(обратно)105
Ibidem.
(обратно)106
Heidegger М. Sein und Zeit. S. 5.
(обратно)107
Ibid. S. 7.
(обратно)108
Ibidem.
(обратно)109
Ibid. S. 8.
(обратно)110
Ibidem.
(обратно)111
Ibidem.
(обратно)112
Heidegger M. Sein und Zeit. S. 12.
(обратно)113
Ibidem.
(обратно)114
Heidegger М. Sein und Zeit. S. 12.
(обратно)115
Ibid. S. 27.
(обратно)116
Ibid. S. 12.
(обратно)117
Ibid. S. 27.
(обратно)118
См.: ibid. S. 38–31.
(обратно)119
Heidegger M. Sein und Zeit. S. 35.
(обратно)120
Heidegger М. Sein und Zeit. S. 35.
(обратно)121
См.: ibid S 37.
(обратно)122
Hua X. S. 338–339.
(обратно)123
См.: Гуссерль Э. Философия как строгая наука // Логос. 1911. № 1. С 26.
(обратно)124
См.: Heidegger М. Op. cit. S. 197–198.
(обратно)125
Heidegger M. Sein und Zeit. S. 126–127.
(обратно)126
Ibid. S. 254 (Хайдеггер отмечает в сноске на указанной странице, что «Л. Н. Толстой в своем рассказе “Смерть Ивана Ильича” изобразил феномен потрясения и краха этого “умирают”»).
(обратно)127
Heidegger М. Op. cit. S.325.
(обратно)128
Heidegger М. Op. cit. S.274.
(обратно)129
Ibid. S. 275.
(обратно)130
Ibid. S. 277.
(обратно)131
Ibidem.
(обратно)132
Heidegger M. Op. cit. S. 38.
(обратно)133
Heidegger М. Die Grundprobleme der Phänomenologie // Gesamtausgabe. Bd. 24. Frankfurt am M., 1975. S 423.
(обратно)134
Heidegger M. Sein und Zeit. S. 328–329.
(обратно)135
«Временность не „есть“ вообще сущее. Она не есть, но временит себя» (Ibid. S.328).
(обратно)136
См.: Heidegger М. Kant und das Problem der Metaphysik.
(обратно)137
См.: Ibid. S. 1–2.
(обратно)138
Heidegger М. Kant und das Problem der Metaphysik. S. 239.
(обратно)139
Ibid. S 223.
(обратно)140
Ibid. S. 1.
(обратно)141
Кант И. Основы метафизики нравственности // Соч. в 6 т. М., 1965. Т.4. 4.1. С. 245.
(обратно)142
Кант И. Критика практического разума //Там же. С. 414.
(обратно)143
Heidegger М. Op. cit. S. 153–154.
(обратно)144
Ibid. S. 154.
(обратно)145
Heidegger М. Op. cit. S.76.
(обратно)146
Ibid. S. г8.
(обратно)147
Heidegger М. Op. cit. S.81.
(обратно)148
Heidegger М. Op. cit. S. 114.
(обратно)149
Ibid. S. 115.
(обратно)150
Ibid. S. 131.
(обратно)151
Heidegger M. Op. cit. S. 132.
(обратно)152
Heidegger М. Op. cit. S.172.
(обратно)153
См.: Heidegger М. Phänomenologische Interpretation von Kants Kritik der reinen Vernunft. Gesamtausgabe. Bd. 25. Frankfurt am M., 1977. S. 364.
(обратно)154
Heidegger M. Kant und das Problem. S. 180.
(обратно)155
См.: Heidegger М. Phänomenologische Interpretation. S. 368.
(обратно)156
Heidegger М. Kant und das Problem. S. 185.
(обратно)157
См.: Gadamer Η-G. Wahrheit und Methode. Tübingen, 1960. S 243.
(обратно)158
Хайдеггер имеет в виду, что во втором издании «Критики чистого разума» Кант на первый план выдвинул экспликацию трансцендентальной апперцепции в ущерб силе воображения. К этому, собственно, сводится хайдеггеровское понимание различий первого и второго изданий.
(обратно)159
Heidegger М. Op. cit. S.209.
(обратно)160
Ibid. S. 35.
(обратно)161
Heidegger М. Über den Humanismus. Frankfurt а. M., 1975. S. 13.
(обратно)162
Маркс K., Энгельс Ф. Соч. 2-е изд. Т. 3. C.3.
(обратно)163
Цит по: Diemer A. Edmund Husserl. Versuch einer systematischen Darstellung seiner Phänomenologie. Meisenheim am Glan, 1956. S. 31.
(обратно)164
Ibidem.
(обратно)165
Heidegger М. Die Grundprobleme der Phänomenologie, 1975. S. 230.
(обратно)166
Hua IX. Haag, 1962. S. 601.
(обратно)167
Heidegger М. Die Grundprobleme der Phänomenologie. S. 29.
(обратно)168
Hua IV. Haag, 1952. S. 43.
(обратно)169
Hua IV. S. 56.
(обратно)170
Ibid. S. 280.
(обратно)171
Hua IV. S.286.
(обратно)172
Ibid. S. 302.
(обратно)173
Hua VI. Haag., 1954. S. 345.
(обратно)174
Hua IV. S. 139.
(обратно)175
Hua IV. S.108.
(обратно)176
Ibid. S. 110.
(обратно)177
Ricoeur P. Husserl. An analysis of his phenomenology. Evanston, 1967. P. 41.
(обратно)178
Ibid. S. 80.
(обратно)179
Смешение этих ориентаций исследования имеет место также в статье Ричарда Стивенса, который под влиянием П. Рикера пытается решить вопрос о сходстве и различии «духа» и «чистого Я» (см.: Stiwens R. Spatial and temporal models in Husserl’s Ideen II. Cultural Hermeneutics. 1975. V.3. N 2. Dordrecht – Boston. P. 113–114).
(обратно)180
См.: Hua IX. S. 602.
(обратно)181
Heidegger М. Sein und Zeit. S. 206.
(обратно)182
Heidegger М. Die Grundprobleme der Phänomenologie. S. 454.
(обратно)183
Heidegger М. Die Grundprobleme der Phänomenologie. S. 226.
(обратно)184
Ibid. S. 228.
(обратно)185
Heidegger М. Die Grundprobleme der Phänomenologie. S. 243.
(обратно)186
Camus A. Le Mythe de Sisyphe. Paris, 1942. P. 66.
(обратно)187
См.: Шестов Л. Указ. Соч. С. 314–317.
(обратно)188
Heidegger М. Zur Sache des Denkens. Tübingen, 1969. S. 47.
(обратно)189
Ibid. S. 70.
(обратно)190
Ibid. S. 90.
(обратно)191
Heidegger M. Zur Sache des Denkens. S. 2.
(обратно)192
Ibid. S.24.
(обратно)193
Ibid. S.. 4–5.
(обратно)194
Ibid. S. 6.
(обратно)195
По словам одного их учеников и друзей философа, Хайдеггер, прочитав книгу Судзуки «Дзен-буддизм», заметил: «Если я правильно понимаю этого человека, это есть то, что я пытался сказать во всех своих работах» (Chung, Chung-Yuan. Reflections // Erinnerungen an Martin Heidegger. Pfulingen, 1977. P. 67).
(обратно)196
К. Уилсон. Паразиты сознания. Киев: София, 1994.
(обратно)197
Необходимо отметить, что мои самостоятельные и отчасти критические в отношении Гуссерля исследования стали возможны в первую очередь благодаря работам самого Гуссерля (Гуссерль – один из немногих философов, по работам которых можно учиться философской аналитике, а не только их штудировать, интерпретировать или восхищаться ими), а также Хайдеггера и Ф. Брентано. Именно в таком порядке я изучал в 70-80-е годы классиков. Возможно, что именно такой порядок (гуссерлевские серии различений в аналитике интенциональности, хайдеггеровское онтологическое различие, брентановское различие психических и физических феноменов) привел меня к мысли о «тождестве» сознания и различения. Возможно также, что свою роль сыграло и эссе Деррида Différance, хотя я не уверен, что прочитал его до того, как завершил свое первое исследование на эту тему (см. I раздел). Во всяком случае, в дальнейшем я неоднократно обращался к этой работе, тщетно пытаясь отделить дескрипцию опыта от экспериментирования со знаками. Несколько иные трудности я испытал при чтении книги Ж. Делёза Различие и повторение, где интуиция опыта различения «рассредоточивается» в разнообразии тем и метафор. Тем не менее скептическое отношение к попыткам постановки проблем посредством перестановки букв и т. п. – как будто избавиться от ментализма и субстанциализма можно с помощью особых знаков типа «чур меня» (перечеркнутое Seyn, erewhon, différance, «след» и т. п.), чего не избежал и Хайдеггер, – не мешает мне отдавать должное этим эвристически ценным попыткам тематизировать различение. Однако гораздо большее влияние оказали на мою дальнейшую работу труды других авторов: во-первых, работы Э. Толмэна (1927) и Е.Боринга (1937), которые впервые непосредственно связали сознание и психику со способностью различать (см. XI раздел), и во-вторых, книга Дж. Спенсера Брауна Законы формы (The laws of form. London, 1969), где различие предстает как конститутивное свойство мира.
(обратно)198
Е. Cassirer. Philosophie der symbolischen Formen. Berlin, 1929. S. 57.
(обратно)199
Ленин В. И. Философские тетради. ПСС. Т. 29. М., 1963. С. 194.
(обратно)200
Хайдеггер не упоминает о том, что Шопенгауэр первым заметил существен ную разницу между I и II изданиями Критики чистого разума. Хайдеггеровская интерпретация исходит, как известно, именно из этого различия.
(обратно)201
Husserliana. Bd. IX. Haag: Martinus Nijhoff, 1962. S. 602
(обратно)202
В. В. Бибихин. Философия и религия // Вопросы философии. 1992. № 7. С. 35.
(обратно)203
K. Marx, F. Engels. Die deutsche Ideologie. Berlin: Verlag für Literatur und Politik, 1932. S. 31.
(обратно)204
Этот момент особенно интересен в контексте нашего исследования, ибо, как это будет ясно из дальнейшего рассмотрения, «понимание сознания» употребляется нами как в субъективном, так и в объективном отношении. Однако то, что проходит для однородных «элементов» – понимания и сознания, не проходит для разнородных – сознания и деятельности.
(обратно)205
В русском языке сливается физиология как наука с «физиологическими процессами». Полное тождество бытия и мышления!
(обратно)206
Было бы небезынтересно сравнить понимание философии у Рассела и его концепцию «нейтрального монизма», т. е. его понимание сознания.
(обратно)207
См. L. Wittgenstein. Philosophical Investigations, §§ 89–90. Oxford, 1967. P. 42–43.
(обратно)208
В русском языке слова «идентификация» и «отождествление» (опыт тождества) могут иметь разный смысл. Под идентификацией обычно понимается узнавание, опознание и т. д. предмета в ситуации (то и другое – в самом широком смысле). «Отождествление» употребляется иногда в смысле установления тождества двух и более предметов. Строго говоря, такое отождествление предполагает уже неявно определенную идеализацию (тождество предметов невозможно). Однако дело не только в этом. Отождествление предметов есть прежде всего их идентификация друг через друга. Далее «идентификация» и «опыт тождества» употребляются как синонимы.
(обратно)209
Сартровская диалектика для-себя и в-себе есть, несомненно, попытка описать опыт различия.
(обратно)210
Не только некоторая доля иронического отношения ко всякого рода тотальным классификациям (опыт сознания открыт), но и «сама дескриптивная суть дела» побудили меня назвать три «части» опыта различными именами (множество, группа, класс могут употребляться как синонимы). Само слово «множество» ориентирует на нечто «нейтральное», каковыми и являются субсистенции-различия актов сознания. «Группа» – на активный процесс установления смысла («группа захвата предмета»), «класс» – на учебный и исследовательский процесс: в философии все решается в классе рефлексии и зависит от ее «класса». Перечисление различий первичного опыта сознания не является окончательным, оно должно быть «подвижным фундаментом».
(обратно)211
М. Фуко, дабы избежать «тартюфства научности», информирует читателя, что книга Слова и вещи родилась из смеха при знакомстве с Китайской энциклопедией Борхеса. Мы смеемся потому, утверждает Фуко, что такая классификация невозможна. Есть нечто, что смущает в этих рассуждениях: невозможное порождает смех, а затем книгу Фуко, или же просто смех (улыбку) читателя. Так ли уж невозможна эта классификация, если она дает один из глубинных опытов сознания – смех. Видимо, Фуко хотел сказать, что эта классификация невозможна как научная или как классификация – упорядочение социального опыта. Здесь спорить не о чем. Однако Борхес привлекает именно тем, что описывает чистый опыт сознания, незавершенный в синтезе и идентификации. «Где бы еще могли встретиться животные, – пишет Фуко, – и) буйствующие, как в безумии, к) неисчислимые, л) нарисованные очень тонкой кисточкой из верблюжей шерсти, как не в бестелесном голосе, осуществляющем их перечисление, как не на странице, на которой оно записывается? Где бы еще могли быть сопоставлены, как в не имеющем места пространстве языка?» (М. Фуко. Слова и вещи. М., 1977. С. 33) Но если более прозаично: в голосе, в бумаге и шрифте, в знаке? Т. е. смех возникает от сочетания голоса, бумаги и знака? Не проще ли не отказываться от сознания: эти животные встречаются в нашем смехе, который занимает важное место в иерархии «пространства сознания».
(обратно)212
E. Husserl. Ideen zur einer reinen Phänomenologie und phänomenologischen Philosophie. Erstes Buch §§ 38, 77–78 (Ideen I). Hrsg. von W. Biemel. Husserliana Bd. III. Haag: Martinus Nijhoff, 1950. В собр. соч. Гуссерля Идеи I изданы дважды – В. Бимелем (Husserliana III. Haag: Martinus Nijhoff, 1950) и K. Шуманом (Husserliana III (1,2) Dordrecht: Kluwer, 1995). Далее мы цитируем по изданию К. Шумана (кроме одного оговоренного случая), указывая в квадратных скобках соотв. стр. русского перевода А. В. Михайлова (Э. Гуссерль. Идеи к чистой феноменологии и феноменологической философии. М.: ДИК, 1999).
(обратно)213
М. Heidegger. Prolegomena zur Geschichte des Zeitbegriffs // Gesamtaus-gabe, Bd. 20. Frankfurt a. M.: Vittorio Klostermann, 1979. S. 62.
(обратно)214
П. П. Гайденко. Проблема интенциональности у Гуссерля и экзистенциалистская категория трансценденции // Современный экзистенциализм. М.: Наука, 1966. С. 93.
(обратно)215
По этой же причине в перечислении основных типов опыта представлены только нормы человеческого опыта (норма задается опытом сознания как опытом различия), но не разнообразные отклонения от норм, ибо эти отклонения не являются самостоятельными типами опыта; они суть смешения различных его типов.
(обратно)216
Е. Husserl. Logische Untersuchungen. Bd.I. Husserliana XVIII. The Hague, 1975. S. 122. [Э. Гуссерль. Логические исследования. 4.1. СПб., 1909. C. 99.]
(обратно)217
Ibid.
(обратно)218
Ibid. S. 124 [C. 101].
(обратно)219
Ibid. S. 125 [С. 101].
(обратно)220
Е. Husserl. Erste Philosophie. Erster Teil. Husserliana VII. The Hague, 1956. S. 58.
(обратно)221
Ibid. S. 61.
(обратно)222
См., например: K.J. Grau. Bewusstsein. Unbewusstes. Unterbewusstes. München, 1922. S. 10.
(обратно)223
Husserliana VII. S. 64.
(обратно)224
M. Heidegger. Nietzsche. Pfullingen: Neske 1961, Bd. II. S. 155.
(обратно)225
Ibid. S. 168.
(обратно)226
См. Ibid. S. 155.
(обратно)227
Ibid.
(обратно)228
Ibid. S.152.
(обратно)229
Ibid.
(обратно)230
Ibid. S. 153.
(обратно)231
Ibid. S. 147. Ср. русский перевод В. В. Бибихина: Хайдеггер М. Европейский нигилизм // Проблема человека в западной философии. М., 1987. С. 270.
(обратно)232
KrV. A1.
(обратно)233
Р. Декарт. Первоначала философии // Пер. С. Я. Шейнман-Топштейн, И. Н. Сретенского. Соч. в 2-х т. Т. 1. М., 1989. С. 314.
(обратно)234
Р. Декарт. Размышления о первой философии // Пер. С. Я. Шейнман-Топштейн. Цит. изд. Т. 2. М., 1994. С. 21.
(обратно)235
Р. Декарт. Первоначала философии. Цит. изд. Т. 1. С. 316.
(обратно)236
L. Wittgenstein. Über Gewissheit. N 460 / Werkausgabe Bd 8. Suhrkamp, 1992. S. 211.
(обратно)237
Э. Гуссерль. Логические исследования. T. II (I). Собр. соч. Т. III (I). М.: ДИК, 2001. С. 332 [Husserliana XIX (I). S.367].
(обратно)238
Там же (о проблеме Я и чистого Я см. разд. VIII (3)).
(обратно)239
Там же. С. 333 [368].
(обратно)240
Э. Гуссерль. Картезианские медитации // Собр. соч. T.IV. М.: ДИК, 2001. С. 34 [Husserliana Bd. I, Haag, 1950. S. 77].
(обратно)241
Э. Гуссерль. Лекции по феноменологии внутреннего сознания времени // Собр. соч. T. I. M.: Гнозис, 1994. С. 154 [Husserliana Bd. X, The Hague, 1966. S. 129].
(обратно)242
Модифицируя «онтологическое различие» Хайдеггера, можно было бы отождествить бытие человека и акт мышления – в этом, собственно, и состоит «возможность радикальнейшей индивидуации»; тогда его «сущим» будут свойства характера, социальные функции и т. д. Однако бытие, как говорит Хайдеггер, может быть скрыто или предано забвению. Аналогично: мышлением могут никогда не воспользоваться, о нем могут забыть, свободе мышления может быть найдена подходящая замена, например свобода слова на рынке интеллектуального труда и т. д.
(обратно)243
Во всяком случае, в предметном указателе Э. Штрёкер к основным произведениям Гуссерля этот термин отсутствует (Е. Ströker. Husserls Werk. Register. Hamburg: Meiner, 1992).
(обратно)244
Э. Гуссерль. Логические исследования. T. II (I). С. 30 [S. 24].
(обратно)245
Там же. С. 31 [26].
(обратно)246
Там же. С. 20 [14].
(обратно)247
Е. Husserl. Die Idee der Phänomenologie. Husserliana Bd. II. Haag, 1950.
(обратно)248
М. Мерло-Понти. Феноменология восприятия. СПб.: Ювента; Наука, 1999. С. 13.
(обратно)249
Там же.
(обратно)250
См.: М. Хайдеггер. Пролегомены к истории понятия времени. Томск, 1998.
(обратно)251
М. Heidegger. Die Grundprobleme der Phänomenologie. Gesamtausgabe, Bd. 24. Frankf. a. M., 1975. S. 230.
(обратно)252
См.: M. Heidegger. Prolegomena zur Geschichte des Zeitbegriffs. Gesamtausgabe, Bd. 20. Frankf. a. M., 1979. S. 62.
(обратно)253
Husserliana Bd. X, Haag, 1966. S. XXV.
(обратно)254
E. Fink. Operative Begriffe in der Phänomenologie Husserls // Nähe und Distanz. Freiburg; München: Alber, 1976. (См. подробнее разд. XII, I)
(обратно)255
Ibid. S. 185.
(обратно)256
См.: E. Fink. VI Cartesianische Meditation. The Hague: Kluwer, 1988.
(обратно)257
См.: G. Eigier. Metaphysische Voraussetzungen in Husserls Zeitanalysen. Meisenheim am Glan, 1961.
(обратно)258
H. Asemissen. Strukturanalytische Probleme der Wahrnehmung in der Phänomenologie Husserls. Köln: Kölner Universitätsverlag, 1957. S. 13.
(обратно)259
Ideen I. S.51 [60].
(обратно)260
H. Asemissen. Op. cit. S. 12.
(обратно)261
E. Husserl. Formale und tranzendentale Logik. Husserliana XVII. Haag, 1974. S. 164.
(обратно)262
Е. Husserl. Logische Untersuchungen. Bd. II, T.II. Husserliana Bd. XIX (2). The Hague, 1975. S. 651.
(обратно)263
М. Heidegger. Sein und Zeit. Tübingen: Max Niemeyer, 1979. S. 38.
(обратно)264
Ф. Ницше. Воля к власти. § 479. М., 1994. С. 223.
(обратно)265
Е. Husserl. Analysen zur passiven Synthesis. Husserliana XI, Den Haag: Martinus Nijhoff, 1966. S. 436.
(обратно)266
Э. Гуссерль. Логические исследования. 4.1. 1909. С. 154–155 (перевод изменен).
(обратно)267
Такого рода упреки в адрес Гуссерля не замедлили появиться после выхода в свет второго тома. Отвечая на критику Гуссерля, Зигварт писал: «И все же он сам учит, что достоверность логических законов есть «переживание», и апеллирует к очевидности, в которой раскрывается истина. «Переживание» есть все же эмпирический психический факт, а очевидность – состояние духа, которое мы испытываем в определенное время. Как раз на этой испытываемой нами очевидности основываются предыдущие параграфы. Если это эмпиризм и «психологизм», то Гуссерль сам повинен в этой ереси. К чему тогда спор?» (Ch. Sigwart. Logik. Bd. I. Tübingen, 1921. S. 25.)
(обратно)268
Э. Гуссерль. Указ. соч. С. 58.
(обратно)269
Там же. С. 201.
(обратно)270
Подробнее см. раздел III «Беспредпосылочность и очевидность»
(обратно)271
См.: E. Husserl. Philosophie der Arithmetik. Husserliana XII. Haag, 1992. S. 48–63.
(обратно)272
Ibid.S.49.
(обратно)273
«Число есть не что иное, как обозначение множественности, разнообразия. Точное тождество есть единство, а вместе с различием возникает многообразие». «Многообразие возникает тогда и только тогда, когда мы фиксируем различие». «Теперь не будет ни малейшей трудности сформулировать ясное понятие о природе числового абстрагирования. Она состоит в отвлечении от характера различия, из которого возникает многообразие, удерживая только этот факт… Абстрактное число – это тогда пустая форма различия; абстрактное число три утверждает существование меток (mark), не специфицируя их вид». «Три звука отличаются от трех цветов, или три всадника от трех лошадей; но они совпадают в аспекте вариации знаков, посредством которых они могут быть отличены. Символы I + I + Ι суть, таким образом, пустые метки, утверждающие существование различения». (Ibid. S.50, 51.)
(обратно)274
Ibid. S. 52.
(обратно)275
Э. Гуссерль. Логические исследования. T. II (I) // Собр. соч. T. III (I). М.: Дом интеллектуальной книги, 2001. С. 355–356 [393].
(обратно)276
Там же. С. 355 [393].
(обратно)277
Там же. С. 356 [393].
(обратно)278
Е. Husserl. Philosophie der Arithmetik. S. 53.
(обратно)279
Ibid. S. 54–55.
(обратно)280
Ibid. S. 61.
(обратно)281
Ibid. S. 62.
(обратно)282
Ibid. S.62.
(обратно)283
Ibid.
(обратно)284
Ibid.
(обратно)285
Ibid.
(обратно)286
В целом примеры, приводимые Гуссерлем, да и не только Гуссерлем, но даже подчас философами-аналитиками, имеют лишь косвенное отношение к опыту. Они безжизненны, как утверждения «А тождественно самому себе», «это дерево зеленое» и т. д. Ниже мы к этому вернемся.
(обратно)287
Э. Гуссерль. Логические исследования. T. II (I). С. 55 [52].
(обратно)288
Там же.
(обратно)289
Там же [53].
(обратно)290
Там же. С. 56 [53].
(обратно)291
Там же. С. 57 [55].
(обратно)292
Там же.
(обратно)293
Подробнее об этом см. в следующем разделе.
(обратно)294
Э. Гуссерль. Логические исследования. T. II (I). С. 62 [60].
(обратно)295
Подробно об этом см. в превосходных в информативном отношении статьях: В. Rang. Einleitung des Herausgebers // Husserliana XXII, Haag, 1979; K. Schuhmann. Husserls doppelter Vorstellungsbegriff: Die Texte von 1893 // Brentano Studien 3, 1990/91.
(обратно)296
Husserliana XXII, 1979. S. 294.
(обратно)297
Husserliana XXV, 1972. S. 14–15.
(обратно)298
Э. Гуссерль. Философия как строгая наука // Логос. 1911. Кн. 1. С. 12 (Гуссерль Э. Философия как строгая наука. Новочеркасск, 1994. С. 138).
(обратно)299
Эти «специфически-гуссерлевские» слова, которые возвращают нас к проблематике ЛИ, к «переживаниям логического», выпущены, к сожалению, в русском переводе.
(обратно)300
Э. Гуссерль. Логические исследования. Т. II (1). С. 20 [12–3].
(обратно)301
В данном месте у Гуссерля впервые (причем в первом издании ЛИ) встречается словосочетание «поток переживаний», из которого впоследствии вырастает ряд терминов: «поток переживаний», «поток сознания», «абсолютный самоконститутивный поток сознания («Fluß» и «Strom» у Гуссерля синонимы).
(обратно)302
Э. Гуссерль. Логические исследования. T. II (I). С. 17 [10].
(обратно)303
Там же. С. 16 [8].
(обратно)304
Э. Гуссерль Логические исследования. T. II (I). С. 96 [100].
(обратно)305
Там же. С. 101 [106].
(обратно)306
См.: E.Fink. Die phänomenologische Philosophie Edmund Husserls in der gegen wärtigen Kritik //Kant-Studien, Bd. XXXVIII, 1933.
(обратно)307
Ideen I. S. 74 [81].
(обратно)308
Э. Гуссерль. Картезианские медитации, § 20. С. 43 [86].
(обратно)309
Manuskript С2. S.I
(обратно)310
Э. Гуссерль. Логические исследования. T. II (I). С. 35 [30].
(обратно)311
Там же. С. 42 [37].
(обратно)312
Там же. [38].
(обратно)313
Там же. С. 35 [30].
(обратно)314
Там же. С. 35–36 [31].
(обратно)315
J. Derrida. La voix et le phénomène. Presses Universitaires de France, 1967. P. 22–23.
(обратно)316
Э. Гуссерль. Логические исследования. Т. II (1). С. 35 [30].
(обратно)317
J. Derrida. Op. cit. Р. 22.
(обратно)318
Ibid. Р. 23.
(обратно)319
См.: Дж. Э. Мур. Опровержение идеализма // Историко-философский ежегодник. М.: Наука, 1987. С. 257.
(обратно)320
J. Derrida. Op. cit. Р. 34.
(обратно)321
Ibid. Р. 37.
(обратно)322
См.: U. Panzer. Einleitung der Herausgeberin. Husserliana XIX (1). S. XXIII.
(обратно)323
Э. Гуссерль. Логические исследования. T. II (1). C. 6 [Husserliana XVIII. S. 10]
(обратно)324
См.: там же. С. 5–6 [9].
(обратно)325
Там же. С. 7 [10].
(обратно)326
М. Heidegger. Einführung in die phänomenologische Forschung. GA, Bd. 17. Frankfurt а. M.: V. Klostermann, 1994. S. 70.
(обратно)327
Э. Гуссерль. Логические исследования. Т. II (1). С. 350 [387].
(обратно)328
Хайдеггер справедливо отмечал, что мы вообще не заняты существованием предметов, если они функционируют нормально. Когда гаснет свет, вот тогда мы начинаем «верить» в существование электричества.
(обратно)329
Э. Гуссерль. Логические исследования. T. II (I). С. 329 [363].
(обратно)330
См. раздел III. С. 106 (1).
(обратно)331
Все-таки «эпохе́» лучше передавать по-русски как слово среднего рода; если же везде сохранять греческий род, то тогда «ноэма» будет по-русски словом среднего рода.
(обратно)332
Ideen I. § 80. S. 179 [176].
(обратно)333
Ibid. § 57. S.124 [127].
(обратно)334
Э. Гуссерль. Логические исследования. T. II (I). С. 341 [376].
(обратно)335
См. подробнее: В. И. Молчанов. Время и сознание. Критика феноменологической философии. Настоящее издание. С. 170–175.
(обратно)336
Э. Гуссерль. Логические исследования. T. II (I). С. 333 [368].
(обратно)337
В целом, однако, вызывает возражение обозначение этих описаний «суждениями». Кроме того, сомнительна однородность «суждения» я есмь с «суждениями» радости, фантазии и т. п. Скорее наоборот, «суждение» я есмь разделяет участь этих дескриптивных состояний. Эту тему, однако, мы не будем здесь развивать.
(обратно)338
Э. Гуссерль. Логические исследования. T. II (I). С. 322 [356].
(обратно)339
Там же. С. 330 [363].
(обратно)340
Э. Гуссерль. Логические исследования. T. II (I). С. 329.
(обратно)341
Э. Гуссерль. Логические исследования. T. II (I). С. 333 [368].
(обратно)342
Ideen I. S. 67 [74].
(обратно)343
Ideen I. S. 75 [81].
(обратно)344
В издании Идей I В. Бимеля (Husserliana, Bd.III, Haag: Martinus Nijhoff, 1952. S. 138) эти слова присутствуют, в изд. К. Шумана (с. 123) этих слов нет.
(обратно)345
Ideen I. S. 70 [77].
(обратно)346
В русском переводе Идей I [78] в данном месте опечатка, речь идет о cogitatio, но не о cogito.
(обратно)347
Ideen I. S. 71 [78]. В русском переводе неточность; речь идет о воспринятом, а не о восприятии.
(обратно)348
Ibid.
(обратно)349
E. Husserl. Ideen zu einer reinen Phänomenologie und phänomenologischen Philosophie. Zweites Buch. Husserliana IV, Haag: Martinus Nijhoff, 1952. S. 107.
(обратно)350
Э. Гуссерль. Логические исследования. Т. II (1). С. 331 [366].
(обратно)351
Там же. С. 332 [367].
(обратно)352
Ясно, что первое и второе понятия сознания образуют единое понятие, которое Гуссерль предназначал для разграничения психологии и физической науки. Так снимается вопрос о несоответствии двух проблем и трех понятий.
(обратно)353
Ideen I. S. 180 [176].
(обратно)354
Г.Г. Шпет. Явление и смысл. М., 1914. С. 87.
(обратно)355
И. Кант. Собр. соч. Т. 4 (I). М., 1965. С. 89.
(обратно)356
Цит. по: Husserliana XIX (1). S. XXVII.
(обратно)357
Е. Husserl. V. Logische Untersuchung. Nach dem Text der I. Auflage von 1901. Herausgegeben, eingeleitet und mit Registern versehen von Elisabeth Ströker. Hamburg: Felix Meiner Verlag, 1975.
(обратно)358
Э. Гуссерль. Логические исследования. T. II (I). С. 106 [112].
(обратно)359
Там же. С. 106–107 [113].
(обратно)360
Там же. С. 109 [116].
(обратно)361
Там же. С. 109 [117].
(обратно)362
Не следует забывать, конечно, и об «улыбке ребенка»: якобы индивидуальные «предметы», «окружающие» младенца (родители или лица их заменяющие, его одежда, кроватка, игрушки и т. д.), никогда не смогут стать источником абстрактных значений «родители», «одежда», «мяч» и т. д., если в поле зрения подрастающего ребенка не оказываются множества – родители других детей, их одежда, одежда других детей, множество мячей и т. д. Предметы, окружающие ребенка, индивидуальны для родителей, которые выбирают их для ребенка и которые отличают себя как родители этого ребенка от родителей других детей. Для самого ребенка эти предметы скорее телесны, они продолжение его тела; индивидуальными они становятся тогда, когда ребенок начинает различать индивидуальное и общее.
(обратно)363
Там же. С. 110 [118].
(обратно)364
Там же. С. 111 [118].
(обратно)365
Дж. Локк. Опыт о человеческом разумении. / Соч. в 3 т. М., 1985. Т. 2. С. 74.
(обратно)366
Там же.
(обратно)367
Э. Гуссерль. Указ. соч. С. 219 [240].
(обратно)368
F. Brentano. Psychologie vom empirischen Standpunkt. Leipzig, 1924. S. 125.
(обратно)369
Дж. Локк. Опыт о человеческом разумении. / Цит. соч. T. 1. С. 380. (J. Locke. Ап Essay Concerning Human Understanding. В. II, Ch. 27 // The philosophical works of John Locke. London, 1916. P. 458.) (Перевод изменен. Во-первых, вместо «частный» следует читать «частый», во-вторых, речь идет не о существовании вещей, но об их сути (the very being of things), в-третьих, речь идет не о той же самой вещи, но о той самой (that very thing) или «именно о той», т. е., иными словами, об определенной вещи, а не о другой, как бы они ни были похожи.)
(обратно)370
Отвлекаясь от вопроса о том, остаются ли какие-нибудь неустранимые различия при установлении тождества идеальных предметов, или, говоря на языке Канта, предметов чистого рассудка, можно быть уверенным, что установлению тождества и в этом случае предшествуют попытки различения.
(обратно)371
Э. Гуссерль. Логические исследования. T. II (I) С. 358–359 [396–397].
(обратно)372
Э. Гуссерль. Картезианские медитации. С. 36 [79].
(обратно)373
Ibid. С. 37 [80].
(обратно)374
Э. Гуссерль. Логические исследования. Т. II (1). С. 218.
(обратно)375
Э. Кассирер. Познание и действительность. СПб., 1912. С.550.
(обратно)376
Там же. С. 358.
(обратно)377
Там же. С. 360. (Перевод уточнен: Bestand здесь не существование, но состав опыта, а точнее – более или менее стабильный его состав.)
(обратно)378
И. Кант. Критика чистого разума / Соч. в 6 т. Т. 3. М.: «Мысль», 1964. С. 188.
(обратно)379
См.: Э. Гуссерль. Философия как строгая наука // Эдмунд Гуссерль. Философия как строгая наука. Новочеркасск, 1994. С. 139.
(обратно)380
F. Brentano. Psychologie vom empirischen Standpunkt, Bd. I, Leipzig, 1924. S. 124–125.
(обратно)381
Ibid. S. 125.
(обратно)382
K. C. Бакрадзе. Очерки по истории новейшей и современной буржуазной философии. Тбилиси, 1960. С.493.
(обратно)383
Франц Брентано. Избранные работы / Пер. В. В. Анашвили. М.: Дом интеллекту альной книги, 1996. С. 33.
(обратно)384
Н. В. Мотрошилова. Феноменология // Современная буржуазная философия М.: МГУ, 1972. С. 485.
(обратно)385
См.: F. Brentano. Wahrheit und Evidenz. Leipzig, Meiner, 1930. C. 192–193.
(обратно)386
Ibid. S. 87–88. Ср. рус. пер.: Антология мировой философии. T. 3. М.: Мысль, 1971. С.645–646.
(обратно)387
Гуссерль предпринимает анализ брентановского тезиса в V Исследовании, однако наш анализ – в другом аспекте.
(обратно)388
Э. Гуссерль. Логические исследования. Т. II (1). С. 345 [380–81].
(обратно)389
Ideen I. S. 188.
(обратно)390
См. раздел I. С. 67.
(обратно)391
Е. С. Tolman. A behaviorist's definition of consciousness // Psych. Review. Vol. 34.1927. P. 435.
(обратно)392
Е. I. Boring. A psychological function is a relation of successive differentiation in organism // Psych. Review. Vol. 44. 1937. P. 450.
(обратно)393
C.-F. Graumann. Bewußtsein und Bewußtheit. Probleme und Befunde der psycho logischen Bewußtseinsforschung//Handbuch der Psychologie. Bd. I. Göttingen. 1966. S. 92.
(обратно)394
Ibid.
(обратно)395
E. Husserl. Philosophie als strenge Wissenschaft // Husserliana. Bd. 25. Haag. 1987. S. 8 (Ср.: Э. Гуссерль. Философия как строгая наука. С. 133).
(обратно)396
М. Heidegger. Kunst und Raum // Aus der Erfahrung des Denkens. Gesamt-ausgabe Bd. 13. Frankf. a. M, 1983. S. 205.
(обратно)397
Здесь можно было бы усомниться в равноправии пространственного и временного опыта, ибо время оказывается более глубоким опытом, обосновывающим любой пространственный опыт. И всё же пространство несводимо к времени, ибо пространство «открывает» различие опытов.
(обратно)398
Э. Гуссерль. Картезианские медитации, § 46. С. 90–91 [132–133].
(обратно)399
Там же. С. 91 [133].
(обратно)400
См. там же. § 63.
(обратно)401
E. Fink. YI Cartesianische Meditation. Bd. 1 (Husserliana Dokumente Bd. 2). Dor drecht: Kluwer, 1988. S. 5.
(обратно)402
E. Fink. Operative Begriffe in Husserls Phänomenologie / E. Fink. Nähe und Distanz. Freiburg: Alber, 1976. S. 181.
(обратно)403
Ibid. S. 185–186.
(обратно)404
Ibid. S. 192.
(обратно)405
Ibid. S. 186.
(обратно)406
Ibid. S. 189.
(обратно)407
См.: Ibid. S. 184.
(обратно)408
K.r.V. A2.
(обратно)
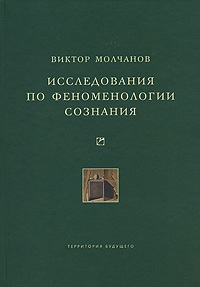
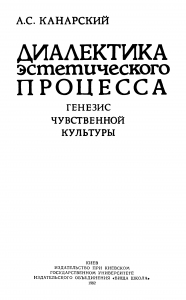

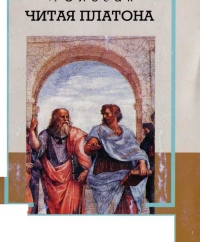

Комментарии к книге «Исследования по феноменологии сознания», Виктор Игоревич Молчанов
Всего 0 комментариев