Понять гегелевскую логику — значит не только уяснить прямой смысл ее положений, т. е. сделать для себя своего рода подстрочный перевод ее текста на более понятный язык современной жизни. Это лишь полдела. Важнее и труднее рассмотреть сквозь причудливые обороты гегелевской речи тот реальный предмет, о котором эта речь на самом деле ведется. Это и значит понять Гегеля критически — восстановить для себя образ оригинала по его характерно-искаженному изображению. Научиться читать Гегеля материалистически, так, как читал и советовал его читать В.И. Ленин, значит научиться критически сопоставлять гегелевское изображение предмета — с самим этим предметом, на каждом шагу прослеживая расхождения между копией и оригиналом.
Задача решалась бы просто, если бы читатель имел перед глазами два готовых объекта такого сопоставления — копию и оригинал. Но в таком случае изучение гегелевской логики было бы очевидно излишним, и представляло бы интерес разве что для историка философии. Оно не открывало бы читателю ничего нового в самом предмете, а в его гегелевском изображении обнаруживало бы, естественно, одни «искажения» — одни лишь несходства с изображаемым, одни лишь причуды идеалиста. В самом деле — глупо тратить время на изучение предмета по его заведомо искаженному изображению, если перед глазами находится сам предмет, или, по крайней мере — его точный, реалистически выполненный и очищенный от всяких субъективных искажений портрет…
К сожалению, или по счастью для науки, дело обстоит не столь просто. Прежде всего возникает вопрос: с чем непосредственно придется сопоставлять и сравнивать теоретические конструкции «Науки логики», этой «искаженной копии»? С самим оригиналом, с подлинными формами и законами развития научно-теоретического мышления? С самим процессом мышления, протекающим в строгом согласии с требованиями подлинно-научной Логики?
Но это возможно лишь при том предположении, что читатель уже заранее им обладает, владея развитой культурой логического мышления в такой мере, что не нуждается ни в ее совершенствовании, ни в ее теоретическом изучении. Такой читатель и в самом деле имел бы право смотреть на Гегеля только сверху вниз, и мы не осмелились бы советовать ему тратить время на прочтение «Науки логики». Предположив такого читателя, мы могли бы лишь посетовать на то, что он до сих пор не осчастливил человечество своим руководством по логике, во всех отношениях более совершенным, нежели гегелевское, и тем самым не сделал изучение последнего для всех столь же ненужным, как и для себя лично.
Читатель с подобным самомнением не выдуман, нами. Он существует, и у него немало единомышленников. Из их рядов и рекрутируются ныне философы-неопозитивисты, всерьез полагающие, будто в их обладании находится «логика науки», «логика современного научного знания», точное и неискаженное описание логических схем научного мышления. Исходя из такого представления, неопозитивисты считают излишним и даже вредным уже простое знакомство с гегелевской логикой. Усомниться в основательности их претензий заставляет уже тот факт, что все вместе взятые неопозитивистские труды по логике не смогли и не могут воспрепятствовать тому могучему воздействию, которое оказала и продолжает оказывать на реальное научное мышление та традиция в логической науке, к которой принадлежит теоретическое наследие Гегеля. С другой стороны, анализ работ неопозитивистов показывает, что их претенциозная «логика науки» представляет собой всего-навсего педантически-некритическое описание тех рутинных логических схем, которыми давным-давно сознательно пользуется любой представитель математического естествознания. Именно поэтому «логика науки» ничему новому его научить и не может. Она просто показывает ему, как в зеркале, то, что он и без нее прекрасно знает — его собственные сознательные представления о логике собственного мышления, о схемах его собственной работы.
А вот в какой мере эти традиционные сознательно применяемые в математическом естествознании логические схемы согласуются с действительной логикой развития современного научного знания — этим вопросом неопозитивистская логика попросту не задается. Она вполне некритически «описывает» то, что есть, и в этой некритичности по отношению к «современной науке» усматривает даже свою добродетель.
Между тем единственно-серьезный логический вопрос, то и дело вырастающий перед теоретиками конкретных областей научного познания, заключается именно в критическом анализе наличных логических форм с точки зрения их соответствия действительным потребностям развития науки, действительной логике развития современного научного знания. И в этом отношении гегелевская «Наука логики», несмотря на все ее связанные с идеализмом пороки, может дать современной науке бесконечно больше, чем претенциозная «логика науки». Именно для понимания действительных форм и законов развития современного научно-теоретического познания, которые властно управляют мышлением отдельных ученых зачастую вопреки их наличному логическому сознанию, вопреки их сознательно принимаемым логическим установкам.
Приходится исходить из того, что подлинная Логика современной науки непосредственно нам не дана, ее еще нужно выявить, понять, а затем — превратить в сознательно применяемый инструментарий работы с понятиями, в логический метод разрешения тех проблем современной науки, которые не поддаются рутинным логическим методам, выдаваемым неопозитивистами за единственно-законные, за единственно-научные.
Но если так, то критическое изучение «Науки логики» не может сводиться к простому сравнению ее положений — с той логикой, которой сознательно руководствуются современные естествоиспытатели, считая последнюю безупречной и не подлежащей сомнению; не следует думать, что Гегель прав только в тех пунктах, где его взгляды согласуются с логическими представлениями современных естествоиспытателей, а в случае их разногласия всегда неправ Гегель. При ближайшем рассмотрении ситуация может оказаться как раз обратной. Может статься, что именно в этих пунктах гегелевская логика находится ближе к истине, чем логические представления ныне здравствующих теоретиков, что как раз тут он и выступает от имени логики, которой современному естествознанию не хватает, той самой логики, потребность в которой назрела в организме современной науки и не может быть удовлетворена традиционными логическими методами.
Если все это иметь в виду, то задача, перед которой оказывается читатель «Науки логики», рисуется по существу исследовательской. Трудность ее в том, что гегелевское изображение предмета, в данном случае мышления, придется критически сопоставлять не с готовым заранее известным его прообразом, а с предметом, контуры которого только впервые и начинают прорисовываться в ходе самого критического преодоления гегелевских конструкций.
Читатель оказывается как бы в положении узника платоновской пещеры, он видит лишь тени, отбрасываемые невидимыми для него фигурами, и по контурам этих теней должен реконструировать для себя образы самих фигур, которые сами по себе так и остаются для него невидимыми… Ведь мышление и в самом деле невидимо…
Реконструировать для себя сам прообраз, представленный в гегелевской логике вереницей сменяющих друг друга «теней», каждая из которых своеобразно искажает отображаемый ею оригинал, читатель сможет в том случае, если ясно понимает устройство той оптики, сквозь которую Гегель рассматривает предмет своего исследования. Эта искажающая, но вместе с тем и увеличивающая, оптика (система фундаментальных принципов гегелевской логики) как раз и позволила Гегелю увидеть, хотя бы и в идеалистически-перевернутом виде, диалектику мышления, ту самую логику, которая остается невидимой для философски-невооруженного взора, для простого «здравого смысла»
Прежде всего важно ясно понять, какой реальный предмет исследует и описывает Гегель в своей «Науке логики», чтобы сразу же обрести критическую дистанцию по отношению к его изображению. Предмет этот — мышление «Что предмет логики есть мышление — с этим все согласны», — подчеркивает Гегель в своей «Малой логике»[1]. Далее совершенно логично логика как наука получает определение «мышления о мышлении» или «мыслящего само себя мышления».
В этом определении и в выраженном им понимании нет еще ровно ничего ни специфически-гегелевского, ни специфически-идеалистического. Это просто-напросто традиционное представление о предмете логики как науки, доведенное до предельно-четкого и категорического выражения. В логике предметом научного осмысления оказывается само же мышление, в то время как любая другая наука есть мышление о чем-то другом, будь то звезды или минералы, исторические события или телесная организация самого человеческого существа с его мозгом, печенью, сердцем и прочими органами. Определяя логику как «мышление о мышлении», Гегель совершенно точно указывает ее единственное отличие от любой другой науки.
Однако эта дефиниция сразу же ставит нас перед следующим вопросом и обязывает к не менее ясному ответу, а что такое мышление?
Само собой разумеется, отвечает Гегель (и в этом с ним также приходится согласиться), что единственно-удовлетворительным ответом на этот вопрос может быть только самое изложение «сути дела», т. е. конкретно-развернутая теория, сама наука о мышлении, «наука логики», а не очередная «дефиниция».
(Сравни слова Ф. Энгельса. «Наша дефиниция жизни, разумеется, весьма недостаточна, поскольку она далека от того, чтобы охватить все явления жизни, а, напротив, ограничивается самыми общими и самыми простыми среди них. Все дефиниции имеют в научном отношении незначительную ценность. Чтобы получить действительно исчерпывающее представление о жизни, нам пришлось бы проследить все формы ее проявления, от самой низшей до наивысшей»[2]. И далее: «Дефиниции не имеют значения для науки, потому что они всегда оказываются недостаточными. Единственно реальной дефиницией оказывается развитие самого существа дела, а это уже не есть дефиниция»[3]).
Однако в любой науке, а потому и в логике, приходится все же предварительно обозначить, контурно очертить хотя бы самые общие границы предмета предстоящего исследования — т. е. указать область фактов, которые в данной науке надлежит принимать во внимание. Иначе будет неясен критерий отбора фактов, а его роль станет исполнять произвол, считающийся только с теми фактами, которые «подтверждают» его обобщения, и игнорирует все прочие, неприятные для него факты, как не имеющие, якобы, отношений к делу, к компетенции данной науки, И Гегель такое предварительное разъяснение дает, не утаивая от читателя (как то делали и делают многие авторы книг по логике), что именно он понимает под словом «мышление».
Этот пункт особенно важен, от его верного понимания зависит все остальное. Не разобравшись до конца в этом пункте, не стоит даже приступать к чтению последующего текста «Науки логики», он будет понят заведомо неверно. Совсем не случайно до сих пор основные возражения Гегелю, как справедливые, так и несправедливые, направляются как раз сюда. Неопозитивисты, например, единодушно упрекают Гегеля в том, что он, де, недопустимо «расширил» предмет логики своим пониманием «мышления», включив в его границы массу вещей, которые «мышлением» в обычном и строгом смысле назвать никак нельзя.
Прежде всего — всю сферу понятий, относившихся по традиции к «метафизике», к «онтологии», то есть к науке «о самих вещах», всю систему категорий — всеобщих определений действительности вне сознания человека, вне «субъективного мышления», понимаемого как психическая способность человека, как лишь одна из психических его способностей.
Если под «мышлением» иметь в виду именно это, а именно психическую способность человека, психическую деятельность, протекающую в человеческой голове и известную всем как сознательное рассуждение, как «размышление», то неопозитивистский упрек Гегелю и в самом деле придется посчитать резонным.
Гегель действительно понимает под «мышлением» нечто иное, нечто более серьезное и, на первый взгляд, загадочное, даже мистическое, когда говорите «мышлении», совершающемся где-то вне человека и помимо человека, независимо от его головы, о «мышлении как таковом», о «чистом мышлении», и предметом Логики считает именно это — «абсолютное», сверхчеловеческое мышление. Логику, согласно его определениям, следует понимать даже как «изображение бога, каков он есть в своей вечной сущности до сотворения природы и какого бы то ни было конечного духа»[4].
Эти — и подобные им — определения способны сбить читателя с толку, с самого начала дезориентировать его. Конечно же, такого «мышления» — как некоей сверхъестественной силы, творящей из себя и природу, и историю, и самого человека с его сознанием нигде во вселенной нет. Но тогда гегелевская Логика есть изображение несуществующего предмета, выдуманного, чисто-фантастического объекта?
Как же быть в таком случае, как решать задачу критического переосмысления гегелевских построений? С чем, с каким реальным предметом, придется сравнивать и сопоставлять вереницы его теоретических определений, чтобы отличить в них истину от заблуждения?
С реальным мышлением человека? Но Гегель ответил бы, что в его «Науке логики» речь идет совсем не об этом, и что если эмпирически-очевидное человеческое мышление не таково, то это совсем не довод против его Логики, изображающей другой предмет. Ведь критика теории лишь в том случае имеет смысл, если эту теорию сравнивают с тем самым предметом, который в ней изображается, а не с чем то иным. В противном случае критика направляется мимо цели. Нельзя же, в самом деле, «опровергать», например, таблицу умножения указанием на тот очевидный факт, что в эмпирической действительности дело обстоит совсем не так, что там дважды две капли воды, например, дают при их «сложении» вовсе не четыре, а и одну, и семь, и двадцать пять, уж сколько получится в силу случайно складывающихся обстоятельств. То же самое и здесь. С фактически протекающими в головах людей актами мышления сравнивать Логику нельзя уже потому, что люди сплошь и рядом мыслят весьма нелогично. Даже элементарно нелогично, не говоря уже о логике более высокого порядка, о той самой, которую имеет в виду Гегель.
Поэтому когда вы укажете логику, что реальное мышление человека протекает не так, как изображает его теория, он на это резонно ответит: тем хуже для этого мышления; и не теорию тут надлежит приспосабливать к эмпирии, а реальное мышление постараться сделать логичным, привести его в согласие с логическими принципами.
Однако для логики как науки отсюда происходит фундаментальная трудность. Если логические принципы допустимо сопоставлять только с «логичным» мышлением, то исчезает какая бы то ни была возможность проверить — а правильны ли они сами?
Само собой понятно, что они всегда будут согласовываться с тем мышлением, которое заранее согласовано с ними и совершается в полном соответствии с их предписаниями. Но ведь это и значит, что логические принципы согласуются лишь сами с собой, со своим собственным «воплощением» в эмпирических актах мышления.
Для теории в данном случае создается весьма щекотливое положение. Теория здесь соглашается считаться только с теми фактами, которые заведомо ее подтверждают, а все остальные факты принципиально игнорирует как не имеющие отношения к делу. Любой «противоречащий», «опровергающий» ее положения, факт (факт «нелогичного», «не согласующегося с требованиями логики», мышления) она просто отметет на том основании, что он «не относится к предмету логики», и потому неправомочен в качестве критической инстанции для ее положений, для ее аксиом и постулатов… Логика имеет в виду только логически-безупречное мышление, а «логически-неправильное» мышление не довод против ее схем. Но «логически-безупречным» она соглашается считать только такое мышление, которое в точности подтверждает ее собственные представления о мышлении, рабски и некритически следуя их указаниям, а любое уклонение от ее правил расценивает как факт, находящийся за рамками ее предмета и потому рассматривает только как «ошибку», которую надо «исправить».
В любой другой науке подобная претензия вызвала бы недоумение. Что это за теория, которая заранее объявляет, что согласна принимать в расчет лишь такие факты, которые ее подтверждают, и не желает считаться с противоречащими фактами, хотя бы их были миллионы и миллиарды? А ведь именно такова традиционная позиция логики, которая представляется ее адептам само собой разумеющейся… Но это именно и делает эту логику абсолютно несамокритичной с одной стороны, и неспособной к какому бы то ни было развитию — с другой. Она, как мифический Нарцисс, видит в реальном мышлении только себя, только отражение своих собственных постулатов и рекомендаций, только те ходы мысли, которые совершаются по ее правилам, а все остальное богатство развивающегося мышления объявляет следствием вмешательства «посторонних», «внелогических» и «алогичных» факторов, интуиции, прагматического интереса, чисто-психологических случайностей, эмоций, ассоциаций, политических страстей, эмпирических обстоятельств, и т. д. и т. п.
С этой именно позицией связана и знаменитая иллюзия Канта, согласно которой «логика» как теория давным-давно обрела вполне замкнутый, завершенный характер и не только не нуждается, а и не может по самой ее природе нуждаться в развитии своих положений.
Эта иллюзия, как прекрасно понял Гегель, становится абсолютно неизбежной, если предметом логики как науки считать исключительно формы и правила сознательного мышления, или мышления, понимаемого как одна из психических способностей человека, стоящая в одном ряду с другими психическими способностями, свойственными человеческому индивиду. «Когда мы говорим о мышлении, оно нам сначала представляется субъективной деятельностью, одной из тех способностей, каких мы имеем много, как, например, память, представление, воля и т. д.» Но такой взгляд сразу же замыкает логику в рамки исследования индивидуального сознания, тех правил, которые мыслящий индивид обретает из своего собственного опыта, и которые именно поэтому кажутся ему чем-то само собой разумеющимся и самоочевидным, «своим».
«Мышление, рассматриваемое с этой стороны в его законах, есть то, что обычно составляет содержание логики»[5]. Именно поэтому логика, исходящая из такого понимания мышления, лишь проясняет, доводит до ясного сознания те самые правила, которыми любой индивид пользуется и без нее, и если мы изучаем такую логику, то продолжаем мыслить как и до ее изучения, «может быть, методичнее, но без особых перемен». Совершенно естественно, констатирует Гегель, пока логика рассматривает мышление лишь как психическую способность индивида и выясняет правила, которым эта способность подчиняется в ходе индивидуально совершаемого опыта, она ничего большего дать и не может. В этом случае логика, «разумеется, не дала бы ничего такого, что не могло бы быть сделано так же хорошо и без нее. Прежняя логика и в самом деле ставила себе эту задачу»[6].
С таким — оправданным, но ограниченным — взглядом на мышление как на предмет логики, связана и историческая судьба этой науки, тот отмеченный Кантом факт, что со времен Аристотеля она в общем и целом особых изменений не претерпела. Средневековые схоластики «ничего не прибавили к ее содержанию, а лишь развили ее в частностях», а «главный вклад нового времени в логику ограничивается преимущественно, с одной стороны, опусканием многих, созданных Аристотелем и схоластиками, логических определений и прибавлением значительного количества постороннего психологического материала — с другой»[7].
Это — почти дословное повторение слов Канта из «Критики чистого разума», констатация совершенно бесспорного исторического факта. Однако из этого факта Гегель делает вывод, прямо обратный по сравнению с выводом Канта:
«…Если со времен Аристотеля логика не подверглась никаким изменениям, и в самом деле при рассмотрении новых учебников логики мы убеждаемся, что изменения сводятся часто больше всего к сокращениям, то мы отсюда должны сделать скорее тот вывод, что она тем больше нуждается в полной переработке»[8].
Прежде всего Гегель подвергает «полной переработке» самое понятие мышления. В логике нельзя понимать мышление как одну из психических способностей человеческого индивида, как деятельность, протекающую под его черепной крышкой. Такое понимание оправдано и допустимо в психологии. Будучи без корректив перенесено в логику, оно становится ложным, слишком узким. Ближайшим следствием такого понимания оказывается тот предрассудок, согласно которому под «мышлением» сразу же понимается сознательно совершаемое «рассуждение» — и только, и мышление поэтому предстаёт перед исследователем в образе «внутренней речи», которая, разумеется, может выражаться вовне и в виде устной, «внешней» речи, а также в виде графически зафиксированной речи, в виде письма. Вся старая логика, начиная с Аристотеля, так именно дело и понимала. Для нее «мышление» — это что-то вроде «немой речи», а устная речь — это мышление так сказать «вслух».
Неслучайно поэтому логические исследования и производились в ходе анализа диалогов и монологов, процесса словесного выражения субъективной мысли, и мысль рассматривалась лишь в ее словесном «бытии», лишь в форме предложений и цепочек предложений («суждений»). В силу этого старая логика никогда не могла различить четко «субъект» (логического суждения) от «подлежащего» (как члена предложения), «предикат» — от «сказуемого», «понятие» — от «термина» и т. д. и т. п.
Заметим попутно, что все без исключения логические школы, прошедшие мимо гегелевской критики старой логики, этот древний предрассудок разделяют, как ни в чем ни бывало, и до сих пор. Наиболее откровенно его исповедуют неопозитивисты, прямо отождествляющие «мышление» — с «языковой деятельностью», а «логику» — с «анализом языка». Самое комичное во всем этом — то самомнение, с которым архаически-наивный предрассудок выдается ими за самоновейшее открытие логической мысли ХХ-го столетия, за наконец-то явленный миру принцип научной разработки логики, за аксиому «логики науки». Неопозитивистам кажется «непонятной мистикой» гегелевское представление о том, что предметом логики как науки является «чистое мышление», а не формы его словесного выражения. Как можно исследовать «мышление» помимо форм его проявления? Это недоумение на первый взгляд может показаться резонным, — недоумением трезвомыслящего теоретика, желающего изучать фактически наблюдаемые явления «мышления», а не «мышление как таковое», как «чистую деятельность», ни в чем предметно себя не обнаруживающую…
Между тем как раз в этом пункте Гегель мыслит гораздо трезвее, чем все неопозитивисты, вместе взятые.
Кто сказал, что язык (речь) есть единственная фактически-эмпирически наблюдаемая форма, в которой проявляет себя человеческое мышление? Разве в поступках человека, в ходе реального формирования окружающего мира, в делании вещей человек не обнаруживает себя как мыслящее существо? Разве мыслящим существом он выступает только в акте говорения? Вопрос, пожалуй, чисто риторический.
Мышление, о котором говорит Гегель, обнаруживает себя в делах человеческих отнюдь не менее очевидно, чем в словах, в цепочках терминов, в кружевах словосочетаний, которые только и маячат перед взором логика-неопозитивиста. Более того, в реальных делах человек обнаруживает подлинный способ своего мышления гораздо более адекватно, чем в своих повествованиях об этих делах.
Кому неизвестно, что о человеке, об образе его мысли, можно гораздо вернее судить по тому, что и как он делает, нежели по тому, что и как он о себе говорит? Разве не ясно, что цепочки поступков обнаруживают подлинную логику его мышления полнее и правдивее, чем цепочки знаков-терминов? Разве не вошли в поговорку знаменитые сентенции: «язык дан человеку, чтобы скрывать свои мысли» и «мысль изреченная есть ложь»? При этом речь идет вовсе не о сознательном обмане другого человека, о сознательном сокрытии от него правды — «истинного положения вещей», а о совершенно искреннем и «честном» самообмане.
Но если так, то поступки человека, а, стало быть, и результаты этих поступков, «вещи», которые ими создаются, не только можно, а и нужно рассматривать как акты обнаружения его мышления, как акты «опредмечивания» его мысли, его замыслов, его планов, его сознательных намерений. В логике, в науке о мышлении, не менее важно учитывать различие между словами и делами, сопоставлять дела и слова, чем в реальной жизни. Это простое соображение Гегель и выдвигает против всей прежней логики, которая, в духе схоластически интерпретированного Аристотеля, понимала под «мышлением» почти исключительно устно или графически зафиксированную «немую речь», и именно потому судила о «мышлении» прежде всего по фактам его словесной «экспликации». Гегель же с самого начала требует исследовать «мышление» во всех формах его обнаружения, его «реализации», и прежде всего — в делах человеческих, в поступках, в делах, в актах созидания вещей и событий. Мышление обнаруживает себя, свою силу, свою деятельную энергию, вовсе не только в говорении, но и во всем грандиозном процессе созидания культуры, всего предметного тела человеческой цивилизации, всего «неорганического тела человека», включая сюда орудия труда и статуи, мастерские и храмы, фабрики и государственные канцелярии, политические организации и системы законодательства — всё.
Гегель тем самым прямо вводит практику — чувственно-предметную деятельность человека — в логику, в науку о мышлении, делая этим колоссальной шаг вперед в понимании мышления и науки о нем; «несомненно, практика стоит у Гегеля, как звено, в анализе процесса познания и именно как переход к объективной («абсолютной», по Гегелю) истине. Маркс, следовательно, непосредственно к Гегелю примыкает, вводя критерий практики в теорию познания: см. тезисы о Фейербахе»[9].
Именно на этом основании Гегель и обретает право рассматривать внутри Логики — внутри науки о мышлении — объективные определения вещей вне сознания, вне психики человеческого индивида, причем во всей их независимости от этой психики, от этого сознания. Ничего «мистического» или «идеалистического» в этом пока нет, в виду имеются непосредственно формы («определения») вещей, созданных деятельностью мыслящего человека. Иными словами — формы его мышления, «воплощенные» в естественно-природном материале, «положенные» в него человеческой деятельностью. Так, дом выглядит с этой точки зрения как воплощенный в камне замысел архитектора, машина — как выполненная в металле мысль инженера, и т. д. и т. п., а все колоссальное предметное тело цивилизации — как «мышление в его инобытии», в его чувственно-предметном «воплощении». Соответственно и вся история человечества рассматривается как процесс «внешнего обнаружения» силы мысли, энергии мышления, как процесс реализации идей, понятий, представлений, планов, замыслов и целей человека, как процесс «опредмечивания логики», тех схем, которым подчиняется целенаправленная деятельность людей.
Понимание и тщательный анализ этого аспекта человеческой деятельности, ее «активной стороны», как называет его Маркс в «Тезисах о Фейербахе», также не есть еще «идеализм». Этот реальный аспект может быть понят и без всякой мистики. Более того, специально в логике его анализ как раз и составил решающий шаг этой науки в направлении к настоящему — «умному» — материализму, к пониманию того факта, что все без исключения «логические формы» суть отраженные в человеческом сознании и проверенные ходом тысячелетней практики всеобщие формы развития действительности вне мышления. Рассматривая «мышление» не только в его словесном обнаружении, но и в процессе его «опредмечивания», его «овеществления» в естественно-природном материале, в камне и бронзе, в дереве и железе, а далее — и в структурах социальной организации (в виде государственных и экономических систем взаимоотношений между индивидами), Гегель отнюдь не выходит за пределы рассмотрения мышления, за рамки предмета логики как особой науки. Он просто вводит в поле зрения логики ту реальную фазу процесса развития мышления, без понимания которой логика не могла и не может стать действительной наукой, наукой о мышлении в точном и конкретном значении этого понятия.
Вводя в логику практику, а вместе с нею — и все те формы вещей, которые этой практикой «вносятся» в вещество природы, и затем толкуя эти формы вещей вне сознания как «формы мышления в их инобытии», в их чувственно-предметном «воплощении», Гегель вовсе не перестает быть логиком в самом строгом и точном смысле слова.
Упрекать его приходится вовсе не за то, что он вводит в логику чуждый ей материал и выходит тем самым за законные границы науки о мышлении. С точки зрения последовательного материализма справедлив скорее как раз обратный упрек, в том, что он остается «чистым» логиком и там, где точка зрения логики уже недостаточна. Беда Гегеля в том, что «дело логики» поглощает его настолько, что он перестает видеть за ним «логику дела».
Эта своеобразная профессиональная слепота логика обнаруживает себя прежде всего в том, что практика, т. е. реальная чувственно-предметная деятельность человека, рассматривается здесь только как «критерий истины», только как проверочная инстанция для «мышления», для свершившейся до нее и независимо от нее духовно-теоретической работы, а еще точнее — для результатов этой работы.
Практика поэтому и рассматривается здесь абстрактно, то есть освещается лишь с той стороны, лишь в тех ее характеристиках, которыми она и в самом деле обязана «мышлению», то есть представляет собой акт реализации некоторого замысла, плана, идеи, понятия, той или иной заранее разработанной цели, и совершенно не рассматривается «как таковая», в ее собственной, ни от какого мышления не зависящей, детерминации. Соответственно с этим и все результаты практической деятельности людей, вещи, созданные трудом человека, и исторические события с их последствиями, также принимаются в расчет лишь постольку, поскольку в них «опредмечены» те или иные «мысли». В понимании исторического процесса в целом такая точка зрения представляет собою, само собой понятно, чистейший («абсолютный») идеализм. Однако по отношению к логике, к науке о мышлении, эта точка зрения представляется не только оправданной, но и единственно-резонной.
В самом деле — можно ли упрекать логика за то, что он строжайшим образом абстрагируется от всего того, что не имеет отношения к предмету его специального исследования, к мышлению, и любой факт принимает во внимание лишь постольку, поскольку тот может быть понят как следствие, как форма обнаружения его предмета, предмета его науки — мышления?
Упрекать логика-профессионала в том, что «дело логики» занимает его больше, чем логика дела (т. е. логика любой другой конкретной области человеческой деятельности) столь же нелепо, сколь нелепо корить химика за излишнее внимание к «делу химии»… Совсем не этот смысл кроется в известных словах Маркса, сказанных по адресу Гегеля.
Беда узкого профессионализма заключается вовсе не в строгом ограничении его мышления рамками предмета его науки. Беда его в неспособности ясно видеть связанные с этой абстрактной ограниченностью взгляда на вещи границы компетенции собственной науки. Пока химик занимается «делом химии», т. е. рассматривает все богатство мироздания исключительно под абстрактно-химическим аспектом, мыслит любой предмет во вселенной, будь то нефть или «Сикстинская мадонна» Рафаэля, только в понятиях своей науки — никому в голову, разумеется, не придет упрекать его в том, что его при этом мало интересует дело политэкономии или эстетики. Но как только он начинает мнить, будто в понятиях его специальной дисциплины как раз выражается самая глубокая, самая интимная тайна предмета любой другой науки, его профессионализм сразу же оборачивается своими минусами. В этом случае ему начинает казаться, например, что биология — это лишь поверхностно-феноменологическое описание явлений подлинную тайну которых раскрывает лишь он, химик, поскольку он занимается частным разделом своей науки — биохимией. В наказание за это самомнение он сразу же получает удар в спину от физика, для коего вся его химия — лишь поверхностное обнаружение глубинных «субатомных» структур. А над обоими посмеивается математик, для которого и биология, и химия и физика — всего-навсего «частные случаи» обнаружения универсальных схем соединения и разъединения «элементов вообще» внутри «структур вообще»…
Эта коварная иллюзия характерна и для Гегеля, для типичного профессионала-логика В качестве логика он абсолютно прав, когда рассматривает и «высказывание» и «дело» исключительно с точки зрения обнаруживающихся в них абстрактных схем мышления, и только, когда логика любого дела интересует его лишь постольку, поскольку в нем обнаруживает себя деятельность мышления вообще. С этой точки зрения просматриваются лишь те формы, схемы, законы и правила, которые остаются инвариантными и в мышлении Ньютона, и в мышлении Робеспьера, и в мышлении Канта, и в мышлении Кая Юлия Цезаря. «Специфика» мышления всех этих персонажей его, как логика, интересовать, естественно, не может. Как раз от нее любой логик, и именно потому что он — логик, и обязан отвлекаться (абстрагироваться), чтобы разглядеть свой предмет, предмет своей специальной науки.
Мистицизм гегелевской логики, и одновременно та ее коварная особенность, которую Маркс назвал «некритическим позитивизмом», начинаются там, где специальная точка зрения логика принимается и выдается за ту единственно-научную точку зрения, с высоты которой только, якобы, и раскрывается «последняя», самая глубокая, самая интимная, самая сокровенная, самая важная истина, доступная вообще человеку и человечеству…
Как логик, Гегель вполне прав, рассматривая любое явление в развитии человеческой культуры как акт «обнаружения» силы мышления, и потому толкуя развитие и науки, и техники, и «нравственности» (в гегелевском ее понимании, включающем всю совокупность общественных отношений человека к человеку — от моральных до экономических) как процесс, в котором обнаруживает себя способность мыслить, т. е. как процесс обнаружения этой способности, и только.
Но стоит добавить к этому (в логике допустимому и естественному) взгляду немногое, а именно, что в специально-логических абстракциях как раз и выражена суть самих по себе явлений, из коих эти абстракции извлечены, как истина сразу же превращается в ложь. В такую же ложь, в какую тотчас же превратились бы совершенно точные результаты химического исследования состава красок, которыми написана «Сикстинская мадонна», как только в этих результатах химик усмотрел бы единственно-научное понимание этого уникального «синтеза» химических элементов…
Точно то же и тут. Абстракции, совершенно точно выражающие (описывающие) формы и схемы протекания логического процесса, мышления, во всех формах его «конкретного» осуществления — в физике и в политике, в технике и в теологии, в искусстве и в экономической жизнедеятельности, непосредственно и прямо выдаются за схемы процесса, созидающего все многообразие человеческой культуры, в составе которой они и были обнаружены.
Вся мистика гегелевской концепции мышления сосредоточивается в результате в одном единственном пункте. Рассматривая все многообразие форм человеческой культуры как результат «обнаружения» действующей в человеке способности мыслить, то есть как тот материал, в котором он — как логик — обнаруживает «предметно-явленные» схемы реализованного в них мышления, он утрачивает всякую возможность понять — а откуда же вообще взялась в человеке эта уникальная способность с ее схемами и правилами?
Возводя «мышление» в ранг божественной силы и энергии, изнутри побуждающей человека к историческому творчеству, Гегель просто-напросто выдает отсутствие ответа на этот резонный вопрос — за единственно-возможный на него ответ.
Мышление, по Гегелю, не возникает в человеке, а лишь пробуждается в нем, будучи до этого пробуждения некоторой дремлющей, лишенной сознания и самосознания, но все же вполне реальной активной силой. В человеке это «мышление» просыпается, обретает сознание самого себя, т. е. «самосознание», само себя делает предметом своей собственной деятельности, выступает уже как «мышление о мышлении», в чем и обнаруживается, де, его «подлинная природа», его «истинное лицо».
Но прямо и непосредственно это «мышление» рассмотреть себя не может, ибо оно невидимо, неслышимо и вообще неощутимо. Для того, чтобы рассмотреть самое себя, этому мышлению требуется некоторое зеркало, в котором оно могло бы увидеть себя как бы со стороны, как нечто «иное». Этим своеобразным «зеркалом» и становится для него создаваемый им предметный мир, совокупность его собственных «обнаружений» — в виде слова, в виде орудий труда, в виде государственно-политических образований, в виде статуй, книг и всех прочих созданий «мыслящего духа». Творя предметно-развернутое богатство человеческой культуры, «мыслящий дух», с самого начала обитающий в человеке, как раз и создает «вне себя» и «против себя» то зеркало, в котором он впервые сам себя и видит, правда, не понимая вначале, что в зеркале вещей и событий ему отражается его собственный образ и ничего более.
Во всей этой мистически-фантастической картине, превращающей реальное мышление реальных людей — в процесс «обнаружения» некоторой отличной от них самих, абсолютно не зависящей от их воли, от их желаний и потребностей, от их сознания и самосознания — вполне объективной — всемогущей схемы не так уж трудно разглядеть проступающие сквозь нее реальные черты вполне земного прообраза, — того мышления, с которого Гегель и срисовывает портрет «бога».
Это — не «мышление вообще», не «мышление как таковое», как представлялось самому Гегелю. Непосредственно — это мышление профессионала-логика со всеми его характернейшими чертами и особенностями, принятыми и выданными за универсальные особенности мышления вообще, за выражение «природы мышления как такового». Если это учитывать, то все загадочные определения, которые Гегель дает «мышлению», оказываются не только понятными, но подчас даже банально-самоочевидными.
Это он — логик — осуществляет ту работу, которая состоит исключительно в «мышлении о мышлении»; логика как наука это и есть «мыслящее само себя мышление». Осмысливать сам процесс мышления, доводить до сознания людей те схемы, законы и правила, в рамках которых совершается их собственное мышление, хотя они сами этих схем и правил ясно и не осознают, а подчиняются им под властным давлением всей совокупности обстоятельств, внутри которых они «мыслят» и действуют, поскольку они действуют именно как мыслящие существа. Это он — логик — рассматривает и описывает вовсе не свое собственное мышление, как индивидуально ему свойственную психическую способность, как психическую деятельность, протекающую в его индивидуальной голове, а те совершенно безличные схемы, которые отчетливо прорисовываются в ходе целенаправленной жизнедеятельности любого — каждого — человека, если ее рассмотреть «задним числом» и отвлекаясь при этом от всего того, что и как он сам при этом думал, что и как он в составе собственных действий осознавал (т. е. доводил до собственного сознания в ясной словесной форме).
Это он — логик ex professo (логик-профессионал) осуществляет в своем лице «самосознание» того «мышления», которое осуществляет не отдельный индивид наедине с самим собой, а только более или менее развитый коллектив индивидов, связанных в одно целое узами языка, обычаев, нравов и норм, регулирующих их отношения к «вещам»; в его лице и осуществляется «самопознание» того самого мышления, которое обнаруживает себя прежде всего не столько в немом монологе, сколько в драматически-напряженных диалогах и в результатах таких диалогов, в некоторых общих выводах из уроков столкновений между «мыслящими индивидами», в некоторых «правилах», которые они в итоге устанавливают в качестве общеобязательных, в нормах быта и работы, морали и права, в законах науки и заповедях религии, и т. д. и т. п.
Он, логик-профессионал, и олицетворяет собою процесс осознания тех форм, схем и законов, в рамках которых осуществляется это — коллективно осуществляемое — мышление. Мышление, реализующее себя не только в монологах и диалогах, но и в сознательно-целенаправленных поступках, в формировании вещей и в протекании исторических событий, короче говоря, в процессе созидания предметного тела цивилизации, «неорганического тела человека». Мышление, которое — как предмет исследования — противостоит логику вовсе не в образе психофизиологического процесса, протекающего под черепной крышкой отдельного индивида, а как всемирно-исторический процесс развития науки, техники и нравственности. Формы и законы развертывания этого процесса (в ходе которого индивид с его психикой действительно играет подчиненную роль, роль исполнителя, а то и орудия исполнения, вне и независимо от него назревших задач, проблем, потребностей) — и составляют для логика-теоретика такой же объективный предмет исследования, каким для астронома выступают законы движения планет, звезд и галактик…
Формы и законы мышления, понимаемого таким образом, как естественноисторический процесс, совершаемый не внутри одной-единственной головы, а только внутри миллионов голов, связанных сетью коммуникаций как бы в одну голову, в одно «мыслящее» существо, находящееся в непрестанном диалоге с «самим собой» — они то как раз и составляют объективный предмет Логики в ее гегелевском смысле. Этот вполне реальный предмет и является прообразом гегелевского «бога» — объективного Понятия, Абсолютной Идеи.
За этими мистическими титулами везде кроется реальное человеческое мышление, каким оно выступает перед абстрактно-теоретическим взором логика-профессионала, т. е. исключительно в его всеобщих, очищенных от всего «частного», характеристиках. И та фразеология, в облачении которой этот реальный предмет выступает перед нами на страницах «Науки логики», поддается вполне рациональной расшифровке как в общем, так и в частностях. Но при одном условии — если эта расшифровка, эта перекодировка производится с точки зрения материалистического взгляда на тот же самый предмет, на мышление в вышеобрисованном понимании, а не в том понимании этого слова, которое предлагается психологией или, например, неопозитивистской «логикой науки».
Если под «мышлением» понимать что-то другое, скажем, субьективно-психическую способность и деятельность, протекающую в отдельной голове, и потому непосредственно фиксируемую в виде и образе «немой речи», «немого монолога», в виде и образе «высказывания» и цепочки таких «высказываний», и сопоставлять гегелевскую Логику с так понимаемым «мышлением», то она и в самом деле покажется чистым и абсолютным мистическим бредом, описанием «несуществующего предмета», выдуманного объекта — и только,
Если же сопоставлять гегелевское изображение с тем самым предметом, который в ней на самом деле и изображен — с мышлением, реализованным и реализуемым в виде Науки и Техники, в виде реальных поступков и действий человека («мыслящего существа», «субъекта»), целенаправленно изменяющего как внешнюю природу, так и природу своего собственного тела, то в труднопонимаемых оборотах гегелевской речи сразу же начинает просматриваться смысл куда более земной и глубокий, чем в псевдоздравомыслящей «логике науки».
Одновременно с этим становятся заметными и те «белые пятна», которые зияют в гегелевском изображении этого реального предмета, мышления, и которые Гегель вынужден маскировать вычурными оборотами речи, иногда даже просто с помощью лингвистической ловкости и непереводимой на русский язык игры немецкими словами, доставляющей массу мучений переводчикам его «Науки логики».
Дело в том, что идеализм, т. е. представление о «мышлении» как о всеобщей способности, которая лишь «пробуждается» в человеке к самосознанию, а не возникает в точном и строгом смысле на почве определенных — вне и независимо от него складывающихся — условий, приводит к ряду абсолютно неразрешимых проблем и внутри самой логики. И эти-то неразрешенные им, а на почве идеализма и принципиально неразрешимые, проблемы Гегель и вынужден «решать» чисто-лингвистическими средствами, т. е. просто увиливая от них с помощью иногда остроумных, иногда — просто невразумительных оборотов речи.
Всмотримся чуть пристальнее в его понимание мышления. Гегель безусловно делает колоссальной важности шаг вперед в его понимании, когда устанавливает, что это «мышление» осуществляется отнюдь не только в виде «слов» и «цепочек слов» («высказываний» и «силлогизмов»), но и в виде «дел», в виде поступков человека и актов его труда, деятельности, непосредственно формирующей естественно-природный материал. В соответствии с этим «формы мышления» — как логические формы — и понимаются им как всеобщие формы всякой активно-целенаправленной деятельности человека, в каком бы материале в частности они ни «воплощались», будь то слова или вещи.
Логическая категория (логическое понятие) — это абстракция, одинаково охватывающая обе частные формы выражения «мышления вообще», и потому, естественно, равно игнорирующая «специфические особенности» каждой из обеих форм, взятых порознь. Именно поэтому в ней и выражена «суть речей и вещей» — а не только «вещей» и не только «речей», внутренняя форма движения и того и другого. В «логосе» — в «разуме» — выражены в логическом аспекте (в отличие от психологически-феноменологического) одинаково «Sage und Sache» — «вещание и вещь», или, скорее, «былина и быль»[10].
Кстати — весьма характерный для Гегеля (пример) игры словами, игры, высвечивающей однако генетическое родство выражаемых этими словами представлений. «Sage» — сказывание, сказание, вещание — откуда «Сага» — легенда о подвигах, былина; «Sache» — ёмкое слово, означающее не столько единичную чувственно-воспринимаемую вещь, сколько «суть дела», «положение вещей», «существо вопроса», фактическое положение дел (вещей), всё то, что есть или было на самом деле, «быль». Русскому слову «вещь» буквально соответствует в немецком языке «Das Ding». Эта этимология используется и в «Науке логики» для выражения очень важного оттенка мысли, который в ленинском переводе и в ленинской — материалистической — интерпретации звучит так: «С этим введением содержания в логическое рассмотрение предметом становятся не «Dinge», a «die Sache, der Begriff der Dinge. — He вещи, а законы их движения, материалистически»[11].
Однако же, делая колоссальнейшей важности шаг вперед в понимании «логических форм» мышления, Гегель останавливается на полпути и даже возвращается назад, как только перед ним встает вопрос о взаимоотношении указанных «внешних форм» мышления, — чувственно-воспринимаемых предметных форм «воплощения» деятельности духа (мышления), его «наличного бытия» или «существования», в которых он — мыслящий дух человека — становится для самого себя предметом рассмотрения.
Отказываясь считать слово (речь, язык, «сказывание») единственной формой «наличного бытия духа», Гегель, тем не менее, продолжает считать его преимущественной, наиболее адекватной своей сути, формой, в виде которой мышление противополагает себя самого — себе самому, чтобы рассмотреть само себя как нечто «иное», как некоторый отличный от самого себя предмет, чтобы на само себя взглянуть как бы со стороны.
«В начале было Слово», в применении к человеческому мышлению (мыслящему духу человека) Гегель сохраняет этот тезис Евангелия от Иоанна нетронутым, принимая его как нечто самоочевидное, и делая его основоположением (аксиомой) всей дальнейшей конструкции, точнее «реконструкции» развития мыслящего духа к самосознанию, к самопознанию.
Мыслящий дух человека пробуждается впервые (т. е. противополагает себя — «всему остальному») именно в Слове, через Слово — как способность «наименовывания», а потому и оформляется прежде всего как «царство Имён», названий. Слово и выступает как первая, и по существу и по времени — «предметная действительность мысли», как исходная и непосредственная форма «бытия духа для себя самого». Это — форма, в которой «мыслящий дух», противополагая самого себя — самому же себе, остается, тем не менее, «внутри себя самого».
Наглядно это выглядит так: один «конечный дух» («мышление индивида») в Слове и через Слово делает себя предметом для другого такого же «конечного духа». Возникнув из «духа», как определенным образом артикулированный звук — Слово — будучи «услышанным» — опять превращается в «дух» — в состояние «мыслящего духа» другого человека. Колебания воздушной среды (слышимое слово) и оказываются в этой схеме чистым посредником между двумя состояниями духа, — способом отношения духа к духу, или, выражаясь гегелевским языком — духа к самому себе.
Слово (речь) и выступает здесь как первое орудие внешнего воплощения мышления, которое мыслящий дух создает «из себя», чтобы для самого себя (в образе другого мыслящего духа) стать предметом.
Реальное же орудие труда, каменный топор или зубило, скребок или соха, в составе этой конструкции начинает выглядеть как второе и вторичное — производное — орудие того же самого процесса «опредмечивания», процесса «опосредования» мышления с самим собой, как чувственно-предметная метаморфоза мышления.
Эта схема, яснее всего очерченная в «Иенской реальной философии», сохраняется далее и в «Феноменологии духа» и в «Науке логики». Состоит она в том, что «мыслящий дух» (или просто мышление) просыпается в человеке прежде всего как «наименовывающая сила» («Namengebende Kraft»), а затем уже, достаточно осознав себя в слове, приступает к созиданию орудий труда, жилищ, городов, машин, храмов и прочих атрибутов материальной культуры.
Таким образом, в слове и речи Гегель видит ту форму «наличного бытия» мыслящего духа, в которой тот выявляет свою творчески-созидающую силу (способность) раньше всего — до и независимо от реального формирования природы трудом. Последний лишь реализует то, что «мыслящий дух» открыл в самом себе в ходе проговаривания, в ходе диалога самого себя с самим собой. Но при таком освещении и сам этот «диалог» оказывается лишь монологом мыслящего духа, лишь способом его «манифестации».
В «Феноменологии духа» вся история и начинается поэтому с анализа противоречия, возникающего между «мышлением», поскольку последнее выразило себя, то, что в нем содержится, в словах «здесь» и «теперь» — и всем остальным, еще не выраженным в этих словах, его же содержанием. «Наука логики» тоже предполагает эту схему, содержит в своем начале ту же самую, только неявно выраженную, предпосылку, мышление, осознавшее и осознающее себя прежде всего в слове и через слово. Неслучайно поэтому и завершение всей «феноменологической» и «логической» истории мыслящего духа, ее возвращение к своему исходному пункту: своего абсолютно-точного и незамутненного изображения «мыслящий дух» достигает, естественно, в печатном слове — в трактате по логике…
Вся эта грандиозная концепция истории «отчуждения» (опредмечивания) творческой энергии мышления и «обратного присвоения» ею плодов своего труда («распредмечивания»), начинающаяся со слова и в слове же замыкающая свои циклы, как раз и есть та история, схема которой изображена в «Науке логики».
Разгадка этой концепции не так уж сложна, основанием всей сложной схемы служит старинное представление, согласно которому человек сначала думает, а затем уже — реально действует в мире. Отсюда и схема: слово — дело — вещь (созданная делом) — снова слово (на этот раз — словесно-фиксированный отчет о содеянном). А далее — новый цикл по той же самой схеме, но на новой основе, благодаря чему все движение имеет форму не «круга», а спирали, цикла циклов, «круга кругов», каждый из которых, однако, и начинается и заканчивается в одной и той же точке, в слове.
«Рациональное зерно» — и одновременно мистифицирующий момент этой схемы — легче всего рассмотреть сквозь аналогию (хотя это и больше, чем просто «аналогия») с теми метаморфозами, которые политэкономия выявила в анализе товарно-денежного обращения. Схема последнего выражается, как известно, в формуле: «Т — Д — Т». Товар (Т) выступает тут ж как «начало», и как «конец» цикла, а Деньги — как «посредующее звено» его, как «метаморфоза товара». Но в определенной точке бесконечно замыкающегося на себя — циклического — движения Т — Д — Т — Д — Т — Д… деньги перестают быть просто «посредником» — средством обращения товарных масс — и обретают вдруг загадочную способность к «самовозрастанию». Схематически, в формуле, этот феномен точнейшим образом выражается так: «Д — Т — Д*». Товару же, подлинному исходному пункту всего процесса в целом, достается их прежняя роль — роль посредника и средства, мимолетной метаморфозы денег, в которую они «воплощаются», чтобы совершить акт «самовозрастания». Деньги, которые обрели это таинственное свойство, есть Капитал, и в образе капитала Стоимость получает «магическую способность творить стоимость в силу того, что сама она есть стоимость» — «она внезапно выступает как саморазвивающаяся, как самодвижущаяся субстанция, для которой товары и деньги суть только формы»[12]. В формуле «Д — Т — Д*» стоимость предстаёт как «автоматически действующий субъект»[13], как «субстанция-субьект» всего постоянно возвращающегося в свою исходную точку циклического движения; «…стоимость становится здесь субъектом некоторого процесса, в котором она, постоянно меняя денежную форму на товарную и обратно, сама изменяет свою величину, отталкивает себя как прибавочную стоимость от себя самой как первоначальной стоимости, самовозрастает», и это происходит «на самом деле»[14].
В «Науке логики» Гегель зафиксировал абсолютно ту же самую ситуацию, «только не в отношении «стоимости», а в отношении знания («понятия», системы понятий, «истины»). Фактически он имеет дело с процессом накопления знания, ибо «понятие» — это и есть накопленное знание, так сказать, «постоянный капитал» мышления, который в науке всегда выступает как терминологически зафиксированное «богатство знания», «понятие» в форме слова.
А отсюда и представление, совершенно аналогичное представлению о стоимости как о «самовозрастающей субстанции», как о «субстанции-субъекте», для которой товары и деньги — суть только метаморфозы, мимолетно-обретаемые и мимолетно-сбрасываемые ею «формы» ее «наличного бытия»…
Представим себе теперь экономиста, который пытается теоретически объяснить загадку «самовозрастания стоимости», взяв за исходный пункт своего объяснения Деньги, а не Товар.
В этом случае мы будем иметь абсолютно точный эквивалент гегелевской концепции развития мышления. Гегель с самого начала фиксирует «мышление» (мыслящее познание, «понятие») в словесной форме его «воплощения», его «наличного бытия», как осмысленно произносимое Слово. Реальные же вещи, созданные мыслящим человеком (орудия труда и потребления) в этой схеме неизбежно станут выглядеть как вторая и вторичная, производная, «форма воплощения» того же самого «мышления», которое сначала «оформилось» как Слово…
«Понятие», для которого слово и вещь (создаваемая человеком) оказываются лишь «формами» его «воплощения», мимолетно-пробегаемыми «метаморфозами», при таком объяснении и определяется как «автоматически действующий субъект», как «субъект-субстанция», как «саморазвивающаяся субстанция (= субъект всех своих изменений)»…
Эта схема, как легко понять, вовсе не является горячечным бредом и выдумкой идеалиста. Это просто такое же некритическое описание реального процесса производства и накопления знания («понятия», «системы понятий»), каким является и политико-экономическая теория, бравшая за исходный пункт своего объяснения точно зафиксированный, но теоретически не понятый ею факт. Тот факт, что Деньги, выступая как «форма движения капитала», как исходный пункт и цель всего циклически-возвращающегося к «самому себе» процесса, обнаруживают мистически-загадочную способность самовозрастания, «саморазвития».
В этом случае стоимости, уже «воплощенной» в деньгах, в известной денежной сумме, необходимо придется приписать «имманентно заключенную в ней» способность саморазвития…
Факт, оставленный тем самым без объяснения, и превращается в мистически-загадочный факт. Ему приписывается — в качестве «имманентно-присущей» ему способности — свойство, которое на самом то деле принадлежит вовсе не этому факту, а совсем другому процессу, который выражается («отражает себя») в его форме.
Маркс, раскрывая в «Капитале» тайну «самовозрастания стоимости» — тайну производства и накопления прибавочной стоимости, — не по прихоти и не из кокетства, а намеренно и последовательно-сознательно, использует всю приведенную выше терминологию гегелевской Логики, гегелевской концепции мышления, «понятия».
Дело в том, что идеалистическая иллюзия, создаваемая Гегелем-логиком, имеет ту же самую природу, что и практически-необходимые («практически-истинные») иллюзии, в сфере которых вращается все сознание человека, насильно втянутого в непонятный для него, независимо от его сознания и воли совершающийся, процесс производства и накопления прибавочной стоимости, в процесс «самовозрастания стоимости». Логическая и социально-историческая схема возникновения этих иллюзий объективно и субъективно одна и та же.
Для капиталиста определенная сумма денег, определенная стоимость в непременно-денежной форме, является исходным пунктом всей его дальнейшей деятельности в качестве капиталиста (а потому предпосылкой и условием sine qua non этой деятельности), в качестве «персонифицированного капитала», а потому — и формальной целью этой его специфической деятельности, его жизнедеятельности как профессионала-капиталиста. Откуда и как возникает первоначально эта денежная сумма вместе с ее магическими свойствами, его специально интересовать не может. Это — «не его дело». Он, как «персонифицированный капитал», должен превратить эту денежную сумму в товары определенного рода, чтобы, переработав и продав эти товары, вернуть исходную денежную сумму с приращением, с «прибылью».
То же самое происходит и с профессионалом-теоретиком, с человеком, представляющим собою, своей личностью, «персонифицированное Знание», «персонифицированную Науку», «персонифицированное Понятие». Для него, для его профессии, Знание, накопленное человечеством, не им лично, и притом в строго зафиксированной словесно-знаковой форме, в виде «языка науки», выступает одновременно и как исходный пункт, и как цель его специальной работы. Его личное участие в процессе производства и накопления Знания («определений Понятия») и заключается в том, чтобы приплюсовать к исходному Понятию (к полученному им в ходе образования знанию) новые определения.
Практика же, как вне и независимо от него совершающийся процесс созидания «вещей», и «вещи», созидаемые этой практикой, его интересует главным образом как процесс «овеществления» и проверки его теоретических выкладок, его рекомендаций, как процесс «воплощения Понятия», как «фаза логического процесса».
На «практику» теоретик неизбежно смотрит так, как смотрит драматург на спектакль, поставленный по его пьесе, его интересует, естественно, вопрос — насколько точно и полно «воплощен» его замысел, его идея, и какие уточнения он должен внести в свой текст, чтобы на сцене этот замысел получил еще более адекватное «воплощение»…
Поскольку Понятие (или система понятий с маленькой буквы) выступает для теоретика и как исходный пункт, и как цель его деятельности, он и на весь процесс в целом неизбежно смотрит со своей точки зрения — как на процесс, протекающий по схеме: Понятие — процесс «овеществления» Понятия — анализ результатов этого «воплощения» — выражение результатов этого анализа снова в Понятии. Понятие, совершив цикл своих превращений, снова «возвращается» к «самому себе», в исходную форму своего «наличного бытия» — в Слово, в формулу, в систему терминологически-отработанных определений.
Естественно, что с этой специальной точки зрения Понятие и начинает казаться «саморазвивающейся субстанцией», «автоматически действующим субъектом», «субъектом-субстанцией всех своих изменений», всех своих «метаморфоз».
Вопрос же о том, откуда вообще возникает самое Понятие, выступающее сначала в образе Слова, и уже затем — в виде Вещи, созидаемой Делом (сознательной и целесообразной деятельностью, опирающейся на Слово), становится, с этой точки зрения, во-первых, неразрешимым, а, во-вторых — довольно безразличным. Столь же безразличным, сколь безразличен для капиталиста вопрос о том, откуда же вообще возникает Стоимость. Для него — для его жизнедеятельности — наличие стоимости является предпосылкой, такой же «естественной» и «необходимой», как наличие воздуха для живого существа. Его специально интересует уже не вопрос о том, откуда вообще берется «стоимость», а только вопрос о том, что и как он должен делать с этой «стоимостью», чтобы получить «прибыль», чтобы превратить ее в «самовозрастающую стоимость».
Происхождение предпосылок, при наличии которых вообще становится возможной его специфическая жизнедеятельность, ее специфические формы, правила и законы, предпосылок, созревающих вне, до и независимо от его собственной работы, его, естественно, специально интересовать не может. Он вынужден брать их как нечто готовое, как нечто данное, как нечто уже наличное, как материал собственной деятельности.
Аналогично смотрит на весь «внешний мир» и теоретик, профессионал умственного (духовного) труда, как на «сырье» или «полуфабрикат» производства и накопления Знания, «определений Понятия». «Понятие» с самого начала является той «стихией», которой он живет, которой он дышит, которую он персонифицирует, тем «субъектом», от имени коего он выступает в качестве полномочного представителя.
Отсюда — из реальной формы жизнедеятельности профессионала-теоретика — и растут все те практически-необходимые иллюзии насчет «мышления» и «понятия», систематическое выражение которых и представляет собой гегелевская «Наука логики».
Поэтому понять гегелевскую логику легче всего, если смотреть на нее как на систематическое, и одновременно некритическое, описание тех «форм мышления», в рамках которых протекает весь процесс «производства Понятия», т. е. специальная деятельность профессионала-теоретика, профессионала умственного труда, человека, для которого Понятие (система понятий) является и исходным пунктом — условием и предпосылкой — и целью — итоговым результатом — работы, а «практика» играет роль «посредствующего звена» между началом и результатом, роль «метаморфозы Понятия», роль его «инобытия».
Если говорить еще точнее, то гегелевская Логика обрисовывает ту систему «объективных форм мысли», в рамках которых вращается процесс расширенного воспроизводства Понятия, процесс «накопления» определений понятий, процесс, который в его развитых формах никогда не начинается «с самого начала», а совершается как процесс «совершенствования» уже наличных понятий, как процесс преобразования уже накопленного теоретического знания, как процесс его «приращения». Понятие как таковое здесь всегда уже предполагается как своего рода плацдарм новых завоеваний, речь идет о расширении сферы познанного — а исходные понятия тут играют активнейшую роль. Чем больше капитал, тем большую он дает и прибыль, хотя бы норма этой прибыли и имела неуклонную тенденцию к понижению…
Всмотримся в аналогию процесса расширенного воспроизводства Понятия с процессом производства и накопления прибавочной стоимости, который на поверхности выглядит как процесс «самовозрастания стоимости», взятой за исходный пункт. Здесь та же самая видимость — процесс в целом выглядит как процесс «саморазвития Понятия», как процесс «самовозрастания определений Понятия», и формы, в рамках которых протекает этот процесс, тоже кажутся «естественными» и «вечными» формами производства продукта труда вообще.
Если фиксировать отдельные формы проявлений, которые расширяющееся, «возрастающее» Знание попеременно принимает в своем жизненном кругообороте, то получаются такие определения: Наука (накопленное знание) есть слова («язык науки»). Наука есть вещи (созданные на основе знания, «опредмеченная сила знания»).
Знание («понятие») становится здесь субъектом некоторого процесса, в котором оно, постоянно меняя словесную форму на предметно-вещественную, само изменяет свою величину, свои масштабы, отталкивает себя как прибавленное знание от себя самого, как исходного знания, саморазвивается. Ибо движение, в котором оно присоединяет к себе новое знание, есть его собственное движение, следовательно, его возрастание есть самовозрастание, самоуглубление, саморазвитие. Оно получило магическую способность творить знание в силу того, что само оно есть знание…
Поэтому тут совершенно так же, как в процессе производства и накопления прибавочной стоимости реальные формы этого процесса выглядят как формы «самовозрастания стоимости», логические формы (реальные формы производства знания) начинают выглядеть как формы саморазвития этого знания. Тел самым они и мистифицируются.
И состоит эта мистификация «всего-навсего» в том, что схема, совершенно точно выражающая моменты деятельности профессионала-теоретика, принимаются и выдаётся за схему развития знания вообще.
Абсолютно та же мистификация, что и в политэкономии, где «товар» и «деньги» оказываются «метаморфозами», которые попеременно принимает капитал, чтобы совершить акт «самовозрастания».
Формула капитала (= накопленного прибавочного труда): Д — Т — Д*, — в противоположность формуле простого товарного производства и обращения, где Деньги только «опосредствуют» обмен и «исчезают» в конечном пункте движения, в Товаре.
Но коварство этой формулы (Д — Т — Д*) заключается именно в том, что здесь «и товар и деньги функционируют лишь как различные способы существования самой стоимости: деньги как всеобщий, товар — как особенный и, так сказать, замаскированный способ ее существования»[15].
И если движение «стоимости» рассматривается сразу в той форме, которую оно обретает в капитале, т. е. в форме «Д — Т — Д*», где исходной точкой выступают деньги, а товар — играет роль посредника-средства акта «приращения» исходной денежной суммы, то «стоимость» уже неизбежно начинает представляться субъектом обеих «форм своего собственного проявления» — и денег, и товара, то есть некоторой таинственной «сущностью», которую мы уже вынуждены предположить существующей до своего «обнаружения» в деньгах и в товаре…
В этой формуле уже имплицитно (скрыто, неявно) заключено то представление, что и «товар» и «деньги» суть только мимолетные «метаморфозы стоимости», своего рода маски, в которых она выступает, поочередно их сбрасывая и надевая, чтобы совершить акт «самовозрастания». Мистификация заключена уже в том, что товар взят сразу как «форма проявления стоимости» — наряду с деньгами — в то время, как дело обстоит как раз наоборот, и сама «стоимость» первоначально возникает, рождается в качестве «формы товара», в качестве абстрактного момента этой «простейшей экономической конкретности». Разоблачая мистификации, связанные с категорией стоимости, Маркс поэтому и подчеркивал, что его исследование начинается не с анализа «стоимости», а с анализа товара.
С логической точки зрения это принципиально важно, ибо именно анализ товара, товарной формы продукта труда, разоблачает тайну рождения, возникновения «стоимости», а затем — и тайну ее «проявления» в деньгах, в денежной форме.
Если же «товар» рассматривается сразу в той роли, которую он играет в движении капитала, — процессе, точно выражаемом формулой «Д — Т — Д*», в роли «опосредующего звена», замыкающего цикл, началом и концом коего выступают деньги, то тайна рождения стоимости становится принципиально неразрешимой, остается тайной.
Совершенно то же самое происходит с понятием «мышления», с «понятием понятия» в гегелевской схеме.
Гегель непосредственно исходит из рассмотрения мышления, уже развитого до степени научного мышления, научного познания, — мышления, уже превратившегося в Науку, и рассматривает не процесс возникновения знания, а процесс его приращения, в ходе которого ранее накопленное знание играет активнейшую роль.
Совершенно естественно что реальные вещи, созидаемые реальной же деятельностью человека, рассматриваются здесь исключительно в той их роли, которую они играют в пределах этого процесса — процесса приращения уже накопленного знания — уже имеющихся «определений понятия», зафиксированных в слове, в «языке науки».
Гегель фиксирует те моменты, которые действительно пробегает процесс мышления в его развитой форме, в форме науки, как особой (обособившейся) сферы разделения общественного труда, — и формула, которая совершенно точно отражает тут поверхность процесса, выглядит так: С — Д — С, где С — словесно зафиксированное знание, знание в его всеобщей форме, в форме «языка науки», в виде формул, схем, символов всякого рода, моделей, чертежей и т. д. и т. п.
Слово — язык в широком смысле — действительно и есть та всеобщая форма, в которой непосредственно выступает накопленное знание. Реальные же вещи (и события), создаваемые целенаправленной деятельностью человека, в пределах этой формулы действительно выступают как «опосредующее звено» процесса, началом и концом коего выступает Слово, знание в его всеобщей форме.
Слово и Вещь и выступают здесь как две формы «проявления», «осуществления» Знания, Понятия, которые это «понятие» проходит в своем жизненном кругообороте, постоянно «возвращаясь к себе».
Картина получается в точности такая же, как и на поверхности движения капитала, накопленного труда, выраженной формулой Д — Т — Д*. В этой формуле выражено реальное свойство «стоимости», выступающей в образе и форме капитала. В пределах этой формулы (и реальности, ею выраженной) «стоимость постоянно переходит из одной формы в другую» никогда, однако, не утрачиваясь в этом движении, и превращается таким образом в автоматически действующий субъект»[16].
То же самое происходит и здесь. Гегелевское толкование «мышления» («понятия») как субъекта, существующего вне, до и независимо от сознания человека, лишь на первый взгляд кажется диким, непонятным и несуразным.
На самом же деле это представление есть не что иное, как некритически описанное реальное свойство человеческого мышления, развитого до степени научного мышления, мышления, как оно осуществляется в образе Науки. Ведь Наука — это и есть мышление, развившееся в особую сферу разделения общественного труда, обособившееся в особую сферу деятельности, реально противостоящую другим формам деятельности и, стало быть, осуществляющим их индивидам.
В виде Науки, в виде системы «определений понятия», мышление действительно, и вовсе не в фантазии идеалиста, противостоит индивиду с его сознанием и волей как вне его сознания существующая, как до его рождения сформировавшаяся, как абсолютно независимо от его индивидуального сознания и воли развивающаяся «реальность». Реальность, которая непосредственно «воплощена» в «языке науки», в ее терминологии, в ее формулах и символике, и которая затем «воплощается» также и в вещах, создаваемых по ее предначертаниям, выступая как производительная сила. Как творческая сила, созревшая и осознавшая себя сначала в «слове», а затем уже выступившая из царства «теней Амента» в сферу вне ее существующей и ей противостоящей «грубо-материальной» действительности…
Вот это-то Мышление, мышление в образе развивающейся науки и техники, как вполне объективный, т. е. не зависящий от воли и сознания индивида и даже вне сознания отдельного индивида совершающийся процесс, а вовсе не психический процесс, протекающий под черепной крышкой этого индивида, и есть тот реальный предмет, описанием форм и законов развития коего выступает «Наука логики». Это «мышление» осуществляется как совершенно безликий и безличный акт на протяжении всей истории человеческой культуры, и «субъектом», осуществляющим этот акт, оказывается только человечество в его развитии. Поэтому «логические формы» — это формы развития всеобщего, коллективно-осуществляемого «дела», и в рамках этого дела они только и могут быть обнаружены.
Индивид с его «сознательным мышлением», «втянутый» в этот совершенно независимо от его воли и сознания совершающийся процесс, участвует в нем лишь постольку, поскольку его индивидуальное мышление вносит в общее дело, цели и формы которого заданы ему извне в ходе его образования, лишь такой «вклад», который согласуется с требованиями «всеобщего» развития и потому ассимилируется этим всеобщим развитием, принимается им, и таким образом превращается в штрих, в деталь — в «определение» — всеобщего «духа», всеобще-человеческого Мышления. В противном случае результат индивидуально-осуществляемого — «сознательного» — мышления отталкивается, не принимается, или же существенно корректируется «сознательным мышлением» других индивидов, иногда до неузнаваемости.
Этим путем «всеобщее мышление» и осуществляет себя через «индивидуальное», вызывая внутри этого индивидуального мышления — внутри «сознательного мышления» — совершенно неожиданные и непонятные для последнего коллизии, возмущения, противоречия, конфликты, антиномии, и тем самым заставляя индивида с его индивидуальным мышлением искать выход до тех пор, пока он этот выход не найдет или не будет отброшен в сторону как негодное орудие «всеобщего развития духа» — или «развития всеобщего Духа», что одно и то же.
Всеобщие — логические — формы и «правила», которым подчиняется это всеобщее развитие, хотя бы ни один из непосредственно осуществляющих его индивидов того не осознавал, поэтому и не могут быть выявлены в «опыте» отдельного мыслящего индивида, в «опыте конечного мышления», как называет его Гегель. Они проступают только в масштабах того грандиозного жизненного кругооборота, который совершает «дух в целом», и в циклы которого вовлечены миллионы мыслящих индивидов, каждый из которых «мыслит» лишь отчасти в согласии с требованиями «всеобщего духа», а отчасти — в противоречии с ним.
Принципиальный недостаток всей прежней логики Гегель и видит прежде всего в том, что она пыталась нарисовать образ «мышления вообще», исходя из «опыта конечного мышления», по образцу (по «модели») индивидуально-осуществляемого мышления. Уже здесь был заключен принципиальный просчет, ибо Мышление вообще (которое Гегель именует «бесконечным», «абсолютным» мышлением) представлялось просто как многократно повторенное индивидуальное («конечное») мышление. В ранг «логических» форм и законов мышления поэтому и возводились лишь формы и правила этого «конечного мышления», понимаемого как вполне сознательно совершаемый акт, т. е. те общие схемы, которые можно обнаружить в каждом сознательно осуществляемом процессе рассуждения, как схемы, одинаковые для всех и одинаково признаваемые каждым отдельно-мыслящим индивидом, как «правила», которые каждый такой индивид знает и признает как «свои», хотя и не всегда доводит их до ясной словесной формулировки.
Но поскольку индивид с его мышлением (понимаемым как сознательно совершаемая деятельность) втянут в независимо от его воли и сознания совершающийся процесс развития Науки и Техники, постольку ход его мышления всегда существенно корректируется со стороны «всеобщего мышления», непосредственно выступающего против него как мышление «всех остальных индивидов», и в конце концов подчиняется его корректирующему воздействию.
Однако действия, которые индивидуальное мышление совершает тут как свои собственные действия, хотя и под давлением «извне», со стороны всеобщего (коллективного) мышления, будут осуществляться им без сознания того факта, что и в данном случае им управляют логические законы, законы Мышления. Эти законы и формы Мышления будут реализоваться через его индивидуальную психику бессознательно.
(Не вообще бессознательно, а без их логического осознания, т. е. без их выражения в логических категориях. Другим сознанием необходимости совершать такие действия индивид, конечно, будет. Только он всегда будет приписывать эти действия своего собственного мышления, не укладывающиеся в схематизм формальной логики, воздействию на мышление каких-либо иных, внелогических и алогичных факторов — влиянию «созерцания» или «интуиции», «фантазии» или «воли», «желаний» или «памяти», и т. д. и т. п., в то время как под маской всех этих «факторов» как раз и скрывается власть «мышления вообще» над его индивидуальным мышлением).
Отсюда то и получается та нелепая ситуация, когда все действительные формы и законы, в рамках которых и в согласии с которыми всегда протекает реальное мышление в его реальном осуществлении, т. е. в виде Науки, Техники и Нравственности, воспринимаются и расцениваются не как формы и законы Мышления, а как совершенно «внешняя» по отношению к мышлению необходимость, и потому вообще не исследуются в логике как науке…
В связи с этим Гегель и вводит одно из своих важнейших различении, между «мышлением в себе» (an sich) — которое и составляет предмет, объект исследования в логике, и «мышлением для себя» (für sich selbst), т. е. мышлением, которое полностью осознает те схемы, принципы и законы, в рамках которых оно само всегда совершается, и совершается в согласии с ними вполне сознательно, отдавая себе самому ясный отчет в том, что, как и почему оно делает.
Это и означало, что Мышление — благодаря Логике — должно стать «для себя» тем же самым, каким оно до Логики было лишь «в себе», в ходе стихийно протекавшего акта созидания Науки, Техники и Нравственности.
Логика, толкуемая как «сознание», которое это мышление имеет о самом себе, «о своей чистой сущности», с одной стороны, и действительные «дела» этого мышления, с другой, — «являют столь огромное различие, что даже при самом поверхностном рассмотрении не может не бросаться тотчас же в глаза, что это последнее сознание совершенно не соответствует тем взлетам и недостойно их»[17].
Гегель ставит перед логикой задачу — сделать сознание мышления о самом себе — тождественным его предмету, то есть тем формам и законам, которым в действительности — вопреки своему наличному сознанию (имеющейся логике) — подчиняется в своем развитии «мышление в себе».
Ничего большего и не означает принцип тождества субъективного и объективного, как он понимается и формулируется Гегелем. Это означает всего-навсего, что и «субъектом», и «объектом» в Логике является одно и то же мышление Речь идет о согласовании схем «сознательного мышления» со схемами того «всеобщего мышления», которое сотворило весь мир науки, техники и нравственности, — об адекватном осознании последних, и ни о чем более.
Поэтому когда Гегель утверждает, что в Логике (именно и только в Логике! — чего нельзя упускать из виду) «противоположность между субъективным и объективным (в ее обычном значении) отпадает»[18], то это означает прямо и непосредственно лишь то обстоятельство, что в логике предметом (объектом) мышления выступает само же мышление, а не что-нибудь иное, что логика и есть «само себя мыслящее мышление», т. е. «субъект», сам себя сделавший объектом своей собственной деятельности, или же «объект», обретающий в логике сознание своих собственных действий, их схем и «правил», и тем самым становящийся «субъектом». Иными словами, здесь имеется в виду «субъект» и «объект» не в «обычном» значении этих терминов, а как чисто-логические понятия в гегелевском смысле этого слова, как категории мышления, причем мышления в разъясненном смысле, как способности, реализуемой в виде науки, техники и нравственности, а не только и не столько в виде говорения, в виде «немой речи».
Нетрудно заметить, что в этой схоластически-замаскированной форме Гегель совершенно точно выразил фундаментальную особенность человеческой жизнедеятельности, способность человека (как существа «мыслящего») смотреть на самого себя как бы «со стороны», как на «нечто другое», как на особый «предмет» («объект»), или, иными словами, превращать схемы своей собственной деятельности в объект ее же самой.
Это та самая особенность человека, которую молодой Маркс — и именно в ходе критики Гегеля — обозначил следующим образом:
«Животное непосредственно тождественно со своей жизнедеятельностью. Оно не отличает себя от своей жизнедеятельности. Оно есть эта жизнедеятельность. Человек же делает самоё свою жизнедеятельность предметом своей воли и своего сознания, его жизнедеятельность — сознательная. Это не есть такая определенность, с которой он непосредственно сливается воедино»[19].
Поскольку Гегель рассматривает эту реальную особенность человеческой жизнедеятельности исключительно глазами логика, постольку он и фиксирует ее лишь в той форме, в какой она уже превратилась в схему мышления, в «логическую» схему, в правило, в согласии с которым человек уже более или менее сознательно строит свои частные действия (будь то в материале языка или в любом другом материале).
«Вещи» и «положение вещей» (дел) вне сознания и воли индивида («Dinge und Sache») и фиксируются им внутри этой схемы исключительно как ее «моменты», как «метаморфозы» мышления («субъективной деятельности»), реализованного и реализуемого в естественно-природном материале, включая сюда и органическое тело самого человека. Поэтому особенность человеческой жизнедеятельности, описанная выше словами Маркса, и выглядит в гегелевском изображении как «осуществляемая» человеком схема мышления.
Реальная картина человеческой жизнедеятельности в ее реальных особенностях и получает здесь перевернутое, с ног на голову поставленное, изображение.
В действительности человек «мыслит» в согласии с этой схемой потому, что такова его реальная жизнедеятельность. Гегель же говорит наоборот: реальная человеческая жизнедеятельность такова потому, что человек мыслит в согласии с определенной схемой. Естественно, что все реальные определения человеческой жизнедеятельности — а через нее — и «положения вещей» вне головы человека, фиксируются здесь лишь постольку, поскольку они «положены мышлением», выступают как результат мышления.
Естественно — ибо логика, специально исследующего мышление, интересует уже не «вещь» (или «положение вещей») как таковая, как до, вне и независимо от человека с его деятельностью существующая реальность (последнюю рассматривает вовсе не он, логик, а физик или биолог, экономист или астроном), а «вещь», как и какой она выглядит в глазах науки — т. е. в результате деятельности мыслящего существа, «субъекта», в качестве продукта мышления, понимаемого как деятельность, специфическим продуктом которой и является понятие — понимание существа дела.
В понимании «сути дела» деятельность мышления и резюмируется, «объективируется», и потому «определения понятия», непосредственно выступающие как определения «вещей», для логика суть снятые в продукте определения деятельности, этот продукт создавшей.
Поэтому тезис Гегеля, согласно которому различение между «субъективным» и «объективным» в обычном значении этих слов не касается логики с ее своеобразным углом зрения, вовсе не есть проявление наивной слепоты идеалиста по отношению к этому очевиднейшему различению, а есть сознательно принятая установка на выявление тех, и именно тех форм и законов деятельности мыслящего существа, которые имеют вполне объективный характер, т. е. не зависят от воли и сознания самих мыслящих индивидов, хотя и реализуются именно и только через сознательно-волевые акты (действия) этих индивидов, через их «субъективность».
Это — объективные формы и законы самой субъективности, те схемы ее развития, которым она безусловно подчиняется даже в том случае, если субъект их не сознает. В этом случае они реализуются помимо и даже вопреки его воле, его сознательно осуществляемым действиям, вопреки тем «логическим схемам», в согласии с которыми он сознательно строит схемы своих действий.
Гегель, иными словами, прослеживает диалектику «субъективного» и «объективного» в том ее виде, в каком она уже успела выразиться (отразиться) внутри «субъекта», внутри самого процесса мышления, процесса развития понятий.
Под «объективным» тут имеется в виду объект не сам по себе, а объект, как он представлен в понятии, как понятие («понимание») объекта, предоставленное логику-профессионалу современной ему наукой, современным ему Мышлением с больший буквы.
Это-то «мышление», представленное в его результатах, для логика и есть тот единственный «объект», который он исследует. И в этом объекте он обнаруживает явные ножницы, явное расхождение, между тем, что мыслящий человек делает вполне сознательно — т. е. отдавая себе отчет в том, что и как он делает, в понятиях известной ему «логики» — и тем, что он делает на самом деле, не отдавая себе в том такого отчета, а приписывая необходимость такого рода действий, не укладывающихся в схемы известной ему логики, «внелогическим» факторам и обстоятельствам, заставляющим его систематически «нарушать» сознательно исповедуемые им логические правила и императивы…
Его собственное мышление, таким образом, опровергает те самые «правила», которые он считает «законами мышления», т. е. «впадает в диалектику», в ту самую диалектику, которая безусловно запрещается этими правилами.
Поэтому-то явное расхождение между «логикой», понимаемой как совокупность сознательно применяемых «правил» сознательного рассуждения — и Логикой, как подлинным — объективным — законом развития мышления, до сих по не осознанным, и трактуется Гегелем как противоречие внутри мышления, выражающееся также и внутри сознательного мышления, мышления в согласии с «правилами». Здесь оно выступает как постоянное, систематически (т. е. закономерно) осуществляемое «нарушение правил», продиктованное невозможностью их соблюсти в реальном мышлении.
Гегель демонстрирует это обстоятельство на мышлении, которое продуцирует понятия о самом себе, т. е. на мышлении, как оно выступает в самой логике, реализуется как «логика»; он фиксирует тот факт, что «правила», устанавливаемые этой логикой, нарушаются уже в самом ходе установления этих самых правил… Претендуя на роль законодательницы всего царства мышления, традиционная логика ведет себя как своенравный удельный князек, считающий «законы», издаваемые им для подданных, обязательными для всех — но только не для себя самого.
Все так называемые «логические законы», долженствующие играть роль правил доказательства, условий доказательности мышления, эта логика, однако, не доказывает, а просто постулирует, утверждает как догмы, в которые надлежит слепо веровать, не задаваясь вопросом — почему? Она их не обосновывает, не «опосредует», а просто заверяет, ссылаясь на то, что наша «способность мышления» так уж устроена… Особенно отчетливо это видно там, где традиционная логика формулирует так называемый «закон достаточного основания».
«Формальная логика дает установлением этого закона мышления дурной пример другим наукам, поскольку она требует, чтобы они не признавали своего содержания непосредственно, между тем как она сама устанавливает этот закон, не выводя его и не доказывая его опосредствования. С таким же правом, с каким логик утверждает что наша способность мышления так уж устроена, что мы относительно всего принуждены спрашивать об основании, с таким же правом мог бы медик на вопрос, почему утопает человек, упавший в воду, ответить: человек так уж устроен, что он не может жить под водой»[20].
Конечно же, ирония Гегеля абсолютно справедлива — «закон», который провозглашается «логическим законом», т. е. правилом, которому обязано подчиняться мышление вообще, мышление в любом его частном применении, утверждается как раз через вопиющее его нарушение.
Гегель же требует от логики, чтобы она была прежде всего сама логичной, ведь если логика — тоже наука, тоже мышление, то в развитии собственных положений и понятий она и обязана первой соблюдать все те требования, которые она формулирует как всеобщие, как «логические». Поскольку она сама их не соблюдает, она и доказывает, помимо своей воли и своих сознательных намерений, что формулируемые ею правила всеобщими, т. е. логическими, не являются.
Далее. Эта логика требует от мышления «последовательности». Но — «основной ее недостаток обнаруживается в ее непоследовательности, в том, что она соединяет то, что за минуту до этого она объявила самостоятельным и, следовательно, несоединимым…»[21].
Поэтому-то и внутри самой этой «логики», и внутри мышления, руководствующегося диктуемыми ею правилами, царит безвыходный плюрализм, отсутствие какой бы то ни было необходимой связи между отдельными утверждениями. Она кишит формальными противоречиями, только предпочитает этого обстоятельства не замечать.
Так, провозглашая «закон тождества» и «запрет противоречия в определениях», «закон противоречия», высшими и абсолютными законами мышления вообще, эта логика позволяет себе в первых же строках своих изложений заявлять, что логика есть наука. Но ведь логической формулой такого рода заявлений («Иван есть человек», «Жучка есть собака», «логика есть наука» и т. д. и т. п.) является прямое отождествление непосредственно различных, нетождественных определений (особенное есть всеобщее, единичное есть общее).
Мышлению, которое «осознает себя» в виде традиционной формальной логики, «недостает простого сознания того, что, постоянно возвращаясь от одного к другому, оно объявляет неудовлетворительным каждое из этих отдельных определений, и недостаток его состоит просто в неспособности свести воедино две мысли (по форме имеются налицо лишь две мысли)»[22].
Эта манера рассуждать («мыслить»), согласно которой все вещи на свете надлежит рассматривать «как со стороны тождества их друг другу», «так и со стороны их отличий друг от друга», «с одной стороны — так, а с другой стороны — эдак», т. е. прямо наоборот — «в одном отношении как одно и то же, а в другом отношении — как не одно и то же» — как раз и составляет подлинную логику этой «логики».
В силу этого прежняя логика и соответствует, в качестве теории, той самой практике мышления, которая «логична» лишь по видимости, а на деле никакой необходимости в себе не содержит.
Эта логика (как теория, так и практика ее «применения») на самом деле («в себе») насквозь диалектична в ее собственном, укоризненном, смысле этого слова; она кишит неразрешенными противоречиями, делая при этом вид, будто никаких противоречий нет. Она постоянно совершает действия, запретные с точки зрения ее же собственных постулатов, ее «законов» и «правил», только не доводит этого факта до ясного осознания, до выражения через свои собственные принципы…
Внутри самой теории логики эта диалектика выражается уже в том, что так называемые «абсолютные законы мышления» — точнее «те несколько предложений, которые устанавливаются как абсолютные законы мышления» — оказываются «при ближайшем рассмотрении противоположными друг другу; они противоречат друг другу и взаимно упраздняют одно другое»[23].
Гегель, как нетрудно заметить, ведет критику традиционной логики — и мышления, этой логике соответствующего — тем самым «имманентным» способом, который и составляет одно из главных завоеваний его собственной Логики. А именно — он противопоставляет утверждениям («правилам» и «законам») этой логики не какие-то другие утверждения, а процесс практической реализации ее же собственных положений в реальном мышлении. Он показывает ей ее собственное изображение в зеркале ее же собственного «сознания», ее же собственных основоположений.
Он не оспаривает ее представления, ее «понятия мышления», т. е. соглашается с нею в том, что «сознательное мышление» (которое она только и исследует) действительно таково, что оно действует в согласии с теми самыми «правилами», которые оно само себе задает и потому признает как «кодекс», по которому его можно и нужно судить. Он показывает, однако, что именно неукоснительное следование принципам «сознательного мышления» необходимо, с неумолимой силой, приводит к отрицанию этих самых принципов, в чем и обнаруживается их собственная абстрактность — т. е. неполнота и односторонность.
Это — та самая критика рассудка с точки зрения самого же рассудка, которую начал уже Кант в своей «Критике чистого разума». Это та самая критика, которая приводит к выводу, что «диалектика составляет природу самого мышления, что в качестве рассудка оно должно впадать в отрицание самого себя, в противоречие…»[24].
К этому выводу пришел уже сам Кант, и если до Канта «логика» могла быть несамокритичной по неведению, то теперь она может сохранять свои позиции лишь а том случае, если будет уже вполне сознательно отворачивать свой нос от неприятных для нее фактов, — если она сделается уже сознательно несамокритичной.
Главную слабость старой — чисто-формальной — логики Гегель и видит в том, что она, на самом деле нагромождая противоречия на противоречия, старается этого своего собственного «продукта» не замечать, старается вновь и вновь делать вид, будто никаких «противоречий» в ее составе нет, что это — лишь «мнимые противоречия», «противоречия в разных отношениях» или «в разное время» (т. е. на разных страницах ее собственных изложений), и тем самым оставляет их в мышлении неразрешенными.
Гегель видит главную и самую острую проблему, вставшую перед логикой как наукой в результате трудов Канта, Фихте и Шеллинга, именно в том, чтобы найти, выявить и указать реальному мышлению логический метод разрешения противоречий, в которые оно впадает именно потому и постольку, поскольку и в силу того, что оно сознательно и неукоснительно руководствуется традиционной логикой, т. е. обладает лишь относительно верным, но крайне абстрактным, сознанием относительно самого себя, абстрактно-неполноценным «самосознанием».
В этом именно и заключается действительное отличие гегелевской логики от всех предшествующих ей логических концепций. А вовсе не в том, как до сих пор утверждают адепты архаически-догегелевского состояния логической мысли, что прежняя логика, якобы, заботилась об «освобождении» мышления от «противоречий в определениях», а Гегель задался злокозненной целью эти противоречия в мышлении узаконить, придать им статус «правильной формы» любой логической конструкции и реконструкции действительности. Такое объяснение гегелевского отношения к «противоречию» и до сих пор вдохновляется желанием во что бы то ни стало дискредитировать идею диалектической логики при неспособности справиться с нею на теоретической почве.
Дело между тем обстоит как раз наоборот. Гегель совершенно согласен с прежней логикой в том отношении, что «логических» противоречий, в смысле неразрешенных, «неопосредованных» противоречий, в смысле антиномий, в составе логически разработанной теории (в том числе в составе самой логики) быть «не должно».
В этом он видит «рациональное зерно» пресловутого «запрета противоречия». Согласно Гегелю «противоречие» должно быть не только выявлено мышлением, не только остро зафиксировано им, но и должно найти свое логически-теоретическое разрешение. Более того, это разрешение противоречие должно быть достигнуто тем же самым логическим процессом, который его и выявил, на пути дальнейшего развития определений понятия, понимания сути дела, в которой оно обнаружилось.
А не на пути софистического жульничества, не на пути жалкого самообмана и самовнушения, диктуемого желанием во что бы то ни стало «доказать», что никакого противоречия в мышлении нет и быть не может, если это мышление было «правильным» (т. е. в точности соблюдало все «правила» формальной логики), а есть лишь «видимость противоречия», получающаяся от смешения «разных смыслов термина», «разных отношений» и т. п. Короче говоря, прежняя логика всегда пытается истолковать выявившееся в мышлении противоречие как результат и показатель ошибки, допущенной этим мышлением где-то «раньше», т. е. как результат отступления от «правил», совершенного где-то в ходе предшествующих «рассуждений».
Такое толкование происхождения противоречий в определениях понятия развенчал до конца уже Кант, и после Канта настаивать на нем просто стыдно. Гегель утверждает, в полном согласии с Кантом, что «противоречие» в мышлении (в составе определений понятия) возникает вовсе не в силу неряшливости, недобросовестности или «недосмотра», а именно как неумолимо-неизбежный результат самого что ни на есть «правильного» мышления (т. е. мышления, сознательно руководствующегося так называемыми «абсолютными законами мышления» — законом тождества и запретом противоречия).
Однако — в отличие от Канта — Гегель понимает и утверждает, что эти противоречия могут и должны быть разрешены на пути дальнейшего логического развития определении понятия, что они не могут сохраняться на веки вечные в форме антиномий.
Но — и все дело именно в этом — именно для того, чтобы мышление могло их разрешить, оно обязано предварительно их четко и резко зафиксировать, именно как антиномии, именно как неразрешенные противоречия, как логические, как действительные, а вовсе не как «мнимые».
Такому отношению к противоречиям традиционная логика как раз и не учит. И не только не учит, а и прямо мешает научиться, поскольку упрямо толкует эти противоречия как результат ранее допущенного «нарушения» правил «сознательного рассуждения». На основе такого — докантовского, «докритического» — представления она и разрабатывает хитроумнейшую технику избавления от противоречий, технику их упрятывания от сознания, технику их «шунтирования», то бишь их замаскировывания, проявляя при этом изощреннейшую лингвистическую ловкость, словесную изворотливость.
Этим она делает мышление, доверившееся ее рецептам, слепо-несамокритичным, приучая его упорствовать в догмах, в абстрактно-непротиворечивых утверждениях и избегать реальных проблем, подлежащих научному разрешению, ибо реальная проблема, неразрешенная еще мышлением, всегда «логически» выражается в виде антиномии, в виде неразрешенного противоречия в определениях понятия, в составе теоретической конструкции.
Поэтому-то Гегель с полным правом и определяет традиционную формальную логику как логику догматизма.
Чисто формальная логика отличается от гегелевской вовсе не тем, что первая «запрещает», а вторая — «разрешает» противоречия в определениях понятий, как это до сих пор стараются изобразить представители формально-логической традиции. Отличие их в том, что они дают мышлению, столкнувшемуся с противоречием, прямо противоположные, исключающие друг друга, рекомендации относительно путей, на которых должно достигаться разрешение противоречия.
Старая — догегелевская — логика, столкнувшись с противоречием, получившимся именно как неизбежный результат неукоснительного следования ее собственным «правилам», всегда «пятится» перед ним, отступает назад — в предшествующий этому неприятному факту ход «рассуждения» (т. е. реально оборачивается педантически-лингвистическим анализом терминов, из коих были сплетены цепочки этого предшествующего «рассуждения»), и не успокаивается до тех пор, пока не обнаружит там «ошибку», «смешение разных смыслов слов», употребление термина «в разных отношениях» и т. д. — «неточность», которая и привела, де, к «противоречию»…
Тем самым противоречие становится неодолимой преградой на пути такого мышления вперед, по пути дальнейшего развития определений понятия, на пути дальнейшего теоретического исследования «сути дела». Двигаться по этому пути вперед она безусловно запрещает до тех пор, пока «ошибка» не будет обнаружена в ходе предшествующего появлению противоречия движения «рассуждения».
Отсюда-то и получается, что в конце концов такое мышление (и такая «логика») вынуждена спасаться от противоречий бегством все дальше и дальше «назад», в низшие формы своего собственного развития: «мышление, потеряв надежду своими собственными силами разрешить противоречие, в которое оно само себя поставило, возвращается к тем разрешениям и успокоениям, которые дух получил в других своих формах…»[25].
Это абсолютно неизбежно, поскольку противоречие получилось на самом-то деле вовсе не в результате «ошибки», и никакой ошибки в предшествующем «рассуждении» обнаружить ему в конце концов, после долгих попыток, так и не удаётся (все было «правильно»), — приходится отступать еще дальше «назад», спасаясь в «непротиворечивый покой» предшествующих «сознательному рассуждению» форм мышления — в область низших (по сравнению с логическим мышлением) форм сознания — в область «созерцания», в область «интуиции», в сферу «представления», в те области духа, где «противоречия» действительно нет, но только по той причине, что оно еще не выявлено и не выражено в предельно строгом «языке науки»…
(Разумеется, Гегель никогда не думал отрицать известной пользы проверки предшествующего появлению противоречия хода «рассуждения» с целью выяснить — не было ли в нем допущено формальной неточности или терминологической погрешности. Часто бывает и так, и «противоречие» оказывается чисто-словесным — мнимым. Беда формальной логики не в том, что она вообще имеет в виду такие противоречия и рекомендует соответствующий путь избавления от них. Беда ее в том, что она только такие противоречия и знает, считая, что других не бывает. Поэтому чисто-формальная логика исключает гегелевскую, в то время как гегелевская включает ее на правах относительной истины, лишь ограничивая пределы истинности ее соображений, и лишая ее тем самым того абсолютного значения, которое та сама себе — своим правилам — придает…)
Диалектика, сознательно используемая как метод развития определений понятия, и есть Логика, включающая в себя как процесс выявления (ясного осознания и строгого выражения в языке науки) логических противоречий (бессознательно и помимо своей воли продуцируемых «рассудком» — т. е. мышлением в согласии с правилами формальной логики), так и процесс их конкретного разрешения путем логического же развития определений понятия, т. е. в составе более конкретного и глубокого понимания того самого предмета, в выражении коего обнаружилось «противоречие», на пути более высокого развития науки, техники и «нравственности» (под коей Гегель понимает всю совокупность общественных отношений человека к человеку), то есть всей той действительности, которую он именует «объективным духом». Это движение, в котором должно активно участвовать «субъективное мышление», и оказывается в его «Науке логике» единственно-рациональным путем разрешения возникающих внутри него (внутри «сознательного рассуждения») логических противоречий.
Этой своей особенностью гегелевская Логика и оказывается на голову выше любой другой логической концепции, а ее изучение — поучительным и по сей день.
Примечания
1
Гегель Г.В.Ф. Сочинения, т. I. Москва — Ленинград, 1929, с. 41.
(обратно)2
Маркс К., Энгельс Ф. Сочинения, т 20, с. 84.
(обратно)3
Там же, с. 634–635.
(обратно)4
Гегель Г.В.Ф. Наука логики, т. 1. Москва, 1970, с. 103.
(обратно)5
Гегель Г.В.Ф. Сочинения, т. I, с. 46.
(обратно)6
Там же, с. 42.
(обратно)7
Там же, с. 47.
(обратно)8
Гегель Г.В.Ф. Наука логики, т. 1, с. 105.
(обратно)9
Ленин В.И. Полное собрание сочинений, т. 38, с. 203.
(обратно)10
См. «Иенскую реальную философию» Гегель Г.В.Ф. Работы разных лет, 2 т. Москва, 1970, т. 1, с. 292.
(обратно)11
Ленин В.И., Полное собрание сочинений, т. 38, с. 82.
(обратно)12
Маркс К., Энгельс Ф. Сочинения, т.23, с. 165.
(обратно)13
Там же, с. 164.
(обратно)14
Там же.
(обратно)15
Там же.
(обратно)16
Там же.
(обратно)17
Гегель Г.В.Ф. Наука логики, т. 1, с. 105.
(обратно)18
Гегель Г.В.Ф. Сочинения, т. I, с. 53.
(обратно)19
Маркс К., Энгельс Ф. Из ранних произведений. Москва, 1956, с. 565.
(обратно)20
Гегель Г.В.Ф. Сочинения, т. I, с. 208.
(обратно)21
Там же, с. 110.
(обратно)22
Там же, с. 111.
(обратно)23
Там же, т. V, с. 481.
(обратно)24
Там же, т. I, с. 28.
(обратно)25
Там же, с. 28–29.
(обратно)


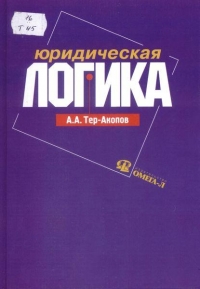


Комментарии к книге «Наука логики», Эвальд Васильевич Ильенков
Всего 0 комментариев