Карен Араевич Свасьян ФИЛОСОФИЯ СИМВОЛИЧЕСКИХ ФОРМ Э. КАССИРЕРА (КРИТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ)
ПРЕДИСЛОВИЕ
Тема настоящей работы распадается на две части. Задача первой из них сводится к критическому анализу «Философии символических форм»; этот анализ предваряется в свою очередь исследованием «истоков и предпосылок» кассиреровской философии как таковой, «марбургского периода» ее и по возможности достаточной экспозицией проблемы символа, частным феноменологическим модификациям которой посвящен трехтомный труд философа. В изложении мыслей Кассирера мы в максимальной степени придерживались текста оригинала, предпочитая методу фрагментарного и произвольного цитирования метод подробнейшего и интерпретирующего изложения. Вторая часть (две последние главы) представляет собою самостоятельную положительную попытку прояснения проблемы символа и проблемы культуры. Автор не будет возражать, если основной темой работы сочтут анализ именно «Философии символических форм» (как, впрочем, это явствует из самого названия настоящей книги). Философия Кассирера достаточно сложна, солидна, актуальна и мало разработана в нашей литературе, чтобы самодостаточное и подробное исследование ее было правомерным, оправданным и — смеем мы сказать — необходимым. Но со всем этим автору хотелось бы предложить свой ракурс прочтения, вовсе не навязывая его и нисколько не оспаривая вышеуказанный. Основной темой исследования является (для автора) именно проблема философии культуры. Кассирер выглядит в таком ракурсе скорее предлогом, поводом, парадигмой к прорыву в подлинное существо проблемы. Блуждая по пространному лабиринту «символических форм», автор — и да будет позволено ему уже здесь выразиться символически, предваряя свое понимание проблемы, — больше всего смотрел на кассиреровскую концепцию и меньше всего видел ее, желая видеть другое. Или иначе: всматриваясь в «Философию символических форм», он глядел сквозь нее, т. е. поступал как раз вопреки основополагающей тенденции самого Кассирера, остающегося здесь под властью кантианского запрета на сущность. Это «сквозь» наличествует во всем тексте исследования; концентрат его — последние две главы (last, but not least). Пострадал ли вследствие такого «антиструктуралистского» метода историко-философский анализ — судить не автору; во всяком случае он попытался выполнить эту двоякую задачу, твердо памятуя, что бытовая значимость пословицы о «погоне за двумя зайцами» вовсе не распространяется на сферу философии, где, как ему кажется, значимо как раз обратное.
.
ГЛАВА 1 ИСТОКИ И ПРЕДПОСЫЛКИ
Обращаясь к «Философии символических форм», исследователь уже на самом пороге анализа сталкивается с первой трудностью, осмыслить и осилить которую будет стоить ему немалых усилий. Историко-философская этикетка «неокантианец», приклеенная — и не без оснований — к характеристике Эрнста Кассирера, настолько фрагментарно и в ряде мест даже неверно характеризует его мысль, что скорее запутывает, чем проясняет внимание исследователя. Определить истоки и предпосылки философии Кассирера — задача нелегкая, тем более нелегкая, что и в самой этой философии нелегко сочетаются зачастую противоположные тенденции; «неокантианец», стиснутый нетерпимыми предписаниями трех кантовских «Критик», безудержно рвется здесь (мы увидим еще) вспять и вперед. Приставка «нео» оказалась в судьбах кантианства центробежной силой; навязчивый лозунг Отто Либмана «Назад к Канту!», порожденный энтузиазмом философски участившегося пульса, выявил в скором времени всю свою опрометчивость, ибо «назад к…» реально обнаружило себя как «назад через…», либо даже как «вперед от…». Оба порыва были зафиксированы в остром тезисе Виндельбанда, гласящем, что «понять Канта, значит выйти за его пределы»;[1] любопытно спросить: что, с точки зрения самого Канта, могло бы быть за его пределами? Самый короткий перечень будет здесь достаточен: интеллектуальная (!) интуиция, признанная Когеном; трансцендентность (!) предмета познания у Риккерта; категориальное (!) переживание (!) сверхчувственного (!), допускаемое Ласком. Серия восклицательных знаков вполне выразительно говорит за себя; эти же знаки в определенном ракурсе становятся вопросительными, бросая тень вопроса на само словообразование «неокантианец», которое оказывается contradictio in praepositione, противоречивейшим существом. Отмеченные порывы сполна наличествуют и у Кассирера; зачастую столь властно, что он в самых неподходящих случаях странным образом и довольно неубедительно вспоминает (лучше сказать, поминает) вдруг Канта, словно бы заверяя свою верность ему — верность, вряд ли имеющую что-либо общее с прославленной deutsche Treue, ибо о какой же верности Канту может идти речь в сплошных реминисценциях неоплатонизма! Судьба этих порывов (а иногда и срывов) рисует нам своеобразную мозаику мыслей, провоцирующую умственную леность исследователя на шаблон очередной этикетки «эклектик». Но исследователь, утрудивший себя чтением и прочтением «Философии символических форм», не удовлетворится подобной оценкой; Кассирер не так прост, чтобы можно было попросту регистрировать его sui generis «словечками»; мысль его открыта всему философскому наследию прошлого и пропитана многими значительными веяниями этого наследия. Следует, впрочем, отметить, что перечень этих веяний, каким бы интересным ни был он сам по себе, не должен заслонять их трансформацию и новый своеобразный вид в преломлении мысли немецкого философа. К Кассиреру в этом отношении вряд ли приложима язвительно-меткая характеристика Эд. фон Гартмана, назвавшего современную философию «повторным курсом» именно вследствие неоригинальности и эклектичности ее. «Философия символических форм» если и повторяет уже высказанное, то потому лишь, чтобы энергично напомнить забытое, и для того лишь, чтобы выковать уже высказанному фундаментальную и настолько новую форму. «История науки, — процитируем самого Кассирера, — изобилует подобными примерами, показывая роль, которую играет для решения какой-либо проблемы или комплекса проблем приведение их к четкой и ясной «формуле». Так, большинство вопросов, нашедших решение в ньютоновском понятии флюксий и в лейбницевском алгоритме дифференциального исчисления, существовало уже до Лейбница и Ньютона и было исследовано с самых различных точек зрения — алгебраического анализа, геометрии и механики. Но лишь с нахождением единого и всеохватного символического выражения все эти проблемы оказались действительно преодолимыми».[2] Как бы мы ни оценивали «четкую и ясную формулу» самой «Философии символических форм», что бы мы ни говорили о ней в конце исследования, несомненно одно: по солидности построения, мощно систематическому характеру своему она может тягаться со многими, ставшими ныне классическими, концепциями прошлого. Исследователь не может не быть предельно ответственным по отношению к этой системе воззрений, заимствующей свои блага у математического метода и никогда не спасающейся от мыслительных головоломок в объятиях «ленивого иррационализма» (выражение Гуссерля). Именно на фоне разгула этого иррационализма, среди «легиона» трескуче модных философий, променявших свое логическое первородство на чечевичную похлебку броских и дешево плакатных суггестии, попытка Кассирера противопоставлена «героическому пессимизму» многих уверовавших в абсурдность философии «философов» как героическая верность большой философии.
Возвращаясь к истокам и предпосылкам «Философии символических форм», следует в первую очередь подчеркнуть общий фон, на котором разыгралось обращение к проблеме культуры в эволюции взглядов Кассирера. Общепринятое деление этой эволюции на так называемый «марбургский период» и последовавший за ним период уже самостоятельной проблематики вполне отражает реальную суть ситуации. Правда, обращение к этой проблематике не сопровождалось у Кассирера переходом на иные позиции в столь явном и резком виде, как это имело место, скажем, у Николая Гартмана, которому новая «метафизика познания» далась лишь ценою открытого разрыва с его «марбургским» прошлым.[3] Кассирер с Кантом открыто не порывал; Ф. Кауфман утверждает даже, что он в большей степени сохранил верность «первоначальному идеализму» Канта, чем Коген и Наторп, его наставники по «марбургской школе».[4] Утверждение едва ли корректное; мы увидим еще, какой была эта верность. Но чисто внешняя ситуация говорит в ее пользу; внешне философская эволюция Кассирера протекала под знаком расширения кантовского критицизма на все доминионы культуры. Если ранний Кассирер, автор «Познания и действительности» (1910), старательно утончал «тансцендентальный метод» Канта на материале естественных наук, то поздний Кассирер, автор «Языка и мифа» (1925) и «Мифа о государстве» (1944), явил исторически парадоксальную картину, отвечающую на вопрос: что бы вышло, если бы Кант направил свое внимание на проблематику позднего Шеллинга и занялся исследованием, скажем, «Самофракийских божеств», не изменяя при этом собственному «коперниканскому перевороту»? Но таков внутренний и существенный аспект ситуации; внешне она выглядела естественной и верноподданической. «Канту, — так объяснял впоследствии Кассирер свой путь от методологии знания к феноменологии культуры, — удалось осуществить свое решение лишь в исследовании частных наук и в строгом соблюдении их принципов. Он начинает с чистой математики, чтобы перейти к математическому естествознанию; и далее, в «Критике способности суждения», распространяет сферу исследования на основные понятия, делающие возможным познание живых явлений. Но он не попытался предпринять структурный анализ «наук о культуре» в том же смысле, как он сделал это для естественных наук. Это, впрочем, ни в коей мере не свидетельствует о наличии имманентной и необходимой границы задач критической философии. Скорее это указывает на чисто историческую и постолько случайную границу, результирующую сферу познания в условиях XVIII столетия. С отпадением этой границы, с возникновением — в эпоху романтизма — независимых наук о языке, искусстве и религии, общая теория познания оказалась перед новыми проблемами».[5] Это значит: не отказ от кантовского критицизма, а его расширение. Несомненно, что именно таким был замысел Кассирера. Но несомненно и другое: философская атмосфера Европы уже к началу 20-х гг. насыщена явными признаками распада кантианских школ; уже намечается решительная переориентация тенденций «фрайбургской школы» (от Фихте к Плотину); уже Пауль Наторп начинает акцентировать в Платоне то, недооценка чего позволила ему когда-то превратить греческого философа в последовательного единомышленника когеновской системы. Впрочем, распад этот далеко не всегда заявлял себя в скандальных формах, как у Н. Гартмана. Напротив, в основном он протекал мирно, незаметно и, так сказать, гомеопатически. Незаметно происходило смещение логического гегемона системы: Кант осторожно вытеснялся Гегелем, Фихте, Лейбницем, Платоном; это вытеснение преподносилось под видом расширения. Случай достаточно интересный; мы рассмотрим его на примере Кассирера.
Куда приводит Кассирера расширение кантовского критицизма? Его основные методологические установки, казалось бы, звучат еще в унисон «Критике чистого разума». Здесь и «метафизическое различие между субъектом и объектом превращено в методическое различение»,[6] и «предмет не существует до и вне синтетической связи, но конституируется именно ею» (2.39), и «основной принцип критической мысли — принцип «примата» функции над предметом» (1.10). Разумеется, перенос этих принципов на культуру неизбежно связан с их спецификацией. Ведь и у самого Канта наблюдаем мы нечто сходное, переходя от «Критики чистого разума» к «Критике способности суждения», от ориентации на математику и математическую физику к ориентации на биологию. Понятие цели, отсутствующее в системе категорий и основоположений чистого рассудка, становится основным понятием третьей «Критики»; ненужное в сфере неорганического мира, оно необходимо в сфере органики. «Принцип «примата» функции над предметом, — так объясняет эту закономерность Кассирер, — приобретает в каждой отдельной области новый вид и требует всякий раз нового и самостоятельного обоснования» (1.10). Бесспорно, но как же быть с тем, если «новый вид» подчас являет собою странные «сюрпризы» по отношению к общему инвариантному принципу, так что эйдетика не уживается с логикой? Ведь и сам Кант, внятно и, казалось бы, безоговорочно отграничивший сферу конститутивных понятий от сферы понятий регулятивных и признававший интеллектуальное созерцание прерогативой высшего рассудка, ибо в человеческом рассудке оно оборачивается-де рядом диалектических аберраций и софистическим престидижитаторством, вынужден был, перейдя к органике, искать для этого принципа «самостоятельное обоснование», которое в скользящих намеках драматического § 77 «Критики способности суждения», толкующего об одной «особенности человеческого рассудка, благодаря которой для нас становится возможным понятие о цели природы», угрожало критике познания возмездием запрещенной интуиции (умозрения). Текст Канта гласит: «Наш рассудок имеет то свойство, что в своем познании, например, причины продукта, он должен идти от аналитически общего (от понятий) к особенному (к данному эмпирическому созерцанию); при этом он ничего не определяет в отношении многообразия особенного, а должен ожидать этого определения для способности суждения от подведения эмпирического созерцания (если предмет есть продукт природы) под понятие. Но мы можем мыслить себе и такой рассудок, который, поскольку он не дискурсивен подобно нашему, а интуитивен, идет от синтетически общего (созерцания целого, как такового) к особенному, т. е. от целого к частям… Здесь вовсе нет необходимости доказывать, что такой intellectus archetypus возможен; мы только утверждаем, что сопоставление нашего дискурсивного, нуждающегося в образах рассудка (intellectus ectypus) со случайностью такого свойства ведет нас к этой идее (некоего intellectus archetypus), не содержащей в себе никакого противоречия».[7] Кант вовремя останавливается; «эстетик» в» нем трезво внемлет предостережениям «гносеолога» — вы помните, как один «джентльмен» у Достоевского («с ретроградною физиономией») в тот единственный день едва не присоединил свой голос к «громовому воплю восторга серафимов»; была минута — «и вот, клянусь же всем, что есть свято, я хотел примкнуть к хору и крикнуть со всеми: «Осанна!» Уже слетало, уже рвалось из груди… Но здравый смысл — о, самое несчастное свойство моей природы — удержал меня и тут в должных границах, и я пропустил мгновение!»;[8] Такое мгновение было и у Канта — в третьей «Критике», где регулятивное едва не стало конститутивным; мгновение было упущено; знание осталось в благоразумных границах… Как бы ни было, этот «новый вид» принципа примата функции над предметом у Канта оказался парадоксальным местом контрабандных встреч Шеллинга и Плотина. Сам Кант подобных встреч избежал; наш (человеческий) рассудок, по Канту, остается дискурсивным; можно только теоретически мыслить идею интуитивного рассудка, но следует при этом помнить, что «безусловная необходимость суждений не есть абсолютная необходимость вещей»[9] это значит, из мыслимости чего-либо не вытекает его бытие, и, стало быть, значимость умозрения в системе Канта равновелика той сотне мнимых талеров, в которые ему обошлась искусная критика онтологического доказательства. Эти невыявленные посылки кантовской философии, от экспликации которых сам Кант, осторожный и безбурный изобличитель всяческих «бурь и натисков», истово отнекивался, видя в них искусы «трансцендентальной иллюзии» (его полемика с Гердером и Фихте была в этом смысле полемикой с самим собою), оказались решительным моментом в дальнейших судьбах кантианства. Если верно приведенное уже нами слово, что «понять Канта значит выйти за его пределы», то очевидно, что сам Кант так и не понял себя до конца, точнее, не понял или не решился понять, что намеки, ну, хотя бы того же § 77 «Критики способности суждения» сулили ему реальный выход из аналитики рассудка в диалектику разума, осмысленную уже не как «логика видимости», и, не поняв этого, обрек все дальнейшее кантианство решать буриданову головоломку: между Кантом и Платоном. Головоломка эта с Шопенгауэра явственно осознана; по Шопенгауэру, «Платон божественный и изумительный Кант соединяют свои мощные голоса…»;[10] чтобы избежать диссонанса, Шопенгауэру достаточно было явить портрет Канта в ореоле незабудок «трансцендентальной эстетики» и почти заслонить ею выжженные луга «логики». Традиция эта имела продолжение: наиболее выразительные примеры ее можно найти в исследовании П. Дейссена «Веданта и Платон в свете Кантовой философии» и в пространной монографии X. Ст. Чемберлена «Иммануил Кант», силящейся представить Платона как философского детоводителя к Канту («детьми» при этом оказываются: Гете, Леонардо, Декарт, Бруно). С другой стороны, аналогичный — хотя и совершенно иначе разыгранный — процесс замечаем мы в методологических усилиях неокантианских школ с их трансцендентальным объяснением платоновской философии; достаточно упомянуть фундаментальное исследование П. Наторпа «Учение Платона об идеях», которое, по словам А. Ф. Лосева, «раз навсегда забило кол в ту грубейшую метафизику, в свете которой часто излагали учение Платона об идеях»,[11] и раннюю работу Николая Гартмана о «логике бытия у Платона», изгоняющие из платонизма всяческий мифологизм и изъясняющие его в духе формального кантовского априоризма. Решительное изменение этого ракурса совершилось самими кантианцами; отвергаемое в платоновской философии ранее, истолковывалось теперь как ее величайшее достижение, и диссонанс, не снятый сведением Платона к Канту, снимался теперь сведением Канта к Платону. Так, Наторп в «Metakritischer Anhang» к новому изданию своей книги (1921) силится дать мифологическую интерпретацию платоновских идей, понимаемых уже не как чисто логические ограничения, но как умные изваяния, как «выражение праконкретного и живого».[12] Сильнейшее платоническое влияние просвечивает и сквозь «критическую онтологию» Н. Гартмана: особенно в учении о «слоях бытия». Риккерт, в усилиях преодолеть «люк» между трансцендентным долженствованием и познающим сознанием, вплотную придвигается к неоплатонизму; любопытно, что, ознакомившись с «Эмблематикой смысла» А. Белого, он заметил по поводу критики в свой адрес, что это — попытка «плотинизировать» его; в дальнейшем оказалось, что «попытка» была лишь точным прогнозом. И то же видим мы у Ласка в его учении о категориях, у Ионаса Кона; сплошная и дружная тенденция, позволившая С. Л. Франку сказать о ней верное слово: «Вся «трансцендентальная философия» есть лишь этап в истории платонизма».[13]
Возвращаясь с этой точки зрения к Кассиреру, мы видим, что и у него основной принцип критической мысли в ориентации на проблему культуры принял новый и неожиданный «вид». Открытого разрыва с кантианством здесь не было, но μετάβασις είσ άλλο γένοζ (переход в другой род) не вызывает никакого сомнения. Кассиреровский функционализм — смещение акцента с «субстанциальных» понятий на «реляционные» («Мы познаем не предметы… но предметно)[14] типично кантианский в исследовании математического естествознания, утрачивает эту типичность в сфере языка и мифа. Кант здесь оказывается лишь промежуточной вехой между немецким романтизмом и — через английский (кэмбриджский) платонизм — неоплатонизмом. Аналогии эти, несомненно, могут стать предметом специального исследования. Мы вкратце остановимся на каждой из них — в обратном порядке.
НЕОПЛАТОНИЗМ
Если учение Плотина, по словам крупнейшего знатока его философии, — «не обычная система эманации, но имматериалистический энергизм», т. е. «субстанции суть энергии; как таковым им присуще действовать; их действие — порождение в объекте действия «подобия» данной энергии»,[15] то, заменив слово «энергия» словом «функция», а «подобие» — «символом», мы получим своеобразный, но довольно точный aperçu «Философии символических форм» (динамическая активность форм у Кассирера обнаруживает поразительное сходство с энергетикой эйдосов у Плотина). Символы здесь суть «свободные образы, строимые познанием, дабы овладеть миром чувственного опыта». «Познание, осуществляемое через язык, миф и искусство, отнюдь не играет роль зеркала, которое попросту и точно отражает образы некоей данности внешнего или внутреннего бытия; оно — не безразличный посредник, а доподлинный источник света, условие видения и начало всякого формирования» (1.26). «Оказывается, Прокл не так уж отстал от нашей современности!» — замечает А. Ф. Лосев по поводу этой и ряда других выдержек.[16] В другом месте он же называет Кассирера первым исследователем, развившим теорию платоновских идей (вне формально-логической метафизики) и оказавшим влияние на все последующее платоноведение.[17] Очевиднейшие следы этого влияния наличествуют и в «Философии символических форм», особенно в исследованиях языка и мифа. Один типичный пример, думаем мы, будет вполне достаточен. Кассирер анализирует давнишний спор философов о «природе имен»: даны ли имена «по установлению» (νέσει) или они «природны»(φζσει). Исторически наиболее яркое свидетельство этого спора явили софисты и стоики: первые в утверждении чистой субъективности языка, вторые в признании за ним объективной значимости. «Заключен ли язык всецело в круге субъективного представления и мнения, или между сферой наименований и сферой действительного бытия наличествует глубинная связь; имеют ли сами наименования внутреннюю «объективную» истину и правильность? Софистика отрицает, Стоя утверждает подобную объективную значимость слова; но как в негативном так и в позитивном решении форма самой постановки вопроса остается одинаковой» (1.132–133). Ответ Кассирера почти полностью совпадает с прокловским комментарием к «Кратилу». По Проклу, имя и «установлено», и «природно»; оно — «установлено» в ракурсе творчества и «природно» в ракурсе парадигматики. Тем самым устраняются ограниченности как наивного субъективизма, так и наивного объективизма. Эта мысль детально развивается Кассирером в демонстрации абсурдных выводов обеих точек зрения. В отдельности взятые, софистическая и стоическая концепции порочны в одинаковом смысле; слово и «объективно» (χατά μίμησιυ), и «субъективно» (»(ίδια πάνη), но оно впервые становится словом как таковым лишь с приобретением символической значимости, пресуществляющей оба момента: символ «субъективен», как модель действительности, но он же и «объективен», как — сказали бы мы сейчас — «порождающая модель». В этом смысле кассиреровская интерпретация платоновских идей существенно определила его концепцию символа. Исторически это понятие сближаемо в большей степени с платоновским эйдосом, чем с кантовской формой, хотя и от эйдоса его отличает чересчур подчеркнутый функционализм.
ШКОЛА КЭМБРИДЖА
Английскому платонизму Кассирером посвящено специальное исследование.[18] Мы останавливаемся на нем лишь потому, что он оказался вехой, соединяющей «Философию символических форм» в ее неоплатонических истоках с философией немецкого романтизма. Основное понятие этого направления, «эстетико-метафизическое», по характеристике Кассирера, понятие «внутренней формы», восходящее к Плотину и играющее столь значительную роль в романтических теориях, должно быть отмечено здесь в первую очередь. Школа Кэмбриджа, возникшая на рубеже XVII и XVIII веков, определилась внешне как оппозиция эмпирической психологии, сводящей мыслительные процессы к чувственным факторам. В центре её внимания оказалась форма этих процессов, мыслимая в своей изначальной и неразложимой цельности; систематически-философское исследование этой «формы» составляет средоточие воззрений Кэдворта и его последователей; Кассирер отмечает, в частности, Шефтсбери, давшего, по его мнению, совершенное литературное изложение этих воззрений. Суть кэмбриджского платонизма вкратце может быть передана следующим образом. Всякое внешнее оформление чувственно-данного зиждется на определенных внутренних мерах (interior numbers), ибо форма не может порождаться веществом; она есть несотворенное и непреходящее, чисто идеальное единство, придающее множеству, в самом миге сотворения с ним, его цельность и образ. Именно эти внутренние и духовные меры и вовсе не случайное существование и случайную сотворенность эмпирических веществ изображает в своем творчестве каждый подлинный художник, являясь тем самым как бы вторым творцом. Художник уподобляется здесь самой природе; ему открывается та «внутренняя форма», которая присуща не только природным телам, но и человеческому сознанию, «внутренняя форма», чей основной закон гласит: всякое бытие получает целостную форму не от частей, но как оформленная цельность оно суще и действенно до всяческих частей. По Шефтсбери, каждый из нас способен непосредственно постичь в собственном «я» индивидуальный принцип формы, оказывающийся собственным «гением», индивидуальные проявления которого при всем их различии все-таки остаются тождественными друг другу в плане некоей формообразующей власти, могущей быть обозначенной как «гений вселенной». Это воззрение нашло характерное преломление в книге Гарриса «Гермес, или философское исследование универсальной грамматики» (1751), применяющей метафизику Кэдворта к проблемам философии языка. Гаррис выдвигает идею грамматики, отвлеченной от идиоматики различных языков и сосредоточенной на универсальных принципах, идентичных для всех языков; философским стержнем исследования является провозглашение примата чистых интеллигибельных форм над чувственными формами. Книга Гарриса оказала прямое воздействие на становление мысли у Гамана, Гердера, Гумбольдта; инспирации ее, одухотворившие философию романтизма, простираются и в XX век, импульсируя 4-е исследование 2-го тома гуссерлевских «Логических исследований», гештальтпсихологию и «Философию символических форм». Не исключено, что генетически мысль Кассирера восходит к платоновской философии через соединительные звенья: философия романтизма — Гаррис — Шефтсбери — Кэдворт — Прокл — Плотин. Нам остается рассмотреть еще первое звено в этой цепи.
НЕМЕЦКИЙ РОМАНТИЗМ
Необходимо прежде всего уточнить употребление самого термина в данном контексте. Обычное представление о романтизме ограничивает его, как правило, в рамках эстетики и искусства. Но реальный смысл этого явления вовсе не умещается в партикулярных сферах проявления; романтизм — феномен культуры и, как таковой, охватывает все доминионы культуры: науку и философию не в меньшей степени, чем искусство. Возникшее в Германии к концу XVIII века и пережившее невиданный расцвет в начальных десятилетиях XIX, это явление представлено красочной и разнообразнейшей градацией «видов», понять которые мы можем не через школьно-логическое извлечение из них пустого родового абстракта, максимально объемного и минимально содержательного, но через конкретное вмысливание в специфику каждого «вида», являющегося зависимой переменной некоей функции, чья конкретная значимость осуществима не в роде, а в ряде, данном градацией. Романтизм в этом смысле конкретно плюралистичен: можно говорить о романтическом искусстве, романтической науке, романтическом быте, политике даже. Перечислим ряд основных признаков его: панэстетизм, или примат художественного мировидения над всяким иным, органицизм и трансформизм, идея игры, философия тождества (единства человека и космоса), индивидуализм (Фридрих Шлегель, следуя принципу Новалиса о выражении множества идей одним ударом, попытался охватить перечисленные признаки в одном слове: романтизм он квалифицирует как «антиполицейское»). С этой точки зрения романтичны историография Гердера и лингвистическая философия Гумбольдта, психология Каруса и весь комплекс научных работ Гете: по физике, оптике, анатомии, физиологии, зоологии, ботанике, минералогии, метеорологии. Не случайно, что именно с романтизмом связано возникновение наук а культуре, то, что Кассирер называет «критикой культуры», и именно здесь расширение кантонского критицизма оказалось преодолением кантианства и прорывом в мир «идей», «абсолютного», «умопостигаемого», Все, против чего благоразумно предостерегала «трансцендентальная диалектика» Канта, — поступок саисского юноши, нисхождение к «Матерям», «буря и натиск», — стало плотью и кровью романтизма: стыдом его зрячих пальцев и выпуклою радостью узнавания; да, и чудовищными срывами его («Eine lusterne Redoutenund Halb-Bordellwirtschaft, die nach und nach noch schlimmer werden wird», с необычайною злобой характеризует Гете некоторых романтиков в письме к Якоби), но не следует забывать: срывы были срывами с высоты, т. е. было откуда падать. «Высокие башни, — говорит Кант, — вокруг которых шумит ветер… не для меня».[19] Достаточно сравнить с этим «сильным изречением Канта», как охарактеризовал его Наторп, последнюю сцену ибсеновского «Строителя Сольнеса» или упоительно-самоубийственный призыв автора «Веселой науки» строить города у Везувия, чтобы сполна осознать и прочувствовать контраст ситуации. Несомненно, что в становлении кассиреровской мысли, ставшей ареной столкновения обоих полюсов, Канту удалось в значительной мере остудить романтический радикализм — Кассирера никак нельзя назвать романтиком; он слишком осторожен, осмотрителен и систематичен для этого. Но несомненно и другое: побежденный романтизм оставил в нем достаточно глубокие следы, и здание кантовского критицизма раздалось в «Философии символических форм» рядом непоправимых трещин, продувающих «шумным ветром» запретных высот. Четыре основополагающих принципа проникли сквозь эти трещины в «неокантианство» Кассирера, четыре «ереси», легшие в основание его и подтачивающие весь кантианский экстерьер. Это, во-первых, смещение акцента с факта математического естествознания как единственного и незыблемого ориентира наших знаний о мире. Здесь Кассирер изменяет не только Канту, превратившему философию в философию только науки (и тем самым спровоцировавшему властный рост будущего «сциентизма»), но и своему «марбургскому» прошлому. Наука вовсе не единственна; наряду с наукой как феноменом культуры существует целый ряд других феноменов, столь же самостоятельных, независимых и правомерных: язык, миф, религия, искусство определяют культуру не в меньшей степени, чем наука, и философии должно в равной мере ориентироваться и на них, т. е. перестать быть «служанкой науки» и стать «служанкой культуры». Во-вторых, это чисто романтическая идея «органической формы», противопоставленная еще со времен Гердера «рефлективной форме» рационализма. Фридрих Шлегель был первым, кто со всей определенностью ввел это понятие в лингвистику (в сочинении 1808 года «Uber die Sprache und Weisheit der Indier»). Язык, понятый как организм, — типично романтическая концепция, открывшая новые перспективы в лингвистике и существенно обусловившая становление современного языкознания, — Кассирер специально предупреждает против понимания этой концепции как образной и поэтическиметафорической (1.96). Понятие организма в философии романтизма служит выражением не отдельных природных явлений, а всеобщего спекулятивного принципа, духовного средоточия, стягивающего самые различные проблемы. Уже у Канта в «Критике способности суждения» это понятие играет роль «среднего термина», соединяющего разъятые члены системы; антиномически противопоставленные миры природы и свободы, бытия и долженствования, «чистого» и «практического» разума как бы примиряются в регулятивной идее организма. Эта идея становится в «Натурфилософии» и «Системе трансцендентального идеализма» Шеллинга конститутивным принципом объяснения мира. Именно идея органического, по Шеллингу, дает человеку предчувствие единства его собственной сущности, в которой идентифицируются созерцание и понятие, форма и предмет, идеальное и реальное. Наконец, наиболее пышные плоды этой идеи являет нам гетевское учение о метаморфозе. Мы увидим еще, какую роль играет понятие «органической формы» в символизме Кассирера. Третий принцип, легший в основание «Философии символических форм», — отрицаемое Кантом и утверждаемое романтизмом «интеллектуальное созерцание». Упомянутый уже нами § 77 «Критики способности суждения» стал для романтиков ариадниной нитью, выводящей знание из лабиринта феноменализма и агностицизма к «умному месту» светлых восторгов гнозиса сущности. Кант робко оговаривает возможностъ зрячего ума; Шеллинг прямо-таки с лютеровской задорностью возвещает его действительность. «Природа, — заявляет Шеллинг, — тем понятнее говорит нам, чем меньше мы мыслим о ней, просто рефлексируя».[20] По Канту, мы именно мыслим о ней; философия Платона потому и кажется Канту «мечтательной», что обладает доблестью зрения; «эйдос» Платона — вид, зрак; точный смысл слова «idea» — «video»; кантовская «идеология», занавешивающая мир идей плотной рогожой близорукого ума и отводящая «видению» нищенскую роль чувственного «глазения», опровергается уже простой справкой из греческого словаря. Любопытно, что даже чисто логическая теория понятия у Кассирера зиждется на эйдетике не в меньшей степени, чем на логике (и это еще одно свидетельство «реванша» побежденного романтизма). Наконец, в-четвертых, следует отметить принцип тождества бытия и мышления, который, уходя корнями в философию Парменида, пышно расцвел именно у романтиков. Немыслимость этого принципа в пределах кантовской критики познания бесспорна; с него, собственно говоря, и начинается полемика Фихте с Кантом, приведшая к квалификациям типа «Dreiviertelkopf» и к дальнейшим попыткам Когена гегельянизировать кантианство и кантианизировать гегельянство. Кассиреру и в этом случае пришлось приложить максимум усилий, чтобы совместить несовместимое; антиномию Кант-Гегель он силится свести к синтезу, не видя или не желая видеть, что сама возможность синтеза в этой антиномии чревата для Канта «снятием» и что попытки такого рода были заблаговременно заклеймены кенигсбергским философом позорным штампом шарлатанства.
Линия от романтизма до платонизма — ретроспективная цепь истоков и предпосылок «Философии символических форм». Следовало бы в этой связи упомянуть еще имена Вико и Лейбница; идеи первого оказали явное влияние на кассиреровские концепции языка и мифа; второй, которому Кассирер еще в молодости посвятил большую работу[21] и философские произведения которого он издал в трех томах, оставил неизгладимый след как на общей методологической базе «Философии символических форм», так и на «феноменологии познания» ее (особенно научного познания). Нам остается теперь рассмотреть проспективную линию: цепь истоков и предпосылок от Канта в современность. Следует уже здесь оговориться: задача наша не в том, чтобы фиксировать каждое звено в цепи этих истоков. Естественно, что регистрация всех звеньев и немыслима, и невозможна. Если в процессе чтения исследователь настроит свое внимание исключительно на выискивание ассоциаций и аналогий, эта занимательная «охота», при всех сулимых ею сюрпризах и находках, может оказаться губительной не только для автора, но и в первую очередь для самого исследователя. Так, например, анализируя кассиреровскую теорию понятия и встречаясь с утверждением, что эмпирик, говорящий о своем незнании абсолютно точной прямой и т. п., признает тем самым наличие разных степеней точности и, стало быть, предполагает сравнение с точной идеей, основная функция которой подтверждается таким образом вполне, я могу показать, что максимальное применение этого типично математического аргумента восходит не только к доказательству всесовершенного существа Клеанфом у Секста Эмпирика (Adv. Math., IX, 88), но и к анализу итальянского языка в ХVI-й главе 1-й книги трактата Данте «О народном красноречии». Спрашивается: что дала бы мне, как исследователю, фиксация этой связи? Дело идет, стало быть, не об историко-философском крохоборстве (кто бы, за исключением буддийских логиков и, пожалуй, досократиков, выдержал этот экзамен на оригинальность?), но о подчеркивании ряда основополагающих аналогий. Перечень «влияний» (занятие едва ли не сомнительное) должен носить не обзорный, а проблемный характер. В первом случае добросовестное исследование рискует распухнуть в справочник, где фигурировала бы вереница имен: от математика Дедекинда и драматурга Ведекинда до обоих Менандров, комедиографа и ретора. Во втором случае «влияния» должны помочь более рельефному и контрастному осмыслению предмета исследования. Поэтому, обращаясь к проспективной линии истоков и предпосылок философии Кассирера, мы вынуждены, опустив ряд имен, ограничиться тремя мыслителями, донельзя противоположными и несхожими и, может быть, именно вследствие этого особенно «влиятельными». Речь идет о Гегеле, Гуссерле и Шелере.
ГЕГЕЛЬ
Влияние Гегеля на общую методологию «марбургской школы» велико, настолько велико, что если неокантианца Риккерта могли в свое время не без оснований именовать неофихтеанцем, то неокантианец Коген дает достаточные основания (в ряде важнейших пунктов своей логики) говорить о неогегельянстве. Гегель, прежде всего, помог Когену «очистить» кантовскую философию от «догматических» остатков и справиться с последствиями этого «очищения». В следующей главе нам придется более подробно рассмотреть отмеченную ситуацию. Здесь подчеркнем еще типично гегелевский «логический фанатизм» (выражение Якоби), определивший все устремления «марбургской школы». Что касается Кассирера, то, опуская частности, необходимо обратить внимание на самый метод построения «Философии символических форм». Все три тома книги представлены как феноменология — лингвистической, мифической и познавательной форм. В предисловии к 3-му тому Кассирер специально оговаривает контекст прочтения этого слова. «Говоря о «феноменологии познания», я тем самым связываю себя не с современным словоупотреблением (имеется в виду школа Гуссерля — К. С), но восхожу к тому коренному значению «феноменологии», которое было установлено Гегелем и систематически обосновано и оправдано им» (3.VI. Ср.2.Х — XI и 1.1 5-16). Феноменология для Гегеля — основная предпосылка философского знания, долженствующего охватить всю целокупность духовных форм, но сама эта целокупность мыслима не иначе, как в переходе от одной формы к другой. Истинно — целое, но целое развертывается в становлении. Предельная цель духа, считает Гегель, не может быть понята в отрыве от начала и середины; поэтому, философская рефлексия рассматривает начало, середину и конец как моменты единого движения. «В этом основном принципе рассмотрения «Философия символических форм» согласна с гегелевским положением, хотя как в обосновании, так и в проведении его она вынуждена идти другими путями» (3.VII). Это значит: не фиксация конечных продуктов познания, а понимание познания в самом процессе его; при этом исследование исходит из «диалектики» автономных символических форм, взятых как в отдельности и самодостаточности, так и в своеобразном взаимоотражении. Структура каждого тома триадична; низшее восходит к высшему и «снимается» в нем, но и высшее латентно наличествует в низшем, побуждая его к развитию. Так, в сфере познания утверждается теоретико-познавательная последовательность развития ощущения в созерцание, созерцания в понятие и понятия в суждение; при этом подчеркивается что функция ощущения и восприятия имплицитно содержит в себе функцию понятия, а понятие «предвосхищает» суждение. Этот принцип имеет силу и в сквозном анализе смежных сфер; такова, например, проблема образования понятий, рассмотренная Кассирером во всех трех томах от низшей лингвистической стадии до высшей научной. В дальнейшем анализе мы проследим детальную структуру и архитектонику «Философии символических форм»; в этом смысле она до мельчайших подробностей воспроизводит гегелевскую диалектику, и если исключить нередкие моменты этой диалектики из текста самой книги, остается все же несомненным довлеющее присутствие Гегеля в ее композиционной стилистике.
ГУССЕРЛЬ
Это, как нам кажется, наиболее напряженный и интересный момент влияния. Сознательно или бессознательно, но Кассирер черпает у Гуссерля самые разрушительные свои интуиции и, словно бы чувствуя парадокс, борется с Гуссерлем на протяжении всей книги. Гуссерль — современник его. Гуссерль — едва ли не наиболее влиятельный логик среди «философов жизни» и «философ жизни» среди логиков. Кассирер, концептуалист ex professo, вдохновленный к тому же едкой полемикой начальных страниц гегелевской «Феноменологии духа», обошел Гуссерля, пытаясь поразить его рикошетом: от «философии жизни». Удар пришелся по Бергсону, культивировавшему метафизику в поисках утраченной реальности; метафизика, по Бергсону, сводится к решительной десимволизации и интуированию «абсолютной реальности», не занавешенной всякого рода концептуальными или образными этикетками. Кассиреру не стоило большого труда развенчать пафос такой метафизики; уже не говоря о том, что «претензии обходиться без символов» (слова Бергсона) нечего сказать о культуре как таковой, так что автору «Творческой эволюции» пришлось воспеснословить не «вечных спутников» рода человеческого, а насекомых энтомолога Фабра, сама эта метафизика возможна опять-таки через функцию символизма. Порождая негативизм критики языка и научного познания, интуиция, или способ постижения реальности, живописуется Бергсоном в бессильно-обаятельных эпитетах («божественная способность» и т. д.), могущих удовлетворить лишь тех философов, которым, по выражению Новалиса, место в «госпитале для неудавшихся поэтов». Критика Бергсона у Кассирера — образец философской критики, но рикошет не состоялся; Гуссерль, этот «последовательный бергсонианец», как он сам назвал себя однажды, проявил предусмотрительность; интуиция носит у него не иллегитимный характер поэтического самозванца, как у Шеллинга, вызвавшего насмешки Гегеля, или как у Бергсона, — она, к смятению всего факультета, оказывается у него имманентной философии, вплоть до того, что ей можно обучать студентов, посещающих семинарий, вопреки Шеллингу, провозгласившему бесплодность всех попыток такого рода),[22] ибо философу надлежит в равной степени владеть не только логикой, но и эйдетикой, не только правилами мышления, но и правилами умного видения. Результат оказался поучительно-странным; рикошет пришелся по самому Кассиреру, и теперь «кантианцу» довелось не раз демонстрировать практическое применение этой эйдетики. Прямая признательность Гуссерлю засвидетельствована во введении ко 2-му тому «Философии символических форм». «К основополагающим заслугам гуссерлевской феноменологии, — говорит Кассирер, — принадлежит то, что она заново обострила взгляд на различие духовных «структурных форм» и указала для их рассмотрения новый, отклоняющийся от психологической постановки вопросов и методики путь. В особенности острое разъятие психических «актов» и интендируемых в них «предметов» играет здесь решающую роль. На пути, пройденном самим Гуссерлем от «Логических исследований» до «Идей чистой феноменологии», все яснее прорисовывается, что задача феноменологии, как он понимает ее, не исчерпывается анализом познания, но нацелена на исследование структур совершенно различных предметных сфер исключительно в смысле того, что они «означают» и без обращения внимания на «действительность» их предметов. Подобное исследование должно было бы втянуть в свой круг и мифический «мир», дабы не производить его своеобразное «наличие» через индукцию из многоразличия этнологического и этнопсихологического опыта, но постичь его в чисто «идеирующем» анализе» (2.16–17). Таким образом, если гегелевская феноменология научила Кассирера динамическому анализу форм в моменте их перехода друг в друга, то феноменология Гуссерля выработала в нем навык структурно-устойчивого исследования тех же форм в плане их автономной значимости и самодостаточности. Собственно, оба указанных принципа и составляют основу всей «Философии символических форм». Резкое расхождение как с Гегелем, так и с Гуссерлем, в остальном нисколько не изменяет положения. Больше того, соприкосновение с идеями Гуссерля обратило Кассирера к беспокойному мировоззрению самого радикального и независимого феноменолога, какого только знало гуссерлевское движение. Речь идет о Максе Шелере.
ШЕЛЕР
Влияние Шелера на «Философию символических форм» одновременно и спорно, и несомненно. Если Гуссерль в самих истоках своих философских устремлений может быть назван антиподом Кассирера, то Шелера сам Гуссерль называл своим «антиподом», и, стало быть, для Кассирера здесь дело шло о двойном антиподе, ибо шелеровский радикализм моментами настолько же отдален от правоверного гуссерлианства, насколько это последнее отдалено от «логического идеализма» Кассирера. И хотя Кассирер прямо опирается на шелеровское учение о «симпатии» в анализе проблемы «чужого сознания» (3.100–105), все же основные константы воззрений обоих философов остаются непримиримо противоположными. Метод Шелера, основывающийся на «переживании» и требующий идти от символов к вещам, заменяя понятия интуициями, во всем обратен методу Кассирера, насквозь логическому и идущему от вещей к символам. Разительный контраст очевиден уже в манере изложения философов: осторожное, строго концептуальное и традиционное «legato» у Кассирера с редкими прорывами в «невозможное» и — острое, беспедальное, разяще-личностное «staccato» языка сущности у Шелера, с самого начала нацеленного на «невозможное»: на «материальное априори» (беспрецедентный случай в истории трансцендентализма!) или на «порядок сердца», обладающий, по его словам, не меньшей объективностью и не менее строгой абсолютностью, чем математические истины. Все это наияснейшим образом говорит о спорности какого-либо влияния. Несомненность влияния в ином. «Философия символических форм» многими исследователями, да и самим Кассирером, охарактеризована как философская антропология.[23] Здесь как бы поставлена цель преодолеть обособленность специальных наук о человеке и добиться единой идеи о нем. Но кем же, как не Шелером, основоположником философской антропологии, была впервые узаконена эта цель. «Ни в один другой период человеческого знания, — говорит Шелер, — человек не был столь проблематичен, как в наши дни. Мы располагаем научной, философской и теологической антропологией, не ведающими ничего друг о друге. И поэтому мы лишены какой-либо ясной и устойчивой идеи о человеке. Нарастающая множественность отдельных наук, вовлеченных в исследование человека, в гораздо большей степени запутала, чем прояснила нашу идею о человеке».[24] Именно в этом смысле имя Шелера должно быть отмечено наряду с остальными; шелеровская философия человека — последнее звено в цепи влияний, сопровождающих Кассирера на пути от логико-методологического обоснования научного знания к антропологической философии.
Резюмируя вышеизложенное, можно схематически изобразить истоки и предпосылки кассиреровской философии в следующей таблице.
Мы ничего не сказали еще о центральном пункте этой схемы (Кант), поскольку об этом речь будет идти в следующей главе. Влияние Канта, конечно же, огромно; Кант — основная тональность «Философии символических форм». Но, продолжая музыкальное сравнение, можно сказать, что сила влечения к этой тональности претерпела здесь явный сдвиг; скорее, она стала уже силой отвлечения от тоники, хотя и в пределах самой тоники. Кантианская тоника все еще сдерживает эксцентричность философских устремлений у Кассирера, как в послевагнеровской и дошенберговской музыке. Различие Кассирера и Николая Гартмана — двух «марбуржцев» — ярче всего вырисовывается в таком сравнении. Отказ Гартмана от Канта есть отказ от прежней тоники путем приобщения к додекафонной технике. Кассирер все еще тонален, но отнюдь не в классическом смысле, а в позднеромантическом, где расширение музыкальных средств у Вагнера, Брамса, Брукнера, Вольфа, Малера ознаменовано кризисом тоники вплоть до прямого отсутствия ее на протяжении внушительно больших отрывков музыкальной ткани. Так, анализ вагнеровской уверпоры к «Тристану» являет отсутствие тоники во всей увертюре, написанной — подчеркнем это! — в рамках тональности,[25] хотя даже отсутствующая (в прямом смысле), тоника все же прослушивается еще за счет максимальных приближений к ней. Таково отсутствие Канта и у Кассирера; читатель простит нам неуклюжий оборот, но это присутствующее отсутствие, т. е. временами функция тоники (Кант) настолько вытесняется соседней функцией, скажем, субдоминанты (Платон), что заключать к ней мы можем либо от звучащего «фона», либо от самого текста с проставленными знаками тональности. Текст увертюры к «Тристану» открыт тональностью «ля-минор», которая ни разу не звучит в чистом виде в самой увертюре. «Философия символических форм» открывается тональностью «кантианства» моментами (редко) звучащего прямо, моментами вообще исчезающего для того, чтобы появиться позднее в причудливом и отнюдь не первоначальном облачении. Решительная трансформация «первоначального идеализма» Канта, вопреки мнению Ф. Кауфмана, здесь очевидна; достаточно обратить внимание для этого хотя бы на два основополагающих момента кассиреровской системы. Это, во-первых, положение об идентичности бытия и мышления и, во-вторых, безоговорочное признание интеллектуального созерцания. Созерцание, по Канту, покоится на аффекции; по Кассиреру, оно состоит в продукции. «Критика чистого разума» приняла бы вид «Наукоучения» Фихте, допусти в ней Кант возможность такого созерцания, и Гегелю не пришлось бы писать знаменитый § 51 «Науки логики», прими Кант положение об идентичности бытия и мышления. Расхожее обозначение философии Кассирера как «кантианской» (пусть даже с приставкой «нео») в свете сказанного должно быть оговорено: «правда» этого обозначения большей частью сводится к анкетно-регистрационной стороне дела, «ложь» ее — в динамике нюансов, оттенков, всегда подвижных и никогда не каталогизируемых. В мысли Плотина Аристотель занимает ничуть не меньшее место, чем Платон, и тем не менее назван он неоплатоником, а неоплатоник Беркли фигурирует во всех учебниках по истории философии как номиналист и «более последовательный Локк». Этим, как нам кажется, должен быть оправдан наш анализ истоков и предпосылок кассиреровской философии. Смещение — возможно несколько резкое — акцента с кантианства на иные воззрения преследует чисто тактическую цель восстановления баланса, нарушенного анкетной стороной вопроса. Кант еще возьмет свое в дальнейшем анализе, но именно поэтому было необходимым уже здесь подчеркнуть и противоположное. Философия Кассирера послужила в самой динамике своего роста ареной борьбы между Кантом и отмеченными выше мыслителями. Только в случае необходимости будем мы в дальнейшем фиксировать перипетии этой борьбы; но следует помнить, что именно на ее фоне возможно адекватное осмысление воззрений автора «Философии символических форм».
Заканчивая главу, мы считаем нужным остановиться еще на одном вопросе, выходящем за пределы истоков и предпосылок кассирерианства, но представляющем первостепенный интерес в связи с ними. Речь идет о явлении, по-видимому, оставшемся неизвестным Кассиреру и тем не менее предвосхитившем во многом и во многом превзошедшем его концепцию. Это — явление русской философии, нашедшее выражение в теоретических исследованиях Андрея Белого, и в частности в его книге «Символизм». Следует особенно подчеркнуть этот, к сожалению, оставшийся вне внимания исследователей факт. Именно Кассирер считается, с легкой (поскольку неосведомленной) руки Сюзанны Лангер, «пионером философии символизма». Первый том «Философии символических форм» увидел свет в 1923 году. Общую задачу свою — мы отмечали уже — Кассирер усматривал в расширении кантовского критицизма до символизма. Но об этом же двадцатилетием раньше писал А. Белый в статье «Критицизм и символизм» (напечатана в февральском номере журнала «Весы за 1904 год; перепечатана позднее в книге «Символизм»). Мы остановимся вкратце на статье «Эмблематика смысла» из той же книги (статья датирована 1909 годом); автор назвал ее «предпосылками к теории символизма»; предпосылками, заметим мы, преследующими в основном негативную цель критического вскрытия аберраций символического мировоззрения. «В этой статье, — подчеркивает сам автор, — я вовсе не пытаюсь дать теоретическое обоснование символизма; теоретическое обоснование символизма слишком ответственно; такое обоснование стоит в связи с критической переоценкой основных гносеологических предпосылок действительности; по моему глубокому убеждению, еще не настала пора построения системы символизма; в настоящее время возможны лишь пролегомены к такой системе; ‹…› ее (статьи — К. С.) задача несколько распутать сложною сеть ложных представлений о символизме вообще и о символизме некоторых течений современности».[26] Положительная система символизма так и не была написана А. Белым; книга «Символизм» обрывается на ответе, символически проясняющем нам причины этого ненаписания: «Вот ответ для художника: если он хочет остаться художником, не переставая быть человеком, он должен стать своей собственной художественной формой».[27] Систему создал Кассирер, но система, не предваренная негативным анализом возможных аберраций, уткнулась в безысходность (мы увидим еще). «Эмблематика смысла» — отметим еще раз — предвосхищает во многом и во многом превосходит «Философию символических форм»; предпосылки к теории оказываются сильнее самой теории. Перечислим, чтобы не быть голословными, ряд моментов как предвосхищения, так и превосходства (детальный анализ явления потребовал бы отдельной монографии). Проблема расширения критицизма до символизма уже упомянута нами. Символизм, по Кассиреру, изначальная функция мысли, определяющая типы мировоззрений во всей полноте градации. На языке Белого, это — «эмблематика смысла», или символическая градация форм смысла (см. таблицы к статье); типы мировоззрения суть виды символизма; на этом основана неудача всякого мировоззрения, исходящего из обратного представления; «основания метафизик Фихте, Шеллинга, Гегеля понятны; но положения этих систем, как систем только метафизических, обрекли попытки Фихте, Шеллинга и Гегеля на полную неудачу: вместо того чтобы понять символизм всяческой метафизики, они всяческий символизм, наоборот, выводили из метафизики».[28] По Кассиреру, правомерна и автономна всякая символическая форма; совокупность их образует культурный космос. «Эмблематика смысла» указывает на самое возможность этих форм: «теория символизма утверждает все виды ценностей: она только требует строгой ориентировки».[29] Далее, саму познавательную деятельность Кассирер мыслит как творческую; «Философия символических форм» есть учение о построении культурного мира с помощью символических конструктов. «Эмблематика смысла» не только соединяет познание с творчеством, но и утверждает примат последнего. Более того, она показывает несостоятельность подобного вывода с позиций кантианства, которое элиминирует объект, считая его отрицательно мыслимым понятием («вещь сама по себе»). «Познавательный материал, — пишет А. Белый в одной из более поздних работ, — превращен из объекта в продукт; у познания — нет объекта; оно — продуцирует, то есть рождает объекты; оно — не познание, а — деторождение только: деторождению этому следует теперь отказаться от функции своей познавать и себя признать за объект: какого-то иного познания; трансцендентализм здесь эмпирия, то есть данное… каких-то познаний… Каких же познаний?».[30] С этим связано решительное преодоление кантовской философии уже в «Эмблематике смысла» и особенно в поздних работах Белого, что позволяет ему критически вскрыть саму возможность символизма. Именно этот вопрос (кардинальнейший для всякой критики познания) обойден Кассирером. Подобно Канту, догматически принявшему понятие идеальности, Кассирер догматически полагает понятие символа, не ставя вопроса о его возможности. Как возможна культура? — таков основной вопрос «Философии символических форм». Ответ гласит: возможна как творчество, определяемое символической функцией сознания; математически выражаясь: возможна как класс переменных величин, истинных для высказывательной функции символизма. Но как возможна сама функция? Кассирер постулирует ее ссылкой на Генриха Герца; критически она остается невскрытой. «Эмблематика смысла» вскрывает ее. С точки зрения «Эмблематики смысла» «Философия символических форм» есть негативная философия, или негатив культуры. Кассирер вовсе не ставит этой проблемы; символ он сводит к символическим формам, не выясняя самих условий такого сведения и понимая символ в довольно общем и расхожем смысле, как чувственное воплощение идеального. «Эмблематика смысла» насчитывает до 23 определений символа, могущих быть предпосылками всякой теории творчества (а таковой и считает себя «Философия символических форм»); общему и некритически предпосланному понятию символа у Кассирера противопоставлена здесь богатейшая серия модуляций этого понятия. Перечислим ее.
1) Символ есть единство.
2) Символ есть единство эмблем.
3) Символ есть единство эмблем творчества и познания.
4) Символ есть единство творчества содержаний переживаний.
5) Символ есть единство творчества содержаний познаний.
6) Символ есть единство познания содержаний переживаний.
7) Символ есть единство познания в творчестве содержаний этого познания.
8) Символ есть единство познания в формах переживаний.
9) имвол есть единство познания в формах познания.
10) Символ есть единство творчества в формах переживаний.
11) Символ есть единство в творчестве познавательных форм.
12) Символ есть единство формы и содержания.
13) Символ раскрывается в эмблематических рядах познаний и творчества.
14) Эти ряды суть эмблемы (символы в переносном смысле).
15) Символ познается в эмблемах и образных символах
16) Действительность приближается к Символу в процессе познавательной или творческой символизации.
17) Символ становится действительностью в этом процессе.
18) Смысл познания и творчества в Символе.
19) Приближаясь к познанию всяческого смысла, мы наделяем всяческую форму и всяческое содержание символическим бытием.
20) Смысл нашего бытия раскрывается в иерархии символических дисциплин познания и творчества.
34
21) Система символизма есть эмблематика чистого смысла.
22) Такая система есть классификация познаний и творчеств, как соподчиненной иерархии символизации.
23) Символ раскрывается в символизациях; там он и творится, и познается.[31]
Сравнивая эти определения с «Философией символических форм», должны мы заметить: Символу (с прописной буквы) у А. Белого соответствует единство символической функции у Кассирера, а эмблемам (символам в переносном смысле) — символические формы. Философия Кассирера исходит из Символа и дает феноменологию эмблем; при этом Символ, или единство символической функции, мыслится в типично кантианском смысле: это — все та же «трансцендентальная апперцепция», сопровождающая и обусловливающая на этот раз любую артикуляцию культурного смысла. Но «трансцендентальная апперцепция», положенная Кантом в основу познавательного акта, основой быть не может, ибо сама она есть уже не что иное, как познавательный результат. Субъект познания у Канта парадоксальным образом предваряется познанием этого Субъекта; применяя эту модель к символизму, Кассирер допускает аналогичную ошибку petitio prlncipii, подрывающую теоретико-познавательную правомерность «Философии символических форм». Мы увидим еще, что, почитая математику за идеальный образец мышления и распространяя ее парадигмы на все доминионы культуры,[32] немецкий философ добивается частных успехов в ясном анализе культурных феноменов в ущерб собственно философской стороне дела. Поясним сказанное на примере, приводимом самим Кассирером.
Если мы имеем арифметический ряд 1/2 2/3 3/4 4/5 и т. д., то понять образование этого ряда невозможно без указания на высказывательную функцию, символ n/(n+1), выявляющий целостность ряда и являющийся его законом. Эта функция, стало быть, объясняет нам весь ряд; вопрос касается объяснения самой функции. Вовсе не обязательный для математика, вопрос этот имеет принципиальное значение для философа, применяющего модель ряда ко всем явлениям культуры. Но мы забежали вперед; более подробная критика оснований «Философии символических форм» будет еще изложена после анализа этой философии. Недостаток места вынуждает оборвать тему параллели между русским и немецким философами; параллель эта, несомненно, достойна отдельного исследования. Здесь заметим лишь, что не одному Кассиреру довелось стать Америго Веспуччи не им открытого, но им окрещенного материка; Шпенглер, Гартман и поздний Гуссерль, автор «Кризиса европейских наук», по-своему разделяют с ним пышные лавры первенства усилиями неосведомленных комментаторов. Надо надеяться, что со временем и этой ситуации будет предъявлен «гамбургский счет»; быть может, вскоре выяснится, что и тревога Ясперса по поводу «атомной бомбы и будущности человечества», тревога конца 50-х гг., была впервые высказана Белым еще в 1921 году (!), а после, в 1926 (!), в большой незаконченной работе об «Истории становления самосознающёй души», где прямо говорится об опасности взрыва Вселенной, являющей собою «склад атомных бомб».[33] Будущий исследователь поразмыслит еще над этими восклицательными знаками; здесь же нам остается ограничиться чисто фактической поправкой: насчет «пионерства».
ГЛАВА 2 МАРБУРГСКИЙ ПЕРИОД
Тут жил Мартин Лютер. Там — братья Гримм.
Когтистые крыши. Деревья. Надгробья.
И все это помнит и тянется к ним.
Все — живо. И все это тоже — подобья.
Б. Пастернак. «Марбург»
«Блестящее состояние нашего общества, как и уважение, которым оно пользуется, служат достаточным доказательством того, сколь жива еще среди нас философия Канта, которую столь часто объявляли уже мертвой. Всякий, кто хочет сделать какой-нибудь шаг вперед в философии, считает первейшей своей обязанностью разобраться в философии Канта; но в особенно сильной мере должна сознавать эту обязанность та философская школа, которая с самого начала исходила из намерения сначала ясно выработать учение Канта в его неискаженной исторической форме, понять его из собственного его принципа и определить его значение с точки зрения этого самого принципа, а не с какой-либо другой, навязанной ему извне».[34]
Такими словами открывает Пауль Наторп свой программный доклад «Кант и Марбургская школа», прочитанный на заседании Кантовского общества в Галле 27 апреля 1912 года. Сформулированные в этих словах три исходных пункта освоения философии Канта наияснейшим образом характеризуют структуру философского направления, получившего к концу прошлого века широкую известность под названием «марбургской школы» неокантианства. Ясная выработка учения «исторического» Канта, понимание его из собственного его принципа и определение его значения с точки зрения этого самого принципа — указанные вехи сполна охватывают основные этапы эволюции взглядов как Г. Когена, так и самого Наторпа. Но собственно неокантианский этап начинается лишь с третьего пункта; первые два остаются еще в пределах кантианства. В своих ранних интерпретаторских работах Коген особенно подчеркивает необходимость буквального понимания кантовской философии; этим филологическим этапом и предваряется этап философский. Не случаен сам термин «Kantphilologie», охвативший необозримые библиотеки почтеннейших трудов и увенчавшийся сенсационным крохоборством Г. Файхингера, чей тысячестраничный (Gr. 8° и набранный петитом) комментарий к «Критике чистого разума» не продвинулся дальше первых семи-восьми десятков страниц разбираемого текста.[35] Филологический этап был в той или иной степени пройден почти всеми крупнейшими представителями «неокантианства»; легендарный немецкий педантизм вновь ошеломил читательную публику головокружительным умением находить иглы разночтения в стогах слов; непролазные дремучести кантовских текстов прочесывались с прямо-таки инфинитезимальной доскональностью; выверялись фразы, слова, буквы; доходило даже до анализа чернил (Адикес), и порою результаты выверки провоцировали многостраничные споры, как если бы дело шло о возрождении былых схоластических диспутов на тему: сколько гребцов находилось в лодке Улисса в такой-то песне «Одиссеи». Постепенно филологическая интерпретация склонялась в сторону интерпретации философской; последняя же, сводящаяся, как правило, к «необходимым поправкам в учении Канта» (выражение Наторпа), требовала проявления негатива, или систематизации собственных положительных воззрений — одним словом, «неокантианства».
Необходимо вкратце и схематически изложить суть воззрений Германа Когена, этого «старейшины (Altmeister) неокантианства», как назвал его Штаудингер. Воззрения эти определили мысль Кассирера в «марбургский период» его деятельности и послужили непосредственней логической основой для дальнейших рефлексий над культурой. Анализ наш коснется когеновской интерпретации Канта и логической системы самого Когена.
ИНТЕРПРЕТАЦИЯ КАНТА
Среди труднообозримого многоразличия интерпретаций кантовской философии можно выделить три наиболее влиятельных варианта; выбор наш дополнительно мотивируется тем обстоятельством, что каждый из этих вариантов исходит из расчленения трехчастной «Критики чистого разума» на отдельные части и соответственно базируется на одной из них. Первый, так называемый «критический феноменализм», культивирует «трансцендентальную эстетику» с ее учением об идеалитете времени и пространства и находит законченное выражение в философии Шопенгауэра. Из положения Канта о субъективности времени и пространства Шопенгауэр посредством введения малой посылки о пространственно-временном характере всяческого опыта заключает к миру, как представлению. Одновременное осмысление «вещи самой по себе», как воли, окончательно вывело кантовскую критику познания из круга вопросов о возможности математики и математического естествознания, обрамив ее неожиданными горизонтами философии Упанишад и мистически воспринятого платонизма. Участь Канта в этом обрамлении оказалась на редкость чудовищной; высмеявший некогда «Грезы духовидца», он вынужден был теперь опасно заигрывать с ними в «Опыте о духовидении» своего интерпретатора и ученика. Вторая интерпретация, определившая профиль «фрейбургской», или «баденской», или «юго-западной» школы, отталкивается от «трансцендентальной аналитики» Канта, вернее, от учения о дедукции чистых рассудочных понятий. Этот труднейший раздел «Критики чистого разума» устанавливает разнородность и разграниченность элементов познания: эмпирически-апостериорного материала и рационально-априорной формы. Дальнейшая судьба кантианства выявила странности и в этом случае; Эмиль Ласк убедительнейшим образом ограничил логически-рациональные права кантовской философии выдвижением иррационального момента в ней; форма, по Ласку, лишь внешне логизирует материал, который продолжает внутренне оставаться иррациональным.[36] Здесь, как и в поздних рефлексиях Риккерта, явно вырисовывается уклон в сторону «трансцендентального эмпиризма»; в линии, намеченной Ласком и не завершенной им (Ласк был убит на фронте в 1915 году), особенное место занимает «категория сверхчувственного» и переживание трансцендентного, так что и здесь участь Канта оказалась роковой; такая интерпретация, открывающая в нем потенции непосредственного метафизического переживания, словно бы речь шла не о бодрствовании критика Канта, а о грезах духовидца Сведенборга, сулила ему вполне (интелли) гибельные последствия.[37]
Коген отвергает как первую, так и вторую интерпретации. Отвергает не фактически и буквально, а принципиально, считая, что хотя и «трансцендентальная эстетика» и дедукция категорий имеют определенную значимость (впрочем, первая — лишь историческую), значимость эта играет в философии Канта второстепенную роль; понять Канта из собственного его принципа значит сосредоточить внимание на глазном; главное же для Канта — трансцендентальный метод, преследующий центральную цель критической философии: систематизацию и логическое обоснование единства научного знания. «Необходимые поправки в учении Канта» сводятся именно к этой цели. Критическая философия, по Когену, начинается с «основоположений чистого рассудка» и продолжается в «трансцендентальной диалектике». Ее подлинный пафос — пафос системотворчества (и это — первое звено в линии близости Когена к Гегелю). Ее единственный ориентир — наука. Ее исконная задача — вскрыть логическое единство всех наук. Она — ни «критический феноменализм», ни «трансцендентальный эмпиризм», а «логический идеализм».
Центральное значение кантовского учения об «основоположениях чистого рассудка» Коген усматривает в преодолении отрыва эстетики от аналитики и установлении связи между обоими элементами познания; категории, выступающие в аналитике понятий как абстрактно отдельные формы, ложатся здесь в основу научного знания в конкретном синтезе формы и материала. Таким образом происходит обоснование математики и математического естествознания. Но полнота научного знания не исчерпывается принципами одной механики; обоснования требует и органический мир, причем обоснования имманентного, собственно органического; наряду с механикой существует и органика, создающая предмет описательного естествознания, отличающегося от математического естествознания и, следовательно, исходящего из иного принципа объяснения. Этот принцип Коген находит в третьей «Критике» Канта: принцип формальной целесообразности, причисленный Кантом к регулятивным идеям, поскольку конститутивное применение его чревато, по Канту, «авантюрой разума». В этом своем значении, как идеи разума, принцип формальной целесообразности выходит за пределы как биологии, так и совокупности математического и описательного естествознаний, играя роль систематизатора научного знания как такового. Именно здесь выявляется полная идеальность этой систематизации, поскольку эмипирическое осуществление ее недостижимо. Следует, поэтому, выйти за узкие рамки конститутивности и исходить из регулятивности; в этом пункте «поправки» Когена принимают характер прямой реформации кантовской философии. Речь идет о переосмыслении «трансцендентальной диалектики», или учения Канта об идеях.
Внимание Когена в первую очередь останавливается на проблеме «вещи самой по себе», этой crux metaphysicoxum критики познания. Двоякое понимание ее встречает нас у Канта: трансцендентное (источник опыта) и трансцендентальное (предел опыта). Противоречия, связанные с первым пониманием, известны: «вещь сама по себе», будучи источником аффицирования субъекта, становится трансцендентно понятой причиной и тем самым саботирует критическую философию откровенным привкусом догматизма. Парадокс Якоби, гласящий, что без этой предпосылки нельзя войти в систему Канта, с ней же невозможно там оставаться, грозил этой системе разрушением. Нельзя войти, ибо «вещь» порождает чувственный материал познания, без которого категории остались бы вне действия и познавательный акт не смог бы начаться. Нельзя оставаться хотя бы потому, что причина, будучи одной из форм рассудка, не может одновременно быть вне и независимо от рассудка, как метафизически-гипостазированная категория. Таким образом, ситуация действительно выглядит безысходной. С одной стороны, Кант должен был отказаться от этой «вещи» ради провозглашенного им самим «коперниканского переворота». С другой стороны, он не мог отказаться от нее в силу двух обстоятельств, во-первых, из-за имманентной необходимости «вещи самой по себе» (первый тезис парадокса Якоби), во-вторых, из боязни перед идеализмом берклеанского типа и скандальности такого идеализма (этот второй аспект остроумно обозначен Лаасом как «конвульсивное доказательство вещи самой по себе»). Но «Критика чистого разума» предлагает, наряду с трансцендентным, и трансцендентальное объяснение «вещи». Здесь «вещь» становится демаркационным и отрицательно мыслимым понятием, обусловливающим феноменальность познания в границах опытного применения понятий. Кант в «трансцендентальной диалектике» разоблачает всякие попытки превзойти очерченные границы возможного опыта (кто, когда и как определил границы этой возможности?); внеопытное применение категорий приводит к фокусам диалектического шарлатанства. Мысль, по Канту, прикреплена к чувственности; реальный опыт есть только чувственный опыт; все остальное — злейшие проделки «трансцендентальной иллюзии», провоцирующей мысль мыслить внечувственное, ну, хотя бы самое себя, т. е. различить в самой себе материал и форму познания и собственные основания. Вот почему гениальная задача Канта, выраженная им в одном лишь слове «критицизм», слове, чье освободительное значение впервые по существу указало философии ее доподлинное назначение, не была осуществлена Кантом во всей полноте требований этого слова. «Критицизм» означает: не принимать ничего без предварительного выверения сознанием; в этом его непреходящее превосходство над всякого рода «догматизмом», конструирующим «вавилонские башни» систем на невыверенном и наивно положенном фундаменте предпосылок. Мысль — одна из таких предпосылок в системе самого Канта. Мысль критически не вскрыта Кантом; мысль догматически принимается им как нечто разумеющееся. И эта мысль оказывается бессильной на протяжении всех трех «Критик»: в «Критике чистого разума» она ограничена чисто формальным знанием; аналитическая логика Канта читает явления по слогам (см. § 30 «Пролегомен»); логика такого прочтения приводит к буквальному знанию (слово «утро», как совокупность букв у, т, р, о); мысль, по Канту, совершает путь от аналитически-общего (от понятий) к единичному (к эмпирике чувственных созерцаний), т. е. в приведенном нами примере слова «утро» она идет от понятия буквы к единичным буквам у, т, р, о; в «Критике способности суждения» Кант предполагает возможность и иного пути: от синтетически-общего к единичному, или от целого к частям; такое знание он приписывает интуитивному рассудку; знание это было бы реальным знанием, но и только было бы; по Канту, оно возможно в ограничительной презумпции «als ob»; нет нужды доказывать бессмысленность этой презумпции, расцветшей в десятилетиях всеми видами легкомысленнейших «фикционализмов», — никакое понятие буквы не дало бы нам возможность сложить из единичных букв слово, если бы само слово не предваряло буквы и не организовывало их в самом процессе сложения;[38] наконец, «Критика практического разума» санкционирует необходимость веры: этого нельзя знать, но в это надо верить; худшей участи, скажем мы, не ведал критицизм; вера здесь не следствие изначально-нетронутого душевного пафоса, не самопервейший жест волевого порыва (в смысле лютеровской «sola fide»), а оскорбительно откровенный паллиатив, срочно подпирающий мысль, обессилевшую от головокружения в присутствии трансцендентального ничто, или «вещи самой по себе». Так, воля к познанию, определившая необходимость критики познания, выродилась в убогую «добрую волю» (по Канту, центральный принцип нравственности), которая в анализе Маркса и Энгельса «вполне соответствует бессилию, придавленности и убожеству немецких бюргеров».[39]
Коген отклоняет оба понимания «вещи самой по себе». Первое он считает просто недостойным Канта (как знать, не соглашаясь ли втайне с фихтевским диагнозом «трех четвертей головы»?); от второго он отталкивается, силясь дать ему позитивную интерпретацию. Ведь допущением трансцендентальности «вещи самой по себе» Кант наметил путь логического толкования ее; стало быть, в чисто логическом смысле она представляет собою понятие, в полной мере отвечающее принципу безусловной объективности. Важно учесть при этом, что объективность мыслится здесь в специфически кантовском смысле, именно: как логическая необходимость и общеобязательность. Понятая так «вещь сама по себе» отождествляется Когеном с понятием знания как такового, с понятием знания, как идеала систематической философии. Будучи регулятивной идеей разума, она, в кантовском же смысле, является идеей завершения и окончательной систематизации научного знания.
Такая интерпретация, по мысли Когена, и означает понимание Канта из собственного его принципа. Но остается еще труднейшая проблема трансцендентности «вещи». Остается в силе парадокс Якоби. Коген пытается устранить этот парадокс радикальным преобразованием начал «Критики чистого разума». Якоби (в полном соответствии с Кантом) утверждает, что без «вещи самой по себе» нельзя войти в систему Канта. Коген, вопреки Канту и Якоби, настаивает на противоположном. Но как же можно войти в эту систему без источника аффицирования и, стало быть, без данности чувственного материала? Кант различает двуродность элементов познания: чувственность и рассудок; «посредством чувственности предметы нам даются, рассудком же они мыслятся».[40] Немыслимость акта познания без одного из этих элементов в «Критике» очевидна. Коген считает такую очевидность догматическим пережитком. Познание мыслимо и действительно в пределах одного из элементов; мышление вовсе не нуждается в чувственном материале для произведения познавательного акта. Оно автономно и само порождает свой предмет. «Трансцендентальная эстетика» в этом смысле принадлежит к «докритическому» наследию Канта; трансцендентальный метод требует монолитности теории познания, каковая отсутствует у Канта допускающего два необходимых условия познания. «Оставить в таком виде дуализм факторов познания, — утверждает Наторп, — совершенно невозможно, если мы серьезно придерживаемся кантовской идеи трансцендентального метода».[41] «Но в таком случае, — гласит продолжение, — вместе с восприимчивостью субъекта и воздействием объекта должна пасть и данность ощущения как «материи» познания. Больше не должно быть речи о каком бы то ни было «многообразии», которое должно быть только нанизано, соединено и, наконец, воспризнано рассудком, связанным к тому же данными формами созерцания. Вместе с этим, однако, должен измениться весь смысл «синтеза», «апперцепции», короче — почти всех и каждого из положений Канта».
Вход в кантовскую систему без «вещи самой по себе» у Когена вполне гегельянский. Вот типичный пассаж, фигурирующий на начальных страницах «Логики чистого познания» и могущий быть буквально инкрустированным в «Науку логики» Гегеля: «Чистое, мышление само по себе и только так должно производить чистое познание. Учение о мышлении должно тем самым стать учением о познании».[42] Наторп комментирует этот пассаж: «Без сомнения … мы в значительной мере приблизились к великим идеалистам и, преимущественно, к Гегелю».[43] Но и Гегель, в свою очередь, подвергается у Когена острой критике, в частности за метафизически беспредметную логику, отвлеченную от научного знания и присваивающую себе это знание. Таким образом Кант здесь исправляется Гегелем, а Гегель — Кантом, но уже исправленным с помощью Гегеля.[44] Устранение же трансцендентной «вещи самой по себе» опровергает парадокс Якоби. По Когену, без «вещи самой по себе» можно войти в систему Канта, с нею же необходимо там оставаться. Достигается это путем абсолютной логизации акта познания и трансцендентализации объекта.
«ЛОГИКА ЧИСТОГО ПОЗНАНИЯ»
Смысл своей интерпретации кантовского учения Коген видел не только и даже не столько в непротиворечивой систематизации этого учения, сколько в расчистке пути для собственной своей системы.[45] В 1902 году выходит 1-й том ее: «Логика чистого познания». Мы ограничимся летучей характеристикой семи основополагающих принципов этой логики, ибо всякий более подробный анализ вывел бы нас за пределы нашей работы.
1. Заданность. — Решительное устранение элемента данности — первое условие «Логики чистого познания». Принятие данности есть «возврат к метафизике, совершенно несовместимой с трансцендентальным методом».[46] Данность уместна в психологии сознания; критика познания начинается не с учения о чувственности, а с учения о мышлении, т. е. с логики, которая и есть критика познания.[47] Поскольку же логика определяется в своем развитии идеей формальной целесообразности, то данность становится заданностью, или задачей познания. Мышление строго автономно; оно не получает ничего извне и само ставит себе задачу в спонтанном порождении собственного предмета. Дуализм расщепляет единство знания и тщетно тщится вновь восстановить его. Кантовский переход от «трансцендентальной эстетики» к «трансцендентальной аналитике» логически случаен именно потому, что данное извне логически не приводит к категориальным синтезам. Принцип Когена гласит: нет иной данности, кроме данности заданности мышлению мышлением же собственного предмета. Единственная данность — данность проблемы построения предмета.
2. Проблематичность: — Понятие проблемы играет центральную роль в «логическом идеализме». Все есть проблема и проблема есть все. Кантовский гениальный вопрос «как возможно?» расширяется у Когена в свете его гегельянских трансформаций критической философии. Мышление идентично бытию; мышление порождает бытие. Но бытие — бытие точного знания, которое тем самым носит логически определенный и однозначный характер. «Мы познаем не предметы, — подчеркивает Кассирер, — это означало бы, что они раньше и независимо определены и даны как предметы, — а предметно, создавая внутри равномерного течения содержаний опыта определенные разграничения и фиксируя постоянные элементы в связи. Понятие предмета, взятое в этом смысле, уже не представляет собой последней границы знания («Grenzbegriff» Канта! — К. С.), а наоборот, его основное средство, пользуясь которым, оно выражает и обеспечивает все то, что сделалось его прочным достоянием. Это понятие обозначает логическое владение самого знания, а не нечто темное, потустороннее, навсегда ему недоступное».[48] Логическое владение и есть проблема. Проблема — цель знания и движущий фактор его. Можно сказать, что построение системы наук, как последняя проблема философии, знаменуется целью бесконечных проблем, ставимых мышлением самому себе. С этой точки зрения и вся история философии рассматривается Н. Гартманом в свете так называемой апоретики, или истории проблем, последовательное прояснение которых строит саму философию. С проблематичностью у Когена теснейшим образом связано понятие сплошности логических знаний, или непрерывность их.
3. Непрерывность. — «Continuität im Denken» — «непрерывность в мышлении» — еще один краеугольный постулат когеновской логики. Сплошная проблематичность знания фундирует непрерывность логических связей, благодаря которым только и возможна определенность логики. Логика, по Когену, система связей и отношений, покоящаяся на законе непрерывности. Этот закон обусловливает и так называемое «суждение происхождения», согласно которому многоразличие логических определений должно проистекать из единого источника, сохраняющего свою значимость на всех этапах прогресса знания. «Суждение происхождения» окончательно синтезирует все принципы критической философии, в частности, аналитику и диалектику Канта. Аналитика Канта зиждется на понятии «трансцендентальной апперцепции», как основы категориального (понятийного) познания; ядро диалектики составляет учение об идеях. Конститутивное и регулятивное разъединены у Канта до ранга двух автономных принципов. Аналитика ориентируется на конечную науку. (Ньютон), в то время как диалектика предполагает бесконечность научного знания. Кант, исчерпав вопрос о возможности математического естествознания (персонифицированно — о возможности Ньютона), удовлетворил, стало быть, требованиям одной аналитики; собственно говоря, идеология (учение об идеях) Канта остается за рамками познавательного процесса, ибо ей не на что ориентироваться в положительном смысле; ориентация ее вполне негативна и сводится к регистрации возможных искажений знания. Ошибка Канта, по Когену, заключается в том, что Кант ориентирует философию на факт науки. Между тем, наука не фактична (статична), а прогрессивна (динамична). Эволюция математических наук в послекантовское время, в частности, возникновение неэвклидовой геометрии и релятивистской механики, поставило под угрозу не только кантовские выводы о математике и физике, но и саму идею априоризма. Принцип непрерывности, постулируемый Когеном, исходит, поэтому, из строгой корреляции эволюции науки и эволюции философии. Философия должна считаться не с фактом науки, а с процессом ее становления. Больше того: она должна ориентироваться не на ту или иную науку, а на саму идею научности. Отсюда вытекает новая характеристика ее.
4. Методологичностъ. — Коген безоговорочно разделяет мысль Лессинга о предпочтении искания истины самой истине. Строго говоря, искание и есть истина. Если научное знание рассматривается в аспекте историчности, стало быть, процессовидности, то столь же процессовидно и знание об этом знании, т. е. логика. Идеальное знание, систематическое единство всех наук недостижимо; проблема есть вечная проблема; всякий ответ, по мысли Когена, рождает новые вопросы, и всякое решение ставит перед познанием новые задачи. Математически выражаясь, идеал является бесконечно отдаленной точкой, к которой знанию дано приближаться лишь асимптотически. Следовательно, знание не может быть обладанием объекта, а лишь устремлением к нему. Идеал — горизонт, обрамляющий и — больше того — творящий ландшафты идей; наука — непрестанное движение к этому горизонту. Поэтому она насквозь методична (μέθοδος и значит путь). Истина есть метод, и вне метода не существует истины.
5. Относительность. — Поскольку окончательный смысл знания связан с понятием единства, то логическое средоточие и логическая значимость отдельных методов котируется не наличествующими факторами, а их взаимосвязью. Знание в этом смысле есть всегда знание отношения и отношение знания. Понятие отношения лежит в основе всякого знания; оно же устраняет любые трудности, возникающие при метафизических попытках решения проблем. Старая метафизическая субстанция заменяется здесь математической функцией, устанавливающей порядок отношения. Эта замена демонстрируется всей историей научного знания. Так, в физике прежняя «субстанциальность» была вытеснена Фарадеево-Максвелловой концепцией электромагнитного поля. Так, механическая теория жизни, господствовавшая в биологии, и пришедший ей на смену «витализм» были устранены современной биологией, которая, в лице Берталанфи, провозгласила основным биологическим понятием категорию «целостности», понятую именно функциально. И то же видим мы в психологии: теория элементов, или психического агрегата частей, уступила место понятию структуры, и психология стала гештальтпсихологией. Сущность функционализма характеризуется марбуржцами как переход от метафизической реальности к реальности логической. Логическая же реальность есть реальность не вещи, а отношения, реляции. С другой стороны, полная коррелятивность принципов и фактов знания приводит к полной относительности всякого знания. Несомненно то, что принципы объясняют факты. Но они не в меньшей степени и зависят от самих фактов. Открытие новых фактов каждый раз взывает к расширению и трансформации методов. Стало быть, логическая значимость любого принципа относительна и зависит от качества пленума фактов. Поэтому Коген и называет принципы гипотезами.
6. Гипотетичность. — Следует особо подчеркнуть, что гипотеза мыслится здесь не в расхожем смысле слова, как догадка, предположение и т. п., но в своем исконном греческом значении, впервые философски узаконенном в идеологии Платона. Она — ипотеса, идея, обусловливающая достоверность и объективность всякого знания; основа, предшествующая выполнению любого точного исследования.[49] Ее синонимы суть «чистая возможность», «основоположение», «принцип», «метод», «закон». Гипотеза — идея, взятая в аспекте чистой логичности, без всяческой эйдетики. Прекрасную характеристику ее дает А. Ф. Лосев: «Это: не цельность, но принцип цельности; не индивидуальность, но метод ее организации; не созерцательная картинность и воззрительная изваянность, но — чистая возможность их; не общность, но — закон получения ее и т. д..[50] Иначе говоря, гипотеза — логическое ограничение и основоположение. Она мыслится в факте, как логическая возможность его, как чисто методический принцип его структуирования. Но факт не только мыслится; он и видится в эйдосе, и в этом смысле изменчивость факта, многоличность его взывает к методической плюралии логического его осмысления, оказывающегося всегда относительным. Здесь относительность совпадает с гипотетичностью.
7. Бесконечность. — Понятие бесконечности интегрирует все перечисленные характеристики логики Когена. Познание задано, проблематично, непрерывно, методично, относительно и гипотетично лишь в той мере, в какой оно бесконечно. Только опираясь на этот принцип, логика может дать исчерпывающее правовое обоснование математики и математической физики. Непростительным заблуждением Канта было игнорирование бесконечности: следствием этого явилась искалеченность мышления, вынужденного стоять на костылях чувственности. Это понял Гегель, придавший мышлению спонтанную силу самопорождения. Но Когена не удовлетворяет и чистая спекулятивность логики Гегеля, чьи начальные предпосылки остаются критически не вскрытыми. Труднейший вопрос — как начинается познание? — вопрос, сформулированный самим руководящим принципом когеновской логики происхождения, требует внятного логического анализа, а не (мифо)логического вещания, как это имеет место в начале «Логики» Гегеля. Иначе говоря, если мышление начинается с самого себя, то где следует искать исходную точку этого начинания? Здесь логика посягает на мифологию, ибо проблема Ursprung’а, первоначала искони считалась прерогативой мифа; эта же мифика лежит в основаниях почти всех классических философий прошлого: от «воды» Фалеса до «общего, хотя и неизвестного корня» кантовского критицизма. Иначе говоря, логика всегда начинала не с начала; первый шаг ее сопровождался досознательным, полуобморочно-мифологическим состоянием — Ursprung собственно и означает пра-прыжок, прыжок из изначала, и лишь со второго шага уже она сознавала себя. Но прыжок — дело нефилософское; какой бы решительной, чеканной и самоуверенной ни была логическая поступь в дальнейшем, все равно, на ней остается позорящее пятно «прыжка», этого мифологически-хвостатого прошлого, нарушающего своей беспамятственностью последнюю чистоту и прозрачность мысли. Требование абсолютной демифологизации мышления через логическую экспликацию первоначала составляет, надо полагать, самое сердцевину системы Когена:[51] не Myth des Ursprungs, аименно Logik des Ursprungs. Эту логику первоначала Коген обнаруживает в понятии бесконечно-малого, ставшего фундаментальным принципом новой математики. Исторически проблема была выдвинута понятием арифметического ряда, геометрической касательной и механического движения. Лейбниц четко сформулировал ее в алгоритме дифференциального исчисления. Дифференциал, по Лейбницу, есть нечто предшествующее всякому количеству и протяжению, стало быть, нечто неколичественное и непротяженное и в то же время заключающее в себе принцип, ипотесу всякого количества и протяжения. Дифференциал в этом смысле уже не идеален и еще не реален, но, будучи движением, он и есть движение от первоначала (ничто, меон Платона) к реальности (нечто). Логика первоначала именно так мыслится Когеном в «суждении происхождения». Есть мышление. Мышление это продуцирует бытие. Переход от мышления к бытию, от идеального к реальному не скачкообразен, а непрерывен. Обоснование этого лежит в инфинитезимальной природе самого мышления. Ursprung мысли — бесконечно малая величина, «предыстория» мышления, но одновременно и процесс перехода, и вот в самом этом процессе «предыстория» оказывается уже «историей», первоначало становится реальностью. «По окольному пути ничто суждение создает начало чего-то», ибо ничто, будучи до всякого нечто, есть вместе с тем закономерность этого нечто, но закономерность одновременно движущаяся, стремящаяся, переходящая. «Nichts hungert nach dem Etwas» («Ничто голодает по нечто»), мог бы сказать Коген вместе с Яковом Бёме. Математически дифференциал понимается как беспредельное (он — меньше любой величины) и как предельное (он — все-таки величина); можно со всей строгостью парадокса сказать, что нечто есть ничто, взятое в процессе перехода; ничто — переход, и, как переход, оно — переход к нечто. Таким первым шагом в логике оказывается «реальное».
Указанные принципы исчерпывают в общих чертах «логику чистого познания». Они же — мы говорили уже — в полной мере определили методологию кассиреровской философии. Ученик Когена, он исходит в своих трудах как из когеновской интерпретации Канта, так и из систематических воззрений самого учителя. «Марбургский период» философии Кассирера отмечен в основном рядом историко-философских исследований среди которых следует выделить «Декартовскую критику математического и естественнонаучного познания» (1899), «Систему Лейбница в ее научных основаниях» (1902), первые три тома «Проблемы познания в философии и науке нового времени» (последний, четвертый, том писался уже в эмиграции), статьи «Кант и современная математика» 1907. Против формалистического обоснования математики Расселом и Кутюра), «Аристотель и Кант» (1911); кроме того, издание «Философских произведений» Лейбница (в 3-х тт.) и всего Канта (в 10-и тт., с дополнительным томом «Жизнь и учение Канта»). Систематизация собственных воззрений кульминируется в большой работе 1910 года «Понятие субстанции и понятие функции» (в русском переводе Б. Столпнера и П. Юшкевича «Познание и действительность»). На некоторых особенностях этой книги мы и остановимся; они остались неизменными на протяжении всей философской деятельности Кассирера и лежат в основаниях «Философии символических форм».
Существенной чертой мышления Кассирера, вынесенной им из тщательных штудий философских систем прошлого, является обязательность исторического фона при любом теоретическом анализе. Структурный метод теснейшим образом связан у него с методом генетическим и — что существеннее всего отметить — история проблем сопровождает анализ не на манер отрывочных и случайных аналогий, а в целокупной картине развития. Этот (еще один типично гегельянский) штрих, можно сказать, играет роль пружины в самом стиле философствования Кассирера, придавая ему качество особой основательности. Речь идет как раз о стиле; другое дело, что в содержательном аспекте история эта конструируется зачастую в угоду заведомо уготовленной и далеко не всегда правомерной схеме; об этом мы еще успеем сказать впереди. Но неразрывное сочетание исторического и логического, сочетание, в котором подчас трудно различить, где кончается одно и начинается другое — настолько органична сама связь их, — лишний раз и практически демонстрирует искусственость обособления теории от истории и наоборот. Как будто можно быть философом, не будучи историком философии, и историком, не будучи философом? В конечном счете, история проблемы и есть сама проблема; показать исторический генезис ее со всеми перипетиями значит дать наиболее основательный и четкий анализ ее. Так, например, глава «Предмет математики» в 3-м томе «Философии символических форм», начинающаяся с анализа формалистического и интуиционистского обоснования математики, предваряет анализ исторической справкой о проблеме, в результате чего злободневные споры современности скликаются с древностью, а древность ввинчивается в саму злобу дня: Аристотель, Лейбниц, Кант вмешиваются в спор между Брауэром и формалистами, становясь живейшими участниками его.
Учтя эту особенность, мы можем теперь сосредоточиться на ее содержательной стороне. Книга «Познание и действительность» в каком-то смысле центральна для всей философии Кассирера. Говоря строже и конкретнее, имеется в виду историко-методологический смысл. Подробный анализ книги выходит за рамки нашей задачи; мы поэтому ограничимся фиксацией именно этого смысла ее.
Применение когеновской методики к истории философии позволило Кассиреру осветить ряд основных теоретико-познавательных проблем в плане их логического развития. Эта феноменология понятий охватывает грандиозную картину становления логики от древности до современности. Можно в целом сказать, что лейтмотивом ее является мотив освобождения и очищения логики от сопутствующих ей и сращенных с нею побочных элементов. Рассмотренная в этом смысле история логики есть сублимация собственно логического, возгонка его из пестрой амальгамы разнообразнейших факторов до чистой логики, независимой, автономной и подлежащей собственным законам дисциплины, долженствующей трансцендентально оправдать всякий факт познания. Сублимация эта, охватывающая века мыслительных усилий, исполнена напряженной и драматичной борьбы мысли за свое освобождение; ряд этапов рисует нам события этой борьбы в линии восхождений и срывов. Так, первоначально логика сращена с мифом; путь от мифа к логосу загражден еще разного рода барьерами; освобождаясь от мифа, логика попадает в объятия метафизики, психологии и т. д. Говорить о принципах здесь невозможно; они растворены в чувственном восприятии и созерцании. Рефлексия обращена не на функцию формы как таковой; ее внимание поглощено чисто эмпирическими свершениями формы. Познание еще не нуждается ни в каком оправдании. Оно устремлено на окружающий мир и покоится в собственном эмпирическом созерцании. Предмет его не вызывает никаких сомнений. Но вот происходит сдвиг: встает вопрос о возможности. «Все прежние надежнейшие показания «действительности», «ощущения», «представления», «созерцания» предстают теперь перед новым форумом «понятия» и «чистого мышления», который принадлежит к началам не только собственно философского осмысления, но и всякого научного рассмотрения мира. Ибо здесь мысль не довольствуется уже простым переводом на свой язык данного в восприятии или созерцании; она вершит изменение самой формы этого данного, его духовную переделку. Первой задачей научного понятия является установление правила определения, которое должно оправдать себя в созерцаемом и исполниться в круге его. Но именно потому, что это правило должно иметь силу для мира созерцания, оно уже не принадлежит ему, как присущий ему элемент. И хотя оно осуществляется не иначе, как в материале созерцаемого, оно учреждает себя по отношению к последнему как нечто своеродное и самостоятельное. Это различие, по мере продвижения и развития научного сознания, чеканится острее и отчетливее» (3.328–329). В приведенных словах Кассирера отмечена основная черта логизации познания. Классический пример этого он усматривает в становлении греческой математики. Существенным моментом последней является не то, что она постигла значимость числа и подчинила числу космос; в этом отношении математика не продвинулась дальше мифа, также возвестившего всевластность числа. Уже у пифагорейцев математика явлена в трояком комплексе воззрений. Магически-мифическая аритмология сплетена здесь с интуицией числа как количественного множества, связанного с пространственными конфигурациями, т. е. наряду с магическим самосущностным пониманием числа дано и чисто созерцательное воззрение на него. Но вместе с тем здесь крепнет и постепенный отрыв от чувственных интуиции, стимулирующий постижение собственно логической природы числа. Указанный пример, по Кассиреру, обладает значимостью не только в сфере математики; он парадигматичен для развития всякого чисто теоретического знания. И он выразительно демонстрирует специфику этого развития. Логическая мысль в самих истоках своего рождения сращена с действительностью; рост ее — в неуклонном отдалении от последней. Но «действительность» преследует логику в самых разных обличиях: преодоленная в форме мифа, она вновь полонит теорию в форме метафизических конструктов, и далее: освобождение от метафизики грозит логике мифологемами позитивистского эмпиризма, крайние выводы которого и вовсе упраздняют ее. Необходима некая «идеальная дистанция», благодаря которой теория впервые и критически сможет приблизиться к действительности.
Эту дистанцию, по мысли Кассирера, логике удалось установить лишь путем решительного освоения понятия функции. История этого понятия составляет у Кассирера одну из наиболее существенных глав в генезисе логической мысли. Понятию функции противопоставлено понятие субстанции. Рассмотренная в свете этого противопоставления проблема познания исторически выглядит как непрестанная борьба обоих понятий во всех сферах знания: научного и философского. Субстанция — царь метафизики — искони обусловливала самые важные вопросы философии и научных воззрений. От греков через средневековье до Нового времени понятие это считалось краеугольным камнем всякого знания о мире (отдельные отклонения носили спорадический характер и оставались несущественными). Целый комплекс проблем — субъект и объект, бытие и мышление, психофизический вопрос и т. д. — опирался на этот догматический фундамент; мыслители самых различных направлений сходились в признании его безоговорочности, тщетно силясь распутать сложнейшие путы проблем обращением к нему. Субстанция — «Deus ex machina» — лишь сложнее запутывала их; фундамент оказывался тупиком. Такая участь постигла многие системы прошлого; каждый мыслитель, исходивший из явного или скрытого приятия этой предпосылки и доходивший до предельных возможностей исследования, мог бы повторить покаянное признание Генриха Риккерта о логической несовместимости трансцендентного и имманентного, смысла и бытия.
Выход из тупика, по Кассиреру, указала математика. Именно понятию Математической функции удалось впервые вытеснить понятие субстанции, бесконечно расширив горизонт математических возможностей. Постепенно функционализм охватывал и другие науки, вплоть до решительного преобразования всех мировоззренческих устоев. Уже «субстанциальная» физика Аристотеля преодолевается в геометрическом схематизме картезианской физики — ощущение уступает место чистому созерцанию. Это созерцание в свою очередь преодолевается в комбинаторике Лейбница, заменяющей пространственную форму логической формой. Наконец, Кант окончательно устраняет субстанциализм подчеркиванием функциональных связей рассудочных категорий. Путь физики ведет, таким образом, от физики восприятия через физику моделей к физике принципов, или чистых отношений, свободных от чувственно-наглядных примесей. Этим, собственно говоря, и определяется вся значимость понятия функции. «Невозможно уже заблуждаться и принимать предметы физики — массу, силу, атом, эфир — за новые реальности, которые должно исследовать и внутрь которых должно проникнуть, раз поняли, что они инструменты, создаваемые себе мыслью, чтобы изобразить хаос явлений в виде расчлененного и измеримого целого».[52] Так устанавливается «идеальная дистанция» между познанием и действительностью; математика — самопервейший образец ее и ориентир для прочих дисциплин. Физические, химические, физико-химические и т. д. понятия суть продолжение и расширение математических понятий, выражающие математические отношения. Так, «ощущение дает лишь нам множество светящихся точек на небе; лишь математическое понятие об эллипсе, которое должно быть предварительно составлено, преобразует этот прерывный агрегат в непрерывную систему»;[53] таков по Кассиреру, смысл парадоксального утверждения Когена о том, что звезды находятся не в небе, а в учебниках астрономии.
Но поскольку философия должна ориентироваться на науку, а наука имеет своим образцом математику, то понятие функции претендует занять главное место в иерахии логических принципов. Между тем, субстанциальность еще достаточно сильна в философии; философ говорит еще о вещи, в то время как для физика вещь есть уже не что иное, как совокупность математических определений: удельного веса, числового значения, измеримых отношений и т. д. Но для «субстанциалиста» тупик неизбежен; исходя из элементов отношения (смысл и бытие, субъект и объект, трансцендентное и имманентное и т. д.), он вынужден признаться в своем теоретическом бессилии, либо искать решение на нефилософских путях. Ибо переход от одного члена отношения к другому логически невозможен, если принять за исходный пункт наличие самих членов. Будем ли мы идти от субъекта к объекту или от объекта к субъекту («два пути теории познания»), все равно, мы должны совершить «прыжок через пропасть» (выражение Риккерта), т. е. прервать непрерывность мышления мифическим чудом. Очевидный в переживании, переход становится неразрешимой загадкой для рефлексии. Единственный выход из этого положения Кассирер видит в смещении точки зрения. Исходить следует не из членов отношения, а из самого отношения; оно — первоначальная реальность, порождающая свои термины. «Положение, что бытие есть «продукт» мышления, — пишет Кассирер, — не заключает здесь никакого указания на какое-либо физическое или метафизическое причинное отношение, а означает исключительно лишь чисто функциональное, иерархическое отношение в значимости определенных суждений».[54] Таким образом, высший принцип единства должен искаться не в трансцендентно сверхлогическом «наднебесном месте», но в понятии функционального отношения. Тем самым решительно устраняются всякие загадки и «прыжки». Можно привести в качестве примера решение психофизической проблемы. Лейбниц и окказионалисты постулировали единство обоих рядов в некоем трансцендентном истоке. Гартмановская метафизика познания отвергла это решение введением проблемы в сферу апоретики и установлением особой транскаузальной детерминации между терминами отношения. По Гартману, психофизический вопрос может быть выражен в формуле х(а, в), где а есть психический ряд, в — физический, а х — иррациональный, сверхпсихический и сверхфизический промежуток, детерминирующий их связь. Кассирер, отмечая позицию Гартмана как значительный сдвиг проблемы со старой косной точки зрения, вносит в нее одну поправку, существенно меняющую картину. Формула х(а, в) выглядит у него как φ(а, в), т. е. транскаузальная детерминация заменяется функцией, и в этом смысле члены отношения оказываются не физико-метафизическими сущностями, а функциональными величинами, порожденными самой функцией и изначально связанными в ней (3.108–121).[55]
Указанная формула — ключ к методологии Кассирера. Мы увидим еще конкретные проявления ее в «Философии символических форм». Сейчас же нам остается заключить главу критическим осмыслением воззрений «марбургской школы». Речь будет идти в основном о логике Когена; критика кассиреровской философии займет свое место после анализа самой «Философии символических форм», хотя общие схемы ее прояснятся уже здесь.
Большое преимущество когеновской логики перед кантовской заключается в настойчивой и принципиальной акцентации историчности метода исследования, в ориентации философии не на факт науки, а на процесс ее развития. Инвентаризация категориальных синтезов в «Критике чистого разума» оказалась партикулярно-значимой; Кант ограничил научное знание одним историческим отрезком его и возвел этот отрезок в степень всеобщности и необходимости. Но что значит факт науки? В пределах расхожего популярного смысла словосочетание это понятно и по-своему правомочно; с философской точки зрения оно — бессмысленно, ибо существуют научные факты, т. е. методически обработанные факты, но факта науки как такового нет; наука не фактична, а процессовидна. Как бы мы ни понимали слово «факт», несомненно одно: факт есть нечто сделанное, свершившееся, factum, и, как factum, он есть всегда post factum. Стало быть, говоря о факте науки, мы имеем в виду post factum ее, или ее отсутствие. С другой стороны, факт, если мы употребляем это слово не в обыденной речи, а в философской, мыслится как результат методической обработки (Дестют де Траси, например, отождествляет факт с принципом). И значит применительно к науке он означает результат методической обработки ее, т. е. опять-таки нечто отсутствующее доныне, ибо вместо факта науки мы видим еще непомерно увеличивающуюся серию научных метод, зачастую разрозненных и не сообщенных друг с другом: mathesis universalis остается все еще несбыточной мечтой философии; принять мечту за факт и, более того, за ориентирующий факт, мягко говоря, неправомерно. В этом отношении логика Когена наносит сокрушительный удар по всякого рода позитивистическим сциентизмам, догматически прикованным к «факту» науки (хуже того, какой-нибудь одной науки) и растворяющим в нем философию. Что же неприемлемо для нас в самой этой логике?
Прежде всего, раз уж речь зашла об историчности, смысл интерпретации философских систем прошлого. Почти во всех исторических исследованиях «марбургской школы» до очевидного заметна тенденция подогнать историю философии под заведомую схему «логического идеализма». «Говоря «с крупицей соли», как если бы «марбургская школа» была «вещью самой по себе» (в ее же истолковании), т. е. регулятивной идеей и бесконечно заданной целью всего философского развития. Такова, в частности, знаменитая работа Наторпа о Платоне, где «божественный Платон» оказывается чуть ли не прилежным когенианцем, отлично усвоившим семинарий на тему «Учение Платона об идеях». Таково во многих отношениях и исследование Кассирера о «проблеме познания» (в других отношениях — незаменимое историко-философское пособие). Искажение материала в этих трудах связано, как правило, с чрезмерной акцентацией именно тех моментов, которые, грубо говоря, «работают» на «логический идеализм». Кассирер, конечно, мог найти функционализм в учении Николая Кузанского, но Кузанец говорит и о высшем единстве, чьим порождением оказывается сама функциональная связь, теряющая таким образом свое безусловное значение. Или, продолжая вышеприведенный пример, истолкование Платона. Наторп и Кассирер окончательно разрушили дурную традицию односторонне метафизической трактовки платоновских идей. Но сводить смысл этих идей только к логическим ограничениям, значит стать Прокрустом Платона. Бесспорно, что идея есть ипотеса, логическая схема и основоположение. Но идея вместе с тем видится Платоном и как божество; считать это «наивным» «докритическим» аспектом платонизма уместно, пожалуй, с точки зрения Когена. Но Платон писал не для Когена, и точка зрения Когена остается все же точкой, а не сферой зрения. Это вынужден был впоследствии признать сам Наторп, увидевший за «логическим Платоном» еще и «божественного Платона».
Обращаясь теперь к самому «логическому идеализму», мы должны отметить несостоятельность его в ряде важнейших тем. П. П. Гайденко очень удачно формулирует основной вывод когеновской логики.
«Раньше считали, что наука есть лишь метод, с помощью которого исследуется что-то реальное; что наука — это способ исследования, это ответ на вопрос, как ведет себя реальное. Теперь, считает Коген, необходимо признать, что в действительности реален только этот метод, только этот способ, только это «как»; а то, что понимали под субстанцией, есть лишь некоторая метафора, правда, метафора необходимая, но от этого не обладающая никаким иным бытием, кроме как бытием в качестве предварительного условия отношений. Таким образом, то, что считали реальностью, оказалось только логическим постулатом, а действительной реальностью, оказались отношения, движение, метод».[56] Это значит: реальность логична, а логика реальна; все, что выпадает из указанного круга, обладает реальностью метафорического порядка. Любая вещь, любой природный объект ирреален в конкретном живом восприятии и реален в научной схеме; точка, линия, пунктир, числовые обозначения суть подлинная реальность; в них возникает объект, бывший до этого «лепетом» ощущений. Коген говорит о сознании, «напечатанном в книгах»; такая странная формулировка вполне понятна в свете вышесказанного — речь идет о реальном сознании. Можно было бы, вооружившись противоположной точкой зрения, предаться патетическому негодованию в позе эдакого жизнелюба, которому вместо жизни подсунули чертеж и для понимания собственных переживаний посоветовали изучать вариационное исчисление… Мы этого делать не станем, и не потому только, что таковой должна быть первая и мгновенная реакция оскорбленного ощущения, но и потому, что всякий реванш чувственности бьет здесь мимо цели. Коген предупредил, что имеет дело с наукой и силится объяснить именно ее; может быть, вне логики ощущению и дано играть роль восклицательного знака; в логике оно становится знаком вопросительным (ein Fragezeichen). Разговор, поэтому, должен вестись в сфере логики.
Первое возражение. Если отношению приписывается безусловная первичность, то каким образом оно порождает свои термины? «Логика первоначала» отвечает на этот вопрос, но ответ не исчерпывает вопроса. Отношение не онтологично; оно протекает в мышлении и, следовательно, обладает чисто логической природой, по Когену, и познавательной. Но если так, значит оно полагается мыслью, т. е. мысль об отношении первее самого отношения. Можно возразить, что у Когена это одно и то же: одно и то же то, что мыслит, и то, что мыслится. Каким же образом тогда сам он считает бытие продуктом мышления, если это одно и то же. Очевидно, что речь идет о логическом первенстве: мысль, будучи тождественной предмету, порождает-таки предмет, утверждая свой примат. В данном случае пусть порождением мысли будет само отношение, хотя бы как предмет рефлексии самого Когена; ведь мысля проблему отношения и печатая ее «в книгах», он тем самым порождает ее. Но порожденная, она есть уже познавательный результат, и положить ее в основу познания значит описать логический круг.
Второе возражение вытекает непосредственно из первого. Если мысль полагает отношение, то сделать это она может лишь предположив его термины: член и противочлен. Отношение есть всегда отношение между … Приписывая ему изначальность и безусловность, я лишаюсь самой возможности мышления о нем. Лишь наличие терминов (пусть в логически скрытом виде) позволяет мне мыслить его. Классический пример подобного круга являет нам проблема числа. Число мыслится марбуржцами как чистое отношение; Наторп в «Логических основаниях точных наук» выводит само понятие числа из понятия отношения. Это значит: число порождается отношением, отношение первее числа. Дальнейшая дедукция у Наторпа выполнена логически мастерски, но парадокс таится в самом начале. Отношение не может породить число, ибо само оно опирается на число. Любое отношение мыслимо при наличии члена и противочлена (как и любая мысль), но уже в самом этом наличии предположено число (два термина отношения), так что, порождая число, отношение само оказывается порожденным числом.[57]
Из этого следует, что понятие отношения не может претендовать на безусловную значимость. Функция, свергнувшая субстанцию, попыталась занять ее место, но безуспешно. Заслуга марбуржцев в том, что они действительно разоблачили старое метафизическое понятие субстанции; но замена одного абсолюта другим (на этот раз математическим) сказалась тяжкими последствиями. Занимая у математики ее метод и возводя его до ранга универсальности, «марбургская школа» самоопределилась как позитивизм, позитивизм высококачественный и стоящий неизмеримо выше всяческих венских и англосаксонских «кружков», но все же позитивизм, тот самый позитивизм, о котором справедливо отозвался Гуссерль, что он «обезглавил философию».[58] Философия, будучи философией науки, тем и отличается от своего объекта, что обладает собственным методом. Метод философии должен быть имманентным научному методу и трансцендентным ему в качестве метаметода; в противном случае исследование становится немыслимым. Но «марбургская школа» транспланирует в логику математический метод; «логика чистого познания» оказывается сконструированной по образцу математики; мы видели уже, что «суждение происхождения» — эта ариаднина нить когеновской теории — является результатом прямого перенесения инфинитезимального метода в сферу логики. Дифференциальное исчисление в логике порождает «логику первоначала», которая — парадоксально сказать! — выглядит в таком освещении математической метафорой, или переносом математической структуры по аналогии. Математика, следовательно, становится сама функцией объяснения и чистого познания; но если так, то объяснение самой математики натыкается на логическую ошибку idem per idem. Странно, с другой стороны, и конструирование логики по образцу одного исторического типа математики, именно: математического анализа. С последним связана когеновская идея «непрерывности», этого «закона мышления». Но наряду с анализом математика выдвигает и аритмологию, меняющую наши представления об универсальности анализа. Кризис «закона непрерывности» стал очевидным к концу XIX века в работах Георга Кантора; одновременно с Кантором и независимо от него кризис этот подчеркивает и крупнейший русский математик Н. В. Бугаев. Не имея возможности пускаться здесь в специальнейшие рассуждения, укажем лишь на некоторые выводы из них. Область аналитических непрерывных функций ограничена функциями прерывными; по Н. В. Бугаеву, сама непрерывность есть лишь частный случай прерывности, где изменение идет через бесконечно-малые промежутки. Таким образом, дифференцирование возможно лишь в пределах непрерывных функций, равно как и интегрирование. Но после теории групп стало ясным, что считать непрерывность основным признаком континуума у нас нет никаких оснований. Теория групп утверждает как раз обратное; если мощность группы непрерывных функций есть С, т. е. мощность континуума, то мощность всех функций есть Сс; при этом следует учесть, что, согласно доказательству первенства (А ›А) трансфинитных мощностей (А), Сс ›С, т. е. мощность прерывных функций превосходит непрерывность. Математический анализ оказывается вчерашним днем математики, и в этом смысле универсализация его в системе Когена выглядит в свете утверждения исторического подхода по меньшей мере странно.
Советскими иследователями давно уже отмечен основной недостаток когеновской логики: «логика чистого познания» приводит к логике откровенного агностицизма.[59] Это замечание справедливо в двояком смысле. «Логика чистого познания» агностична не только в плане оторванности от реального объективного (не в кантовском смысле) бытия, но и в буквальном значении. Агнозис есть ведь не только отрицание познаваемости, но и отрицание самого познания. В этом типичном математическом конструктивизме логических концептов отсутствует гнозис, познание. Предмет познания мыслится здесь как продукт познания; но если так, то единственным предметом познания должно стать само познание. Из всех «неокантианцев» на подобный шаг решился только Эмиль Ласк, попытавшийся проделать над Кантом операцию, аналогичную той, которую сам Кант проделал над Ньютоном. Как возможна логика чистого познания? — очевидно, что уже одна постановка этого вопроса, приведшая Ласка к проблеме эмпиризма (категории, как материал), сулила Когену «нечистые» последствия: трансцендентальный метод оказался бы эмпирией для какого-то другого метода. Короче: логика требует обоснования; логическая рефлексия, погружаясь в себя, ищет почвы. Разумеется, все зависит от степени погружения; для рефлексии, кичливо утверждающей себя в массовости ощущений и захлопнутой в папку «протокольных предложений», вопроса об обосновании не может быть; рост требовательности прямо пропорционален глубине познания. Мысль, реально испытующая эту глубину, наталкивается на порог. Последовательная фронда онтологии у марбуржцев порождает кризис самой логики. Отказавшись от действительности ощущений, рефлексия должна утвердить собственную действительность. Только это спасет ее от призрачного идеализма. Показать реальность рефлексии — этого не сделали марбуржцы; дойдя до логоса, Коген не дошел до онтоса; логика его начинается с меона, и, отрицательно начатая, она несет на себе печать этого происхождения во всем процессе развития, вплоть до самоотрицания.
Символически выражаясь, «критическая точка» логики марбуржцев — миг встречи Фауста с «Духом Земли» у Гете. Фаусту кажется, что перед ним его прообраз («Всегда, везде, в извечной смене смертей и рождений»), но Фаусту отвечает Дух: «Du gleichst dem Geist, den du begreifst, — nicht mir!» — «Ты равен духу, которого ты познаешь, — не мне!» Логика «марбургской школы» претендует быть образом духовной культуры и жизни; претензия вполне неоправданная, ибо дух, равный ей, — дух математического естествознания, ставший единственным ориентиром познания.
Математическое естествознание — величайшее достижение культуры: nihil certi habemus in nostra scientia, nisi nostram mathematicam (нет ничего достоверного в знании нашем, кроме нашей математики) — это, цитируемое Когеном, изречение Энея Сильвия могло бы стать исчерпывающим эпиграфом к «Логике чистого познания». Мы оставляем в стороне мнения самих математиков на этот счет; достаточно вспомнить расселовское определение математики, как доктрины в которой мы никогда не знаем ни о чем мы говорим, ни того, верно ли то, что мы говорим, чтобы раз и навсегда пошатнуть эту и без того уже пошатнувшуюся единственную достоверность в нашем знании. Мы обращаем внимание не на сущность (вопрос этот — особый и слишком самостоятельный), а на самый состав ее. Математическое естествознание — плюрализм методов, настолько многочисленных, различных, изменчивых, порою вовсе непримиримых и несхожих, что говорить от его лица вряд ли рискнул бы во времена Когена, а тем более сейчас, какой-нибудь ученый. Лица-то здесь и нет еще; есть отдельные штрихи, черты, части, невообразимое количество проб, требующее немедленной систематизации в цельность; идея интеграции наук выдвигается в наше время философами науки как едва ли не самая неотложная. Провозгласить этот огромный по масштабам и значимости черновик подлинного математического естествознания единственным ориентиром философии — не значит ли сделать самое ее черновой, непоправимо обезобразить ее релятивизмом, беспредметностью, культом метода и прочими временными издержками черновика? Философия нуждается в иной ориентации: не в ориентации-на, а в ориентации-от. Математическое естествознание, в свою очередь, нуждается в организации, в чистке, в осмыслении. Негативное определение математики у Рассела — слишком выразительный симптом, предостерегающий логику от подражательных красот. Не подражать должно познание, а отражать, и, отражая негативность, выражать позитивность. С другой стороны, математическое естествознание, при всей своей культурной значимости, ограничено собственной сферой: это — малый круг в круге большом, вернее сказать, один из кругов и отнюдь не единственный. Всякое обожествление науки, догматизация ее как верховного жреца культуры более губительны для нее, чем откровенный иррационализм, который, нежась в собственной по-восточному приправленной лени и отрицая науку, в конце концов добивается обратного эффекта, стимулируя поневоле интерес к научному познанию там, где лень не почитается за добродетель. Наряду с научным познанием существует целый ряд мощных культурных феноменов, столь же автономных, независимых и значимых; отвлечься от них и сосредоточиться на науке — все равно, что, желая увидеть лицо, отвлечься от всех черт его и сосредоточиться исключительно на носе. Может быть, ориентация и принесет блистательные плоды, но будет не лицо, а именно нос или, по счастливому выражению одного литературоведа, но-с, т. е. решительное возражение на претензию в целом. Узреть лицо культуры значит отказать в единственности какой-нибудь одной черте и признать таковую за всеми. Язык, миф, искусство характеризуют это лицо не в меньшей степени, чем наука. Кант ограничился вопросом о возможности науки; ему, вероятно, и в голову не приходила правомерность вопроса о возможности, скажем, мифа. «Марбургская школа» углубилась в детали кантовского ограничения: факт науки она заменила идеей научности. В этом отношении Кассирер оказался реформатором Марбурга; в других он остался учеником его.
ГЛАВА 3 ОТ КРИТИКИ РАЗУМА К КРИТИКЕ КУЛЬТУРЫ
ОБЩАЯ ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМЫ
Первый набросок «Философии символических форм» восходит, по признанию самого Кассирера, к «Познанию и действительности». Теперь, обращаясь от структуры математического и естественнонаучного мышления к проблемам гуманитарного (geisteswissenschaftlicher) порядка, он с самого же начала подчеркивает недостаточность общей теории познания, которая должна претерпеть решительное расширение, дабы четко различить существенные формы «понимания» мира во всем их многообразии и осмыслить каждую из них, исходя из соответствующей специфики феномена. Только с осуществлением такой «морфологии» духа становится возможным методическое исследование частных гуманитарных дисциплин. Речь идет, стало быть, о новом применении трансцендентального метода, где предметом его является уже не только объективность научного познания, но и сфера чистой субъективности, построяющей мир культуры. «Философия символических форм» обозначается, поэтому, Кассирером как общая теория духовных форм выражения, и лишь уяснив себе основные линии этой теории, мы можем обратиться к специфике самих форм.
ПОНЯТИЕ СИМВОЛИЧЕСКОЙ ФОРМЫ И СИСТЕМАТИКА СИМВОЛИЧЕСКИХ ФОРМ
Исходный пункт философской спекуляции, по Кассиреру, отмечен понятием бытия. Лишь с конституирования этого понятия, с обращения сознания от многоразличия существующего мира к вопросу о единстве бытия, всякое рассмотрение мира получает специфически философский характер. Мир становится проблемой, и мысль в своих начальных попытках разрешения этой проблемы впервые осознает всю сложность и громадность ее. Рассмотрение мира поначалу пребывает все еще в пределах сущего, и то, что обозначается как сущность или субстанция мирового целого, не выходит за рамки этого целого, но сводится к какому-то экстракту из него. Иными словами, гипостазируется какой-то ограниченный аспект сущего, из которого затем генетически выводится и которым затем «объясняется» все. Поначалу этот аспект связан еще с чувственным миром: он есть некое конкретное «первовещество», мыслимое как последняя основа мира явлений. Со временем объяснение устремляется к идеальному и вещество заменяется чисто мысленным «принципом». Но при ближайшем рассмотрении выясняется неустойчивость и этого «принципа»; он вынужден колебаться между «физическим» и «духовным»; будучи идеальным, он все же теснейшим образом связан еще с миром чувственного. «В этом смысле, — считает Кассирер, — число пифагорейцев и атом Демокрита, как бы велико ни было расстояние, отделяющее их от первовещества ионийцев, остаются неким методическим гермафродитом (Zwitterwesen), еще не обретшим в себе свою собственную природу и как бы не определившим еще себе свою подлинную духовную родину. Эта внутренняя ненадежность была окончательно преодолена лишь в учении Платона об идеях» (1.3). Существенное отличие Платона от досократиков сводится, по мысли Кассирера, к ясному осознанию изначальной предпосылки всякого философствования; бытие, которое в форме того или иного аспекта принималось в досократических учениях за исходный пункт, впервые получило у него проблематический характер. Уже в «Софисте» отчетливо прозначена тенденция исследования не структуры бытия, а его понятия и значения этого понятия. Тем самым, считает Кассирер, мышлению впервые открывается подлинное его назначение.
Эта греческая «модель» в явном или скрытом виде пронизывает не только всю историю философии, но и историю отдельных наук. И здесь поначалу путь ведет от «фактов» к «законам» и дальше к «аксиомам», но сами эти аксиомы, которые на определенной ступени познания исчерпывают задачу мышления, непреложно проблематизируются в дальнейшем ходе мысли. Основные понятия всякой науки, ее познавательные средства выглядят уже не как пассивные отображения Данного бытия, но как самосотворенные интеллектуальные символы. Для характеристики понятия «символ» Кассирер обращается к «Принципам механики» Генриха Герца, где на первой же странице говорится о «внутренних мнимых образах, или символах» (innere Scheinbilder oder Symbole), которые мы образуем себе при наблюдении внешних предметов. Развивая мысль Герца, Кассирер подчеркивает в символе не побочный и вовсе не обязательный момент содержательного сходства между образом и вещью, но выражение логической связи. Значимость его котируется способностью утверждать единство явлений; предмет научного познания не может существовать независимо от категориального аппарата; тогда он не имел бы никакого отношения к науке. Но именно в свете этого отношения логика конституирует форму предмета; по Герцу, основные понятия механики, понятия массы и силы, суть мнимые образы, сотворенные логикой природопознания. Поэтому, подчеркивает Кассирер, наука уже уяснила себе иллюзорность надежды на «непосредственное» постижение мира. Для научного сознания беспрекословен тот факт, что всякая объективация, имеющая место в науке, есть по сути дела посредничество и должно оставаться таковым. Но если так, то задачей критики познания является уже не безнадежное ахиллесово стремление настичь черепаху бытия, а исследование самих интеллектуальных символов, посредством которых различные дисциплины наблюдают и описывают эту «черепаху». Должно ли мыслить их как простую рядоположность, или они могут быть осмыслены как различные проявления одной и той же основной духовной функции? В последнем случае возникает новая проблема установления общих условий этой функции и уяснения ее принципа. Вместо вопроса об абсолютном единстве субстанции бытия, столь характерного для догматической метафизики, появляется новый вопрос о правиле, охватывающем и соединяющем конкретное многообразие познавательных функций без ущерба для каждой из них.
Именно здесь, по мысли Кассирера, проясняется подлинная природа познания как такового. Оно — оформление многообразного, подчиняющееся специфическому и в то же время строго самоограниченному принципу. В конечном итоге, цель всякого познания состоит в подведении многообразного под единство «закона основания». Единичное не может оставаться единичным; оно должно вступить в связь и стать сочленом логической, телеологической или каузальной системы. Только в этом возвышении особенного до универсального свершается миссия познания. Но наряду с формой интеллектуального синтеза, построяющего систему научных, отношений, целостность духовной жизни содержит, по Кассиреру, и другие формы синтеза, которые, будучи также способами «объективации», или средствами подведения индивидуального под общезначимое, достигают своей цели иными внелогическими путями. Логика мыслится Кассирером как переменная величина изначальной функции сознания; наряду с ней существуют и другие отличные от нее величины той же функции. Здесь мы встречаемся с центральным положением «Философии символических форм». Познание специфично; говоря языком школьной логики, оно — вид, занимающий свое особое место в градации прочих видов; родовым признаком для всех этих видов является творчество. Функция отнюдь не заключается в пассивном выражении наличного; она несет в себе самостоятельную духовную энергию, благодаря которой наличное впервые получает «значение». Это правомерно в отношении как познания, так и искусства, мифа, религии. Образные миры последних суть порождения специфических функциональных актов. И если их символические оформления не однородны с интеллектуальными символами, то они равноценны им по своему духовному происхождению. «Они, — говорит Кассирер, — не различные способы, открывающие духу нечто в себе действительное, но пути объективации, т. е. самооткровения духа. Понять искусство и язык, миф и познание в этом смысле значит выявить в них общую проблему, открывающую доступ к общей философии гуманитарных наук» (1.9).
Таким образом, критическая философия, по Кассиреру, связана не только с логической функцией суждения, но и с каждым принципом духовного оформления.
«Основной принцип критического мышления, — мы уже приводили эту фразу в самом начале нашей работы, — принцип «примата» функции над предметом, приобретает в каждой отдельной области новый вид и требует всякий раз нового и самостоятельного обоснования» (1.10). Наряду с чистой функцией познания Кассирер перечисляет функцию языкового мышления, функцию мифически-религиозного мышления и функцию художественного созерцания. Совокупным анализом всех этих функций и исчерпывается задача критической философии. «Критика разума, — говорит Кассирер, — становится тем самым критикой культуры» (1.11). И если центральным положительным вопросом критики разума был у Канта вопрос о возможности математики и математического естествознания, то центральный вопрос критики культуры сводится к вопросу о возможности всякого содержания культуры. Философское мышление охватывает все направления культуры и силится свести их к единому средоточию, к идеальному центру, природа которого не онтологична, а проблематична. Звенья культуры выглядят в таком охвате членами некоей единой проблемной связи; цель их в преобразовании пассивного мира простых впечатлений в мир чистого духовного выражения.
Для объяснения указанной связи Кассирер обращается к философии языка. Гумбольдтианская идея «внутренней формы языка» получает у него универсально культурное значение; аналогичную форму, считает он, следует искать во всех феноменах культуры. «Внутренняя форма» мыслится здесь не как сумма или ретроспективное соединение отдельных факторов культурных доминионов, но как закон их построения. В истории философии эта задача носила преимущественно негативный характер. Еще со времен греческой софистики существует скептическая критика языка; не избежали этой участи также и миф и познание. Но, с другой стороны, история являет нам и попытки философской систематики духа, где каждая специфическая форма приобретает смысл в установленных ей пределах. Кассирер отмечает в этой связи Декарта, одновременно подчеркивая ограниченность его рационализма. Декарт, а вслед за ним и весь рационализм, сводит систематику духа к мышлению; чистая форма логики возвышается им до прототипа и прообраза всякого духовного бытия. Эта тенденция кульминируется в гегелевской «Феноменологии духа». «Требование мыслить целостность духа как конкретную целостность, т. е. не оставаться при его простом понятии, но развить его в целокупность его манифестаций, Гегель выдвинул с такой остротой, как не удавалось еще ни одному из предшествовавших ему мыслителей» (1.15). Но и здесь феноменология принесена в жертву логике; последняя цель ее — удобрить собою почву логики. Таким образом, из всех духовных форм только форма логического наделяется подлинной автономией; остальные существуют как моменты. С другой стороны, рационализму противостоит эмпиризм, исследующий отдельные формы во всем их объеме и особенностях, но располагающий их в рядоположность, лишенную общего идеального содержания. Здесь возникает дилемма. Если придерживаться логического единства, то особенность каждой отдельной сферы и своеобразие ее принципа рискуют раствориться во всеобщности логической формы. С другой стороны, погружаясь в индивидуальное, мы рискуем утерять путь ко всеобщему. Выход из этой методической дилеммы для Кассирера один: следует обнаружить такой момент, который, будучи присущим всем формам, проявляется в каждой из них на различный лад. Иными словами, момент инвариантности в многообразных вариациях. Диалектически говоря: тождественность различного. Только в этом случае, говорит Кассирер, можно было бы утвердить идеальную связь отдельных сфер без ущерба для несравнимого своеобразия каждой из них. Речь идет, стало быть, о нахождении медиума, через который проходит всякое оформление; задача критики познания расширяется здесь до задачи критики культуры. Последняя была бы осуществима лишь через указание среднего члена, аналогичного среднему члену трансцендентальной критики познания, но перенесенного на универсальность культурных форм. Так формулирует Кассирер ближайшую свою задачу.
ОБЩАЯ ФУНКЦИЯ ЗНАКА. ПРОБЛЕМА ЗНАЧЕНИЯ
Необходимо вновь обратиться к понятию символа, выдвинутому Генрихом Герцем с точки зрения физики. Основную задачу физики Кассирер усматривает в обнаружении необходимой связи между явлениями. Но, с другой стороны, сама эта связь может быть установлена не иначе, как путем максимального удаления от непосредственного мира чувственных впечатлений. Физические понятия пространства и времени, массы и силы, материальной точки и энергии, атома и эфира в этом смысле «суть свободные образы, набрасываемые познанием, дабы овладеть миром чувственного опыта и обозреть его как законно-упорядоченный мир, которому, однако, непосредственно не соответствует ничего в самих чувственных данных» (1.17). Каждое отдельное понятие, каждый особенный образ и знак уподобляются Кассирером артикулированному слову некоего осмысленного и расчлененного по строгим правилам языка. Он напоминает в этой связи известное изречение Галилея о «книге природы», написанной на математическом языке. Отсюда следует вывод: общее развитие точного естествознания показывает, что всякий прогресс в постановке проблем связан с утончением и уточнением системы знаков. Так, например, основные понятия галилеевской механики лишь тогда приобрели окончательную значимость, когда с помощью алгоритма дифференциального исчисления удалось определить как бы общелогическое место их и создать общезначимое математико-логическое их обозначение. Кассирер ссылается на Лейбница, замыслившего проект грандиозной «универсальной характеристики», охватывающей все сферы научного знания и интегрирующей их. По Лейбницу, логика вещей, т. е. содержательных понятий и отношений, на которых зиждется всякое научное построение, не может быть отделена от логики знаков. Ибо знак — не случайная оболочка мысли, но ее необходимый и существенный орган. Это значит: нет готового содержания мысли и выражающего его знака. Знак сам творит это содержание и определяет его. В одной из более поздних статей («Язык и построение предметного мира» 1932) Кассирер поясняет эту основополагающую для всей «Философии символических форм» мысль яркой ссылкой на Генриха фон Клейста — «не случайно, по-видимому, — пишет он, — что эта… изначальная характерная способность языка, почти всегда неведомая чистым теоретикам или пренебрегаемая ими, получила свое наияснейшее выражение и определение в мысли поэта».[60] Клейст пародирует французскую пословицу «аппетит приходит во время еды» словами: «идея приходит во время речи». «Мне вспоминается, — продолжает он, — «громовая вспышка» Мирабо, с помощью которой он выпроводил церемониймейстера после закрытия последнего королевского заседания 23 июня, когда король предъявил требование о роспуске Штатов. Церемониймейстер вошел в зал заседаний, где еще находились Штаты, и спросил, слышали ли они требование короля. «Да, — ответил Мирабо, — мы слышали требование короля». Я уверен, что в этом умеренном начинании он не думал еще о штыках, которыми ему пришлось завершить свой ответ. «Да милостивый государь, — повторил он, — мы слышали его» — видно, что он еще не совсем знает, чего он хочет. «Но кто дает вам право, — продолжил он, — и внезапно в нем взрывается кладезь невероятных представлений — предъявлять нам требования? Мы — представители нации». Вот что ему было необходимо — «Нация предъявляет требования, а не получает их!» — чтобы взнестись на вершину дерзости. «И чтобы объясниться с вами яснее…» — только здесь находит он выражение для всего сопротивления, вооружавшего его душу: «Пойдите и скажите вашему королю, что мы покинем свои места лишь силою штыков!».[61] Язык, резюмирует Клейст, не препятствие, не палка в колесе духа, но «как бы второе колесо, несущееся вровень с первым на одной оси».[62] Это «счастливое сравнение» (как называет его Кассирер) играет фундаментальную роль в «Философии символических форм», охватывая все виды знаков. Строгое и точное мышление, утверждает Кассирер, находит опору лишь в символике и семиотике; всякий «закон» открыт мышлению не иначе, как через общую «формулу», но сама формула возникает* лишь в связи общих и специфических знаков. Без этих: универсальных знаков, применяемых в арифметике и алгебре, невозможно было бы выразить ни один естественный закон.
Предложенный пример, по мысли Кассирера, не ограничен только сферою науки; он простирается и на другие формы духовного творчества. И в них сохраняет силу положение, что всякая оформленность приобретается лишь через определенный чувственный субстрат. Последний играет столь важную роль, что, казалось бы, включает в себя и «смысл» самих форм. Можно определить язык как систему фонетических знаков, а миф и искусство исчерпываются миром особых, чувственно-постижимых структур. Стало быть, именно в знаке нам дан всеобъемлющий медиум, скрещивающий многоразличие духовных образований; именно в совокупности чувственных знаков познается идеальная форма духа. И если бы удалось осуществить систематический обзор различных знаковых структур, указать их типичные и сквозные черты, их особенные оттенки и внутренние различия, то лейбницевский идеал «универсальной характеристики», ограниченный самим Лейбницем в пределах только познания, был бы распространен на всю полноту духовного созидания. «Мы обладали бы тогда, — говорит Кассирер, — своего рода грамматикой символической функции как таковой, посредством которой были бы охвачены и взаимо-определены ее особенные выражения и идиомы, как они являются нам в языке и искусстве, в мифе и религии» (1.18–19). Идея подобной грамматики расширила бы традиционную философию, искони противопоставлявшую чувственному миру мир интеллигибельный и проводившую границу между ними, так что в одном господствовала пассивность чувственного, а в другом спонтанность духовного. По Кассиреру, только символизм способен устранить это противопоставление. Ибо символическая функция образует между обоими мирами новую форму корреляции. И поскольку чистая функция духовного должна искать свое конкретное осуществление именно в чувственном, метафизический дуализм утрачивает всякую правомерность. Но аналогичная участь ожидает и догматический сенсуализм, ибо в самом чувственном следует строго различать «реакцию» и «акцию», сферу «впечатления» и сферу «выражения». Сенсуализм в этом смысле обречен не только на принижение значимости чисто интеллектуальных факторов, но и на непонимание самой чувственности во всей полноте ее понятия. Он ограничивает ее данностью простых ощущений и не ведает, что возможна и активность чувственного, то, что Гете назвал однажды «точной чувственной фантазией». Так, например, уже процесс образования языка показывает, как хаос непосредственных впечатлений проясняется для нас в акте «наименования». Мир впечатлений получает здесь новый вид, новую духовную артикуляцию. Аналогичное встречает нас в мифе. Чистая активность духа, созидающая различные системы чувственных символов, приобретает таким образом объективное значение. Этот путь характеризуется Кассирером как обращение от вещественного к функциональному, и знак играет здесь первейшую и необходимую роль. Он — первая стадия объективности. Содержание, с которым он связан, выступает в нем совершенно видоизмененным. Ибо знаку присуще идеальное значение. Он — представитель совокупности возможных содержаний, которые благодаря символической функции сознания организуются в замкнутое и устойчивое единство формы.
Отсюда, по Кассиреру, вытекает ряд следствий, образующих методологическую основу его концепции. Субъективное и объективное бытие не противостоят изначально друг другу, но приобретают определенность лишь в процессе познания. Категориальное разъятие «я» и «не-я» есть функция теоретического мышления. Но конструкция действительности — прерогатива не только науки; язык, миф, искусство подчинены этой же задаче, которая обладает не меньшей правомерностью, чем в науке. Все эти формы суть функции, осуществляющие своеобразное построение бытия. Кассирер особо подчеркивает важность различия этой функций. Понятия истины и действительности в науке строго отличаются от аналогичных понятий в искусстве или в религии. Значимость каждого должна быть измерена в пределах собственных масштабов, и только после этого следует поставить вопрос об их систематике. Но именно здесь исследователя ожидает ряд теоретико-познавательных и методологических трудностей, которые он должен прояснить, прежде чем приступить к конкретному анализу отдельных форм.
(Проблема «репрезентации» и построение сознания. — Первая и наиболее существенная трудность формулируется Дассирером в вопросе: каким образом отдельное чувственное содержание может стать носителем общего идеального «значения»? Уже простой анализ чисто фактического, материального состава любой символической формы, дескрипция знаков в их физической данности не ведет нас дальше совокупности особенных ощущений зрительных, слуховых или осязательных качеств. Но происходит чудо, и эта простая чувственная материя обретает новую и многообразную духовную жизнь через самый способ ее рассмотрения. Когда физический звук, который как таковой различается лишь по высоте, интенсивности и качеству, превращается в языковый звук, он тем самым становится выражением тончайших мысленных и чувственных оттенков. Его непосредственная данность полностью отступает здесь перед опосредованностью его свидетельства. Аналогичное имеет место в искусстве. Ни одно художественное образование не может быть понято как сумма его элементов; каждый элемент художествен лишь поскольку в нем действует закон и специфический смысл эстетического формообразования. Такова, по Кассиреру, природа всякого синтеза: чувственные содержания получают смысл исключительно в организующей их целостности сознания. Единство сознания рассматривается при этом как ряд изначальных отношений, представляющих собою своеобразные и независимые «способы» связи. Кассирер перечисляет некоторые из них. Это — момент рядоположности, являемый формой пространства, момент последовательности, являемый формой времени, связь определений бытия, где одно понимается как «вещь», а другое как «свойство», или так, что одно выглядит причиной другого и т. д. Понять эти отношения значит понять конституцию сознания и связь чувственного и идеального. Кассирер объявляет тщетными все усилия сенсуализма вывести указанные отношения из непосредственного содержания отдельных впечатлений. «Из пяти следующих друг за другом нот флейты «получается», быть может, согласно известной психологической теории Юма, представление времени, но этот результат возможен лишь в том случае, если характерный момент отношения и порядка «последовательности» уже молча содержится в отдельных нотах и, стало быть, время в своей общей, структурной форме уже предполагается» (1.27–28).
Это значит: восприятие предваряется отношением; синтез предшествует единичному. Но и сами формы связи могут быть поняты лишь через более высокий синтез. Эту проблему Кассирер находит уже у Платона («χοιν-ωνία των γενων» в «Софисте»), и с той поры, полагает он, она не перестает беспокоить философскую мысль. Существуют, заявляет он далее, два решения ее: критическое и метафизически-спекулятивное. Различие их в том, что они предполагают различное понятие «общего». Критика познания восходит к понятию аналитически-общего; метафизика — к понятию синтетически-общего. В одном случае дело идет о соединении множества возможных форм связи в понятие высшей системы, в другом — о попытке выведения тотальности всех форм из одного изначального принципа. И если в последнем случае допускается лишь один исходный пункт и один конечный пункт, которые связаны и опосредованы друг с другом через сплошное применение одного и того же методического принципа в синтетически дедуктивном ходе доказательства, то другой случай требует множества различных «измерений» рассмотрения. Здесь перед исследователем встает новая трудность — объяснение этих «измерений».
Прежде всего, считает Кассирер, следует различать то, что может быть обозначено как качество и модальность форм. Под качеством определенного отношения он понимает особый род связи, которым она творит в сознании ряды, подчиняющиеся специальным законам упорядоченности их членов. Таким качеством является, например, форма симультанной связи, противопоставленная форме сукцессивной связи (также самостоятельное качество). Но, с другой стороны, одна и та же форма отношения может, испытав внутреннее превращение, оказаться в другой связи форм. Кассирер особенно настаивает на этом факторе, как важнейшем для понимания проблемы: каждое отдельное отношение — без ущерба для специфики — принадлежит всегда некоей смысловой целостности. Так, например, общее отношение «времени» является как элементом теоретического познания, так и существенным моментом эстетического сознания. Но очевидно, что время в Ньютоновой «Механике» и время в музыкальном произведении не имеют друг с другом ничего общего, кроме единства наименования — и все же последнее заключает в себе и единство значения, поскольку и в том и в другом наличествует общее и абстрактное качество «последовательности» (хотя и в особых модусах). Аналогичный пример Кассирер приводит и в связи с пространственными формами. Определенные комплексы линий и фигур, являясь в одном случае художественным орнаментом, а в другом — геометрическим чертежом, представляют совершенно различный смысл одного и того же материала. Единство пространства в эстетическом созерцании и в геометрической аксиоматике суть различные величины. В одном случае значима модальность художественной пространственной фантазии, в другом — модальность логико-геометрического понятия. Пространство в геометрии — совокупность зависимых друг от друга определений, мыслимых как система «оснований» и «следствий»; в искусстве оно — целостность, схватываемая в динамической пронизанности отдельных моментов. Если при этом учесть, что существует и мифическое пространство, отличное от прочих, то проблема модальности, по Кассиреру, приобретает существеннейшее значение. Ибо конкретная характеристика любой формы отношения требует не только указания на ее качество, но и на всю систему форм. Поэтому, если схематически обозначить различные формы отношений (пространство, время и т. д.) как R1, R2, R3…, то к каждой из них принадлежит еще «индекс модальности» μ1, μ2, μ3…, указывающий специфику их функциональной связи, поскольку каждая такая связь (язык, миф, и т. д.) обладает собственным конститутивным принципом, налагающим, по выражению Кассирера, «как бы свою печать на все особенные структуры» (1.31). Отсюда образуется чрезвычайное множество формальных связей, которые могут быть поняты лишь в точном анализе каждой отдельной формы. Но сам анализ возможен, по Кассиреру, лишь в своей соотнесенности с тотальностью всех форм. Ибо существенным моментом сознания является то, что в нем не может быть ни одного содержания, не предполагающего комплекс других, содержаний. Кассирер вспоминает в этой связи формулировку проблемы каузальности Кантом в сочинении об отрицательных величинах: как понять, спрашивает Кант, что поскольку есть нечто, должно быть одновременно и нечто другое, совершенно от него отличное. Догматическая метафизика с ее исходным пунктом абсолютного бытия не в состоянии, по мнению Кассирера, ответить на этот вопрос. От понятия субстанции нет необходимого перехода к многообразию явлений. Даже у Спинозы переход от субстанции, которая in se est et per se concipitur, к ряду отдельных и изменчивых Modi является не столько следствием дедукции, сколько заманивания обманным путем (wird… nicht sowohl deduziert, als vielmehr erschlichen). Но такова извечная дилемма метафизики. Исходя из понятия абсолютного бытия, она должна либо серьезно придерживаться этого понятия, и тогда отношения пространства, времени, причинности и т. д. рискуют выглядеть иллюзорными, либо, признавая эти отношения, ей следует ввести их в бытие как нечто внешнее и случайное.
Преодоление метафизики, считает Кассирер, возможно лишь в том случае, когда «содержание» и «форма», «элемент» и «отношение» с самого начала мыслятся не как самостоятельные определения, но как совместно данные и взаимно определенные. Каждое качество сознания имеет смысл лишь поскольку оно одновременно мыслится в сквозном единстве и в сквозной обособленности от других качеств. Функция этого единства и различия не отделена от содержания сознания, но представляет собою одно из его существенных условий. Поэтому, утверждает Кассирер, в сознании нет «чего-либо», без того, чтобы не было «другого». Ибо каждое отдельное состояние сознания получает свою определенность лишь через то, что в нем одновременно репрезентируется в какой-либо форме все сознание. Только в этой репрезентации возможна данность и презентативность содержания. Кассирер рассматривает в этой связи три примера единства сознания. Мы вкратце изложим их не только в силу их исключительной важности, но и потому, что здесь предварен конкретный анализ символических форм.
Первый пример связан с единством времени. Нет ничего более достоверного в сознании, утверждает Кассирер, чем непосредственность презентативного, обозначаемого как «теперь». Прошлого «уже нет» в нем, будущего «еще нет»; то и другое не принадлежат к собственной актуальности сознания, но распыляются в чистые мысленные абстракции. Но, с другой стороны, верно и то, что содержание, обозначаемое нами как «теперь», есть не что иное, как непрестанно текучая граница, отделяющая прошлое от будущего. И эта граница не может быть установлена независимо от того, что она ограничивает; она — более того — существует лишь в самом акте разграничения и бессмысленна в отрыве от него. Отдельное временное мгновение обладает смыслом лишь в той мере, в какой оно является переходом от прошлого к будущему, от уже-нет к еще-нет; всякое субстанциональное рассмотрение, берущее «теперь» как абсолют, абсурдно; понятное так, «теперь» является уже не элементом времени, а его отрицанием, ибо оно как бы задерживает движение времени и уничтожает его. На этом абсурде зиждутся апории элейцев. Но понять время значит мыслить каждое его мгновение в связи с целым. Весь временной ряд — вспять и вперед — репрезентируется в каждом своем элементе; иначе немыслимы оба; иначе время иллюзорно.
Второй пример относится к единству пространства. Изначальная функция репрезентации, по Кассиреру, действенна и здесь. Прежде всего, следует учесть: всякое понимание пространственного «целого» предполагает образование общего временного ряда; симультанный синтез сознания возможен лишь на основе сукцессивного синтеза. Между тем, ни английская сенсуалистическая психология, ни метафизическая психология Гербарта, считает Кассирер, не смогли понять, каким образом из сознания временной связи возникает связь пространственная — как из простой последовательности зрительных, осязательных и мышечных ощущений или из комплекса элементарных представлений образуется сознание «совместности». Последнее так и остается навсегда загадкой, если не мыслить целое в элементе, а элемент в целом. К пространственному созерцанию можно придти лишь через соединение группы чувственных восприятий в одно представление, но само это соединение возможно лишь в силу единства представления. Таким образом, в каждом пространственном элементе наличествует уже бесконечность возможных направлений (образ выглядит здесь как возможное движение, а движение как возможный образ), и только совокупность этих направлений образует нам пространственное созерцание. Понятое так, пространство уже не есть вместилище как бы готовых «вещей»; оно — совокупность функций, разносторонне дополняющих и определяющих друг друга. Подобно тому, как временное «теперь» заключает в себе одновременно прошлое и будущее, так и в пространственном «здесь» наличествует вся возможная топика. Отдельное место бессмысленно до и вне системы мест; оно дано в коррелятивном отношении к ней.
Третий пример единства возвышается над пространственной и временной формой. Это — форма предметной связи. Она «снято» содержит в себе как рядоположность, так и последовательность; понятие устойчивой вещи немыслимо без этих отношений. Но сюда добавляется и новый самостоятельный элемент, оспариваемый эмпирическим анализом познания, который в мысли о вещи усматривает лишь внешнюю форму связи, как если бы содержание и форма предмета исчерпывались суммой его свойств. В этом, по Кассиреру, основной недостаток эмпиризма. «Когда Юм, — пишет он, — объясняет «я» как «пучок восприятий», это объяснение — уже не говоря о том, что в нем устанавливается лишь факт связи вообще и ничего не говорится об особой форме и типе синтеза «я», — само упраздняет себя уже потому, что понятие «я», которое подвергается мнимому анализу и разлагается на свои составные части, полностью и неразложимо содержится в понятии восприятия». (1.36). Эмпиризм, по Кассиреру, не учитывает вовсе того обстоятельства, что единичное восприятие становится таковым лишь в силу своей принадлежности к «я» и что, стало быть, последнее возникает не задним числом из соединения множества восприятий, но изначально присутствует в каждом из них. Аналогичное отношение имеет место и в предметном анализе «вещи» и ее «свойств». Соединяя, например, ощущения протяженного, сладкого, шероховатого и белого в представление «сахара», как некоей единой «вещи», следует помнить, что такое соединение возможно лишь оттого, что мы с самого начала мыслим каждое из этих отдельных свойств в функции целого. Но и сами отношения времени, пространства и предметной связи принадлежат в свою очередь к некоему первоначальному комплексу и выражают — по-своему — правила этого комплекса. Лишь общность этих выражений образует единство сознания как единство времени, пространства, предметной связи и т. д.
Особенно интересна в этом отношении у Кассирера критика традиционной сенсуалистической психологии, понимавшей связь как простую ассоциацию впечатлений. Термин «ассоциация», считает Кассирер, охватывает отношения без учета различия их качеств и модальностей; в нем отмечен лишь голый состав связи и стерта всяческая специфика. Между тем, пути, которыми сознание осуществляет свои синтезы, неисчислимы. Очевидно, что, имея элементы a, в, с, d и т. д., мы имеем одновременно строго дифференцированную систему функций F(а, в), φ(с, d) и т. д., в которых выражается их связь, полностью нивелируемая в ассоциации. Кроме того, содержания ассоциации, при всей видимой связи их, остаются все же разъятыми, ибо целое здесь возникает из частей. Но сознание строится не ассоциативно, а интегративно. Мощные математические парадигмы уже здесь привлекаются Кассирером против допотопно психологических предрассудков. «Элемент сознания относится ко всему сознанию не как экстенсивная часть к сумме частей, но как дифференциал к своему интегралу. Подобно тому, как в дифференциальном уравнении движения само движение выражается по своему ходу и общему закону, так и общие структурные законы сознания должны мыслиться нами в каждом его элементе, в каждом поперечном разрезе, — не в смысле собственных и самостоятельных содержаний, а как тенденции и направления, наличествующие уже в чувственно-единичном» (1.40). Структура сознания, можно сказать, изоморфна структурам частных синтезов его. Если сознание мгновения содержит в себе уже указание на весь временной ряд, если сознание какого-нибудь пространственного места указует уже на пространство как таковое, то и в каждом элементе сознания присутствует вся полнота отношений. Не из суммы своих чувственных частей (а, в, с, d…) строится «интеграл» сознания, но из общности дифференциалов своих отношений и форм dг1, dг2, dг3…). Только так, заключает Кассирер, можно ответить на вопрос Канта: как понять, что поскольку есть одно, должно быть и другое. Ибо не существует никакого абстрактного «одного», которому противостояло бы абстрактное «другое»; одно всегда есть «во» многом, а многое «в» одном — в том смысле, что они взаимно обусловливают и репрезентируют друг друга.
ИДЕАЛЬНОЕ ЗНАЧЕНИЕ ЗНАКА. ЗНАК, КАК ТВОРЧЕСТВО
Анализ репрезентативной функции сознания связан с исходными «основаниями» проблемы знака. Кассиреру остается еще рассмотреть эту проблему в конкретности культурной специфики. Понять культурную символику, явленную в «произвольных» знаках языка, искусства, мифа, значит, по его мнению, взойти к «естественной» символике, к той предсавленности всего сознания, которая по необходимости содержится уже в каждом отдельном моменте его. В противном случае функционирование этих знаков-посредников оставалось бы загадкой. Невозможно понять, каким образом физически-чувственный языковой звук становится носителем идеального значения, если не учесть, что основная функция значения задана уже до полагания отдельного знака. Именно потому, что каждое содержание сознания находится в решетке самых различных отношений, благодаря которым оно, не переставая быть самим собою, одновременно заключает в себе указание на прочие содержания, должны быть и такие образования сознания, где эта чистая форма указания как бы чувственно воплощается. Отсюда, полагает Кассирер, можно заключить о двоякой природе этих образований, связанных с чувственным и одновременно свободных от него. В каждом знаке наличествует идеальное содержание, которое в чувственной форме продолжает оставаться независимым и автономным. И если в «естественной» символике, характеризующей основания сознания, наличествует всегда состав сознания, каждая часть которого в состоянии предстательствовать за целое, то в «культурной» символике, напротив, сами знаки порождаются лишь значением. Сознание здесь не нацелено на данность элементов, но впервые творит конкертночувственные содержания для выражения значения. Так, например, связывая какое-то данное созерцание с каким-то произвольным языковым звуком, мы изменяем тем самым его характер. Символическая «репродукция» данности преобразует данность в акте «продукции», ибо задачей языка является не повторение представления, а оформление его. Кассирер подчеркивает наряду с различными типами этого оформления и общий характер его: продукт — будь, это языковой, мифологический или научный продукт — никоим образом не схож с первоначально данным материалом.
«Так, — читаем мы, — в основной функции знакодательства (Zeichengebung) вообще и в различных ее направлениях впервые доподлинно различаются духовное и чувственное сознание. Впервые здесь вместо пассивной отданности какому-то внешнему бытию появляется самостоятельная чеканка этого бытия, благодаря которой оно выступает перед нами в различных сферах и формах действительности. Миф и искусство, язык и наука в этом смысле суть чеканщики бытия» (1.43).
Противоположная точка зрения, усматривающая в знаке и содержании созерцания или представления связь копии и оригинала, считается Кассирером несостоятельной "и открывающей широкие возможности всяческому скепсису и отрицанию. Если задача языка сводится к выражению уже готовой и созерцательно данной нам действительности через посредство языкового звука, то не может быть никаких сомнений в том, что задача эта остается для языка недостижимой. Противопоставленные неохватному многообразию зримого мира, языковые символы должны выглядеть пустыми, туманными и абстрактными знаками. Таковыми и считаются они в скептической критике языка — от греческих софистов до Бергсона. Вот характерная для этой критики выдержка из Бергсона: «Каждый из нас имеет свою манеру любить и ненавидеть, и эта любовь, эта ненависть полностью отражают его личность. Однако язык обозначает эти состояния одними и теми же словами у всех людей; он способен фиксировать лишь объективный и безличный аспект любви, ненависти и тысячи чувств, волнующих душу».[63] Эта точка зрения, столь естественная и кажущаяся безоговорочной нефилософскому сознанию, подлежит самой решительной критике. Досужие остроты типа талейрановского афоризма о языке, который дан нам, чтобы скрывать наши мысли, зиждятся на некритическом разъятии мысли (готовой!) и языка. Можно, конечно, допустить частную и фактическую правомерность приведенного афоризма Талейрана; ему, как дипломату, приходилось едва ли не всю жизнь говорить, скрывая мысли; но ведь речь идет не о дипломатической технике и не о жизненных ситуациях, где вольно или невольно приходится говорить, скрывая мысли, а о принципиальной сути языка. Скрываемая мысль, если она осознана, уже словесна, и, стало быть, проблема сводится к жонглированию словами. Что касается бергсоновских «любвей» и «ненавистей», порочность этой позиции очевидна хотя бы потому, что она опирается на отдельные слова, а не на выражения. Анализ показывает, что каждое языковое выражение не обозначает уже готовые состояния, но впервые создает их. Можно вспомнить приведенный выше рассказ Клейста и привести десятки аналогичных ситуаций. Вот изумительный пример возникновения переживаний в слове:
И Шуберт на воде, и Моцарт в птичьем гаме,
И Гете, свищущий на вьющейся тропе,
И Гамлет, мысливший пугливыми шагами,
Считали пульс толпы и верили толпе.
Быть может, прежде губ уже родился шепот,
И в бездревесности кружилися листы,
И те, кому мы посвящаем опыт,
До опыта приобрели черты.
(О. Мандельштам)
Могут возразить, что это поэзия и исключение из правила. «С помощью ритмических аранжировок слов, — признает и Бергсон, — художники говорят нам или, скорее, они нам внушают вещи, которые язык не был в состоянии выразить».[64] Но это не исключение из правила, а совершеннейшая форма его. Разница между поэтическим выражением типа вышеприведенных стихов и каким-нибудь иным не качественная, а модальная. С этой точки зрения и примитивнейшие языковые обороты, если они говорятся не «впустую», а имеют за собой хоть какой-то личный и душевный фон, творят состояния, адекватные себе (дело идет не об оценке этих состояний, а о принципиальной возможности их). Позиция Бергсона потому и кажется на первый взгляд столь приемлемой, что в ней находит себе опору неистребимый мистический предрассудок, поддерживаемый поэтами, чей словарь переполнен междометиями, и теми глубокомысленно воздыхающими любительницами поэзии, которые — «очарованные души»! — вращаясь в колесе из двух-трех сотен слов, делают себе карьеру на — ах! — душевных «невыразимостях». Цена этим «невыразимостям» грош; весьма удобно сваливать с больной головы на здоровую и обвинять язык там, где языку нечего делать: сетовать на то, что нечем сказать, тогда как по существу нечего сказать. Все это, впрочем, дела нефилософские. Возвращаясь к Кассиреру, должны мы заметить, что его критика лингвистического скептицизма имеет несомненные подтверждения в психологии мышления, установившей глубинную словесность (Worthaftigkeit) любого рода и сколько-нибудь осознанных переживаний. Этот факт следует строго отличать от языковой практики с ее так называемыми трудностями адекватного выражения. Словесность переживания и актуальное его высловление суть различные величины; адекватность их вполне редкий случай, но это — дефект не языка как такового, а языкового субъекта; творческая неудовлетворенность коренится не в «безличных» словах, а в неумении подобрать им нужное место. В конце концов, «одними и теми же» словами выражали свои состояния Пушкин и бездарно влюбленный гимназист, но фиксировался, вопреки Бергсону, отнюдь не «объективный и безличный аспект любви», а как раз субъективный и личный, и если в последнем случае «манера любить» изживалась в словесной слякоти всяческих «соловьев», «лепестков» и подозрительно прыткой готовности «отдать жизнь», то язык и в этом случае оказывался все-таки творцом имеющегося материала, не несущим никакой ответственности за никудышнесть последнего.
Таким образом, знак, по Кассиреру, обладает первоначальной творческой энергией. Если всякое единичное состояние сознания значимо лишь в той мере, в какой оно потенциально заключает в себе всю целостность и мыслится как бы в непрестанном продвижении к целому, то в знаке эта потенциальность впервые приобретает актуальность. Сознание высвобождается из-под прямого давления ощущений и решительно обнаруживает свою функциональную природу. Эта тенденция, считает Кассирер, яснее всего выступает в функции научных знаковых систем. Абстрактная химическая «формула», обозначающая некоторое вещество, лишена всего того, что мы знаем об этом веществе через чувственное восприятие; но вместо этого она включает свой предмет в такой богатый и тончайшим образом расчлененный комплекс отношений, о котором восприятие и не догадывалось. Обозначение здесь связано не с чувственной данностью, но саму эту данность оно постигает как совокупность возможных «реакций», возможных каузальных отношений, определенных посредством общих правил. Следовательно, знак играет здесь роль посредника в переходе от простого «вещества» сознания к его духовной «форме». И именно потому, что сам он выступает без собственной чувственной массы, как бы паря в чистом эфире значения, ему присуща способность представлять вместо элементов сознания его комплексные движения. «Так, слово по своей физической субстанции есть простое дуновение воздуха, но в этом дуновении властвует невероятная сила динамики представления и мысли. Знак в равной мере и повышает эту динамику, и управляет ею» (1.45). И вновь Кассирер обращается здесь к Лейбницу, считавшему знак не символической аббревиатурой уже известного, но путем в неизвестное.
«Философия символических форм» пытается таким образом преодолеть односторонности как абстрактного «эмпиризма», так и абстрактного «идеализма». Интеллигибельное и чувственное, «идея» и «явление» не могут быть изначально разъятыми. «Правда, мы и здесь остаемся узниками мира «образов», но дело идет не об образах, воспроизводящих мир «вещей», существующий сам по себе, а о мирах образов, чьи принцип и начало следует искать в автономном творчестве самого духа. Только через них зрим мы и в них обладаем тем, что мы называем — действительностью»… Вопрос же об абсолютной реальности, существующей вне этой совокупности духовных функций, о «вещи самой по себе» уже не возникает, будучи плохо поставленной проблемой, иллюзией мысли. Подлинное понятие реальности… восходит к многообразию и полноте форм духовной жизни, но такой жизни, которая несет на себе печать внутренней необходимости и тем самым печать объективности» (1.47–48). Символ, стало быть, есть не только prima ratio, но и ultima ratio. Он — чистая функция мысли, интегратор опыта, осмысление чувственного, динамическое начало-принцип всего-что-ни-есть. Все попытки десимволизации, считает Кассирер, заведомо обречены на неудачу, ибо преодолеть символ мы можем не иначе, как символически же. Действительность, поэтому, всегда символична, и философия действительности есть философия символических форм. Вопрос же о том, есть ли реальность помимо символа, — неуместный и несущественный вопрос.[65] Этим вопросом, по Кассиреру, всегда занималась мистика. Но «для философии, свершающей себя лишь в понятийной строгости и ясности дискурсивной мысли, доступ в рай мистицизма, в рай чистой непосредственности закрыт» (1.50). Символ творит бытие; сам он «не имеет актуального существования… он имеет значение».[66] В 6-й книге платоновского «Государства» в рассуждениях об идее блага дана довольно точная характеристика понятия символа; «Считай, — говорит Сократ, — что и познаваемые вещи могут познаваться лишь благодаря благу; оно же дает им и бытие, и существование, хотя само благо не есть существование, оно — за пределами существования, превышая его достоинством и силой» (509в). На что Главкон со смехом отвечает: «Аполлон! Как удивительно высоко мы взобрались!» Но это — единственное, что дано «узникам мира образов» («пещеры»!) знать о «доподлинном источнике света», и название этой основы основ — единство символической функции; остальное — «тени», или символические формы: мир культуры, как извечная задача, к полному разрешению которой «мы можем приближаться лишь асимптотически».[67]
Проблема культуры, стало быть сводится к отыскиванию формообразующего принципа, а не содержания, могущего скрываться за символическими формами. «Если всякая культура, — говорит Кассирер, — заключается в сотворении определенных духовных образных миров, то цель философии не в выхождении за все эти творения, но скорее в понимании и осознании принципа их образования» (1.50–51). Это значит: нет бытия вне мышления и символ — пророк его. Понимать это положение следует не в смысле идеализма; дело идет не о метафизическом разделении субъекта и объекта и о существовании внешнего мира, но исключительно о культурно-значимом бытии. Мир не дан человеку в качестве готового и предсуществующего пристанища, когда-то кем-то и почему-то приуготовленного; мир задан, загадан ему как бесконечная и в бесконечности этой оправданная проблема культуры — «то было вечное перетаскивание камня, который вновь и вновь приходилось поднимать», сказал однажды Гете Эккерману. Что это: символ абсурда? Пусть так, если предположить, что в глазах человека, беззаботно уповающего на высшую силу и продолжающего оставаться умственным младенцем там, где решает только мужественность и только мужество, культура — абсурд. Но перетаскивать камень, не понимая, зачем это делаешь, жить и не знать, что живешь в культуре, если и не всегда для нее, то всегда силою ее — худшая из участей человека. Ибо человек, даже заброшенный на периферию возможностей, даже на гранях соприкосновения с животным и растительным миром, остается «символическим животным», существом, конструирующим мир в символических образах силою не рефлектирующей способности суждения, но созерцательной, порождающей, творящей. «И чтобы это, наконец, высказать раз навсегда, — человек играет только тогда, когда он в полном значении слова человек, и он бывает вполне человеком лишь тогда, когда играет».[68] Человек — художник; кем бы он ни был и чем бы он ни занимался, он — homo symbolicus. Когда ученики отрывали Архимеда от занятий, чтобы натереть его маслом, он и на натертом теле продолжал чертить геометрические фигуры, а Кондорсэ, скрываясь от гильотины, писал свой «Эскиз о развитии человеческого ума». Sapienti sat — умному достаточно; но какие века умственных и нравственных усилий потребовались для того, чтобы окупить этот «достаток»!
Таковы основные линии теоретической и методологической проблематики «Философии символических форм». Нам предстоит еще показать их специфику в конкретных формах культуры, т. е. обратиться от теории и методологии культуры к ее феноменологии. Собственно «Философия символических форм» и есть такая феноменология; цель настоящей главы заключается в подведении к анализу самих форм через экспликацию общих логических предпосылок этого анализа. Мы, поэтому, ограничиваемся здесь вышеизложенным и воздерживаемся от критического осмысления его. Было бы нецелесообразно предварять анализ критикой на основании чистой схемы анализа. Вышеизложенное и есть такая схема, разумеется, достаточно определенная и недвусмысленная, чтобы составить о ней четкое критическое суждение. Но воздержаться пока от этого суждения вынуждает нас композиция предлагаемой работы. Настоящая глава — переходная; не будь она таковой, мы уже здесь, высказав свое критическое отношение к философии Кассирера, вернее, к ее костяку, каркасу, свели бы (хорошо или плохо, это другой вопрос) с ней счеты. В нашей литературе «Философия символических форм» если и представлена, то либо в своем каркасе, либо же в частных отрывочных проблемах конкретной феноменологии. Цельное и по возможности полное представление о ней все еще отсутствует. Задача предстоящей главы восполнить этот пробел. И лишь потом придет «время» критики. Общие черты последней намечены уже нами в предыдущей главе. Конкретизацией этих черт мы и завершим анализ «Философии символических форм».
ГЛАВА 4 ФЕНОМЕНОЛОГИЯ СИМВОЛИЧЕСКИХ ФОРМ
ОБЩАЯ ЭКСПОЗИЦИЯ
Три тома книги Кассирера посвящены соответственно феноменологии языка, мифа и познания. Исследователю, прежде чем приступить к содержательному анализу самих текстов, следовало бы задержать внимание на форме построения их. Символичен уже самый план «Философии символических форм»; содержание вписано в стиль; композиционная стилистика книга доподлинно имитирует суть ее; между архитектоникой текстов и тематическим развитием их наличествует несомненная связь.
Метод Кассирера лучше всего характеризуется его же термином «анализ-становление» Werden-Analyse). В термине этом скрещены две крайности: крайность развития и крайность изоляции. Можно уже с самого начала выделить два основополагающих методических принципа «Философии символических форм».
1. Всякая отдельная форма значима и осмыслена лишь в той мере, в какой она указует на другие формы и находится в систематической связи с ними. Понять форму значит понять ее в комплексе всех форм и на фоне их сквозного развития.
2. Ни одна форма не может быть понята через другую форму, но всякая форма должна быть понята лишь через самое себя.
«Кантианец» Кассирер слишком явно сталкивается здесь с антиномией, могущей стать губительной для всей концепции. Но «гегельянец» Кассирер смело принимает ее, как единственно правомерную. Мы проследим еще перипетии этого конфликта, но несомненно одно: диалектика впечатана в самое плоть «Философии символических форм», и грозный призрак ее будет еще не раз преследовать философа, так и не осмелившегося решиться на окончательный выбор. Здесь же следует отметить: из двух перечисленных нами принципов первый в основном определил композицию тем Кассирера, а второй — прямую их разработку, хотя действие их всегда совместно и всякое разъятие чревато абсорациями. Нас прежде всего интересует специфика первого принципа.
Целостность культуры — в неразрывной связи развития всех ее форм. «Анализ-становление» вскрывает нам круги этого развития. Язык, миф и познание суть такие круги. Но символическая форма как таковая обладает еще некоей структурой, общей для всех форм. Если символ есть связь идеального с чувственным, то возможны, по Кассиреру, три типа такой связи: выражение (восприятие), репрезентация (созерцание) и чистое значение (понятие). Эта триада в свою очередь структурирует тематику и проблематику каждого тома. «Феноменология лингвистической формы» (1-й том) движется от языка в фазе чувственного выражения через язык в фазе созерцательного выражения к языку как выражению понятийного мышления и логических форм отношения. Три части 3-го тома, охватывающего «Феноменологию познания», являют зеркальное соответствие этого движения: от функции выражения и мира выражения через проблему репрезентации и построение созерцательного мира к функции значения и построению научного знания. Второй — промежуточный — том «Мифомышление» построен (согласно специфике темы) на «ракоходном» движении: от мифа как мыслеформы через миф как форму созерцания к мифу как форме жизни. Эволюция типов символической связи в языке и познании явлена в мифе как инволюция.
Кассирер подчеркивает сквозной характер развития каждой формы. Модель такого развития устанавливает критика познания. Восприятие переходит в созерцание, созерцание в понятие, а понятие в суждение. При этом чрезвычайно важно учесть следующее: не только каждый более сложный момент включает в себя более простой, каждый «последующий» элемент — каждый «предыдущий», но и обратно, более сложный и «последующий» латентно наличествует в простом и «предыдущем». Так, по Кассиреру, функция восприятия имплицитно содержит в себе функцию понятия и т. д. Некритическое полагание границы между «созерцанием» и «понятием» вынуждает мыслить созерцание как «непосредственное» отношение к предмету, а понятие — как опосредованное. Но уже само созерцание «дискурсивно» в том смысле, что оно никогда не связано с единичным и стремится к целостности охвата многоразличных элементов в едином взоре. Парадоксальность этого вывода для всяческих иррационалистических доктрин такова, что Кассиреру приходится не раз оговаривать его. «Должны ли мы, — спрашивает он, — искать свершение символической функции и на этих предварительных ступенях понятийного мышления (восприятия и созерцания — К. С.), своеобразие которых в том, по-видимому, и заключается, что вместо опосредованного и дискурсивного знания они таят в себе непосредственную достоверность? Не явилось бы это грабежом в сфере непосредственности, совершенно неоправданной интеллектуализацией созерцания и восприятия, если бы мы захотели распространить господство «символического» и на них?» (3.55). Ответ резко отрицательный: «Чисто символическое, взятое во всей своей широте и универсальности, никоим образом не ограничено системой чистых понятийных знаков, образуемых точной наукой, в особенности математикой и математическим познанием природы… Образный мир мифа, звуковые образования языка и знаки, которыми пользуется точное знание определяют своеобразное измерение изображения, и лишь взятые в своей общности все эти измерения конституируют целостность духовно зримого пространства» (3.56–57). Итак, «дискурсивно» уже само созерцание, но понятие являет по отношению к этой форме созерцательного синтеза новую и более высокую потенцию «дискурсивного». Эта модель имеет универсальное значение; ею определена вся «Философия символических форм». Генетически «логос» дан post factum, структурно он есть prius. И именно поэтому, развитие каждой формы с бесконечными дифференциациями ее собственных модусов может быть рассмотрено в плане становления «логоса», где каждый этап являет уникальный и ни с чем не сравнимый вид его, пока, наконец, этап «логики» собственно не знаменует собою окончательное и адекватное его проявление. Кульминационный пункт развития языка — образование понятий и системы отношений — разыгрывает в этом смысле логическое образование понятий в форме чистого познания. В свою очередь, мифические элементы вдоволь присутствуют еще в начальных стадиях научного познания, которое лишь ценой огромных усилий освобождается от них. Но и мифу присуща sui generis «логика»; и миф ведает образование понятий, совершенно отличающихся от собственно научных понятий. «Философия символических форм» есть, поэтому, философия сплошного и сквозного развития этих форм, где — Кассирер мог бы повторить слова Гераклита — «логос управляет всем». «Частное, — писал он еще в «Познании и действительности», — является дифференциалом, не вполне определенным и понятным без указания на его интеграл».[69] Этот математический принцип, который возводится им до степени универсальной и всеобъясняющей схемы, полностью исчерпывает композицию «Философии символических форм».
Отмеченные нами три типа связи, характеризующие любую символическую форму, симметрично располагают материал книги. Общая схема их такова: развитие формы есть усовершенствование формы; этап выражения демонстрирует еще предельную конкретность формы, или почти неразличимую сращенность чувственного с идеальным. Стадия репрезентации всегда отмечена тенденцией высвобождения из-под аспекта чувственности; она нарушает первоначальный баланс сращенности элементов в пользу идеального, и, наконец, последний тип связи — чистое значение — достигает предельной идеализации знака. Другими словами: знак, первоначально сращенный с вещью, заменяет ее образом, чтобы преодолеть и последний в чистоте принципа.
Эта схема присуща всем без исключения символическим формам, но каждая осуществляет ее сообразно собственной специфике, так что реальность ее в тех или иных сферах отмечена совершенной своеродностыо и неповторимостью, вплоть до того, что в специфике мифомышленния прозначен обратный ход, от принципа через образ к вещи; миф, музыкально выражаясь, играет в фуге «символических форм» роль ракоходной инверсии по отношению к языку и познанию. Можно сказать, что все формы преследуют одну и ту же цель и пользуются для этого общими средствами. Так, например, «единство мира» отнюдь не является прерогативой только научного познания; по-своему конституируют его и язык и миф. Проблемы пространства, времени, числа и т. д. также общи для всех этих форм, как общи и категории (причинности, цели и т. д.). Здесь ярче всего прорисовывается единство становления культурного космоса. Но Кассирер особенно предостерегает от некритического восприятия этой «общности». Последняя значима лишь в моменте качества; перечисленные понятия строго различаются в модальном отношении; каждое из них помечено различным «индексом модальности». Всякое пренебрежение этим «индексом» чревато всевозможными искажениями, вплоть до абсурдных извращений сути предмета. Так, обыватель, доведись ему узнать, что число божеств индийского пантеона выражается единицей со ста сорока нулями, снисходительно посмеивается над этой «выдумкой», а иной физик морщится, слыша о «мифическом пространстве»: ему ведь еще с университетской скамьи была сделана прививка против всяческих нефизических «зараз» плотным внушением того, что «пространство» — физическое понятие и, стало быть, понятно только физику. Мы не будем останавливаться здесь на разборе этих мнений; последующее изложение наглядно явит всю бессмысленность их, отрицающих, по остроумному сравнению Г. Шпета, ценность почтовой посылки на том лишь основании, что существует ценность посылки силлогизма. «Философия символических форм» дает сквозной анализ основных понятий языка, мифа и теоретического познания. Так, проблеме пространства посвящены в каждом томе соответствующие главы, детально вскрывающие модальную специфику этого понятия и одновременно развитие его (в плане «анализа-становления»). Аналогично обстоит дело и с временем, числом, понятием как таковым и т. д. Содержание «Философии символических форм» являет в перспективе стройную картину зеркальных соответствий. Формальная симметрия проблем строго отвечает содержательному их разрешению. Феноменология здесь означает в буквальном смысле явленность «логоса» в многокрасочности культурной жизни и истовый путь его к адекватной форме. Мы проследим в ближайшем изложении основные вехи этого пути. Кассиреру еще придется ответить за труднейшие противоречия, связанные с общей схемой процесса культурного становления. Антиномия, отмеченная нами в самом начале главы, еще заявит о себе; ведь, раскрыв первый член ее, мы не сказали еще ничего о втором. «Философия символических форм», рпаепотепоп phaenomenon bene fundatum в ракурсе одного (все равно, какого) из этих членов, должна будет еще испытать адские муки кантовских антиномий в ракурсе одновременности обоих членов. Ревнивый «кенигсбергский старец» не мог не отомстить своему одареннейшему ученику за тайные штудии запрещенной диалектики; ученик стал учеником чародея. Но об этом — после.
ОБОСНОВАНИЕ АНАЛИЗА
Можно было бы дать ракурс «Философии символических форм» в последовательном представлении всех трех томов, генетически следуя мысли автора и воспроизводя ее в конспективном анализе. Мы, однако, предпочли избрать другой путь исследования: не обзорный, а проблемный. Основания к этому дает нам вышеизложенная экспозиция книги. Поскольку лейттемой ее является построение мира на трех уровнях сознания — языкового, мифического и научного — и поскольку эти срезы обусловливают построение и самой книги, мы считаем нужным исходить в дальнейшем анализе именно из этого факта. Анализ книги, многообразно варьирующей функцию построения, должен быть сам построенным. Мы, поэтому, попытаемся исследовать «Философию символических форм» в единой синоптике ее основных проблем. Это значит: замкнуто продольному анализу мы предпочитаем поперечно сквозной и как бы одновременный. Так, каждой из основных проблем уделено в трех томах по отдельной главе. Главе о «выражении пространства и пространственных отношений» в 1-м томе соответствуют две главки 2-го тома («Членение пространства в мифическом сознании»; «Пространство и свет. Проблема ориентации») и глава «Пространство» в 3-м томе. Аналогичным образом проблема времени исследуется в «Языке» («Представление времени»), в «Мифомышлении» («Мифическое понятие времени»; «Формирование времени в мифическом и религиозном сознании») и в «Феноменологии познания» («Созерцание времени»). Мы выбрали четыре такие проблемы: пространство, время, число, понятие, которые если и не исчерпывают тематику книги, то во всяком случае существенно представляют ее. Преимущество избранного нами метода перед методом последовательного изложения хода книги подчеркивается, на наш взгляд, следующими моментами. Во-первых, ориентацией на проблемность, что вполне имманентно самому внутреннему пафосу книги, во-вторых, акцентированием структурного момента, в-третьих, как бы одновременным охватом всех трех томов в противовес постепенному освоению по ходу текстов, в-четвертых, выявлением не «внешней формы» кассиреровской концепции через адекватное копирование роста ее, а «внутренней формы», которая обусловила этот рост, и, наконец, в-пятых, возможностью личного творческого подхода к исследуемому материалу, который не просто реферируется, но и конструируется (худо или хорошо, это другой вопрос) в самом ходе анализа. Впрочем, для полноты его он будет предварен общим ракурсом проблематики каждого тома. Необходимо составить хоть сколько-нибудь определенное представление о каждой из трех «символических форм», прежде чем уяснить модусы их функционирования, все своеобразие которых выярчится отчетливей на подстилающем их фоне введения в проблематику. Этим комплексом задач и исчерпывается наш анализ «Философии символических форм».
ЯЗЫК
Кассирер справедливо замечает, что после Гумбольдта едва ли кто-нибудь еще осмеливался исследовать язык в его чисто философском содержании и с точки зрения определенной философской «системы». Последующая лингвистика далеко отступила перед грандиозным замыслом Гумбольдта (проект которого он изложил в 1805 году в письме к Вольфу) использовать язык как колесницу, дабы изъездить на ней целый мир. Вместо того, чтобы стать колесницей, язык, по словам Кассирера, становился сильнейшим инструментом философского скепсиса или объектом только психологических исследований. Старинный идеал универсальной «философской» грамматики оказался как бы навсегда уничтоженным с открытием сравнительного языкознания; проблема единства языка к концу XIX века решалась не в плане логического содержания его, а генетически, в плане его происхождения и психологических законов этого происхождения. Такова многотомная работа Вундта по «Психологии народов» и штейнталевское «Введение в психологию и языкознание», применяющее к языку гербартовское понятие апперцепции. Решительную противоположность взглядам Вундта и Штейнталя являет, по Кассиреру, попытка Марти построить «общую грамматику и философию языка», но и эта попытка не выходит за рамки чисто психологических средств. Таким образом, сфера языка оказалась буквально захваченной психологизмом и позитивизмом, возведенными в степень всеобщей догмы. «Современное… языкознание, — писал А. Ф. Лосев в 1926 году, — влачит жалкое существование в цепях допотопного психологизма и сенсуализма; и мимо… языковедов проходит, совершенно их не задевая, вся современная логика, психология и феноменология».[70] Здесь же А. Ф. Лосев отмечает «одно чрезвычайно важное явление, которое, однако, идет из философских кругов, и я не знаю еще, когда дойдет оно до сознания широкого круга языковедов. Это — феноменологическое учение Гуссерля и его школы. Еще важнее — учение Кассирера о «символических формах»…». Важно потому, что здесь впервые по существу (после Гумбольдта) подчеркивается факт автономии языка. Кассиреру, по собственным словам, приходилось буквально расчищать и прокладывать методический путь исследования. Тема книги — язык как чистая форма, связующая все многообразие языковых явлений. Но сама форма явлена здесь как процесс формы, или становление языка. Мы рассмотрим один типичный момент этого становления, где чувственное языковое выражение отмечено, по Кассиреру, последовательными вехами мимики, аналогии и символики. Этим анализом предваряются у Кассирера созерцательный и понятийный аспекты языка, которые нам предстоит еще уяснить в дальнейшем.
Одной из наиболее опасных аберраций, которые, по мысли Кассирера, подстерегают исследователя языка (как, впрочем, и всякой иной формы), является исходное принятие связи между «прообразом» и «отображением», «действительностью» и «видимостью», «внутренним» и «внешним» миром. Такой исследователь не учитывает элементарного и решительного обстоятельства, что все эти различения обусловлены самим языком. Уже простейшее разъятие мира на мир «внешний» и мир «внутренний» с необходимостью принадлежит к сущности языка и им выражается. Душевное содержание и его чувственное выражение сращены здесь воедино в элементе значения, которое не извне налагается на эту сращенность, но само конституирует ее. Таким образом, считает Кассирер, уже на этой стадии проявляется основополагающий синтез, порождающий всю языковую полноту и пронизывающий каждую часть ее, от примитивнейшего чувственного выражения до высочайшего духовного. Даже простейшее мимическое выражение какого-нибудь внутреннего переживания отмечено этим фактом; в этом смысле современная психология языка с полным правом включила проблему языка в общую психологию выразительных движений, преодолев тем самым понятийный круг традиционной сенсуалистической психологии. С точки зрения сенсуализма первично данным и даже единственно данным является твердо фиксированное состояние сознания; сознательные же процессы сводятся здесь к простой сумме или «связи» состояний. Кассирер настаивает на противоположной точке зрения: не динамика зиждется на статике, а статика на динамике; психическое, как таковое, есть «действительность» процессов и изменений, фиксация которых в так называемые «состояния» — результат абстракции и анализа.[71] Так, и мимическое движение, будучи одним в плане своей непосредственной чувственности, одновременно означает нечто другое, являя тем самым прямое единство «внутреннего» и «внешнего» в неразложимом акте выражения. Это единство и обусловливает выражение всякого внутреннего возбуждения в телесном движении, и поначалу такая форма выражения выглядит еще простым «отпечатком» внутреннего на внешнем, чисто механическим рефлексом. Но уже в этом рефлексе, считает Кассирер, начинают проглядывать первые ростки той активности, которая творит новую форму самосознания. Ссылаясь на дарвиновскую биологическую теорию выразительных движений, он приходит к выводу, что всякая элементарная мимика, будучи сращенной с элементом чувственного, в то же время и выходит за его пределы; так, чувственная потребность, вместо того, чтобы прямо устремляться к своему объекту, испытывает некоторого рода торможение, в котором пробуждается новое осознание этой же потребности. В этом смысле, заключает Кассирер, реакция выразительного движения подготавливает новую и более высокую ступень действия. Психологическая теория языка жестов различает в основном два класса жестов: указательные и подражательные. Первые биологически производятся из хватательного движения, которое модифицируется в указательное (по Вундту, примитивнейшая форма пантомимики генетически связана с регрессом хватательного движения). Эта модификация отмечается Кассирером как одна из начальных стадий формирования «объективности». На примитивной ступени аффекта всякое постижение объекта предполагает непосредственно чувственное схватывание и присвоение; таков генезис и чувственного познания, пытающегося в самих началах своих схватить предмет руками (άπρίξ ταίν χεροίν, по меткой характеристике Платона). Но теоретический прогресс заключается — и это одна из основных мыслей Кассирера, варьируемая на протяжении всей «Философии символических форм», — как раз в преодолении всякой чувственной непосредственности. «Объект, предмет познания, — пишет он, — все более и более отодвигается в даль, пока, наконец, не выглядит для критического осмысления знания «бесконечно отдаленной точкой», бесконечной задачей знания» (1.127). Эта, по существу, верная мысль оказалась в крайностях «логического идеализма» парадоксальной потерей объекта; если говоря cum grano salis, для Ахилла крайнего эмпиризма просто не существует проблемы зеноновской черепахи (черепаха вообще не проблема, а то, что схватывается руками), то Ахилл крайнего идеализма сводится всецело к своей «пяте», тщетно тщась догнать черепаху, проблематичность которой теперь распухла в почти сновидческое наваждение (сын Пелея и Фетиды не может догнать черепаху!.). Но самый процесс генезиса знания отмечен Кассирером точно: это непрерывный переход от «поятия» к «понятию» (ein stetiger Übergang vom „Greifen" zum „Begreifen»). Чувственное схватывание трансформируется в чувственное указание (жест), несущее в себе уже первые зачатки функции значения.
Второй класс жестов — подражательных — рисует иную картину. В подражании субъект тесно связан с внешним впечатлением; чем точнее он воспроизводит его, тем совершеннее подражание достигает своей цели. Но язык жестов наряду с непосредственно подражательными знаками обладает также и «символическими жестами», опосредованно выражающими предмет; «подражание» и «указание», «мимическая» и «дейктическая» функции, по Кассиреру, в равной степени насыщены элементами духовной значимости. Уже у Аристотеля, на которого ссылается здесь Кассирер, слова обозначаются как «подражания», а человеческий голос считается органом, образованным в основном для подражания. Но этот мимический характер слова, по Аристотелю, вовсе не противоречит его символическому характеру; напротив, неартикулированный звук становится речевым звуком лишь в силу своей символической значимости (в этом смысле Аристотель сводит к «подражанию» возникновение не только языка, но и искусства). Речь идет, стало быть, не о простом повторении чего-то внешне данного, но о творческом акте; то, что кажется «копированием», предполагает некое внутреннее созидание. Копировать предмет значит не просто составлять его из отдельных чувственных признаков, но постичь его структурно, т. е., в конечном счете, сконструировать его сознанием. Жестикуляция, считает Кассирер, уже содержит в себе потенциал такой активности в самом переходе от чисто подражательных жестов к жестам изобразительным. Следующий, более высокий этап достигается в трансформации жеста в звук, когда функция изображения изживается не мимически, а в звуковом субстрате, который впервые осуществляет высшую форму «артикуляции». «Если жест в своей подражательной пластике, казалось бы, лучше приспособляется к характеру «вещей», чем бесплотный элемент звука, то последний приобретает внутреннюю свободу как раз через то, что в нем прерывается это отношение и что, будучи чистым становлением, он не способен уже непосредственно передать бытие объектов» (1.131). Звук, таким образом, служит выражением динамики чувствования и мышления, которая неподвластна жесту, как чисто пространственному акту. Если учесть при этом факторы акцента и ритмических оттенков, то звук может быть охарактеризован как совершенно новая форма, организующая материал языка на более высокой ступени «рефлексии». Языковая функция, по Кассиреру, представляет здесь случай универсальной символической функции, проявляющейся во всех сферах культурной жизни.
Эта подражательность слова легла в основу стоической теории языка, утверждающей естественную связь между именем и вещью χατά μίμησν, и она же вызвала ожесточенные нападки софистов, отрицающих за словом всякую объективную значимость. Кассирер отклоняет оба воззрения. Первое, считает он, само приводит себя к нелепости утверждением слова как этимона бытия. Отношение «сходства» претендует на этимологическое объяснение и тем самым опровергает себя: «аналогия» становится «аномалией». В исследованиях Курциуса, Штейнталя, Лерша явлены печальные следствия такого принципа и их разрушительное влияние на развитие этимологии. Но, с другой стороны, несостоятельно и противоположное воззрение, сводящее слово не к подражанию вещи, а к субъективным чувственным состояниям. Отсюда с неизбежностью вырастает скепсис: язык, состоящий из общности схематических знаков, бессилен передать непосредственность и уникальность чего бы то ни было. Но именно в этом радикальнейшем скепсисе, по Кассиреру, заключено уже преодоление скепсиса. «Скепсис, — пишет он, — силится выявить ничтожность познания и языка, но доказывает в конечном счете скорее ничтожность масштаба, которым здесь измеряются оба» (1.135). Символическое выражение возможно лишь при полном отсутствии любой опосредованной и непосредственной идентичности между действительностью и символом. Наличие таковой сводит задачу символической формы к простой репродукции. Но смысл каждой формы следует искать не в том, что она выражает, а в модусе и во внутренней законности самого выражения. Именно здесь, в постепенном отдалении от непосредственно данного усматривает Кассирер ценность и своеобразие языковой формы. Дистанция есть условие видимости. «Язык, — читаем мы, — начинается впервые там, где прекращается непосредственное отношение к чувственному впечатлению и чувственному аффекту. Звук, как скоро он дается в элементе чистого воспроизведения, не является еще фонемой; в нем отсутствует вместе с волей к «значению» и специфический момент значения. Цель воспроизведения — в идентичности, цель языкового обозначения — в различии. Синтез, осуществляющийся в нем, может быть исполнен лишь как синтез различного, а не так или иначе равного или сходного. Чем больше уподобляется звук тому, что он хочет выразить, чем больше сам он «есть» еще это другое, тем меньше способен он «означать» его» (1.13 5-136). Этот принцип, по Кассиреру, значим не только в духовной сфере, но и в биологической. Знаменитое исследование Келера о «психологии шимпанзе» показало, что при всем богатстве фонетических «обнаружений» развитых зверей в них отсутствует специфически человеческая «функция изображения». Человеческий язык — и это впервые подчеркнул Аристотель — отмечен преобладанием значащего звука над аффективным; исторически этот процесс выражается, по Кассиреру, в том что многие слова развитых языков, кажущиеся на первый взгляд простыми междометиями, оказываются при более точном анализе обратными образованиями (Rückbildungen) из более сложных языковых образований, из слов или предложений, обладающих определенным понятийным значением (со ссылками на Сейса и Бругмана).
Таким образом, процесс формирования языка указывает на три последовательные ступени роста, которые обозначаются Кассирером как ступени мимического, аналогического и собственно символического выражения. Это троякое членение, могущее поначалу выглядеть абстрактной схемой, служит, по мере заполнения ее конкретным материалом, не только принципом классификации разных языковых явлений, но изображает также функциональную закономерность построения языка во всей его специфике и автономии. Для Кассирера истоки фонетики коренятся еще полностью в круге мимики и жестикуляции. Звук ищет непосредственной близости с чувственным впечатлением и максимально верной передачи последнего. Это явление ярчайше обнаруживает себя не только в развитии детской речи, но и во всех «примитивных» языках. Язык здесь настолько еще связан с конкретным событием и его чувственным образом, что силится как бы вызвучить его, не довольствуясь общим обозначением и сопровождая каждый нюанс события соответствующим звуковым нюансом. Кассирер ссылается в качестве примера на язык Эве и ряд родственных ему языков, где имеются наречия, описывающие лишь одну деятельность, одно состояние или одно свойство и сообразно этому связанные лишь с одним глаголом. Многие глаголы обладают полнотой таких, принадлежащих только к ним, наречий, звуковые образования которых в большинстве случаев являются звуковыми послеобразами чувственных впечатлений. Вестерман насчитывает в своей грамматике Эве до 33 подобных звукообразов для одного глагола, выражающего хождение; богатейшая градация оттенков и своеобразий хождения имеет непосредственную фонетическую параллель. С постепенным развитием языка эта звукопись утрачивается, и все же не существует такого высокоразвитого культурного языка, который не сохранил бы многочисленные примеры ее. Ономатопоэтические выражения наличествуют во всех языках, и именно фактом этого наличия объясняет Кассирер попытки многих философов и лингвистов найти в принципе ономатопейи ключ к праязыку человечества, к «ligua adamica». Но даже там, где попытки реконструкции праязыка через этот принцип оказываются несостоятельными, он все же признается за средство, позволяющее составить хоть какое-то представление о древнейших пластах образования языка. Не только Стоя соблазнилась возможностями этого средства, но и более поздние философы, как Лейбниц, например. Кассирер подчеркивает здесь важность различения материального выражения отдельных понятий и формальных грамматических отношений; он ссылается на Гумбольдта, обратившего особое внимание на символический характер грамматических звуков, и на Якова Гримма, который в своей «Немецкой грамматике» установил точнейшую связь между звуковыми образованиями слов, обозначающих вопрос и ответ, и идеальным значением вопроса и ответа. Здесь, по мнению Кассирера, и в ряде аналогичных случаев круг чистой мимики и имитации оказывается разорванным, ибо дело идет уже не о том, чтобы утвердить некое чувственное впечатление в подражательном звуке, но качественная градация звуков служит выражению чистого отношения. Между формой этого отношения и ее вызвучиванием не существует более прямого материального сходства; голый состав звука не в состоянии передать определения чистой связи. Связь, скорее, опосредствуется аналогией формы между отношением звука и его содержанием. «Тем самым, — говорит Кассирер, — достигается та вторая ступень, которую мы, в противоположность просто мимическому выражению, можем обозначить как ступень аналогического выражения» (1.141). Лучшую картину перехода изображают, по его мнению, те языки, где значения слов или выражение формальнограмматических определений различаются по музыкальному тону. Пока чистая функция значения тесно и нерасторжимо связана с чувственным звучанием, язык остается все еще в сфере мимики. Гумбольдт замечает по поводу индокитайских языков, что благодаря звуковысотной дифференциации отдельных слогов и разнообразию акцентов речь трансформируется в них в своего рода пение или речитатив, так что интервалы, скажем, сиамского языка допускают полное сравнение с музыкальной гаммой. Ряд суданских языков интонационно выражает различнейшие нюансы значений; так, исследования Вестермана обнаружили явственную связь между громкими ударными словами и выражением далекого с одной стороны, и низкими атоническими словами и выражением близкого, с другой; изменение интонации может также перевести утвердительную форму глагола в отрицательную и т. д. Кассирер отмечает и урало-алтайские языки с их несомненной тенденцией к сингармонизму; звуковая ассимиляция отдельных составных частей слова способствует здесь формальному объединению этих частей и образованию замкнутых слов или фраз из их относительно рыхлой «агглютинации». Слово приобретает таким образом фонетическое единство, которое оказывается его смысловым единством. Это «аналогическое» соответствие между звуком и значением ярче выявляется в так называемой редупликации. Последняя выглядит поначалу все еще подвластной принципу подражения: удвоение звука или слога, казалось бы, не имеет другого назначения. Но здесь, по Кассиреру, проглядывает удивительное явление тончайших оттенков значения. Так, чувственное впечатление «просто множества» разлагается в выражение «коллективного» и «дистрибутивного» множества. Последнее особенно развито в ряде языков, лишенных обозначения множественного числа в нашем смысле; оно позволяет тщательнейшим образом различать в определенном действии его неразложимую целостность либо составленность из множества разъятых отдельных актов. Удвоение звука оказывается выражением дистрибутивного обособления в случаях, когда речь идет об одновременном участии, скажем, различных субъектов в одном действии. Таким образом, редупликация из простого средства обозначения множества постепенно становится созерцательным выражением таких множеств, которые даны в качестве не замкнутой целостности, но расчленены на отдельные группы или индивиды (примеры этого Кассирер находит в «Сравнительной грамматике семитских языков» Брокельмана). Но и этим не исчерпывается функция редупликации; Кассирер ссылается на Шерера, определившего ее как грамматическую праформу, служащую в основном для выражения трех типов созерцания: созерцания силы, пространства и времени. Образование сравнительной формы в прилагательных и усилительного вида в глаголах являет, по мнению специалистов (Потт, Брандштеттер), переход итеративного значения в чисто интенсивное и отсюда в каузативную форму. Тем самым, по Кассиреру, редупликация выходит за пределы фазы чисто чувственного описания предметного бытия; это, между прочим, выступает и в одном своеобразном свойстве ее, когда она оказывается выражением и носителем не только различных, но и прямо противопоставленных модальностей значения, — вместе с усилительным значением ей доступно и ослабляющее, так что в прилагательных она применяется для образования уменьшительных форм, а в глаголе — для образования ограничительных (со ссылками на Кодрингтона, Рея, Боаса). Даже в определении времени, как это проницательно обнаружил Гумбольдт на примере тагальского языка, она может служить выражением как настоящего и будущего, так и прошедшего. Отсюда, заключает Кассирер, с очевидностью выступает, что она является не столько передачей некоего фиксированного и ограниченного содержания представления, сколько тенденцией восприятия и наблюдения и словно бы неким движением представления. Эта черта редупликации острее бросается в глаза в круге определения чистых отношений. Здесь, по Кассиреру, она определяет уже не столько содержательное значение слова, сколько его общую грамматическую категорию (в яванском языке, как это показал Гумбольдт, слово довольно часто перемещается из одного грамматического класса в другой, например, из существительного в глагол, самим фактом удвоения звука или слога). «Во всех этих явлениях, — говорит Кассирер, — к которым можно прибавить множество других и подобных, с ясностью обнаруживается, каким образом язык даже там, где он исходит из чисто имитативного или «аналогического» выражения, стремится к постоянному расширению этого круга и окончательному прорыву из него» (1.145). Функция «обозначения» приводит к функции «значения», и хотя мимика и аналогика ослабляют чистую символику, именно последняя становится носителем нового и более глубинного духовного содержания. Такова, по Кассиреру, общая схема развития языка. Частные конкретные случаи ее мы еще разберем в дальнейшем.
МИФОМЫШЛЕНИЕ
2-й том «Философии символических форм» открывается грозной тенью основателя критической философии. Кассирер вынужден оправдываться перед Кантом за «критику мифического сознания». Если основной предпосылкой критицизма, по Канту, является наличие некоего факта, на который нацеливается философский вопрос, причем речь идет о преднайденном, а не философски сотворенном факте, и соответственно об исследовании «условий его возможности», то не выглядит ли критика мифа не только рискованным, но и прямо парадоксальным предприятием (2.VII)? Существует наука, существует искусство; критическая философия исходит из факта их существования.
В 1929 году, незадолго до выхода в свет 3-го тома «Философии символических форм», Кассирер, проводя вместе с Хайдеггером месячный семинар в Давосе (Швейцария), подчеркнул на заключительном заседании аналогичный факт языка (в полемике с Хайдеггером): «Существенно в трансцендентальном методе то, что он исходит из актуального факта. Итак, я спрашиваю, как возможен факт языка… При этом решающим обстоятельством для меня является сам «Язык», некое единство бесконечного многообразия языков. Именно поэтому я начинаю с объективности символических форм, ибо с ними мы фактически обладаем тем, что теоретически кажется невозможным».[72] Вопрос ставится прямо: является ли и мир мифа таким актуальным фактом? Не принадлежит ли он к области иллюзорного, против которой всегда боролась философия и которую она, наконец, уничтожила? Исторически дело обстояло именно так; миф был побежден и предан забвению, пока к началу прошлого века его наново не открыл романтизм, чтобы в лице Шеллинга обеспечить ему место в системе философии. Очевидно, что с точки зрения Канта место это бессмысленно; миф философски бесправен и невозможен; попытка Шеллинга, безотносительно к ее результатам, должна была быть объявлена априорно иллюзорной, Кассирер, сглаживая острые и полемичные углы, решается тем не менее на парадокс; миф возможен и, более того, критика его необходима; эта критика, минуя Канта, попадает в русло иной философской традиции; «неокантианец» и здесь оказывается принципиально совращенным греховодниками диалектики.
Как бы ни было, но совращенному кантианцу выпала честь дать первый структурный анализ мифа, открывший новые пути и перспективы в современной науке о мифе. Оживленный романтиками интерес к мифу и сравнительной мифологии расцвел к концу XIX века пышными плодами богатейших библиотек; разрастался материал, который, наконец, принял пугающие размеры и совершенно хаотический вид «порядка», не приведенного в единство. Проблемой единства разрозненного мифического материала, подчеркивает Кассирер, либо никто не занимался, либо же, обращая на нее внимание, пытались решать ее методами психологии развития и общей этнической психологии. Понятый так, миф сводился в своем происхождении к определенным склонностям «человеческой натуры»; этот стандарт объяснения применялся в различное время и к логике, этике и эстетике, но если последним удалось все-таки утвердить свою самостоятельность, то потому лишь, что все они опирались на принцип «объективной» значимости и противостояли тем самым всяческим психологическим тенденциям. Мифу в этом отношении не повезло; он оказался полностью узурпированным психологией. Ход мыслей был предельно прост: если «объективно» миф есть иллюзия, то следует заняться субъективными обстоятельствами этой иллюзии. Для Кассирера (и в этом случае) миф не иллюзия, а проблема. Причем проблема тягчайшая, если рассмотреть ее с точки зрения системы выразительных форм. Миф, как равноправный член этой системы, находится в тесной связи с другими формами (таково условие системы как органического, а не просто агрегативного единства); в этом смысле всякое уничтожение какого-либо отдельного члена прямо или косвенно угрожает всему целому, а то, что мифу принадлежит в этом целом решающее значение, доказывается генезисом основных форм духовной культуры из мифического сознания. Ни одна из этих форм, утверждает Кассирер, не обладает в истоках своих самостоятельным бытием и собственной четкой структурой; все они покрыты еще мифическим облачением и таковыми являются нам. Искусство и познание, нравственность, право, язык, техника, все поначалу сращены еще с мифическим. Ярче всего вырисовывается эта картина на фоне вопроса о происхождении: для Кассирера здесь сплетаются в непосредственное единство мифического сознания начала искусства и языка, письменности и науки. Отсюда же высвобождаются основные теоретикопознавательные понятия: понятия пространства, времени и числа, как и многие другие понятия. Но указанием простой генетической связи ничего еще не объясняется; единство истока, считает Кассирер, должно восприниматься не как загадочный безвидный хаос; следует постичь в нем собственный способ духовного формирования — только таким путем проблема может быть вырвана из тесного круга психологических объяснений и включена в сферу познания. «Оправдание предприятия» Кассирер и на этот раз находит в «Феноменологии духа». Гегелевская характеристика отношения «науки» к чувственному сознанию (в предисловии к «Феноменологии») прямо переносится им на отношение познания к мифическому сознанию. Становление науки — в идеальном, а не временном смысле — может быть понято через ее происхождение из сферы мифа и осознание закона этого исхода. Таково, по Кассиреру, требование самого познания. «Ибо познание, — как гласит его замаскированный и сокрушительный ответ Канту, — не властно над мифом, когда оно попросту изгоняет его за свои пределы. Действительно преодолеть нечто значит для него понять это нечто в его своеобразном содержании и специфической сущности. Пока эта духовная работа не осуществлена, борьба, в которой теоретическое познание всегда считало себя победителем, постоянно вспыхивает все с новой силой» (2.XI–XII). Изгнанный миф жестоко мстит за себя принимая на этот раз форму самого познания. Кассирер ясно показывает это на примере теории познания позитивизма. Парадокс ситуации в том, что позитивизм ставит себе целью как раз очищение фактически данного от всяческих субъективных приправ мифического или метафизического порядка. Но уже в учении Конта наличествуют как раз такие «приправы». Контовская система, начавшаяся с решительного изгнания мифа из праистоков науки, сама завершилась своеобразной мифической надстройкой. Такова участь всякого возгордившегося познания, пренебрежительно отталкивающего миф и перерождающегося в миф (совсем как в Овидиевых «Метаморфозах»). Миф требует понимания, а не пренебрежения; в противном случае он сулит действительно «мифические» ситуации, когда вчерашний вольнодумец и фанатик факта, презрительно выругивающий миф, падает вдруг ниц перед чертовой серой и трясется от «невыразимостей» на спиритических сеансах… Важно понять, что наука в конечном счете наследует мифическое состояние, выковывая ему новую форму. Кассирер напоминает вековую и доныне еще не завершенную борьбу теоретического естествознания за освобождение понятия силы от мифических наслоений; конфликт этот имеет место не только в естествознании, но и в пределах чисто теоретического познания: в методологии. Миф выглядит «мифически» неуязвимым. Его ахиллесова пята — в обращении на него самого познания. «Его подлинное преодоление, — подчеркивает Кассирер, — должно основываться на его познании и признании; лишь через анализ его духовной структуры можно, с одной стороны, определить, его собственный смысл, а с другой, его границы» (2.XIII).
Какое же место занимает миф в систематике символических форм? Структурный анализ, как всегда, предваряется здесь у Кассирера анализом историческим. Исторически — это уже отмечалось — философская рефлексия восходит к мифу; сознание воспринимает мир в сплетении мифических сил и действий, и лишь с постепенным ростом оно образует себе новые формы восприятия; силы и действия воспринимаются теперь как вещи и свойства; из почвы мифа медленно и непреложно произрастают теоретические ростки: мир логоса, чья заявка на самостоятельность утверждается в самопервейших попытках толкования мифов. С V-го греческого века, века греческого «Просвещения», попытки эти принимают методическую тенденцию: предполагается, что образный покров мифа скрывает за собой некое рациональное содержание и что задача рефлексии — в обнаружении этого ядра в шелухе. Отряды софистов ревностно предаются поискам, растерзывая миф, как менады — Орфея; за волшебным пением, умолкшим перед не внемлющими ему популяризаторами, выступает рой дидактических истин. Миф становится «аллегорией» чего угодно: спекуляции, физики, этики.
Не случайно, подчеркивает Кассирер,[73] что именно Платон, в котором еще непосредственно жила сила мифа, решительно воспротивился этой нивелировке мифа. Так, в «Федре» он иронизирует над софистами и риторами, толкующими миф: для этой доморощенной мудрости, говорит Сократ Федру, понадобится много досуга (229е). Платон определяет миф как ступень знания, соответствующую определенной сфере предметов; языку мифа подвластен мир становления, этот «Протей», который вечно ускользает от всяческой идентичности логических структур. Таким образом, миф становится у Платона необходимой, хотя и ограниченной, функцией понимания мира. Этому глубокому воззрению, по Кассиреру, не суждено было продержаться в ходе развития греческой мысли. Уже стоики возвращаются снова к аллегоризации мифа, а позже и некоторые близкие к гностицизму неоплатоники (как Ямвлих, например); тенденция наследуется средними веками и ренессансом. Даже у мыслителя, «возродившего» Платона на заре нового времени, у Плетона отчетливо выступает аллегорика толкования.
Этому противостоит философия нового времени, силящаяся понять миф как чисто философскую проблему. Кассирер отмечает Вико, как основателя не только новой философии языка, но и новой философии мифологии. Для Вико подлинное единство духа явлено в триаде языка, искусства и мифа. Но этим, по выражению Маркса, «проблескам гениальности» итальянского ученого суждено было достичь полной систематизации в философии немецкого романтизма: уже двадцатилетний Шеллинг, возбужденный проникновенными поэтическими интуициями Гельдерлина, требует «мифологии разума» в проекте соединения «монотеизма разума» и «политеизма силы воображения». Кантовский вопрос о «начале» прямо переносится Шеллингом в сферу мифа, и миф становится теперь замкнутым и автономным «миром», нуждающимся в имманентном понимании. Подобно Гердеру, изгнавшему принцип аллегории из философии языка, Шеллинг изгоняет его из философии мифологии: аллегорическое толкование мифа заменяется «тавтегорическим», т. е. понимающим миф как нечто автономное и могущее быть осмысленным лишь из собственной специфики. Миф, по Шеллингу, требует не анатомического разложения, а синтетического понимания, и понимать его следует не как нечто просто вымышленное и постольку случайное и произвольное, а как необходимое. Проблема мифа — не в содержании мифологии, а в интенсивности его переживания; Шеллинг провозглашает первичность мифа перед историей: не история определяет мифологию народа, а, напротив, мифология — историю. Разумеется, мифология протекает в сознании; она есть последовательность представлений сознания, но сама эта последовательность, по мысли Шеллинга, не может быть просто представлена, так как она реально свершается в сознании; она — изначальная форма жизни. Именно поэтому она свободна от всяческих налетов односторонней субъективности, ибо «жизнь», согласно Шеллингу, не означает ни просто субъективное, ни просто объективное, но является точной межой, разделяющей и объединяющей то и другое; она, говоря словами Шеллинга, есть индифференция между субъективным и объективным. Поэтому, миф, свершаясь в сознании, обладает одновременно объективной значимостью; мифологический процесс Шеллинг отождествляет с теогоническим процессом, с процессом божественного самостановления. Миф выглядит у него необходимым моментом в саморазвитии Абсолюта.[74] Кассирер, соглашаясь с шеллинговской постановкой проблемы, отклоняет ее решение в духе абсолютного идеализма. Миф должен быть перенесен из сферы метафизики в сферу критической философии. Но как это возможно? Критицизм строго опирается на опыт, выявляя условия его возможности; о каком же опыте может идти речь в связи с мифом? Если только о психологическом, то освобождение от метафизики не окажется ли рабством у психологии? Фактически так и случилось в XIX столетии: эпоху немецкого классического идеализма сменила эпоха позитивистического эмпиризма. Миф стал совокупностью «представлений», изучаемой в естественных причинах своего возникновения, на этнопсихологический лад. Диалектика была окончательно замещена эмпирической психологией; Шеллинговы «потенции» победно вытеснялись общими правилами образования представлений из элементарных законов ассоциации и репродукции.
Кассирер ищет иной путь объяснения, где миф был бы настолько же далек от метафизического абсолютизма, насколько он далек от простой игры эмпирико-психологических сил. Единственно возможный выход из этой антиномии заключается, по его мнению, в критическом осмыслении понятия сознания. «Шеллинг и методика психологии, — пишет он, — совпадают в том, что subjectum agens мифологии ищется ими в человеческом сознании; но следует ли нам брать сознание в его эмпирико-психологическом либо метафизическом понятии — или, не существует ли такой формы критического анализа сознания, которая внеположна обоим способам рассмотрения?» (2.15). В предыдущей главе мы уже рассмотрели кассиреровский анализ сознания; методика критического анализа, считает он, занимает промежуточную позицию между метафизически-дедуктивной и психологически-индуктивной методикой. Это значит: она должна исходить из эмпирически установленных и надежных фактов культурного сознания, но при этом она не может принимать их как просто данное; ее задача — в обнаружении структурных законов образования мира фактов. «В этом смысле, — заявляет Кассирер, — вопрос о «форме» мифического сознания не сводится к поискам его психологических, исторических или социальных причин; это — вопрос о единстве духовного принципа, властвующего над всеми своими особенными образованиями во всем их различии и необозримой эмпирической полноте» (2.16). Тем самым должен решиться и вопрос о «субъекте» мифа. Метафизика и психология по-разному отвечают на него. Первая переносит нас в область «теогонии», вторая — в область «антропогонии». Одна объясняет мифологический процесс как фазу «абсолютного процесса», другая выводит мифическую апперцепцию из общих законов образования представлений. Кассирер подчеркивает «аллегоричность» обоих видов объяснения. Миф объясняется здесь через сведение к чему-то другому; Шеллинг сводит его к идентичности абсолютного процесса, этнопсихология — к идентичности человеческой природы. В обоих случаях единство полагается в основу как исходный пункт и предпосылка познания. Такой предпосылкой у самого Кассирера выступает единство функции, где единство выглядит уже не основанием, а просто другим выражением «внутренней формы», о которой нельзя уже спрашивать, трансцендентна она или эмпирична, но которую следует вопрошать исключительно в смысле ее чистой сущностной определенности. Критическая феноменология мифического сознания, поэтому, отклоняет как «теогонию», так и «антропогонию»; цель ее — в постижении чистой деятельности субъекта культурного процесса и в изыскании имманентных норм каждой вехи этого процесса.
Кассирер, следовательно, не отрицает «объективность» мифа; он лишь настаивает на функциональном характере последней. Объективность мифа лежит ни в метафизическом, ни в психологическом бытии, образующем как бы фон, на котором разыгрывается миф; она — в самой форме объективации. Иными словами, миф «объективен» лишь в той мере, в какой он может стимулировать сознание к высвобождению из-под пассивной спячки в сфере чувственного впечатления и к сотворению своеобразного «мира», подчиняющегося специфически духовному принципу. Кассирер не сомневается в том, что мифический мир остается миром «представлений», но таков, по его мнению, и мир познания в своем содержании. Представление должно принять предметный характер, когда мы разоблачаем его случайность и подводим его под объективно-необходимый закон. Вопрос об объективности мифа ставится Кассирером именно в этом смысле: это — вопрос об имманентном правиле образования мифического содержания.
Но ответить на этот вопрос значит разрешить проблему единства формы мифического сознания. Кассирер буквально жалуется на отсутствие каких-либо методически удовлетворительных разработок этой проблемы; если в исследовании языка он, по собственным словам, мог опираться на основополагающие труды Гумбольдта, то в сфере мифа его ожидал хаос ежегодно растущего материала, настоятельно требующий методического оформления. Первые шаги в этом направлении были сделаны в пределах эмпирической сравнительной мифологии. Классификация мифических объектов выявила некоторые общие основные мотивы, чье родство казалось тем более удивительным, чем менее выступала их непосредственная пространственно-временная связь и отпадал вопрос о заимствовании. Эренрайх и Лессман сформулировали задачу этнографии, как определение общих принципов, лежащих в основании всех мифологических образований (психологический ракурс этой задачи, экспериментально обнаруженный Юнгом, обусловил теорию об архетипах коллективного бессознательного). Но единство этих принципов, едва установленное, вновь погрузилось в эмпирическую полноту объектов. Одна за другой возникли группы различных мифологий (природная, душевная); неисчерпаемость и разнообразие материала размывали всякую определенность. Эренрайх в исследовании «общей мифологии и этнологических оснований», пытаясь спасти положение, установил «постулат» всякого объяснения мифа: каждый миф требует связи с каким-либо естественным предметом или событием, поскольку лишь эта связь ограничивает произвол фантазии и направляет исследование по строго «объективному» пути. Кассиреру здесь оставалось прибегнуть только к иронии: на этом строго объективном пути, замечает он, произвол образования гипотез едва ли менее велик, чем произвол фантазии. Существует огромное разнообразие мифологических форм, связанных с различными кругами объектов, и попытка выделить одну из них в качестве единственного принципа объяснения заведомо обречена на неудачу.
С другой стороны, единство мифотворчества сводилось рядом ученых к духовным основаниям; не круг объектов, а круг культуры выдвигался для объяснения этого единства. Бэнфи считал родиной важнейших мифических мотивов Индию; в противовес этой точке зрения возникла теория панвавилонизма (Винклер, Иеремиас). Но и в этом случае, по Кассиреру, объяснения оказались недостаточными и несостоятельными: априорное утверждение о переходе всех мифов астрального происхождения в «календарные» мифы (основная методическая установка приверженцев теории панвавилонизма) лишь заполняет пустоты эмпирических свидетельств и хода доказательств, ничего по существу не объясняя.
Таким образом, необходимость структурного исследования мифической функции диктовалась самим процессом научного анализа мифа. Но и здесь исследователи сталкивались с рядом вопросов, казавшихся почти неразрешимыми. Если единство мифа сводилось к единству души, то последнее, в свою очередь, представало в необозримом множестве различных потенций и способностей. И снова разгорались споры: какой из этих потенций следует приписать решающую роль в построении мифического мира; коренится ли миф в игре субъективной фантазии, или он восходит в каждом отдельном случае к некоему «реальному» созерцанию, как к своей основе? Есть ли он примитивная форма познания и, стало быть, интеллекта, или он принадлежит к сфере аффекта и воли? Ответы оказались самыми различными и, по тонкому наблюдению Кассирера, отнюдь не оригинальными; так, против шеллинговской идеи «тавтегорического» толкования мифа «интеллектуальная мифология» в лице Фрица Лангера вновь обратились к аллегорике. Все эти трудности обусловлены, по мнению Кассирера, принципиально неоправданной методикой подхода к мифу. Редукционизм, в какой бы форме он ни выступал, не в состоянии объяснить специфику феномена. Необходимо рассматривать миф как некую замкнутую структуру, обладающую самодостаточным «бытием» и автономным смыслом, безотносительно к тому, что мы думаем о его происхождении. Миф характеризует Кассирер как своеобразную и единую «точку зрения» сознания, придающую новую форму и «природе» и «душе». Эту его модальность[75] и следует понять в первую очередь. Эмпирический анализ в лучшем случае ограничивается постановкой проблемы «равнонаправленности» мифотворчества, но дело идет не о констатации факта «равнонаправленности», а о возможности его. Понятый в этом ключе, миф может занять свое место в систематике символических форм. Кассирер прогностирует еще одну опасность, на этот раз уже в пределах общей системы. Поскольку органичность всякой системы предполагает теснейшую взаимосвязь всех членов ее, а стало быть, и сравнение их, то сравнение мифической формы с другими может привести к нивелировке содержания. «По сути дела, — пишет он, — нет недостатка в попытках сделать миф «понятным» через сведение его к какой-либо иной форме духа, будь то познание, искусство или язык» (2.28–29). Так, в третьем чтении по «Философии мифологии» Шеллинг определяет язык как «поблекшую мифологию». Так, у Макса Мюллера происходит «рокировка» этих форм; язык объявляет первичным, а миф вторичным и производным образованием. Связующим членом, по Мюллеру, выступает метафора. Сам миф третируется здесь в достаточно недвусмысленных выражениях: это — «имманентная необходимость языка», «темная тень, отбрасываемая языком на мысль». Источник мифа — в факте так называемой «паронимии», в двусмысленности языка; поэтому, миф есть не что иное, как «болезнь языка». В доказательство этого Мюллер приводит примеры, ставшие классическими. Поскольку греческое слово δάφνη, означающее лавр, восходит к санскритскому корню Ahana, означающему утреннюю зарю, миф о Дафне, преследуемой Аполлоном и превращающейся в лавровое дерево, является по самой сути своей лишь изображением солнечного бога, который гонится за своей невестой, утренней зарей, спасающейся от него в недрах своей матери, земли; аналогичным образом и миф о Девкалионе и Пирре восходит к созвучию греческих слов, обозначающих человека и камень (λαοί λαας). Более глубокой разработкой этой, несомненно, важной проблемы связи языка и мифа Кассирер считает знаменитое исследование Узенера о «божественных именах». По Узенеру, мифология есть мор фология религиозных представлений; ключ к пониманию ее заключается в именах богов и в истории этих имен. Поэтому, настоятельнейшей задачей философии мифологии является знаковый анализ мифа; миф не сводится к языку, как и язык не сводится к мифу; связь их в имманентной активности знака, и в этом смысле к мифу вполне приложима гумбольдтовская характеристика языка, согласно которой человек окружает себя миром звуков, дабы принять в себя и в себе пресуществить мир предметов. Общее качество и здесь различается по признакам модальности. Адекватно понять миф значит, по Кассиреру, рассматривать его под соответствующим индексом модальности; феноменологически выражаясь, постичь его не в сведении к чему-то другому, а в сведении к самому себе — в этосе радикальной автономии (по Гуссерлю). Упоминание Гуссерля вовсе не случайно. Конкретный анализ мифа у Кассирера настолько близок методу «феноменологической редукции» (в первоначальном варианте Гуссерля), что многие феноменологи неспроста считают его «своим». Кассирер начинает с описания основных признаков мифического сознания в их непосредственной интуитивной самоданности. Важнейшие из этих признаков мы перечислим; речь идет о фактическом составе мифического предметного сознания (Кассирер использует богатый материал), безотносительно к теориям, гипотезам, догадкам и интерпретациям.
Прежде всего, мифу присуще отсутствие четкого различия между сном и явью. Аналогично обстоит дело с жизнью и смертью: они относятся друг к другу не как бытие и небытие, а как однородные части одного и того же бытия. Миф не ведает «репрезентации» в нашем смысле; там она — «идентичность». «Образ» не представляет «вещь»; он есть сама «вещь». В мифомышлении отсутствует категория «идеального»; миф, как и предшествующий ему ритуал, наделен не аллегорическим, а реальным смыслом. Также и имя не обозначает и не означает, а есть. Имя и личность сливаются воедино (Кассирер напоминает о римском праве, запрещающем рабам носить имена по той причине, что у них отсутствует личность). Отсюда имя получает всевластность — египетский миф гласит об Изиде, получившей власть над Ра и миром богов лишь после того, как ей удалось хитростью выпытать у Ра его имя. Аналогичное значение имеют образ и тень, как alter ego личности. Анализ сущностных связей всех указанных явлений приводит Кассирера к понятию идентификации, как характернейшей черты мифомышления. В этом отношении представляет большой интерес его исследование мифической причинности. В мифе всякое соприкосновение в пространстве и времени непосредственно воспринимается как причинно-следственная связь. Post hoc, ergo propter hoc и даже juxta hoc, ergo propter hoc — типичные каузальные законы мифомышления. Так, звери, появляющиеся в определенное время года, приносят его с собой — ласточка есть причина лета. По Кассиреру, Юм, критикуя теоретическое понятие причинности, сам того не ведая, обнаружил корень мифической причинности. Представление здесь носит «полисинтетический» характер. Если цель эмпирического анализа в установлении однозначного отношения между определенными «причинами» и определенными «следствиями», то мифомышление исходит из совершенно иного принципа. Здесь все возникает из всего, поскольку все может в пространстве и времени соприкасаться со всем. Научное представление об «изменении» в мифическом представлении принимает характер метаморфоз (в смысле Овидия, а не Гете, замечает Кассирер). Так, мир выуживается из морских глубин или образуется из черепахи; земля возникает из тела огромного зверя или из цветка лотоса, плавающего по воде, солнце — из камня, люди — из скал или деревьев и т. д. Характерной в этом отношении Кассирер считает антиномию «необходимого» и «случайного». Еще Левкиппу и Демокриту казалось, что они преодолели миф в тезисе, отрицающем всякую «беспричинность» и утверждающем строгую необходимость. Но одной из своеобразнейших черт мифомышления является отсутствие в нем какого-либо знания о «случайности». И даже там, где зачастую мы научно говорим о «случайности», миф видит «причину». Поэтому, в мифомышлении и не может быть речи о беззаконном произволе; это свойство его Кассирер называет «гипертрофией каузального инстинкта». Миф, таким образом, не только солидарен с наукой в понимании строго необходимой природы вещей, но даже превосходит ее в пафосе абсолютизации этого принципа. «Дело обстоит так, — говорит Кассирер, — как если бы чистое теоретическое сознание и мифическое сознание вставили рычаг «объяснения» в совершенно разные места» (2.64). Первое стремится понять индивидуальное пространственно-временное событие как частный случай общего закона, не задаваясь вопросом о «почему» самого события. Второе, напротив, устремлено к единичному и однократному и именно в форме «почему». С этим тесно связано и мифическое понимание «части» и «целого»; pars pro toto является одним из основных принципов мифомышления: целое не «имеет» частей, но часть есть целое.
Существенное отличие мифа от языка и теоретического познания заключается, по мысли Кассирера, в окончательности перечисленных признаков мифической «логики». Язык и познание также обнаруживают многие из этих признаков в первоначальной стадии своего развития. Но если последней целью их является освобождение от «вещного» характера представлений, то мифу этот характер присущ изначально и навсегда. Идеальное здесь принципиально сращено с реальным (таков ключ к пониманию «чудесности» мифа); в этом смысле миф, как бы парадоксально ни выглядело следующее утверждение, более реален, в самой специфике своей структуры, чем развитые лингвистические образования и научные конструкты. В дальнейшем изложении мы еще коснемся специальных случаев этой основной тенденции мифомышления.
ФЕНОМЕНОЛОГИЯ ПОЗНАНИЯ
Тематика третьего и заключительного тома «Философии символических форм» прямо восходит к «Познанию и действительности». Новизна этой книги, которая содержит, по словам А. Ф. Лосева, «наилучший и логически наиболее ясный за последние полвека анализ всех категорий познания»,[76] заключается в предельном расширении проблемы познания; если в раннем исследовании рассматриваются логические основания математики и точного естествознания, то «Феноменология познания» (Кассирер и здесь настаивает на гегелевском смысле слова) распространяет эту проблематику до всех включительно сфер дотеоретического и собственно теоретического мышления. Здесь расширено само понятие «теории», охватывающей уже сферу не только научного познания, но и — не без очевидного влияния Гуссерля и Шелера — допредикативного опыта. Книга разделяется на три части: в первой исследуется «функция выражения и мир выражения», во второй — «проблема репрезентации и построение зримого мира» и, наконец, третья часть посвящена «функции значения и построению научного знания». Мы ограничимся здесь общим ракурсом введения в проблематику.
«Философия символических форм» исходит из факта «многомерности» культурного мира, в котором строго научное понятие мира занимает свое определенное место в системе координат понимания мира. Органичность системы позволяет Кассиреру строить анализ на принципе сквозных соответствий; общность способов выражения и модальное их различие обусловливают на фоне развития знания методику строгих параллелизмов, подчеркивающих функциональное единство культуры. В. этом смысле стадия чувственного восприятия в теоретическом познании параллельна стадии мифа; образование понятий в языке — несовершенная параллель к логическому образованию понятий и т. д. С другой стороны, стадия чувственного восприятия может быть осмыслена как предварительная ступень чистой логики и, стало быть, миф, как автономная форма, является одновременно вехой на пути к логосу. Кассирер ссылается на глубокое изречение Гете, гласящее, что при каждом взгляде на мир мы уже теоретизируем; дело идет лишь о том, чтобы строго дифференцировать эти «взгляды» и изобразить динамику их развития. «Феноменология познания» выполняет эту задачу в сфере теоретического познания, но она охватывает также и проблематику предшествующих томов, поскольку первые ступени познания сращены еще со спецификой языка и мифа. Задачу познания Кассирер формулирует как преодоление этих ступеней. «Философское познание, — говорит он, — должно освободиться от насилия языка и мифа… прежде чем воспарить в чистом эфире мысли» (3.20). Пространство, время, число, понятие как таковое — эти основные категории мышления, проявляющиеся в различных модусах во всех сферах выражения, — опутаны в языке и мифе конкретно чувственным; логос здесь еще слишком физичен (не случайно Аристотель назвал ионийских натурфилософов «физиологами»); «Феноменология познания» — в прямо гегелевском смысле — рисует путь логической сублимации категорий, их истового и постепенного освобождения от внешних наростов и достижения царства чистого значения.
Общая картина этого пути, по Кассиреру, отмечена борьбой научного естествознания с мифическими и языковыми понятиями; специфический ракурс его выявляет борьбу принципа с образом и вещью. В этом смысле, кульминация, скажем, языка, мифа и науки представляют собою три неоднородных уровня, преодолеваемых в последовательном процессе развития. Мы знаем уже, что язык, по Кассиреру, достигает своей цели в постепенном продвижении от мимики и аналогики к символике. Миф, в свою очередь, кульминируется на совершенно своеобразном статусе этой символики. Символизмом характеризуется и последняя цель теоретического познания. Но и здесь качественная общность пределов различается Кассирером в их модальной специфике. Мысль Кассирера можно было бы пояснить на архитектурном примере. Символизм языка — фронтон греческого храма; язык достигает предела в самом акте наименования; фронтон в этом смысле кульминирует храм фронтисписью. Мифический символизм выражается в готической двубашенности, вырастающей над фронтоном; слово здесь не просто функция наименования, но и магическая сила; миф всегда развертывается в контрапункте имени и действа. И, наконец, научный символизм подобен ренессансному куполу, снимающему многозначность языкового и мифического имени в понятийной однозначности. «Феноменология познания» изображает этот процесс на всех стадиях «теории» как таковой. Общие черты и методологические особенности кассиреровской доктрины рассмотрены уже нами. Остается показать феноменологию символических форм in actu, в модальных триадах ряда ее общих категорий по схеме: язык-миф-познание.
ПРОБЛЕМА ПРОСТРАНСТВА
ПРОСТРАНСТВО В ЯЗЫКЕ
Пространственное созерцание, по Кассиреру, — один из первейших медиумов, через которые язык осуществляет свою логическую функцию возгонки впечатлений до представлений. Уже наиболее общие выражения духовных процессов отмечены несомненной печатью пространственных представлений; эта «метафорическая» передача сохраняется и в высокоразвитых языках. Таковы немецкие выражения представления (Vorstellen), понятия-понятия (Begreifen) и т. д., имеющие прямые аналоги не только в родственых языках индо-германской (индоевропейской) ветви, но и во всех других. Но особенной точностью отличаются в этом отношении языки первобытных народов; пространственные различия как бы рисуются здесь вплоть до учета самомалейших штрихов и нюансов. Вестерман (об этом уже была речь) фиксирует до 33 специальных выражений процесса хождения в языке Эве. По мнению Креферда, малайо-полинезийские языки столь остро различают самые разнообразные положения человеческого тела, что анатом, художник или скульптор могли бы извлечь из этого непосредственную пользу; в яванском например, через одно особое слово передаются десять различных способов стояния и двадцать — сидения. Кассирер приводит интересный пример из наблюдений Боаса над языками американских туземцев: фраза, подобная нашей «Человек болен», выражается в них таким образом, что в ней отмечается, на каком расстоянии от говорящего находится субъект, о котором идет речь, виден ли он или не виден. Пространственная характеристика включает здесь в себя также временные, качественные и модальные различия: цель действия, например, тесно связана с пространственной целью и т. д.
Во всех этих фактах, считает Кассирер, проявляется общая черта языкового мышления, имеющая также высокую познавательную значимость. Речь идет о способности языка к тому познавательному явлению, которое Кант описал в главке о «схематизме чистых понятий рассудка». Применение понятий к чувственным созерцаниям было бы, по Канту, невозможным без участия посредника, объединяющего эти разнородные элементы. Такова «трансцендентальная схема», познавательный кентавр, чувственный и интеллектуальный одновременно. Схему Кант строго отличает от образа: образ — продукт эмпирической способности продуктивного воображения, схема же — условие возможности самих образов, как бы монограмма чистой априорной силы воображения. «Язык, — пишет Кассирер, — в своих наименованиях пространственных содержаний и связей обладает такой «схемой», к которой он относит все интеллектуальные представления. Дело обстоит так, как если бы все мысленные и идеальные отношения усваивались языковым сознанием лишь через то, что оно проецирует их на пространство и аналогично «отображает» в нем» (1.149).
Эта функция действенна, по мысли Кассирера, уже в древнейших из известных языку пространственных словах. Они в равной степени обращены и к «чувственному» и к «интеллектуальному»; их вещность просвечивает затаенными глубинами специфики языковых форм. Фонетика вскрывает нам первый момент этой связи; едва ли существует, по Кассиреру, какой-нибудь класс слов, где характер «естественных звуков» был бы выражен столь сильно, как в словах, обозначающих «здесь» и «там», «даль» и «близь». Дейктические частицы, фиксирующие эти различия, являются в большинстве языков как бы отголосками прямых «звуковых метафор». Звук не выходит здесь за пределы гласных жестов, подобно тому, как в указательных жестах он служит лишь усилению последних. Кассирер ссылается на бругмановский анализ указательных местоимений индогерманских языков, где отчетливо выводится членение пространства в наипростейших языковых средствах и тем самым доказывается наличие некоей идеальной функции в простой группе «естественных звуков». Дифференциация местоположений обусловливает дифференциацию местоимений (я, ты, он) и физических объектов. Пространственные обозначения предваряют лингвистическое образование категории «предмета». Совершенно особым образом выступает это взаимодействие между категорией пространства и категорией субстанции в употреблении определенного артикля, который, возникая из пространственного представления, преследует цель более определенной выработки субстанциального представления. Поскольку определенный артикль является относительно поздним языковым образованием, этот переход представлен в нем еще вполне отчетливо; в индогерманских языках возникновение его прослеживается в частных случаях; он отсутствует не только в древнеиндийском, древне-иранском и латинском, но и в древнегреческом времен Гомера (лишь аттическая проза регулярно применяет его); славянским языкам вообще чуждо последовательное употребление абстрактного артикля, а в семитских он и применяется и не применяется (в более древних, как эфиопский, например). Артикль в этом смысле сравнительно легко опознается как простой осколок из круга указательных местоимений. Из дейктической формы (Der-Deixis), по Бругману, выделяется определенный артикль; предмет (Der Gegenstand), к которому он относится, получает благодаря ему строгую определенность как «вне» и «там» находящееся, локально отличное от «я» и «здесь».
Функция артикля, образующая субстанциональное представление, развилась, как это видно из генезиса его, путем ряда опосредований и постепенно. Субстантивация вещи через артикль коренится, таким образом, в функции пространственного указания. Вообще процесс образования пространства в языке, по Кассиреру, отмечен экстенсивностью. Различие местностей в пространстве исходит из пункта нахождения самого говорящего и расходится в концентрически расширяющихся кругах, расчленяя объективную целостность, систему и совокупность локальных определений. Локализация поначалу тесно связана с материальными различиями; исходным пунктом ее Кассирер считает различение говорящим частей собственного тела. Тело служит как бы моделью построения мира; в нем человек обладает изначальной системой координат, точкой отсчета. Это доказывается, по Кассиреру, уже тем фактом, что выражение пространственных отношений сращено с определенными субстанциально-вещными словами, среди которых первое место занимают слова, обозначающие отдельные части человеческого тела. Так, в некоторых негритянских языках предлоги заменяются названиями частей тела: «позади» передается через спину, «перед» через глаз, «на» через затылок, «в» через живот и т. д. (Штейнталь). Примеры такого рода бесконечны; они сохранились даже в развитых языках. Пространственное происхождение имеют и индогерманские падежные формы. Общий прогресс языка отмечен, по Кассиреру, наличием и пространственных глаголов, исходящих уже не из отдельных частей тела, но из его движений. Кодрингтон утверждает в отношении меланезийских языков сравнительно позднее образование пространственных глаголов, выражающих гораздо более тонкие различия, чем пространственные существительные. Точкой отсчета, «абсолютной» системой координат и в этом случае выступает местонахождение говорящего и так называемого «адресата» («я» и «ты»). Многочисленные наблюдения показывают здесь не только ствердение языкового созерцания в «данности» пространства, но и преодоление его через изображение движений и чистой деятельности, в которых, по словам Кассирера, «чисто предметное, субстанциальное единство пространства с необходимостью преобразуется в динамически-функциональное единство, и само пространство построяется как целостность направлений действия, директивных и силовых линий движения» (1.163–164). Тем самым объективный аспект построения мира представлений дополняется новым фактором; здесь, в этой частной сфере образования языка, по Кассиреру, находит свое оправдание общий закон всех духовных форм, выражающийся в сотворении своеобразной корреляции между «я» и «действительностью». Выработка внешнего созерцания чеканит и внутреннее созерцание; формирование пространственых слов способствует обозначению «я» и его отграничению от прочих субъектов. Почти во всех языках личные местоимения возникали из пространственно указательных; полумимический, полулингвистический акт указания порождал противоположность не только пространственных расположений, но и личных местоимений. По Габеленцу, на которого ссылается Кассирер, «здесь» значит, где я есть, а то, что находится «здесь», я обозначаю как «это», в противоположность «тому», что «там» (таким образом объясняется в латинском употребление hiс, iste, ille = meus, tuus, ejus). Аналогичную связь Гумбольдт обнаружил в японском и армянском, Бругман — в индогерманских языках, Брокельман и Дильман — в семитских, Грунцель — в алтайских, Гэчет и Мэтьюс — в языках североамериканских и австралийских туземцев. Во всех этих случаях чисто «духовное» различение трех лиц не лишено еще непосредственно-чувственной, прежде всего пространственной окраски. «Явления подобного рода, — заключает Кассирер, — непосредственно указывают на то, как язык словно бы очерчивает вокруг говорящего чувственно-духовный круг и как он отводит центру «я», а периферии «ты» и «он». Своеобразный «схематизм» пространства, прослеженный ранее нами в построении объектного мира, оправдывается здесь в обратном направлении — и лишь в этой двоякой функции пространственное представление в языке достигает предельного совершенства» (1.166).
ПРОСТРАНСТВО В МИФЕ
Мифическое пространство, по Кассиреру, можно представить как своеобразное средостение между чувственно воспринимаемым и чисто теоретическим пространствами. При этом следует исходить из совершенной полярности обоих: так называемое «физиологическое» пространство не имеет ничего общего с «метрическим» пространством евклидовой геометрии. Если в основании последней лежат три существенных признака постоянства, бесконечности и гомогенности, то признаки эти не только чужды чувственному восприятию, но и противоречат ему, имеющему дело с конечным, анизотропным и негомогенным пространством. Мифическое пространство в этом смысле в такой же мере родственно чувственному пространству, в какой оно резко противопоставлено геометрическому. Оно, по Кассиреру, вовсе не ведает разделения «места» и «содержания»; место в нем всегда заполнено определенным содержанием. В противоположность гомогенности геометрического пространства, каждое местоположение и направление в нем словно бы помечено особым акцентом — здесь, считает Кассирер, сказывается основной мифический закон артикуляции мира через различение сакрального и профанного. Первичное пространственное различение, свойственное мифу, сводится как раз к этим двум сферам: обычной, всеобще-доступной и экстраординарной, запретной.
Но мифическому пространству, при всем его отличии от «рационального», присуща также некая общая функция, выражающаяся в соотнесении самых несхожих элементов и в изображении качественных различий, по природе своей непространственных. Эту функцию Кассирер, как и в случае языка, объясняет через «схематизм», благодаря которому миф переводит качества в пространственные образы и придает им наглядность. Так, в древнейших тотемистических воззрениях мы встречаемся с расчленением всего бытия на классы и группы; каждая вещь становится здесь «понятной» лишь через включенность в систему тотемистических классов и помеченность какой-нибудь характерной меткой. Последняя, по Кассиреру, никоим образом не должна быть принимаема за простой знак; это — выражение реально ощущаемых связей, которые обозреваются лишь в пространственном выражении (такова изначальная форма мифомышления, проявляющаяся в самых различных мифологиях). Но и здесь универсальность пространственного созерцания отличается от чисто теоретического построения пространства. Функциональному пространству чистой математики миф противопоставляет структурное пространство; весь космос, считает Кассирер, построен в мифе как бы по одной определенной модели, являемой либо в увеличенных, либо в уменьшенных масштабах, но при этом всегда неизменной. «Всякая связь в мифическом пространстве покоится, в конечном итоге, на этой изначальной идентичности; она восходит не к однородности действия, не к динамическому закону, а к изначальному тождеству сущности» (2.114). Классическим выражением этого принципа является, по Кассиреру, астрология с ее учением о предетерминации, где целое содержится уже в самом начале жизни человека, в констелляции часа его рождения, и лишь проявляется (не возникает!) во времени, всегда в каждой части равное себе. Но астрология кульминирует мифическое созерцание пространственно-физического космоса (в аспекте планетарного мира); и миф, по Кассиреру, движим, как и язык, постепенным выхождением из тесного круга чувственно-пространственного бытия. Как и языку, ему присуще ориентироваться в пространстве по частям человеческого тела, «отображая» в них определенные сферы расчлененного бытия. Кассирер полагает, что зачастую именно в форме этого отображения следовало бы искать ответа на вопрос о мифическом первоначале; во всяком случае к ней сводится вся мифическая космография и космология. Но поскольку мир образован из частей некоего (человеческого или сверхчеловеческого) существа, ему, при всей разрозненности отдельных его элементов, всегда свойственно мифически-органическое единство. В одном из гимнов Ригведы изображено такое возникновение мира из тела Пуруши; мир и есть Пуруша, которого боги принесли в жертву, создав из его особым образом раскромсанных членов совокупность отдельных существ. «Так, — гласит комментарий Кассирера, — на самой заре мифомышления единство микрокосмоса и макрокосмоса, воспринимается как через образование человека из частей мира, так и через образование мира из частей человека» (2.116). Аналогичная, хотя и в обратном направлении, картина явлена в христианско-германской мифологии, где тело Адама образуется из восьми частей по принципу соответствия их земле, морю, растениям и т. д. В обоих случаях, по Кассиреру, миф исходит из пространственно-физического соответствия между миром и человеком, заключая от этого соответствия к единству первоначала. Впрочем, он не ограничивается только отношением человека и мира. Поскольку всякое сходство восходит в мифомышлении к принципу идентичности, этот принцип фундирует и аналогию пространственных структур. Последние значимы лишь в той степени, в какой они являются различными формами выражения одной и той же сущности, проявляющейся в совершенно разных измерениях. Именно в этом принципе видит Кассирер объяснение странного факта отсутствия в мифе пространственной дали; самое дальнее сключается с самым близким, коль скоро оно может каким-либо образом «отражаться» в нем. Эта категория универсального соответствия — один из наиболее фундаментальных устоев мифомышления; Сведенборг в XVIII столетии построил на ней свою систему «небесных арканов». На ней зиждется не только «магическая анатомия», но и мифическая география и космография, зачастую даже синтез их. Семичастная карта мира Гиппократа изображает землю в виде человеческого тела; голова обозначает Пелопоннес, Истмосу соответствует спинной мозг, Ионии — диафрагма, т. е. как бы «пуп мира»; при этом имелись в виду, все духовные и нравственные свойства народов, заселяющих эти местности. Понять описанный феномен можно, по Кассиреру, лишь исходя из специфики мифического сознания пространства. Ибо мифомышление просто исключает какую-либо внешнюю и случайную связь между сущностью вещи и ее местонахождением; напротив, место само есть часть бытия вещи. По наблюдениям Гоуита, члены австралийских туземных кланов состоят в родстве не только друг с другом, но и с определенными местностями, где каждому клану принадлежит прежде всего одно точнейшим образом определенное направление в пространстве и определенный участок. Умерших членов клана хоронят, располагая трупы так, чтобы они сохранили место и направление, выделенное их клану. Во всем этом, считает Кассирер, выявляются две основные черты мифического чувства пространства — сплошная квалификация и партикуляризация, из которых оно исходит, — и систематизация, к которой оно стремится. Последняя черта наиболее отчетливо заметна в астрологической форме «мифической георафии». Кассирер приводит в этой связи весьма выразительный пример. Уже в древнем Вавилоне земля, сообразно своей принадлежности к небу, была разделена на четыре области: над Аккадией, т. е. южным Вавилоном, бодрствовал Юпитер, над Амурру, западом, — Марс; области Субарту и Элам, север и восток, подчинялись Плеядам и Персею. Позднее существовала и семичленная планетарная схема. Здесь, по Кассиреру, мифомышление исходит уже не из ориентировки на человеческое тело; сугубо чувственное воззрение преодолевается универсальным и космическим, но принцип упорядочения остается неизменным. Мифомышление охватывает некую вполне определенную, конкретно-пространственную структуру и использует ее как бы в качестве компаса для ориентации во всем мире. При этом, считает Кассирер, вопрос должен ставиться не о механизме транспозиции чисто качественных различий в пространственные, но о мотиве, побуждающем мифомышление свершаться в изначальном полагании именно этих пространственных различий. Иными словами, вопрос ставится о выделении в мифическом пространстве вообще отдельных «местностей» и направлений: каким образом происходит мифическая акцентация пространства? Кассирер пытается решить эту проблему по аналогии: несомненно, что миф расчленяет пространство по совершенно иным критериям и признакам, чем теоретическое мышление, которое опирается на идеальную систематизацию многообразия чувственных впечатлений. Эмпирическая прямая, эмпирический круг и шар получают определенность лишь на фоне идеального геометрического мира, прямой, круга и шара как таковых. Совокупность геометрических законов служит нормой и инструкцией для эмпирически-пространственного мира. Аналогично обстоит дело и с физическим пространством: прогресс физики, по Кассиреру, отмечен решительным искоренением всех «антропоморфных» составных частей физической картины мира. Так, в космических масштабах физика устраняет чувственное противопоставление «верха» и «низа», которые значимы здесь лишь в связи с эмпирическим явлением тяжести и закономерностью ее. Физическое пространство обозначается как силовое пространство; понятие же силы, в своем чисто математическом понимании, восходит к понятию закона и, стало быть, функции. Совершенно иную картину являет структурное пространство мифа. В нем закон заменен неким ценностным акцентом, выражающимся в противоположности сакрального и профанного. Никаких чисто геометрических или чисто географических, идеально помысленных или эмпирически воспринятых различий; только наличие некоего прачувства, на котором зиждется все и к которому восходят все дифференциации пространства. Направления расходятся в пространстве исключительно в силу своей помеченности различными акцентами; эта же акцептация сообщает им специфическую значимость. По Кассиреру, мы сталкиваемся здесь со спонтанным актом мифически-религиозного сознания, имеющим, впрочем, определенный физический коррелят. «Расцвет мифического чувства пространства, — говорит он, — повсеместно исходит из противоположности дня и ночи, света и тьмы» (2.122). Исключительное значение этой противоположности определяется ее ролью в формировании религиозных культур; отдельные религии (в особенности иранская) могут быть прямо обозначены как сквозная систематизация ее. Происхождение мира и миропорядка мифомышление сводит к борьбе света и тьмы и к победе света: вырыв света из тьмы Кассирер, применяя гетевский термин, называет первофеноменом мифа. С этим первофеноменом и связано членение мифического пространства по акцентации сакрально-профанного. Восток и Запад, Север и Юг в этом смысле вовсе не различаются здесь на манер эмпирического восприятия; всем им присуще специфическое бытие и специфическая значимость, воспринимаемая не как абстрактно-идеальная связь, а как самостоятельное живое «образование» — это, по Кассиреру, доказывается уже тем, что они особым образом обожествлены. Акцентировано каждое пространственное определение; каждому присущ «характер»: божественный или демонический, сакральный или профанный, дружественный или враждебный. Восток, будучи восходом света, есть также исток и начало всяческой жизни; Запад, как закат света, овеваем ужасами смерти; феномен восходящего и заходящего солнца контрапунктирует мифические события. Здесь, по Кассиреру, вновь мы встречаемся с динамикой, присущей всем подлинно духовным формам выражения. Форма не обусловлена застывшей границей между «внутренним» и «внешним», но изображает их текучесть. «Так, в пространственной форме, набрасываемой мифомышлением, вырисовывается общая мифическая жизненная форма» (2.126). Классическим выражением этой взаимосвязи Кассирер считает римский сакральный порядок, детально описанный Ниссеном. Здесь мифически-религиозное чувство сакрального объективируется в созерцании пространственных отношений. Освящение выражается и изображается в пространстве: путем выделения и ограждения определенного участка. Эту связь язык сохранил в слове templum, восходящем к корню τεμ (греч. τέμενος) и означающем вырезанный, ограниченный. Так, поначалу обозначает оно священный, принадлежащий божеству участок; в дальнейшем применении оно распространяется на каждый отдельный земельный участок, поле или сад, принадлежащие теперь божеству, царю или герою. Но, по древнейшему религиозному воззрению, такой замкнутой и освященной областью является и все небесное пространство; и оно — храм, заселенный единым божественным бытием. Это единство подвергается теперь сакральному членению. Небо разделяется на четыре полярные части: Юг, Север, Восток и Запад. Из этого изначального деления вырастает вся система римской «теологии». Авгур, наблюдающий небо, дабы вычитать в нем знаки земных свершений, предварительно расчленяет само небо на определенные отрезки. Восточно-западная линия, отмеченная ходом солнца, просекается вертикалью северо-южной линии. Этим крестным пересечением обеих линий (decumanus и cardo, как обозначает их жреческий язык) религиозное мышление образует себе схему координат; Ниссен подробно прослеживает перенесение и дифференциацию этой схемы в области правовой, социальной, государственной жизни; на ней покоится развитие понятия собственности и обозначающей ее символики, ибо самый акт «лимитации», образующий собственность как таковую, повсеместно связан с сакральным порядком пространства, с делением мира накрест. Отсюда же берет начало и разделение ager publicus и ager divisus et adsignaius в римском государственном праве: идея templum’а определяет не только частную собственность, но и мельчайшую структуру италийских городов. К ней, как это показали исследования Морица Кантора, восходит и римская математика. Кассирер идет дальше, находя аналогичные отзвуки и в греческой математике, развивавшей форму логико-математического определения из мифически-пространственной ориентировки. Язык, считает он, сохранил живые следы этой связи в латинском выражении contemplari, означающем чисто теоретическое созерцание и этимологически восходящем к идее Templum’a, размеченного пространства небесных созерцаний авгура. «Контемпляция» органически присуща и христианскому средневековью (в праксисе школы Гуго Сен-Виктора она знаменует последнюю стадию познания). Но изначально пространственный смысл ее, по Кассиреру, ярче всего выражен в храмовой символике, ориентирующейся по четырем частям света, сообразно четвероякости креста.[77]
Таким образом, построение пространства в мифе всегда связано с сакральными воззрениями. Кассирер обращает внимание в связи с этим и на интереснейший факт границ мифического пространства. «Почти везде, — говорит он, — наличествуют таинственные обычаи, в которых одинаковым или схожим образом высказывается почитание порога и страх перед его святостью» (2.131). Так, уже римляне почитали Terminus как божество в виде межевой черты, которая на празднестве терминалий украшалась венком и окроплялась кровью жертвенного животного. В самых различных культурах почитался порог храма, отделяющий божественное пространство от профанного мира; сакральность порога выразилась впоследствии в форме демаркации, защищающей землю, поле, дом от вражьего посягательства. Вся эта пространственная символика, считает Кассирер, простирается на такие жизненные отношения, которые не имеют никакой прямой связи с пространством. Но такова природа мифомышления: качественная акцентация любого сколько-нибудь значимого содержания всегда изображается здесь в форме пространственного обособления.
ПРОСТРАНСТВО В ПОЗНАНИИ
Построение зримой действительности, по Кассиреру, начинается с разделения текучих и безразличных рядов чувственных феноменов; в потоке явлений устанавливаются определенные единства, образующие прочные средоточия ориентировки, и каждый отдельный феномен получает отныне свой смысл лишь через связь с этими центрами. Рост «объективного» познания с каждым шагом расширяет этот процесс; особенно важную роль играет здесь разложение феноменального мира на презентативные и репрезентативные моменты, позволяющие определять субстанциальные единства, связующие изменчивые явления, также и как пространственные единства. Вещь получает свою определенность лишь через установление ее «места» во всем окоеме пространства, каждая вещь действительна прежде всего в силу этого места; ее индивидуальность, говорит Кассирер, покоится на том, что она есть пространственный «индивидуум». Проблема вещи-свойства приводит, таким образом, к проблеме пространства.
«В каком отношении, — так формулирует Кассирер основную свою задачу, — находится проблема пространства к общей проблеме символа? Есть ли пространство, «в» котором нам предстают вещи, некая простая зримая данность, или, быть может, оно является плодом и результатом процесса символического формирования?» (3.166–167). Здесь, в этом вопросе, считает Кассирер, центр тяжести проблемы смещается от натурфилософии к культурфилософии, ибо «пространство» оказывается в круге проблем общей «феноменологии духа». И хотя традиционной психологии и теории познания чужда сама постановка проблемы пространства как «символической формы», все же история теорий пространства выявляет некий общий признак, характерный для самых различных концепций: «рационалистических» или «сенсуалистических», «эмпиристических» или «нативистических» — понятие знака. Таковы, по Кассиреру, учения о пространстве Кеплера и Декарта, впервые положившие основу для математически точной трактовки проблемы; таковы, по его мнению, и «Новая теория зрения» Беркли, ставшая исходным пунктом «физиологической оптики», и все новейшие учения вплоть до Гельмгольца и Геринга, Лотце и Вундта. Краткий исторический экскурс, как всегда, предваряет и здесь ответ самого Кассирера.
Анализ понятия пространства у Декарта теснейшим образом связан с его анализом понятия субстанции; между ними наличествует методическое единство и корреляция. Картезианская метафизика определяет «вещь» (эмпирический предмет) через ее чисто пространственные определения; единственно объективным предикатом ее является протяженность по длине, ширине и глубине; все прочие свойства предмета растворяются в этом предикате. Но между понятием вещи и математическим понятием пространства, по Декарту, наличествует нерасторжимая связь, явная в факте их сопринадлежности к одинаковой логической функции; ни идентичность вещи, ни непрерывность и однородность геометрической протяженности не являются чем-то непосредственно данным в ощущении или восприятии. Поэтому, все определения, прилагаемые нами к пространству созерцания, Декарт считает чисто логическими; не только пространство чистой геометрии, но и субстанциальное пространство определяется признаками постоянства, бесконечности и однородности. В этом смысле пространство является для Декарта конструктивной схемой мысли, творением «универсальной математики», ибо всякий акт пространственного восприятия заключает в себе акт измерения и, стало быть, математического заключения. Созерцание здесь связано с теоретическим мышлением, а последнее — с логическим суждением.
Прямую противоположность картезианству являет «Новая теория зрения» Беркли, хотя она, по Кассиреру; связана с ним общим исходным пунктом. Чувственные ощущения, к которым сенсуалист Беркли сводит всю действительность, считаются им все же недостаточными для объяснения специфического осознания пространственности. Образ пространства возникает, по Беркли, не через присоединение к восприятиям чувств (в особенности зрения и осязания) некоего качественно нового восприятия, но через установление определенного отношения между данными отдельных чувств и через упорядоченность их. Расхождение с Декартом начинается в точке объяснения этой упорядоченности, Беркли резко критикует геометризм Декарта; идея «чистого пространства», как и «абсолютного пространства» Ньютона, представляется ему не идеей, а идолом. Ни правила логики, ни чистая чувственность не создают нам пространства; по Беркли, здесь мы имеем дело скорее с правилами «силы воображения», отличающимися от логических правил отсутствием всякой необходимости. Обычай и навык связывают отдельные чувства и вызывают созерцание пространства; чисто презентативное содержание получает здесь репрезентативную функцию посредством простой репродукции; к силе «восприятия» добавляется сила «суггестии», через которую отдельные чувственные впечатления, «указуя» на другие, выстраиваются в цепь пространственного мира.
Рационалистическое учение о пространстве Декарта и эмпиристическое Беркли послужили толчком к появлению множества теорий самых различных направлений, остающихся по сути дела в круге указанной альтернативы: идти путем «рефлексии» или путем «ассоциации». Выбор этих путей не всегда сводился к однозначному решению; так, Гельмгольц, придерживаясь, будучи математиком и физиком, картезианского интеллектуализма, тяготел, как физиолог и эмпирик, к берклианству. Его теория «бессознательных заключений», восходя исторически и систематически к «Диоптрике» Декарта, створяется, с другой стороны, с теорией ассоциации и репродукции. Но такова и общая теория знака, развитая Гельмгольцем. Эта дилемма, по Кассиреру, преследует почти все «знаковые теории» пространства: ассоциация ощущений, приводящая к логическому суждению. Уже «нативизм» Геринга, однако, подчеркинул несостоятельность этих теорий: из совместности непространственных элементов не может «возникнуть» нечто пространственное; новая психология попросту отвергла их. Вопрос был поставлен иначе: не как из непространственного возникает качество пространственности, а каким образом и в силу каких опосредований простое прагматическое пространство переходит в систематическое пространство. Иными словами, дело идет о дистанциях, отделяющих первичное переживание пространства от оформленного пространства, как условия созерцания предметов, и это последнее от строго математического пространства. Непосредственной задачей Кассирера является исследование именно второго типа пространства (как символической формы). «То, что мы называем пространством, — пишет он, — есть не какой-то своеобразный предмет, опосредованно являющийся нам и опознаваемый через какие-либо «знаки», но скорее своеобразный способ, особый схематизм самого изображения. И в этом схематизме сознание получает возможность новой ориентировки, получает специфическую направленность духовного взора, благодаря которому все формы «объективной», неподатливой действительности как бы подвергаются теперь преобразованию» (3.174). Такая постановка вопроса, считает Кассирер, исключает всякий реальный переход от «качества» к «количеству», от «интенсивности» к «экстенсивности» и т. д. Она нацелена не на генезис сознания пространства, а на переменную значимость его в пределах теоретического познания. Уже на примере языка Кассирер попытался показать переход от чисто прагматического, действенного пространства к предметному и созерцательному. Сфера познания, по его мнению, резче и ярче акцентирует этот переход. Пространство строится в «синопсисе», в единовременном взгляде, дарующем многообразию единство; которое Платон считал условием созерцания идей, обусловливает созерцание и пространства. «Переход от простого действия к схеме, символу, изображению всегда знаменует подлинный «кризис» сознания пространства, кризис, который не ограничен кругом этого сознания, но идет рука об руку с общим духовным поворотом и изменением, с «революцией типа мышления» как таковой» (3.178–179).
Каков же, по Кассиреру, характер этого «кризиса»? Уже анализируя отношение вещь-свойство, он утверждал зависимость «константности» вещи от пространства. Созерцание обеих возможно, по его мнению, лишь через своего рода «синхронизацию» потока переживаний, которая совершается путем приложения к моментам ускользающего события различного значения, различной, так сказать, «валентности». Так, в самой гуще протекания появляются определенные опорные точки; на них, как на нечто постоянное, указывают текучие содержания. Подобно тому, как в лингвистическом знаке мы схватываем не чувственные модификации его, а смысл, сообщаемый им, так и отдельное явление перестает довлеть себе, как скоро оно функционирует в качестве знака некоей предметной общности. Здесь, по Кассиреру, мы сталкиваемся и с необходимым условием построения пространственного созерцания. Восприятие как бы раскалывается на компоненты, в которых постоянное отделяется от переменного, «типичное» от «преходящего». Собственно предметное пространство образуется лишь тогда, когда определенным восприятиям приписывается репрезентативная ценность и они становятся прочными исходными пунктами ориентации, нормами, по которым мы измеряем другие восприятия. Это обстоятельство было учтено в психологии Джемса, подчеркнувшего мотив «селекции», как важного условия выработки пространственного представления. Во всех оптических ощущениях, считает Джемс, опыт вынуждает нас производить селекцию и отличать «действительные» формы предмета от более или менее случайных и второстепенных.
Параллель этому процессу Джемс находит в языке: единство вещи, занимающее место многоразличных свойств ее, уподобляется единству имени. «Благодаря этому процессу, — говорит Кассирер, — отдельные пространственные ценности приобретают для нас своеобразную «прозначность». Подобно тому, как глядя сквозь случайные световые тона, окрашивающие предмет, мы видим его «постоянные» цвета, так и многоразличные оптические образы, возникающие в нас при движении объекта, во всей их особенности и изменчивости, не препятствуют нашему сквозному видению его «постоянной формы». Они не простые «импрессии», но функции «изображения»; из «аффекций» они становятся «символами» (3.182).
Здесь, по Кассиреру, вновь проявляется универсальный принцип всей «Философии символических форм»: наличие символической функции не только в высших научных фазах теоретического познания, но и в первичных формах восприятия. Отчетливее всего это видно на сравнении структуры «восприятийного пространства» со структурою «абстрактного» геометрического пространства (вспомним: между ними Кассирер помещает мифическое пространство). Разнородность обеих структур очевидна: математические предикаты постоянства, бесконечности или гомогенности не приложимы к восприятийному пространству. И тем не менее им присущ некий общий момент, поскольку в обеих сказывается определенный способ образования констант. Феликс Клейн показал, что «форма» любой геометрии зависит от того, какие определения и отношения пространственного рода отбираются в ней и полагаются неизменными. Обычная «метрическая» геометрия исходит из приписывания пространственному образованию всех тех свойств и связей, которые не затронуты вполне определенными изменениями, как-то: передвижением фигуры в абсолютном пространстве, пропорциональным ростом или убылью отдельных сторон его определения, наконец, известными обращениями в расположении его частей. Форма может пройти через любое число таких превращений, и все же она остается одинаковой в смысле метрической геометрии, поскольку она репрезентирует идентичное себе геометрическое понятие. Но, разумеется, при установлении подобных понятий мы не связаны окончательно с выбором определенных трансформаций. Так, метрическая геометрия переходит в проективную, когда в операциях над неизменной пространственной формой мы дополнительно учитываем кроме движения, трансформации подобия и отражения всю общность возможных проективных деформаций. Согласно «Эрлангенской программе» Клейна, всякая особая геометрия есть, поэтому, теория инвариантов, относящаяся к определенным трансформационным группам. Но именно здесь, по Кассиреру, становится ясным, что концепция различных «геометрий» и лежащее в основании каждой из них образование понятия пространства лишь развивают процесс, имеющий место в формировании эмпирического пространства. Ибо и последнее возможно лишь через группирование множества оптических «образов», так что группы воспринимаются как изображения одного и того же «предмета». Изменчивые явления образуют периферию, из каждой точки которой исходят стрелки, управляющие нашим наблюдением и непрестанно возвращающие его к центру единства вещи. При этом, считает Кассирер, можно и здесь — хотя и не в таком объеме, как в геометрии, — выделять различные средоточия; центр отношения может быть смещен, и всякий раз подобное изменение явления изменяет конкретно-зримый смысл его и содержание. Таков, например, известный феномен «оптической инверсии», когда одинаковый оптический комплекс может преобразовываться в тот или иной пространственный предмет. Причина таких инверсий лежит не в обманных суждениях или представлениях, а в переживаниях восприятия.
Итак, построение пространства во всех фазах познания связано, по мысли Кассирера, с подведением эмпирического многообразия под единую «точку зрения», сопровождающую весь ряд чувственных элементов и придающую им осмысленность и определенность. Кассирер сближает этот процесс с процессом образования понятия — мы увидим еще в дальнейшем специфику построения логического понятия в «Философии символических форм». Специфика построения пространства лучше всего проясняется им на примере различных геометрических «пространств». В зависимости от напряжения взгляда на ту или иную цель, в зависимости от полагания им того или иного момента как «инвариантного», возникает тот или иной «вид пространства», конституируется понятие «метрического», «проективного» и прочих пространств. Но к этому непрестанному акту «селекции» восходит, в конечном итоге, и пространство эмпирического созерцания; селекция же всякий раз требует определенного принципа выбора, определительной точки зрения. И здесь одинаковым образом полагаются опорные пункты, вокруг которых, как вокруг осей, вращаются явления. Но поскольку точка вращения и, стало быть, смысл вращения могут изменяться, то отдельное восприятие способно получать самые различные значения для целостного построения пространственного мира. Эти различия, однако мыслимы лишь на фоне единства теоретической основной функции, господствующей над всем комплексом отношений. «Когда восприятие, — заключает Кассирер, — не остается простым схватыванием чего-то единичного, здесь-и-теперь данного, когда оно приобретает характер «изображения», пестрая полнота феноменов стягивается тем самым в «контекст опыта». Различие между обоими основными моментами изображения — между изображающим и изображаемым, между «репрезентантом» и «репрезентатом» — несет в себе зародыш, развитие и совершенное проявление которого порождает мир пространства, как мир чистого созерцания» (3.187).
ПРОБЛЕМА ВРЕМЕНИ
ВРЕМЯ В ЯЗЫКЕ
Точное различение временных отношений в языке является, по Кассиреру, гораздо более трудной и сложной задачей, чем образование пространства. Пространственные моменты типа «здесь» и «там» сравнительно легко связываются в созерцательное единство, в силу своей одновременной данности. Но ничего подобного нельзя утверждать о моментах времени; наличие одного предполагает отсутствие другого, и поэтому содержание представления времени никогда не замыкается в непосредственном созерцании. Поскольку, считает Кассирер, элементы времени определяются лишь в пробеге сознания и различаются в нем друг от друга, то самый этот пробег (discursus) включается в характерную форму понятия времени.
Но тем самым временное бытие (последовательность) оказывается на совершенно иной ступени, чем пространство, и путь языка к этой ступени соответственно отмечен выработкой новой духовной формы.
Мы видели уже, что образование древнейших пространственных слов Кассирер сводит к постепенному процессу вычленения из чувственного звукового материала локальных обозначений. Аналогичный процесс, по его мнению, развитие языка выявляет в новом ракурсе, когда мы наблюдаем формирование временных частиц. Текучесть границы, разделяющей сферу естественных звуков и простейших пространственных слов, сохраняет свою природу и между пространственными и временными обозначениями; даже в наших современных языках довольно часто обе сферы образуют некое неразличимое единство, так что приходится считать обычным явлением употребление одного и того же слова для выражения как пространственных, так и временных отношений. В первобытных языках это явление встречается гораздо чаще; Гэтчет и Кодрингтон приводят массу примеров, когда простые наречия места одинаковым образом употребляются во временном смысле, так что, например, слово, обозначающее «здесь», сливается со словом, обозначающим «теперь» и т. д. Кассирер отклоняет попытки объяснить этот факт через объективную взаимообусловленность пространственной и временной близости и дали, где разыгрывающееся в пространственно отдаленных местностях должно в самый миг высказывания о нем быть в прошедшем времени. Дело идет здесь, по его мнению, не о реально-фактических связях, а об идеальных; это — ступень сознания, которая еще относительно недифференцирована и не чувствительна к специфическим, различиям пространственной и временной форм. Стало быть, на этой ступени язык еще не в состоянии выделить своеобразие временной формы как таковой; даже структурные связи последней непроизвольно преобразуются здесь в пространственные. «Здесь» и «там» определяются простым отношением дистанции, которая позволяет переход как от одного к другому, так и обратно от другого к одному. В противоположность этому время необратимо. Но обозначая временные определения по пространственным аналогиям, сознание упускает из виду самое специфику их; первичное созерцание времени как бы расщепляет целостность сознания на две сферы: на «теперь», освещенное «настоящим», и на темный круг всего, что «не-теперь». Это простое расщепление, по Кассиреру, преодолевается с развитием сознания. Вообще переход от чувства времени к понятию времени он разделяет на три этапа, имеющие, по его словам, решительное значение и для отражения сознания времени в языке. Первый этап отмечен полным господством в сознании противоположности «теперь» и «не-теперь», лишенной всяческих дифференциаций; второй этап начинается с различения определенных временных форм, где совершенное действие отличается от несовершенного, постоянное от преходящего, так что вырабатывается четкая градация временных видов действия; и, наконец, на третьем этапе появляется чистое понятие времени как абстрактного понятия порядка и возникают различные ступени времени.
Подобно отношениям пространства, и время первоначально опутано в сознании признаками вещи и свойства. Различия временных значений поначалу кажутся еще различиями свойств; по Кассиреру, это явление присуще отнюдь не только глаголам, но и существительным. Смысл времени и многоразличие его отношений фиксируется не иначе, как в феномене изменения; здесь глагол, будучи выражением определенного состояния изменения или обозначения самого акта перехода, выступает единственным носителем временных определений (не случайно, что немецкое выражение Zeitwort — временное слово — означает именно «глагол»). Необходимость этой связи подчеркивал еще Гумбольдт; глагол, по Гумбольдту, есть концентрация энергической (не просто качественной) атрибутивности через бытие, где атрибутивность заключает стадии действования, а бытие — стадии времени. Но уже сам Гумбольдт оговаривает это определение, как не одинаково свойственное всем языкам. Так, в малайских языках, например, отношение времени связано с существительным. Наиболее отчетливо эта связь проявляется там, где для различения пространственных и временных отношений употребляются одинаковые языковые средства (примеры этого Кассирер находит у Тилинга, Боаса, Годдарда). Сознание еще не в состоянии различать чистую специфику временного; «теперь» и «не-теперь» содержательно уподобляются «здесь» и «там». Решительный поворот к форме времени обусловлен, по Кассиреру, противоположностью прошлого и будущего.
Так, исследования по детской психологии показывают, что в развитии детской речи образование наречий времени появляется позже наречий пространства, а выражения типа «сегодня», «вчера» и «завтра» поначалу лишены сколько-нибудь острого временного отграничения: «сегодня» значит здесь в настоящем вообще, «вчера» и «завтра» выражают прошлое и будущее вообще; различение временных качеств сопровождается отсутствием количественной меры. Но в некоторых языках стирается даже качественный аспект; Вестерман, например, приводит случай из языка Эве, где одно и то же наречие служит для обозначения как «вчера», так и «завтра». Аналогичный пример находит Кассирер в грамматике языка Шамбала, составленной Рёлем; здесь одним словом охватываются как самое далекое прошлое, так и самое далекое будущее. Это поразительное явление Рёль объясняет местными негритянскими воззрениями на время как на вещь; по Кассиреру, вещность времени выражается также в том, что отношения времени передаются и через существителъные, имеющие первоначально пространственное значение. Единство действия распадается на части и постигается в них; само действие описывается во всех своих отдельностях, каждое из которых выражается особым словом. Причину этого Кассирер усматривает в примитивном представлении времени, ограниченном узким слоем сознания непосредственно свершающегося. «Целостность действия, — по его словам, — может поэтому апперципироваться в мысленном и языковом охвате не иначе, как через то, что сознание в буквальном смысле «осовременивает» его во всех его отдельных стадиях и как бы вдвигает эти стадии, одну за другой, в светлый срез непосредственного свершения» (1.175). В результате возникает некая мозаика, лишенная, однако, единства; каждая подробность определена на манер точки настоящего времени и, разумеется, из агрегата таких точек не может возникнуть никакой временной континуум.
Кассирер остроумно сближает эту лингвистическую форму с зеноновским парадоксом неподвижности летящей стрелы. Освобождение языка от этой трудности начинается, по его мнению, там, где язык вырабатывает себе совершенно новое средство для постижения временных структур. Схема сохраняется и здесь. Целостность времени, понимаемая прежде субстанциально, должна замениться функциональным единством. Созерцание временного единства действия двояко: оно исходит, с одной стороны, от субъекта действия, и, с другой стороны, от цели действия, и хотя оба момента лежат в совершенно различных плоскостях, они все же соединяются силою синтетического понятия времени, преобразующего их противоположность в соотнесенность. Этот функционализм, считает Кассирер, выражается в высокоразвитых языках фактом фиксации начального и конечного пункта действия (без созерцания частностей самого процесса) в единоохватном взгляде.
Но не противоречат ли этому воззрению на сложный и опосредованный характер чистого понятия времени грамматические данные «примитивных» языков, насчитывающих невероятное богатство временных форм глагола? Язык Сото, по Эндеману, обладает 38 утвердительными формами времени, сверх того -22 в потенциале, 4 формами в оптативе или финале, большим числом причастных образований, 40 кондициональными формами и т. д.; в языке Шамбала Рёль различает до 1000 Вербальных форм только в изъявительном наклонении действительного залога. Но эти данные выражают не чисто временные нюансы, а нечто другое; полнота вербальных форм, по Кассиреру, ссылающемуся здесь на исследования Зелера и Карла фон ден Штейнена, связана в этих языках с качественными и модальными различениями. Даже там, где язык начинает отчетливо вырабатывать временные определения, не может быть прямой речи о создании последовательной системы относительных ступеней времени. Прежде чем перейти к количественным различиям, язык пребывает в созерцательно-качественных; он поначалу различает не отношения «времен», а виды действия. Так, семитские языки исходят не из троякости прошлого, настоящего и будущего, а из двураздельности совершенного и несовершенного действия. Поэтому время совершенного действия, «Perfectum», может служить выражением как прошлого, так и настоящего, при обозначении действия, начавшегося в прошедшем и продолжающегося в настоящем, а «Imperfectum» может выражать еще не завершенное действие в процессе становления и поэтому, употребляться как в прошедшем и настоящем, так и в будущем (Брокельман). Аналогично обстоит дело и в древнейших индогерманских языках. Исследования Штрайтберга показали полнейшее отсутствие в них формальных категорий, обозначающих времена; место последних занимают здесь виды действия. По Бругману, постепенный переход от видов действия к чистым «временам» наблюдается и в древнегреческом при сравнении гомеровского языка с древнеаттическим. Таким образом, выработка чисто временных определений представляет сравнительно позднюю стадию развития языка.
Наиболее отдалены от первичной стадии созерцания времени те языковые выражения, которые, по Кассиреру, предполагают форму измерения времени и, стало быть, число. «Здесь, строго говоря, мы стоим уже перед задачей, превышающей круг языка и могущей найти решение лишь в возникших из сознательной рефлексии «искусственных» знаковых системах, образуемых наукой. Но язык содержит решительную подготовку и для этого нового свершения, поскольку развитие системы числовых знаков, лежащей в основании всякого точного математического и астрономического измерения, связано с предварительной выработкой числительных» (1.180).
ВРЕМЯ В МИФЕ
Временному аспекту в построении мифического предметного мира Кассирер придает большее значение, чем пространственному. Миф, считает он, начинается не только с формирования картины мира в образах богов и демонов, но и с сообщения этим образам происхождения, жизни во времени, с перехода от образа богов к сказу о богах («миф» и есть собственно сказ). Более того, созерцание времени здесь первее созерцания пространства, ибо лишь через процесс своего становления мифическое существо выделяется из полноты безличных сил природы и обретает форму; динамичность мифа в этом смысле обусловливает его артикуляцию и в первую очередь разделение космоса по принципу сакральное-профанное. «Подлинный характер мифического бытия, — подчеркивает Кассирер, — обнаруживается лишь там, где оно выступает как бытие происхождения. Вся сакральность мифического бытия восходит, в конечном итоге, к сакральности происхождения» (2.133). Время, поэтому, не только полагает мифическое содержание, но и является первичной формой его оправдания через соотнесение с прошлым, которое играет в мифе исключительную роль. Прошлое здесь абсолютизировано; именно этот фактор вынуждает подчас рассматривать мифическое сознание под знаком «безвременья», что, по Кассиреру, верно, если сравнивать время в мифе с объективно-космическим и объективно-историческим временем. В этом смысле мифическое время аналогично определенным стадиям языкового времени: обоим присуще одинаковое безразличие к дифференциации относительных временных ступеней (см. предыдущую главку). Но неправомерно уже само такое сравнение; в мифе (Кассирер здесь повторяет Шеллинга) господствует доисторическое время, неделимое и абсолютно идентичное. Дальнейший переход этого мифического «правремени» в последовательный временной ряд и здесь, по Кассиреру, совпадает с лингвистическим образованием времени. Выражение временных отношений постепенно развивается из выражения пространства; поначалу между обеими сферами нет острой границы; ориентация во времени предполагает ориентацию в пространстве, и лишь с формированием последней возникает более дифференцированное сознание времени. Первичное членение его зиждется все еще на смене света и тьмы, дня и ночи; схема ориентации адекватна здесь пространственной схеме; понимание временных разрезов покоится полностью на скрещенности восточно-западной и северо-южной линий, расчетверяющих небесное пространство. Эту связь Кассирер обнаруживает и в некоторых языковых выражениях: латинское tempus (время), соответствующее греческим τέενος и τέμπος, возникло из идеи Templum (см. стр. 156–157). Отсюда и времени придается особый акцент «сакральности»; оно, как и пространство, мыслится не в системе отношений, но в олицетворенности существ, что приводит к культу времени и отдельных временных разрезов, от столетий и годов, до времен года, месяцев, дней, даже часов (как в персидской религии). Миф не ведает времени как равномерной длительности; в нем наличествуют определенные «временные образы», символизирующие приход и уход, ритмическое бытие и становление, т. е. расчленность целого, которая не подлежит измерению и счету, но непосредственно ощущается в форме ритуальных празднеств и вообще религиозных действ. Поэтому, как и в случае пространственных границ, границы времени наделяются сакральным характером. Мифическое сознание, по Кассиреру, обладает утонченной чувствительностью к той своеобразной периодике и ритмике, которая господствует в жизни человека. С этим тесно связаны ритуалы перехода из одной жизненной фазы в другую; рождение и смерть, беременность и материнство, вступление в брак и т. д. приобретают здесь специфический смысл; в каждой фазе выявляется другое «я» человека и индивидуальная жизнь выглядит как смена рождений и смертей. «Отсюда видно, — говорит Кассирер, — что для мифического мировоззрения и мифического чувствования, прежде чем в нем образуется созерцание собственно космического времени, существует в некотором роде биологическое время: ритмически разделенные подъемы и спады самой жизни» (2.139). Но и космическое время первоначально переживается в этом своеобразном биологическом оформлении; регулярность природных свершений, периодичность в ходе созвездий и смене времен года, день и ночь, расцветание и увядание растительного мира проецируются на человеческое бытие и отражаются в нем как в зеркале. В этой соотнесенности, считает Кассирер, и возникает мифическое чувство времени, прокладывающее мосты между субъективной формой жизни и объективным созерцанием природы. Здесь же получает свое объяснение и магия.
Об «объективности» времени в математическо-физическом смысле, поэтому, в мифе не может быть и речи. Чуждо ему и «историческое» время. Здесь, по Кассиреру, действует одно из основных правил мифомышления, выражающееся в сращенности членов отношения; миф, строго говоря, не ведает явного разделения времени на прошедшее, настоящее и будущее; его тенденция направлена на нивелировку всяких разделений подобного рода. Кассирер подчеркивает в этой связи чисто магический принцип «часть вместо целого», распространяющийся как на пространство, так и на время. Часть есть целое; в плане времени это значит: магическое «теперь» является не простым мгновением настоящего, но содержит в себе прошлое и беременно будущим («charge du passé et gros de l’avenir», вспоминает Кассирер лейбницевское выражение). Поэтому, мифическое сознание интегрирует и мантику, в которой эта качественная сращенность всех моментов времени изображена с наибольшей ясностью.
Новая ступень в развитии мифического созерцания времени достигается, по Кассиреру, в стадии освобождения времени от непосредственной связи с отдельными свершениями и обращения к универсальному миропорядку. Здесь перед мифомышлением встает новая проблема: проблема чистой формы события. Отдельные природные силы выступают уже не как предмет мифического толкования и религиозного почитания, но как носители общего временного порядка. «В первом случае, — говорит Кассирер, — мы все еще полностью находимся в круге субстанциального воззрения: Солнце, Луна и созвездия суть одушевленные божественные существа, но тем не менее они являются индивидуальными отдельными вещами, которые наделены совершенно определенными индивидуальными силами. В этом отношении божественные существа отличаются от господствующих в природе подчиненных демонических сил по степени, а не по роду» (2.142). Совершенно иная картина возникает, когда мифическое чувство устремлено не к непосредственному бытию природных объектов и сил, но через них к идее законопорядка, охватывающего вселенную. Здесь, по Кассиреру, каждый отдельный природный феномен становится знаком чего-то в нем проявляющегося. «Там, где Солнце и Луна рассматриваются не просто в смысле их физического бытия и физических действий, где они не только почитаются за свое сияние или как творцы света и тепла, влажности и дождя, но воспринимаются вместо этого как постоянные меры времени, в которых угадывается ход и правило всеобщего круга событий, там мы стоим на пороге принципиально измененного и углубленного духовного воззрения. От ритмики и периодики, ощущаемой уже во всякой непосредственной жизни, мысль возвышается теперь до идеи временного порядка, как универсального и господствующего над всем бытием и становлением порядка судьбы» (2.142). Таким образом, мифическое время становится космической потенцией, связующей уже не только людей, но и демонов и богов.
Подтверждения этого Кассирер находит в самых различных мифологиях. Уже в примитивнейших верованиях новозеландских маорийцев фигурирует миф о прародителе и герое Мауи, который завлек Солнце в западню и вынудил его, доселе нерегулярно восходящее, к регулярности. Особенно явен этот переход от чувственно-единичного к всеобщему в вавилонской мифологии. И здесь первоначально господствует круг примитивного анимизма, который, по мере концентрации мифомышления на звездном мире, расширяется до универсальной мифологии времени. Примитивной мифологии популярных верований противостоит здесь жреческая религия «сакральных времен» и «сакральных чисел». Вавилонский миф творения изображает происхождение миропорядка из безвидной бездны, как борьбу солнечного бога Мардука против чудовища Тиамат. Победивший Мардук упорядочивает небо, определяя ход созвездий по Зодиаку и устанавливая точные грани года, месяцев и дней, после чего появляется жизнь, подчиняющаяся не только внешнему астрономическому порядку, но и внутренним этическим нормам. Аналогичную связь Кассирер находит почти во всех больших религиях: в египетской религии Тота и в китайском таоизме, в Ведах и Авесте, у греков. Время наделяется здесь не только божественной, но и сверхбожественной властью, ибо сами боги подлежат высшему внеличностному закону. Так Зевс подчиняется Мойрам; так роковая сила становления в германской мифологии изображается как тканье Норн, богинь судьбы, прядущих празакон, перед которым бессильны и сами они. Рихард Вагнер выразил это в почти заклинательной формуле «мотива Норн» в первой сцене третьего действия «Зигфрида»:
Im Zwange der Welt
Weben die Nornen,
Sie können nichts wenden noch wandeln.
Здесь, по Кассиреру, мифомышление простирается над пределами чисто образного мира мифического и, изживается в подлинно диалектических и спекулятивных моментах. Схематизм образов (так определит Кассирер развитие научного познания в 3-м томе) уступает место символизму принципов. Мифическое понятие времени почти реализует эту задачу. И это тем более поразительно, что оно являет прямую противоположность научному концепту времени. Математика и математическая физика нацелены на безусловную квантификацию времени; время здесь не только связано с числом, но и всецело сводится к нему. Общая теория относительности, по сути дела, устранила все специфические особенности времени; каждый пункт определяется в ней через свои пространственно-временные координаты х1, х2, х3, х4, которые являются чисто нумерическими величинами, не отличающимися друг от друга по каким-либо специальным признакам и, поэтому, переставляемыми. Миф не ведает такого гомогенного квантума; время дано ему в элементе чистого качества, акцентируемого антиномией сакрального-профанного; оно — движущая сила самого становления. Но даже в этой специфической форме мифомышление, по Кассиреру, достигает относительно высокого уровня объективности. Главка «Формирование времени в мифическом и религиозном сознании» посвящена анализу чувства времени в библейском монотеизме, в персидской религии, в буддизме, в китайском таоизме, в египетской религии, в философии (!) греков и вплоть до современного представления времени, которое у Кеплера «перешло из образного мира мифически-религиозной фантазии в точный понятийный мир научного познания» (2.174). Мы опускаем эту главку, отсылая читателя к изложению ее у А. Ф. Лосева.[78]
ВРЕМЯ В ПОЗНАНИИ
Кант установил исключительное своеобразие временного схематизма, обусловливающего форму «объективного» опыта; «трансцендентальные схемы» определяют у него возможность познавательного акта; между тем, возможность самих «схем» не вскрыта Кантом; они остаются в критической философии «скрытым в глубине человеческой души искусством, настоящие приемы которого нам вряд ли когда-либо удастся угадать у природы и раскрыть». Кассирер вспоминает в этой связи глубокомысленные слова Августина: «Что же есть время? Если никто не спрашивает меня о том, знаю, если же спросят объяснить, не знаю». Проблема времени с Августина осознана как апория. «Всякая попытка, — формулирует Кассирер, — дать определение времени или просто объективную характеристику времени грозит нам путаницей неразрешимых антиномий» (3.189). Корень путаницы — в «рокировке» образа и схемы; вместо того, чтобы сводить чувственные образы к «монограмме чистой силы воображения», метафизика и критика познания пытаются, как правило, объяснять последнюю через образы. Язык повсеместно усложняет эту путаницу, экстраполируя временные отношения на пространство и связывая их тем самым с вещным, миром, мыслимым «в» пространстве. Еще анализ времени в языке выявил эту связь, сила которой сохраняется и в точных науках, пытающихся достичь «объективного» описания времени через пояснение его в пространственных образах; так, образ бесконечной прямой становится здесь внешне фигурным представлением времени. Но не приписывается ли времени специфически иной и чуждый ему признак? Язык всегда фигурирует, но как можно фиксировать то, что заведомо не подлежит никакой фиксации, будучи чистым становлением? Миф, по Кассиреру, глубже, чем язык, постигает первичную форму времени в элементе непрестанно возобновляющейся метаморфозы и отличает созерцание становящегося от созерцания самого становления, которое мыслится здесь как непреложная власть судьбы, связующая как людей, так и богов; время в мифе не идеальная сеть для упорядочения прошедшего и будущего, но ткач самой сети. Теоретическая рефлексия заменяет мифическое понятие начала понятием принципа. Последнее поначалу все еще связано с конкретным временным созерцанием, с действительностью, но уже греческая философия утверждает независимость понятия бытия от понятия времени. «То, что мы называем временем, не есть уже простое наименование — пряжа, выделываемая языком и человеческим «мнением». Само бытие не ведает прошлого и будущего; «не было в прошлом оно, не будет, но все — в настоящем» (Парменид). С этим понятием безвременного бытия, как коррелята безвременной истины, осуществляется отрыв «логоса» от мифа, — аттестат зрелости чистого мышления против мифических роковых сил» (3.191). Вслед за Парменидом идеал безвременного познания — sub specie aeterni — провозглашает и Спиноза. Но, отвергая загадку времени, метафизика, по Кассиреру, оказалась перед лицом новых трудностей, ибо, освободив абсолютное бытие от бремени противоречия, оно внесло это противоречие в мир явлений, оставленный на произвол диалектики становления. Так, изгнанное из метафизики, время абсолютизируется в физике; постулат «абсолютного времени» лежит в основании Ньютоновой механики. Здесь и раскрывается апория времени; если текучесть признается за основной его момент, то само существо времени подлежит прехождению. Прошлого «уже нет», будущего «еще нет». Остается настоящее, как медиум, створяющий «уже нет» с «еще нет» в изолированности данного момента. Момент разоблачается Зеноном в апории «стрелы». Неразбериха проникает даже в проблему измерения времени, казалось бы, чисто эмпирическую проблему. Кассирер ссылается на переписку между Лейбницем и Кларком; Кларк, защитник Ньютона, заключает от измеримости времени к его абсолютному и реальному характеру, ибо как могло бы нечто несуществующее обладать свойством объективной величины и числа. Лейбниц настаивает на противоположном: числовое определение времени, возражает он Кларку, возможно лишь в элементе времени не как субстанции, а как чисто идеального отношения. Спор обостряет антиномию; время остается неуловимым.
Классическим образцом антиномии Кассирер по праву считает знаменитую II-ю книгу «Исповеди» Августина, впервые в истории западной философской мысли охватывающей проблематику времени во всем ее объеме. Если настоящее, так рассуждает Августин, определяет время лишь фактом своего перехода в прошлое, как можем мы называть бытием то, что существует лишь в самоуничтожении? Или — как можем мы приписывать времени величину и измерять эту величину, когда такое измерение возможно лишь через взаимосвязь прошлого и настоящего, т. е. несуществующего? Это классическое рассуждение стоит того, чтобы быть буквально прослеженным. «Возникает звук, — пишет Августин, — он длится некоторое время; затем он внезапно обрывается; он кончился как звук, звука больше нет. Прежде нежели он зазвучал, был он лишь будущим звуком, который, как будущий, как еще не наличный не мог быть измерен; нынче, когда его нет уже, он также не может быть измерен. Измерен мог быть он лишь в миге своего звучания, ибо тогда наличествовало нечто, могущее быть измеренным. Но и тогда не покоился он, а преходил. Возьмем стих из восьми слогов, кратких и длинных по чередованию. О длинных слогах мы говорим, что длятся они вдвое дольше кратких. Таким образом, мы измеряем длинные слоги краткими и приписываем им в сравнении с теми двойную длительность. Но каким же образом я удерживаю краткий и как измеряю им длинный, если один звучит за другим; ведь длинный начинается лишь с прекращением краткого? Да и сам этот длинный слог: измеряю ли я его до того, как он закончился, или после? В первом случае он еще не достиг своей длительности; во втором случае, законченный, он уже исчез. Что же, стало быть, измеряю я? Где краткий и где длинный слог? Оба отзвучали, исчезли и миновали; их больше не существует, и все же я их измеряю и с уверенностью твержу, что одному из них присущ вдвое больший промежуток». Выход, по Августину, единственный. Он — в перенесении проблемы из догматической онтологии в сферу анализа сознания. Троякое членение времени на настоящее, прошедшее и будущее теряет здесь субстанциальный характер; не о трех реальных временах можем мы говорить, а об одном, настоящем, охватывающем три различных отношения, и это суть: настоящее прошедшего, настоящее настоящего и настоящее будущего. «Настоящее прошедшего зовется воспоминанием, настоящее настоящего — созерцанием, настоящее будущего — ожиданием». Понять время значит, поэтому, не складывать его из трех обособленных сущностей, а охватить его в единстве трех интенций. «Я измеряю, стало быть, не сами отзвучавшие слоги, — продолжает Августин, — но нечто твердо пребывающее в моей памяти. В тебе, Дух мой, измеряю я времена; хотя вещи и преходят, определенность, полагаемая ими, преходящими, остается в Тебе; ее, настоящую, измеряю я, а не то, что должно было исчезнуть для возникновения этой настоящей определенности. В Духе настоящее, прошлое и будущее охватываются воедино, ибо он уповает и внемлет, и он вспоминает, как ожидаемое им переходит, благодаря внемлемому, в памятное. Кто станет отрицать, что будущего нет еще? и все же есть в Духе упование будущего. Кто отрицает, что прошлого уже нет? и все же есть еще в Духе воспоминание о прошедшем. Кто отрицает, что настоящее время лишено протяженности, так как оно есть лишь единственная преходящая грань? и все же длится созерцание настоящего, ибо оно продолжает быть и тогда, когда настоящее уже миновало. Стало быть, не будущее долго, которого нет, а долгое будущее есть долгое ожидание будущего; и не прошедшее долго, которого нет, а долгое прошедшее есть долгая память о прошедшем».
В этих исповеданиях Августина, считает Кассирер, устанавливается строгая граница между временем-вещью (Ding-Zeit) и временем-переживанием (Erlebnis-Zeit). Репрезентация времени, поэтому, не должна смешиваться с «метафизическим» временем; путь к последнему лежит, по Кассиреру, через первую. «Вопрос ставится так: каким образом от чистого феномена «теперь», охватывающего в себе будущее и прошлое в качестве конститутивных моментов, мы переходим к тому роду времени, в котором эти три стадии времени отличаются друг от друга и объективно полагаются «врозь» и друг за другом» (3.196). Это значит: метод исследования ведет от «интенции» к ее «предмету»; познавательным центром оказывается переход от изначальной временной структуры «я» к тому порядку времени, в котором находятся эмпирические вещи и события как «предмет опыта», ибо самый этот «предмет» возможен лишь через время. Уже Лейбниц возражая против ньютоновского учения о времени, утверждал объективную первичность «монадолгического» времени по отношению к математически-физическому времени. Монада, по Лейбницу, есть выражение многого в одном (multorum in uno expressio), именно: выражение прошлого и будущего в презентативности «я». Каждый момент времени непосредственно заключает в себе троякость временных интенций; настоящее получает характер настоящего лишь в акте осовременивания (Vergegenwartigung), указующим на прошлое и будущее. Презентативность, стало быть, образуется в репрезентативности; такое положение дел позволяет Кассиреру сделать радикальный вывод о том, что граница, разделяющая «сущее» и «символическое», разрушает самый жизненный нерв времени, а вместе с ним и Я-сознания, поскольку между обоими наличествует теснейшая взаимосвязь. С одной стороны, «я» должно быть константным, с другой — оно есть текучесть и изменение. Поэтому, Спиноза, зачисливший время в область «воображения», зачисляет туда и «я»; хотя содitatio выступает у него в качестве атрибута бесконечной субстанции, связь между этим атрибутом и человеческим сознанием, по его словам, не большая, чем между созвездием Пса и псом, лающим животным. Аналогичному разрушению (хотя и с противоположной стороны) время и сознание подвергаются в сенсуализме. «Я» становится здесь «пучком восприятий», а время — множеством чувственных впечатлений. Представление времени, по Юму (и Маху, почти буквально воспроизводящему юмовскую мысль), не есть самостоятельное содержание; оно возникает в акте «внимания», направленного на последовательность элементов. Психологический эмпиризм, считает Кассирер, впадает здесь в ту же иллюзию, что и реалистическая онтология; и он силится вывести время (понятое феноменально) из «объективных» отношений, заменяя «вещи сами по себе» «ощущениями в себе». Но сознание времени ускользает в обоих случаях. «Последовательность представлений» не равнозначна «представлению последовательности», и последняя не выводится из первой. Кассирер ссылается на Гуссерля, остро отличавшего «феноменалистическое» время от объективного «космического» времени. «Ибо в той мере, в какой поток представлений воспринимается как чисто фактическое изменение, как объективно-реальное свершение, он лишен сознания изменения как такового — сознания способа, которым время положено в «я» и дано ему как последовательность и одновременно как устойчивое настоящее, как осовременивание» (3.200).
Об этот подводный камень, по Кассиреру, разбиваются все попытки понять как символическое наличие прошлого в настоящем, так и прозрение в будущее из настоящего, через сведение обоих моментов к каузальным законам объективного бытия. Тогда остается непонятным феномен «репрезентации», ибо простое «удержание» прошлого в настоящем отнюдь не является «репрезентацией». Наше знание о прошлом никак не объясняется субстанциальным наличием последнего в настоящем, ибо даже если оно и «есть» в настоящем, остается непонятным, каким образом сознание постигает его как не-настоящее, а именно, как прошлое. Это значит, что настоящее раздвояется в себе и различается с собою, но как может оно, будучи настоящим, отрешить от себя прошлое и будущее «я», более того, различить их? Еще Платон в «Теэтете» указывал не специфическую форму воспоминания, μνήμη, опровергающую идентичность знания и ощущения. Но это возражение, по мысли Кассирера, сохраняет силу и против чисто натуралистических теорий «памяти», которые усматривают в феномене «памяти» основное свойство органической жизни, ибо «живое» тем и отличается от «мертвого», что обладает историей. Кассирер в этой связи подвергает критике воззрения Рассела. По Расселу, «дух» и «материя» различаются не по существу, а по причинной связи, господствующей в них, и это суть «физическая» и «мнемическая» причинности, из которых первая позволяет достичь точного описания события через восхождение к его физическим причинам, чье действие не переступает пределов отдельного момента, а вторая, напротив, для понимания здесь-и-теперь данного события должна устремляться ко временным далям. Здесь же Рассел проводит границу между «восприятием» и «воспоминанием»; их отличает друг от друга указанная двоякая форма причинности. Но Рассел, по Кассиреру, забывает, что феноменологическое различие значения не может быть сведено к плоскости каузального события. Различие причинных связей подмечается всегда посторонним зрителем, рассматривающим сознание, так сказать, извне. При этом, оперируя «объективным» временем самого события и различая «физическую» и «мнемическую» причинности, он не учитывает того, что в основе такого различения в пределах естественных причин события лежит явная предпосылка в форме мысли о природном порядке и — отсюда — объективном порядке времени. Никакое различие, стало быть, не может быть объяснено путем каузального выведения, ибо в самом этом выведении оно уже предполагается. В сущности, и здесь, считает Кассирер, повторяется старая ошибка Юма, пытавшегося образовать «представление последовательности» из «последовательности представлений». Эта ошибка вообще присуща натуралистически ориентированной психологии, считающей воспоминание удвоенным восприятием. По формуле Гоббса, «sentire se sensisse memnisse est»: воспоминание есть ощущение прошедшего ощущения. Но ощущение Гоббс определяет как реакцию органического тела на внешнее раздражение. Как же, спрашивает Кассирер, оно может привести к памяти — как может реакция на присутствующее раздражение быть причиною отсутствующего раздражения? Дальнейшая критика Гоббса у Кассирера носит убийственный характер. Уже сама языковая форма гоббсовского определения памяти как «ощущения прошедшего ощущения» сполна выявляет путаницу концепции. Два различных и принадлежащих к различным временам ощущения связываются здесь в одном и том же «я», которое, стало быть, и упорядочивает их. «Здесь, — пишет Кассирер, — первично положенное Гоббсом отношение перевертывается: с одной стороны, ощущение должно мыслиться, согласно основаниям его системы, предусловием памяти, с другой стороны, память становится у него ингредиентом самого ощущения» (3.205). Память обусловливает ощущение; это значит, по Кассиреру, что представление времени возникает не из последовательности чувственных переживаний, но сами эти переживания результируются из постижения временного потока. Функция памяти, поэтому, не сводится к простой репродукции прошедших впечатлений; память не репродуцирует, а продуцирует; воспоминание в этом смысле не воспроизводит прежних восприятий, оно конституирует новые явления.
Эта творческая черта сознания времени наиболее отчетливо выступает, по Кассиреру, в обращенности к будущему. Уже Августин подчеркивал, что ожидание характеризует сознание времени не в меньшей мере, чем воспоминание; это значит, что «я» осуществляет себя и в устремленности к будущему, без которого, считает Кассирер, нам никогда не было бы дано «представление», актуальное осовременивание какого-нибудь содержания. Ибо подлинная сущность «я» постигается не в статическом понятии бытия, а в динамическом понятии силы. Кассирер опирается здесь на Лейбница и на современную психологию. Курт Коффка, один из основателей гештальтпсихологии, парадоксально характеризует память как обращенность к будущему. Генетически ожидание даже предшествует воспоминанию (устремленность к будущему есть факт, обнаруживаемый на самых ранних стадиях детства). Конечно, натурализм противится таким утверждениям; с точки зрения натурализма вещь может оказывать действие после, а не до своего свершения. Феномен ожидания сводится здесь к воспоминанию и объясняется законами ассоциации и репродукции. «Направленность сознания и будущее, тем самым, не понимается, а отрицается и изничтожается. Наше прозрение будущего становится простым самообманом, фантасмагорией, которой противостоит «действительное» сознание, как комбинация из «наличного» и «бывшего» (3.210). Но подобное воззрение, будь оно справедливым, уничтожило бы, по Кассиреру, смысл исторического времени, который конституируется не только в ретроспективном анализе прошлого, но и в проспективной тенденции к будущему. Ибо «историей» может обладать лишь волящее и действенное, устремленное в будущее и определяющее будущее силою своей воли существо; знать историю, подчеркивает Кассирер, значит непрестанно свершать ее. Поэтому, созерцательный момент в историческом времени неразрывно связан с деятельным; символическая «репрезентация» проявляется здесь в полной мере; продуктивная сила воображения творит образ будущего и ориентирует деятельность на этот образ. Символ опережает действительность, указуя ей путь и прокладывая этот путь. Здесь, по Кассиреру, и следует искать разницу между исторической волей и чисто витальной «волей к жизни». Последняя всегда определяется потребностью, лежащей в прошлом (при всей своей агрессивной видимости потребность носит глубоко регрессивный характер). Напротив, историческая воля всегда направлена в будущее, в возможное; действие, как таковое, осуществимо лишь на фоне предваряющего его идеального наброска.
Кассирер в связи с этим проводит аналогию между структурными различиями пространства и времени. Мы знаем уже его концепцию о «действенном» и «символическом» пространствах. Аналогичный момент присущ, по его мнению, и времени. Всякое действие во времени выстраивается в последовательный порядок, без которого оно не могло бы достичь единства и цельности. Но дальнейший путь ведет от упорядоченности события к чистому созерцанию времени. Последнее свойственно лишь человеческому сознанию, которое не просто влекомо последовательностью действий, но охватывает весь временной ряд в интуитивно-дискурсивной синоптике обоюдоострого взора. Здесь, в чисто теоретическом созерцании времени происходит своеобразное членение времени, аналог которого отмечен Кассирером в «Мифомышлении». Подобно тому, как ценность времени в мифе зависит от способа акцентации, так и некоторым формам метафизики присущ свой тип созерцания времени. «Если Парменид и Спиноза воплощают чистый «тип настоящего времени» метафизической мысли, то метафизика Фихте всецело определена видом на будущее» (3.213). Против такой односторонней ориентации, разлагающей чистый феномен времени, энергично выступил Бергсон в учении о «непосредственных данных сознания». Кассирер подробно останавливается на бергсоновской теории памяти, усматривая в ней типичный образец измены собственным значительным начинаниям. Мы вкратце проследим ситуацию. Бергсоновская метафизика заждется полностью на полярности материи и памяти; по Бергсону, все попытки свести память к «функции органической материи» основываются на смешении двух типов памяти: чисто моторной, механической и автоматической и подлинно духовной, независимой от внешнего принуждения и пребывающей в средоточии самосознания. Ценность первой чисто практическая; вторая совпадает с интуицией чистой длительности (времени) и изживается в элементе чистого воспоминания. Но бергсоновская метафизика, силящаяся утвердить единый и неразложимый феномен времени, поступает как раз вопреки собственной интенции. Лишь функциональное понимание единства времени, как способа осовременивания в троякой направленности смысла, способно, по Кассиреру, сохранить это единство. Бергсон же, по существу, признает лишь прошлое, исключая сознание будущего из чистого созерцания времени, ибо направленность в будущее имеет лишь «прагматическую» ценность. Но Бергсон имеет в виду биологическое время; «Творческая эволюция», толкующая о желтокрылых сфексах, посрамляющих ученых энтомологов, неисторична в самом пафосе своего свершения. Между тем, противопоставление функции воспоминания аспекту прагматики, составляющее нерв учения Бергсона, бессмысленно с точки зрения исторического времени. Деятельность здесь определяется ретроспекцией в прошлое, но, с другой стороны, и само воспоминание произрастает из сил, простертых в будущность. Историческое сознание, подчеркивает Кассирер, мыслит прошлое и будущее не в оппозиции, а в корреляции; Бергсон утверждает оппозицию, опровергая тем самым собственный анализ чистого времени, свободного от пространственных примесей. Ибо указанная оппозиция мыслима только в пространстве (назад или вперед, вправо или влево, вверх или вниз). Время опознаётся в «сращенности» своих направлений и в борьбе их. Кассирер вспоминает в этой связи меткий афоризм Фридриха Шлегеля об историке, как пророке, обращенном вспять. Подлинная интуиция времени, — заключает он, — не может быть достигнута в простом ретроспективном воспоминании; она одновременно есть познание и действие. Ибо процесс, в котором формируется жизнь (понятая духовно, а не чисто биологически), должен, в конечном итоге, совпасть с процессом ее самопознания, где это познание есть не внешнее охватывание готовой и данной формы, сдавливающей жизнь, но способ, которым она придает себе свою форму, дабы понять ее в самом этом акте придачи, деятельного формирования» (3.220).
ПРОБЛЕМА ЧИСЛА
ЧИСЛО В ЯЗЫКЕ
Первичные различения числовых отношений в языке Кассирер, как и в случае пространственных отношений, сводит к человеческому телу и его частям; тело служит основной моделью примитивных счислений; сами «числа» поначалу суть не что иное, как обозначения различий всяческих внешних объектов словно бы в наглядном переносе их на телесные члены считающих. Поэтому, все числовые понятия в дословесной стадии Кассирер определяет как чисто мимические телесные понятия. Числовой жест выполняет функцию слова и полностью замещает его. По Вестерману, эве считают по пальцам, начиная с мизинца левой руки и загибая указательным пальцем правой руки пересчитанные пальцы; после левой они переходят к правой и затем либо начинают сначала, либо, сидя на корточках, продолжают счет на пальцах ног. Аналогичные примеры Кассирер приводит из исследований Рейниша, фон ден Штейнена, Мейнхофа, Поуэлла и др. Счисление, впрочем, не ограничивается только пальцами, но эксплуатирует и все прочие части тела. По наблюдениям Рэя, в английской Новой Гвинее последовательность счета переходит от пальцев левой руки к запястью, локтю, плечу, затылку, левой груди, грудной клетке, правой груди, правой стороне затылка и т. д.; в других местностях аналогичным образом используют плечи, ключицы, пупок, горло, нос, глаза и уши (богатейший материал в этой связи собран в «Первобытном мышлении» Леви-Брюля).
Духовная ценность этих примитивных методов счисления часто принижалась. Так, Штейнталь, исследуя ряд негритянских языков, вообще отрицает наличие числа у негров; примитивность счета, связанного с телесными членами, не достойна, по Штейнталю, высокого понятия числа, свойственного «нашему духу». Кассирер резко возражает против таких сравнений. «Полупоэтический, полутеологический пафос этой бранной тирады, — пишет он по поводу выдержки из Штейнталя, — неуместен, так как вместо того, чтобы измерять примитивный способ по нашему предельно развитому понятию числа, было бы правильнее и плодотворнее изыскивать и уважать то, пусть незначительное, интеллектуальное содержание, которое он вопреки всему таит в себе» (1.186). Ибо здесь достигнута уже, хотя и в чисто чувственной форме, последовательность перехода от одного члена к другому; акт счисления не произволен, но строго последователен: за левой рукой следует правая, за ступнями следует затылок, грудь, плечи, и в самом этом процессе вырабатывается уже схема последовательности — необходимое предусловие «числа». Ведь даже чисто математическое число проясняется в понятии «порядка в последовательности» («order in progression», по выражению сэра Вильяма Гамильтона). Этот порядок, правда, носит в примитивном мышлении исключительно вещный характер, но даже здесь наличествует зерно своеобразной спонтанности; вещи исчисляются не потому, что они суть, а потому, как они выстроены; такова, считает Кассирер, исходная точка нового, «интеллектуального» принципа образования числа.
Связь между отмеченной формой порядка и числом собственно вырабатывалась в языке путем долгих и постепенных усилий; поначалу она носит еще совершенно неопределенный характер; части человеческого тела, играющие роль числовых выражений, координируют сосчитанные объекты, не расчленяя их в строгие единства. Элементы должны различаться не по чувственным признакам или свойствам, а по месту, определенному им в счете. Но об абстракции такой «гомогенности» в примитивном мышлении, по Кассиреру, и не может быть речи; вместо чисто мысленных однородных единств полагания здесь наличествуют природные единства вещного характера, представленные телесно. Примитивная «арифметика» ведает лишь подобные естественные группы; рука, как модель счисления, порождает пятиричную систему, две руки — десятиричную, соединение рук и ног — двадцатиричную. Но ограниченность «счета» вовсе не является ограниченностью способности к различению конкретных множеств; по наблюдениям специалистов, здесь имеет место как раз обратное; так, пастух стада в 400–500 голов уже издали обнаруживает пропажу с поразительным умением определять не только количество пропавшего скота, но и узнавать, «какие именно» отсутствуют (Добрицхоффер, Потт). Вслед за Максом Вертгеймером Кассирер объясняет подобные факты в свете гештальтпсихологии: множество выступает здесь не в форме определенной и доступной измерению числовой величины, но как конкретный числовой гешталът, некое созерцательное качество, впечатанное в нерасчленно целостное впечатление множества.
Язык первоначально также не ведает общих выражений числа, приложимых к любому исчислимому предмету; поскольку число носит еще исключительно вещный характер, количество различных чисел должно равняться количеству классов вещей. Отделение числа от вещи происходит лишь в той мере, в какой число мыслится как чисто качественный атрибут множества предметов. Но примитивные стадии развития языка являют все еще непосредственную сращенность числовых обозначений с обозначениями вещей и свойств. Так, в языках островов Фиджи, по свидетельству Габеленца и Кодрингтона, одно и то же слово обозначает два, десять, сто, тысячу кокосовых орехов или десять каноэ, десять рыб и т. д. Различия признаков коррелируются различиями числовых выражений; последние изменяются в зависимости от того, счисляются ли люди или вещи, стоящие, лежащие или сидящие предметы и т. д.; по мнению специалистов, границы этой дифференциации практически необозримы. «Очевидно, — заключает Кассирер, — что стремление счисления направлено здесь на все, что угодно, кроме «гомогенности». Тенденция языка идет скорее по линии подчинения количественного различия генерическому различию, выражающемуся в распределении классов, и модифицирования первого сообразно последнему» (1.189–190). Эта тенденция отчетливо выступает и там, где язык, хотя и вырабатывающий уже общие числовые выражения, все же сопровождает еще каждое такое выражение определенным детерминативом, отмечающим особый род специфических множеств. Так, в малайо-полинезийских языках числовые выражения присоединяются к соответствующим существительным не прямо, а через детерминирующие слова, как бы выражающие обособление «коллективизации»; выражение, обозначающее «5 лошадей», буквально звучит как «лошади, пять хвостов», четыре камня как «камни, четыре круглые вещи» и т. д. Бушман в заметках к гумбольдтовскому «Kawi-Werk» сообщает аналогичное о мексиканских языках; Гофман — о японском и китайском. Отсутствие грамматического различия между единственным и множественным числом в последних не препятствует острому восприятию специфических множеств. Вообще, замечает Кассирер, если мыслить идею множественного числа в рамках логической и математической категории «множества», состоящей из четко различенных однородных единств, то в таком понимании она отсутствует во многих языках, где противоположность между единственным и множественным числом никак не обозначена либо даже обозначенная несет явные следы первичной индифференции. Существительное может здесь быть как обозначением рода, охватывающего неопределенное множество экземпляров, так и выражением отдельного экземпляра рода; Кассирер приводит ряд интересных примеров из малайо-полинезийских и австралийских языков (ссылка на Фр. Мюллера), меланезийских (Кодрингтон, Габеленц), урало-алтайских (Бетлинг, Винклер, Грунцель), египетского (Эрман), южносемитских (Брокельман), индогерманских (Мейер-Любке, Бругман).
С другой стороны, даже в образовании множественного числа язык не противопоставляет абстрактной категории единства абстрактную категорию множества, но устанавливает между ними текучую градацию переходов; первоначально множества несут особый качественный характер. Не говоря уже об употреблении двойственного или тройственного числа, многие языки различают двоякое множественное число: одно для двух и немногим больше предметов, другое для многих. Так, Гумбольдт замечает по поводу арабского языка, который кроме двойственного числа знает ограниченное множественное число от 3 до 9 и другое от 10 и дальше, что тенденция рассматривать понятие рода как бы вне категории числа и путем склонения отличать от него единственное и множественное число должна быть названа «весьма философской». По Кассиреру, понятие рода не выступает еще в этой форме различия между единственным и множественным числом; количественная противоположность единицы и множества не преодолена качественным единством. Но именно из этого различия вырастает строгое понятие числа. Двояким путем приближается язык к понятию числа. С одной стороны, уже в примитивнейших, телесно-ориентированных счислениях языковое мышление утверждает «порядок в последовательности». С другой стороны, сознание некоей неопределенной целостности, разлагаемой на «части», вырабатывает обозначения множеств. В обоих случаях, замечает Кассирер, число связано с пространственным и временным бытием. Критика познания вскрывает эту связь. Если число в ракурсе коллективной «совместности» опирается на созерцание пространства, то с другой стороны оно требует созерцания времени для выработки понятия дистрибутивного единства и единичности. Поэтому каждое числовое множество есть одновременно и единство, а всякое единство — множество; связь положена как различение, а различение — как связь. Но если в точном математическом понятии числа достигается чистое равновесие между обеими отмеченными функциями, то в сознании пространства и времени преобладает одна из них: совместность элементов в пространстве и последовательность их во времени. Языковое мышление числа, по Кассиреру, использует оба момента: различие пространственных объектов для образования понятия коллективного множества и различие временных актов для выражения разъединения. Этот двоякий тип отчетливо явлен в образовании формы множественного числа. Последнее возникает в одном случае из созерцания вещественных комплексов, в другом — из созерцания ритмически-периодического возвращения фаз определенного временного процесса. Так, считает Кассирер, языки, имеющие преимущественно вербальную структуру, развивают наряду с коллективным пониманием множества и чисто дистрибутивное. У североамериканских индейцев, например, отсутствует средство для различения обозначения отдельных объектов и множества объектов. Но вместо этого здесь явлена утонченнейшая градация различий между действием, свершающемся в однократном временном акте, и действием, охватывающем множество различных по времени, но содержательно однородных фаз. Зачастую единственное число употребляется там, где мы ожидали бы множественное. Кассирер ссылается на Боаса, утверждающего чисто дистрибутивный характер этого множественного числа; редупликация выражает здесь скорее местонахождение объекта, чем множество. С другой стороны, она связана с ритмическим членением деятельности (Карл Бюхер посвятил этому явлению специальное исследование о «работе и ритме»).
Но образование числа в языке связано, по Кассиреру, не только с созерцанием пространства и времени; наряду с объективной, пространственно-временной сферой существует и более глубокий пласт акта счисления: сфера чистой субъективности, имеющая дело уже не с расчленением предметов, а с различением «я» и «ты». Числовая дифференциация выступает здесь в гораздо более утонченной форме, чем в предметных представлениях. Так, отсутствие формы множественного числа для существительных во многих языках не препятствует употреблению ее для личных местоимений (ссылки на Диксона, Кодрингтона, Габеленца, фон ден Штейнена). В якутском языке части тела, как и одежды, стоят в единственном числе, если речь идет об одном человеке, и во множественном, если они принадлежат многим людям (Бетлинг). Здесь, по Кассиреру, выражается то же взаимоотношение между числом и счисляемым, что и в сфере предметности; число тесно связано еще с чувственным миром, в данном случае с чистою субъективностью чувства. Именно в силу последней «я» отличается от «ты», а «ты» от «он»; по ту сторону этой троякости начинается царство неопределенной множественности. Кассирер приводит ряд примеров в подтверждение указанной ограниченности. Так, у бушменов, по свидетельству Фр. Мюллера, числовые выражения простираются не дальше двух; три означает уже «много» и употребляется для всех чисел до 10 (на пальцах). Здесь отчетливо явлена связь акта счисления с созерцанием «я», «ты» и «он»; так, по Кассиреру, объясняется особая роль числа три в языке и мышлении всех народов.
Образование числа в языке поучительно сопоставить с чисто математической аналогичной процедурой. Если существенными логическими признаками математического числового ряда считаются его необходимость и общеобязательность, единственность, бесконечность, полная эквивалентность и равноценность всех членов, то ни один из этих признаков не свойствен числу в языке. Языковое мышление вырабатывает представление числа в тесной связи с пространственным и временным созерцанием; ему неведомо чистое понятие отношения, развиваемое абстрактно-логическим мышлением. Но и здесь, считает Кассирер, выступая в форме чувственного выражения, оно насыщает самое чувственность духовным содержанием, превращая ее в символ духовности (1.208).
ЧИСЛО В МИФЕ
Мифическое число, по Кассиреру, в гораздо более резкой форме, чем лингвистическое, противопоставлено абстрактно-логическому. Поскольку миф не ведает вообще идеального как такового и рассматривает равенство или сходство содержаний в ракурсе не функционального отношения, а реальной связи, эта специфика ярче всего выявляется в мотиве числа. Равночисленность двух множеств, объясняемая в познании через чисто идеальное отношение, толкуется здесь в плане реальной общности их мифической «природы». Миф наделяет число независимым бытием и силою, гипостазируя его; число никогда не мыслится здесь в порядковом смысле или как обозначение места в общей системе; оно есть существо, обладающее индивидуальной силой и одновременно всеобщностью. «Если для логического мышления, — подчеркивает Кассирер, — число обладает универсальной функцией и общеобязательным значением, то мифомышлению оно явлено как изначальная «сущность», сообщающая свою суть и силу всему, что находится под ним» (2.177). Теоретико-познавательная цель числа сводится к отысканию идеального единства конкретного многообразия явлений; в единстве числа чувственное преформляется в интеллектуальное. Числовая символика лежит в основании всякого научного знания о мире; именно с помощью числа мышление связует явления в форме необходимости и закономерности. Мифическое число, считает Кассирер, не преследует иной цели, но процесс осуществления ее свершается здесь в другом направлении. «Если в научном мышлении число явлено как грандиозный инструмент обоснования, то в мифомышлении оно выглядит проводником специфически-религиозного толкования Sinngebung)» (2.178). В первом случае оно вводит эмпирически существующее в мир чисто идеальных связей и законов; во втором — оно вовлекает все «профанное» в мифически-религиозный процесс «освящения», придавая совершенно новое значение всему причастному к числу. Число здесь словно бы овеяно собственной волшебной атмосферой, простирающейся на все сферы мифомышления, вплоть до примитивнейшего магического праксиса. Кассирер отмечает в этой связи постепенный переход от магической аритмологии («Almacabala») к арифметике и алгебре, подобно вычленению астрономии из астрологии и химии из алхимии. Не только пифагорейцы, как основатели теоретической математики, но и многие математики нового времени отмечены знаком этой двойственности (Джордано Бруно, Рейхлин, Кардан).
Хотя в принципе любое число может стать предметом мифического освящения, особенное значение имеют здесь отдельные числа. Таковы единица, двойка, тройка, играющие первостепенную роль в мифически-религиозном мышлении. Таковы четверка и семерка; последней средневековыми отцами церкви был придан абсолютный смысл: «Septenarius numerus est perfectionis» («седмирица есть совершенство»). Таковы числа: девять, десять, двенадцать. «Если число является для науки критерием истины, условием и подготовкой всяческого строго «рационального» знания, то здесь оно придает всему, что вступает в его сферу, соприкасается с ним и пронизывается им, характер мистерии — мистерии, чьи глубины неподвластны лоту разума» (2.181). Кассирер все-таки пытается определить типические черты процесса освящения числа, опираясь на свои лингвистические исследования. Образование числа в языке он (мы знаем уже) сводит к конкретно-созерцательной основе, трояко расчленяющейся в пространственное, временное и «личное» созерцание. Аналогичное членение приписывается им и мифическому учению о числе: чувство числа опирается здесь на своеобразие мифического чувства пространства, времени и «я». Сакральность четверки связана с пространственным расчленением мира на Север, Юг, Восток и Запад; в каждой партикулярной четверичности мифомышления видит универсальную форму космической четверицы. Так, в частности, пытается Кассирер объяснить почитание формы креста, как древнейшего религиозного символа. Но из культа небесных направлений развивается, наряду с почитанием четверки, также и почитание чисел пять и семь; к четырем основным направлениям, расчетверяющим мир на Восток, Запад, Север и Юг, причисляется «средоточие» мира, как местопребывание народа или племени; наконец, вертикаль верха-низа (зенит и надир), просекающая эту фигуру, образует совершеннейший символ «септуархии». Огромную роль Кассирер при этом уделяет и мифическому чувству времени; анализ времени в мифе явил неразличимость «субъективного» и «объективного», позволяющую мыслить мифическое время как биологически-космическое. Аналогичная двойственность присуща, по Кассиреру, и мифическому числу; последнее всегда указует на определенный круг предметного созерцания, в котором оно коренится, но сама предметность никогда не сводится мифомышлением к материально-вещественному; она исполнена внутренней жизни, подчиненной определенным ритмам. Такова ритмика лунных фаз, являющая универсальный период космического свершения. Луна в этом смысле есть подлинный делитель и «измеритель» времени (уже само наименование ее в большинстве индогерманских и в круге семитских и хамитских языков указывает на этот фактор). И больше того: становление не только подчинено ей, но и восходит к ней. «Известно, — пишет Кассирер, — что это древнейшее мифическое воззрение удержалось вплоть до современных биологических теорий и седмирица тем самым наново получила свое универсальное значение, как владычица всяческой жизни» (2.185). Почитание седмирицы выявляется в, относительно позднее время, в греко-римской астрологии с ее культом семи планет; первоначально, считает Кассирер, семидневные недельные сроки связаны скорее всего с расчетверением двадцативосьмидневного месяца. Отсюда — универсальность этого числа; уже в приписываемом Гиппократу сочинении о седмирице семерка провозглашается космическим структурным числом: она действует в семи сферах вселенной, определяет число стран света, времен года, возрастов, на ней покоятся естественное членение органов человеческого тела и распределение сил в человеческой душе. Веру в жизненную силу семерки наследуют у греческой медицины средневековая и новая медицины: конец каждого семилетия выглядит здесь «климактерическим» годом, осуществляющим решительный поворот в росте души и тела.
Третьим исходным пунктом мифического чувства числа (наряду с пространством и временем) Кассирер считает субъективно-личное бытие в троякой связи «я», «ты» и «он». Уже язык обнаружил прямую связь двойственного и тройственного числа с этой сферой; аналогичную картину являет и мифомышление. Так, Узенер объяснял священный и специфически-мифический характер троицы тем фактом, что в первобытной культуре тройка замыкала числовой ряд и тем самым выражала совершенство; против этой теории, допускающей чисто спекулятивную связь между понятием троицы и понятием бесконечности, были выдвинуты серьезные возражения с этнологической точки зрения (в частности, Леви-Брюлем). Но Кассирер соглашается с Узенером, по крайне мере в том, что существуют две различные группы «священных» чисел, имеющих различное религиозное происхождение. Так, с исторической точки зрения чисто «интеллигибельное» значение числа три в развитой религиозной спекулятивной мысли вырастает, по его мнению, из иного и наивного отношения. «Если философия религии, — утверждает он, — углубляется в тайны божественного триединства, если она определяет это единство троицей Отца, Сына и Духа, то история религии учит, что первоначально сама эта троица воспринималась и чувствовалась в полной конкретности и что в ней нашли выражение совершенно определенные «естественные формы человеческой жизни». Часто как бы сквозь легкий покров спекулятивная троичность Отца, Сына и Духа проскваживает еще естественной троичностью отца, матери и ребенка» (2.187). Пример этого Кассирер, как ему кажется, находит в семитских религиях. Такова, заключает он, магия числа, связующая воедино сферы ощущения, созерцания и чувствования. Число получает здесь функцию гармонии (в пифагорейском смысле); «оно действует как магическая связка, не только связующая вещи между собой, но и приводящая их к созвучию в душе» (2.188).
ЧИСЛО В ПОЗНАНИИ
Научное понятие числа Кассирер связывает с универсальной системой порядковых знаков, подчиненных общеобязательному принципу и не ограниченных ничем внешним; никакая множественность «вещей», значимая для чувственного восприятия или созерцательного представления, не может уже быть масштабом для образования порядковых знаков, которые имеют чисто идеальный характер и связаны, по слову Лейбница, не с действительным, а с возможным. Лингвистический анализ показал все трудности и препятствия этого пути; число здесь поначалу лишено чисто «абстрактного» смысла и сращено с исчисляемым, так что признаки предметов определяют различные числительные. Математическое понятие числа, по Кассиреру, тем и отличается от лингвистического числительного, что выпутывается из уз этой сращенности, преодолевая гетерогенность мысли, пронизанной многообразием объектов, и проникая в гомогенность, в род и эйдос числа как такового. Чистая форма отношения отличается здесь от всего, что может вступить в нее; образуется качественная и количественная бесконечность числа: первая в силу независимости принципа, построяющего ряд, от содержания ряда, вторая — в силу приложимости операции извлечения чисел к каждому отдельному числу. Кассирер вспоминает в этой связи Лейбница, назвавшего число метафизической фигурой, а арифметику — своего рода статикой универсума, исследующей силы вещей, и Платона, считавшего пространство изначальной формой всего материального бытия, поскольку последнее есть лишь определение общей формы пространства. Такова, по его мысли, природа и числа.
Современная математика постигла логическую универсальность чистого понятия числа и воздвигла на нем систему анализа. В работах Кантора и Дедекинда, Фреге и Рассела, Пеано и Гильберта это тенденция приняла четкую методическую направленность. Еще Гельмгольц пытался осилить дедукцию понятия числа эмпирическими средствами, но эмпиризм оказался здесь совершенно бессильным. Кассирер отмечает классическую аргументацию Фреге против Милля; «количество», по Фреге, есть свойство не вещи, а понятия: четыре лошади, впряженные в карету кайзера, говорит Фреге, мыслимы лишь в приложении числа четыре к понятию «лошади». Дедекинд в выведении иррациональных чисел также признает чисто мысленную природу числа; все учение Рассела о принципах математики предпосылает понятию числа чисто «логические константы». Даже математический «интуиционизм», отвергающий формалистику и логистику и производящий число из «праинтуиции», строго отличает последнюю от созерцания эмпирических объектов; обоснование математики у Брауэра исходит из полагания основного отношения, порождающего понятие порядка и понятие числа.
Иную картину, по Кассиреру, являет развитие проблемы числа в философии и критике познания. Кант определял число как чистую схему величины (последняя — понятие рассудка); в «Критике чистого разума» число обусловливается временем. Наторп в «Логических основаниях точных наук» перевертывает это положение; число, по Наторпу, не только образование чистого мышления, но и прототип и первоначало его. Против Наторпа выступил Риккерт, согласно которому число не только не подлежит сфере логики, но и являет собою образец «алогического», ибо даже такое элементарное положение, как 1 = 1, предполагает уже наличие интуитивного и алогического момента. Кассирер пытается отклонить критику Риккерта; последняя, считает он, связана не столько с риккертовским пониманием числа, сколько с риккертовским пониманием «логоса». Ведь и Риккерт утверждает независимость числа от опыта, его «априорность» и «идеальность»; стало быть, «алогичность» означает на его языке не что иное, как отличие предмета «число» от собственно логического предмета, конституируемого понятиями «тождества» и «различия». Отмеченные понятия образуют логический минимум, без которого немыслима никакая предметность, но этого минимума, по Риккерту, вовсе недостаточно для построения понятий нумерической «единицы», «количества» и «числового ряда». Математическое «рацио», заключает отсюда Риккерт, не совпадает с логическим «рацио». Но следует ли из этого, возражает Кассирер, что число «алогично» и, стало быть, чуждо мышлению? «И логический идеализм далек от того, чтобы утверждать простое совпадение числа с «логическим»; скорее он рассматривает число как детерминацию именно этого логического» (3.404). Если же понимать логическое в смысле Риккерта и принимать тождество и различие за единственные, в строгом смысле, «логические» категории, то внеположность математики оказывается несомненной. Но, переводя спор на язык современной логики исчислений, можно сказать, что тождество и различие суть симметричные отношения, тогда как для построения числа необходимо асимметричное отношение (Рассел). Понятие «логической формы» мыслится Кассирером гораздо шире: оно есть выражение способности отношения как таковой и включает в себя, в качестве частных случаев, все типы отношения — «транзитивные» и «интратранзитивные», симметричные, несимметричные и асимметричные, так что наличие числа в этой универсальной системе не может быть оспорено и, более того, должно быть признано за краеугольный камень ее. Ведь если число представляет схему порядка и выстраивания в ряд, то мышление, как скоро оно мыслит содержание бытия упорядоченным, с необходимостью опирается на число. «Здесь, — подчеркивает Кассирер, — оно обладает основополагающим средством своей «ориентировки», как бы идеальной осью, вокруг которой оно вращает мир» (3.406). На этой интуиции покоится пифагорейская первоначальная идентификация числа и бытия и более позднее уточнение этой мысли, где число объявляется «истиной бытия». Лейбниц в своей ранней философской концепции исходит из наброска универсальной арифметики, расширяя ее впоследствии до общей комбинаторики, которая имеет дело уже не только с числами как таковыми, но простирается и в совершенно иные области, к примеру, на точки — таков знаменитый Analysis situs Лейбница. И с другой стороны прямо пророческой называет Кассирер дневниковую запись 22-летнего Декарта об интеграции наук, образующих доселе агрегат, в «цепь» строго расчлененных и взаимосвязанных дисциплин — мысль, легшая в основу принципиального обоснования арифметики у Дедекинда. По Декарту, арифметика и геометрия, статика и механика, астрономия и музыка, при всем видимом различии их объектов, суть разнообразные выражения одинаковой формы познания, составляющей предмет общего наукоучения, Mathesis universalis, и простирающейся на все, что определено «порядком и мерой». Таким образом, «предмет» математики все больше и больше очерчивается контурами понятия порядка. Лейбниц прямо требует соответствия между порядком мыслимого и порядком знаков; каждая умственная операция должна выражаться в аналогичной знаковой операции и выверяться правилами связи знаков; это значит, что математические предметы суть чистые формы отношения. Определением комбинаторики как науки о родовых качествах, где качество отождествляется с формою, Лейбниц положил начало новой математике, принципиально расширяющей первоначальную «классическую» область количества и величины. Современная математика, подчеркивает Кассирер, являет ряд дисциплин, начисто лишенных понятия экстенсивных «величин». Так, в геометрии, наряду с «метрической» геометрией, существует и проективная — автономное образование, не нуждающееся для своего построения в отношении специальных величин. Аналогично обстоит дело и в Analysis situs. Но даже в области арифметики понятие величины выявляет уже всю свою узость; теория перестановок не только отделяется от элементарноарифметических теорий числа, но и в строгом смысле порождает последние. И отсюда, из исследований групп буквенных перестановок, развивается общее понятие группы операций, вырастающее в новую дисциплину теории групп, на основании которой Феликс Клейн осуществляет реформацию геометрии. Геометрия мыслится теперь как специальный случай теории инвариантов, ибо взаимосвязь различных геометрий объясняется здесь тем, что каждая из них рассматривает определенные свойства пространственных образований, являющихся инвариантными по отношению к ряду трансформаций; различие их сводится к факту наличия особых групп трансформаций, характеризующих каждую из них. Критико-познавательный анализ позволяет Кассиреру установить внутреннюю методическую связь между понятием числа и понятием группы. Последнее, по сути дела, рассматривает на более высокой ступени ту же проблему, что и первое. Ведь образование натурального ряда чисел началось с фиксации первого «элемента» и с указания правила порождения новых элементов через повторное применение. Ряд потому и замыкается в единую целостность, что каждое сочетание элементов определяет в свою очередь новое «число». При образовании «суммы», «разности» или «произведения» двух чисел а и в величины а + в, а — в, а·в не выпадают из основного ряда, но принадлежат ему как определенные места либо, по крайней мере, относятся к местам основного ряда; связь арифметических операций, в конечном счете, снова приводит к арифметическим элементам. Эта точка зрения доведена в теории групп до строгой всеобщности, ибо в ней вообще устранен дуализм «элемента» и «операции» через превращение самой операции в элемент. Совокупность операций образует группу в том случае, если две трансформации, последовательно осуществляемые нами, приводят к результату, который достижим и через одну принадлежащую к совокупности операцию; «группа», поэтому, есть не что иное, как точное выражение системы операций, а теория групп с логической точки зрения характеризуется Кассирером как новое «измерение» арифметики: она есть арифметика не чисел, а форм, отношений и операций. Слова Кеплера о числе, как «духовном оке», через которое мы зрим действительность, вполне приложимы и к теории групп, этому блистательнейшему примеру чисто интеллектуальной математики (по определению Германа Вейля). Именно с помощью понятия группы удалось Минковскому привести проблематику специальной теории относительности к чисто математической форме и осветить ее в совершенно новом ракурсе. Попытка определения места числа в общей системе математики на основании вышеприведенных фактов приводит Кассирера к выделению двух моментов в историческом развитии проблемы. Уже в пифагорействе, наряду с формулой отождествления числа и бытия, есть и другая формула, согласно которой бытие «подражает» числу и причастно в этом смысле к нему (Кассирер приводит фрагмент Филолая, гласящий о том, что все познаваемое имеет свое число). Эта полярность тождества и различия, по Кассиреру, претворена в современной математике в чистую корреляцию. Предметная сфера математики не сводима к числу в количественном аспекте), но с другой стороны, математика всегда ориентирована на число и форму его порядка. «Путь, уводящий от числа, непрестанно приводит к нему. Следует охватить обе тенденции, дабы узреть идеальную структуру современной математики» (3.412). Вторая тенденция доминирует во всем ходе развития математики с начала прошлого столетия. Гаусс назвал арифметику царицей математики; эта метафора выросла в реальный проект «арифметизации математики», выдвинутый Клейном. С другой стороны, доказательство непротиворечивости геометрии Гильберт свел к однозначному отражению элементов и положений геометрии в чисто арифметическом многообразии, где арифметика гарантирует геометрию. Порядок числа мыслится здесь как последний фундаментальный слой «аксиоматического мышления». Но это число, которое определяет специфическое своеобразие современной математики, является, по Кассиреру, уже не только содержанием мысли, но и типом мысли, или чистой символической формой.
ПРОБЛЕМА ПОНЯТИЯ
ПОНЯТИЕ В ЯЗЫКЕ
Исходным пунктом кассиреровских рассуждений о лингвистическом образовании понятий послужило учение Гумбольдта о «внутренней форме», выявляющей специфический закон этого образования в различных языках. По Гумбольдту, «внутренняя форма» определяется как неизменный и равномерный момент в работе духа над возвышением артикулированного звука до выражения мысли, где форма должна выражаться либо в законах лингвистической связи, либо в образовании основных компонентов слов (Grundwörter). Это двузначное определение оказалось спорным; уже Дельбрюк возражал Гумбольдту, что здесь смешаны морфологический и семасиологический смыслы, так что в одном случае «внутренняя форма» касается связи определенных грамматических основных категорий в образовании языка, а в другом — она восходит к происхождению самих словесных значений. Но для самого Гумбольдта, по мнению Кассирера, решающим был именно последний момент; наличие особой внутренней формы в каждом языке он объяснял тем фактом, что в выборе своих обозначений язык никогда не выражает просто воспринимаемые предметы, но самый этот выбор определяется главным образом с помощью субъективного восприятия предметов; здесь находит свое прояснение знаменитый тезис Гумбольдта о том, что слово есть отпечаток не самого предмета, а порожденного этим последним в душе образа. Поэтому, разноязычные слова никогда не могут быть синонимами; образование языковых понятий всегда отмечено особым способом толкования. Луна по-гречески значит «мерящее» (μήν) по латински — «светящее» (luna, luc-na); одно и тоже чувственное созерцание помечено здесь различными понятиями. Но прослеживать этот процесс в отдельных языках представляется Кассиреру далеко не всегда возможным; язык, как «символическая форма», требует здесь иного, комплексно-структурного подхода.
Лингвистическое образование понятий Кассирер отличает от строго логического прежде всего присущей первому динамической сопряженностью рефлексии и действия. Здесь поначалу отсутствует еще всякая классификация созерцаний по определенным предметным меткам; язык не просто «рефлектирует», но и исполнен деятельного интереса к миру. Кассирер вспоминает в этой связи слова Гердера о том, что первоначально язык был для человека тем же, что и природа: пантеоном живых существ. «Отражение собственной жизни и собственной деятельности, а не объективного обстания, явилось тем, что фактически определило языковую картину мира, как и примитивную мифическую картину природы, в ее основных и существенных чертах. С обращением волн и деятельности человека на одну точку, с напряжением и концентрированием сознания на ней, она словно бы впервые созревает для процесса обозначения» (1.253). Динамическая акцентация содержаний потока сознания подготавливает почву для упорядочения лингвистически-логических «признаков» в группы, которые образуют фундамент для образования понятий, отличающегося от логического образования чисто качественной тенденцией.
Примером этого образования служит, по Кассиреру, переход от просто чувственных возбужденных звуков к крику, который, принадлежа еще к кругу чистых междометий, является уже не обращенным вовне чувственным впечатлением, но выражением сознательной волевой целеустремленности. Сознание, по словам Кассирера, отмечено здесь знаком не простой репродукции, но знаком антиципации, и поэтому звук не сопровождает уже некое данное состояние возбуждения, но действует сам как мотив, вторгающийся в событие и «вызывающий» его изменения. Аналогичный процесс имеет место в развитии языка вообще. Сознание не пассивно противостоит совокупности чувственных впечатлений, но проницает ее и заряжает собственной жизнью. «Если о понятиях вообще утверждали, что принцип их образования должен быть обозначен не как принцип «абстракции», а скорее как принцип селекции, то это прежде всего имеет значение для формы лингвистического образования понятий» (1.25 5-256). Язык, по Кассиреру, не фиксирует нечто данное, но определяет его сам; детерминация действия порождает детерминанты и доминанты языкового выражения. Кассирер приводит в этой связи выразительный пример из книги знаменитого египтолога Бругша «Религия и мифология древних египтян»; древнеегипетское слово kod обозначает самые различные понятия: изготовлять горшки, быть горшечником, образовывать, творить, строить, работать, чертить, плавать на судне, странствовать, спать; также ряд существительных: портрет, образ, подобие, сходство, круг, кольцо. В основе всех этих выводков лежит, по Бругшу, первичное представление: «поворачивать, вращать в круге». Вращение гончарного круга вызвало представление изобразительной деятельности горшечника, оплотневшее в пышном круге выразительных ракурсов. Образование языка в этом процессе Кассирер сближает с мифомышлением, хотя обе сферы продолжают сохранять строгую автономность. Язык, как и миф, исходит из опыта личностной деятельности, но, в противоположность мифу, сводящему мир к этому одному средоточию, он придает ему новую форму, свободную от голой субъективности ощущений и чувств. Процесс оживления и процесс определения образуют здесь духовное единство.
Такова, по Кассиреру, общая абстрактная схема лингвистического образования понятий. Для более точного и конкретного понимания ее он предлагает проследить переход языка от чисто «квалифицирующего» восприятия к «генерализирующему», от чувственно конкретного к всеобще-родовому. Для этого достаточно сопоставить формирование понятий в наших развитых языках с образованием их в языках первобытных народов. Последним присуща способность тончайше нюансированного выражения всех свойств вещи, процесса или действия; в богатстве таких выразительных средств они непревзойденны. Выбор выражения определяется модификациями предмета; в некоторых североамериканских языках, по свидетельству Сейса, процедура мытья обозначается тринадцатью различными глаголами, в зависимости от того, идет ли речь о руках или лице, посуде или одежде и т. д. Аналогично обстоит дело и с рядом других глаголов (ср. примеры из главки «Пространство в языке»); но эта особенность присуща и существительным. У тасманских аборигенов, например, отсутствует, по свидетельству того же Сейса, понятие дерева, замененное специальными наименованиями для каждого отдельного вида. Но даже развитым языкам свойственно это явление. Так, Гаммер-Пургшталл насчитал в арабском до 5744 наименований верблюда (в статье, озаглавленной «Верблюд» и опубликованной в «Трудах Венской Императорской Академии Наук» за 1855 год).
Во всех этих фактах, заключает Кассирер, дело идет не о случайном «буйном ростовщичестве» (üppige Wuchern) отдельной потребности языка, но о первоначальной форме лингвистического образования понятий, чьи следы заметны и поныне. К числу таких следов относятся, в особенности, те феномены истории языка, которые со времени Германа Остгофа принято называть «супплетивными явлениями». Таково, например, хорошо известное явление в системе флексивных и деривативных образований индогерманских языков, когда определенные словесные формы, сочетающиеся друг с другом в систему флексий (как отдельные падежи существительного, различные временные формы глагола и формы сравнения прилагательного), образуются не из тождественного лингвистического корня, но из двух или многих таких корней. Подобные случаи кажутся, на первый взгляд, исключениями, но Остгоф доказал, что закон этих исключений восходит к древней форме образования языка, где «индивидуализирующее» восприятие преобладало еще над «группирующим». Не случайно, что именно в том круге понятий, для которого первобытные языки развили тончайшую градацию наименований, индогерманские языки сохраняют супплетивные явления (таковы, например, глаголы: «идти», «приходить», «бежать», «скакать», «кушать», «ударять», «видеть», «говорить»). Но общая тенденция развития ведет, по Кассиреру, к сужению. «Ибо каждое слово имеет лишь свой собственный, относительно ограниченный радиус действия, вне которого его сила угасает» (1.261). Язык стремится к родовой всеобщности, не удовлетворяется уже созиданием определенных наименований для круга созерцаемых предметов; теперь он начинает сочетать эти наименования так, чтобы стяженность содержаний запечатлялась и на форме. Переход от чисто квалифицирующего образования понятий к классифицирующему Кассирер характеризует тенденцией языка выработать строгое соответствие между звуком и значением. Простейшей формой этой тенденции является согласованное маркирование группы различных слов через общий суффикс или префикс. Особенное значение слова дополняется здесь общим элементом детерминации, присущим и другим словам; образуется ряд родственных слов, связуемых, скажем, общим суффиксом. Кассирер возражает против попытки Вундта объяснить образование подобных рядов только через психологический закон ассоциаций сходства; психологичен, по его мнению, мотив образования; само оно представляет уже самостоятельный логический акт. Вспомним одну из существенных мыслей «Философии символических форм», согласно которой возможность самой ассоциации обусловлена логикой; любая связь препостулируется принципом связи, а принцип всегда логичен. Лингвистическое понятие в этом смысле является как бы презумпцией логического понятия; последнее уже выходит за пределы только сочетания содержаний и задается вопросом о законе его. До этой задачи, считает Кассирер, язык не возвышается; он лишь приуготавливает почву для нее.
ПОНЯТИЕ В МИФЕ
Характер мифического понятия («отдельных категорий мифомышления») определяется, по Кассиреру, основным законом этого мышления: законом сращения или совпадения членов отношения в нем. Так, рассматривая уже категорию количества, мы видим здесь идентификацию части с целым. Целое есть часть в том смысле, что оно входит в часть всею своею мифически-субстанциальной сущностью. В волосах человека, в его обрезанных ногтях, в одежде, в следах ноги содержится весь человек; каждый оставляемый им след есть реальная часть его, могущая угрожать ему, как целому. Этот мифический закон «партиципации» господствует, по Кассиреру, не только там, где дело идет о реальных отношениях, но и там, где имеют место чисто идеальные — в нашем смысле — отношения. Понятие рода, мыслимое нами в логической корреляции общего и особенного, чуждо мифомышлению; род здесь непосредственно присутствует в виде. Такова, считает Кассирер, структура тотемистической картины мира, где имеет место отождествление людей с их тотемистическими прародителями; некоторые бразильские туземные племена, по сообщению Карла фон ден Штейнена, называют себя водяными животными, другие — красными попугаями. Аналогично обстоит дело и с категорией качества, когда отношение между «целым» и «частью» мы заменяем отношением между «вещью» и ее «свойствами». Свойство мыслится в мифе не только как определение «при» вещи, но и как выражение всей вещи в определенном ракурсе. По Кассиреру, особая тенденция мифического понятия свойства отчетливее всего проявляется в структуре алхимии, тогда как своеобразие мифического понятия причины в большей степени выступает в астрологии. Таким образом силится он объяснить историческое родство между алхимией и астрологией; обе суть различные выражения одной мыслеформы — мифически-субстанциальной идентичности, для которой всякая общность свойств различных вещей сводится к наличию в них одной и той же причины. Так, некоторые тела рассматриваются в алхимии как комплексы простых основных качеств, из которых они возникают посредством соединения; всякое свойство представляет определенную элементарную вещь, и именно из суммы этих элементарных вещей образуется эмпирически-телесный мир. Знание смеси этих вещей открывает тайну их превращений; так, удаляя из обычной ртути воду, т. е. элемент подвижности и текучести, алхимик может получить «философский камень», «фиксируя» его затем в процедуре удаления воздуха, т. е. элемента летучести. В основе всех этих алхимических операций, по Кассиреру, лежит изначальная мысль о переводимости и вещественной отделяемости свойств, где каждое свойство гипостазировано в особую субстанцию. «Современной науке, и в особенности современной химии после Лавуазье, удалось преодолеть это полумифическое понятие свойства алхимии лишь принципиальным изменением и переворотом общей постановки вопроса в этом пункте» (2.86). Простоту «свойства» она заменила высшей сложностью, изначальность и элементарность — производностью, абсолютность — относительностью. Вообще так называемое «свойство» вещи сведено в критическом анализе к специфической «реакции», наступающей при определенных условиях; воспламеняемость тела, например, объясняется не наличием в нем некоей субстанции (флогистона), но его отношением к кислороду, как и растворимость тела — его отношением к воде или какой-либо кислоте. Качество подвергнуто здесь решительной десубстанциализации и включено в систему отношений.
Особый интерес представляет собою, по Кассиреру, мифическая категория «сходства». Миф согласен с логикой в расчленении хаоса чувственных впечатлений и извлечении из него сходных моментов; иначе миф был бы лишен образов, а логика — понятий. Но пути восприятия разнятся и здесь. Мифомышление не ведает отличия «внутреннего» от «внешнего», «существенного» от «несущественного»; всякое сходство есть для мифа непосредственное выражение идентичности сущности, нечто действительное и реальное. Там, где мы подмечаем простую «аналогию», т. е. отношение, миф видит непосредственное присутствие; дым курительной трубки для него не есть «чувственный образ», не простое средство для вызова дождя, но непосредственный образ облаков, в котором дан и сам вожделенный дождь. Вообще, замечает Кассирер, таков общий магический принцип, согласно которому можно обладать вещами с помощью их мимического изображения и не навязывая им никакой «целесообразной», в нашем смысле, деятельности. Для теоретического познания установление сходства имеет логически двоякий характер — синтетический и аналитический; в сходстве оно подчеркивает как момент равенства, так и момент неравенства; последний даже сильнее, поскольку задача его сводится не столько к голому извлечению общего, сколько к отысканию принципа, на котором зиждется различие в пределах одного и того же рода. Такова, по Кассиреру, структура математических родовых понятий. «Когда математическое мышление, — пишет он, предваряя свою теорию логического понятия, — подводит круг и эллипс, гиперболу и параболу под одно понятие, это обобщение основывается не на каком-то непосредственном сходстве форм, которые, чувственно воспринятые, скорее являются донельзя несхожими; но в самом средоточии этого несходства мышление постигает единство закона — единство принципа конструкции, определяя все эти образования как «коническое сечение». Выражение этого закона, общая «формула» для кривых второго порядка, полностью являет как их связь, так и внутренние различия, ибо она показывает, каким образом через простое изменение определенных величин одна геометрическая форма переходит в другую. Этот принцип, определяющий и регулирующий переход, не менее необходим и в строгом смысле «конститутивен» для содержания понятия, чем полагание общего» (2.88–89). Мифу он чужд; миф непосредственно видит родовое во всей совокупности его признаков в каждом «экземпляре»; он не ведает никакого различения «видов», полагая их в изначальной сращенности и индифферентности, благодаря чему становится возможным их непрестанный переход друг в друга.
Кассирер предвидит возможное возражение: не является ли понимание мифа из его мыслеформы ошибкой произвольного основания, ложной рационализацией мифа? Если миф зиждется на интуитивном единстве, то как же возможно дискурсивное разложение его? Ответ мы уже знаем: «Философия символических форм» резко отрицает принципиальное разграничение «дискуссии» и созерцания».[79] С другой стороны, поскольку миф «ракоходен» языку и познанию, форма понятия предваряет в нем форму созерцания и форму жизни. Анализ мифических категорий — первичная необходимая ступень в исследовании мифомышления; в исследовании языка и познания анализ понятия кульминирует процесс развития.
ПОНЯТИЕ В ПОЗНАНИИ
Еще в «Познании и действительности» Кассирер подвергнул основательнейшей критике традиционную теорию абстракции, сводящую образование понятия к процедуре извлечения путем сравнения и различения из многообразия явлений общих моментов; понятие мыслится при этом как экстракт действительности, где с увеличением объема сводится к нулю содержание. Уже давно было замечено, что в основе этой традиционной теории лежит элементарная ошибка petitio principii, ибо само сравнение и различение единичного предполагает наличие понятия; по остроумному утверждению Зигварта, «образовывать понятие путем абстракции значит искать очки, находящиеся на носу, с помощью самих очков».[80] Против логики родового понятия Кассирер выдвигает логику математической функции; понятие определяется им не как пустая вытяжка абстракта из многообразия конкретных явлений, но как «координирование единичного и введение его в целокупную связь». Род заменяется рядом; понятие есть интеграл этого ряда, охватывающий все его многообразие, каждый элемент которого получает определенность лишь в силу своей соотнесенности с интегралом. Но очевидно, что уже построение мира восприятия или созерцания не может быть лишено этого признака: «понятиен» в этом смысле простейший акт созерцания (разделы о «пространстве» и «времени» в достаточной степени обнаружили функциональность восприятия); форма «логического понятия» осуществляет лишь новую и более высокую потенцию «дискурсивного». Созерцание, по Кассиреру. идет определенными путями связи; именно в этом проявляется его чистая форма и его схематизм. «Понятие выходит за его пределы не только в том смысле, что оно знает об этих путях, но и в том, что само указует их; оно не только продвигается по уже проложенному и известному пути, но и помогает его уготовить» (3.336.)
Парадоксально, что эмпиризм, критикуя понятие, невольно подготовил почву для иной и более глубокой концепции его. Так, Беркли казалось, что он уничтожил понятие, усмотрев в нем кладезь всяческого обмана и заблуждения, но критика Беркли поражает, по Кассиреру, не само понятие, а традиционную связь его с «общим представлением» (general idea). «Общее представление» треугольника, который ни прямоуголен, ни остроуголен, ни тупоуголен и который одновременно должен быть всем этим, есть пустая логическая выдумка; но, утверждая это, Беркли вовсе не касается общности репрезентативной функции. Отдельный треугольник может тем не менее предстательствовать за все другие треугольники и заменять их для геометра. Любопытно, что точка зрения Кассирера в буквальном смысле совпадает здесь с феноменологическим образованием понятия у Гуссерля, хотя оба мыслителя исходят из совершенно противоположных установок и оперируют различными методами. По Гуссерлю, понятие образуется именно в акте узрения единичного, когда сознание осуществляет особую установку и, созерцая определенный предмет, «мнит», «имеет в виду» как раз его понятие. Очевидно, что геометр, пользуясь наглядным образом треугольника, имеет в виду не «этот вот» треугольник, а треугольник как таковой, или собственно понятие треугольника. Гуссерль в этой связи говорит о «созерцании или восприятии общего»; на этом покоится вся его теория «идеирующей абстракции». Кассирер, идущий другим, ревностно-дискурсивным путем, наткнулся на ту же «Америку»: полученное в феноменологии эйдетически, он пытается получить логически. «Понятие треугольника возникает из созерцательного представления не тогда, когда мы попросту гасим заключенные в нем определенности, а когда мы полагаем их как переменные» (3.338). Именно: различные образования, рассматриваемые нами как «случаи» одного и того же понятия, сплетены и содержатся не в силу единства родового образа, но благодаря единству правила изменения, позволяющему производить из одного «случая» другой, вплоть до тотальности всех возможных случаев. И Беркли, отвергающий единство родового образа, ничуть не оспаривает это «единство правила». Вопрос лишь в том, как оно возможно.
Ответ на этот вопрос Кассирер ищет в математической логике. Любопытно, что сама эта логика возникла из стремления свести «содержание» понятия к его «объему»; уже Шредер строил свою «Алгебру логики» на понятии класса, мысля под классом агрегат охватываемых им элементов. Связь этих элементов сводится, по Шредеру, к простейшему отношению, выражаемому союзом «и» (Und-Relation). Но против такой концепции понятия возникли серьезные возражения в самой математической логике. Так, Фреге удалось доказать, что понятие логически предшествует своему объему, и всякая попытка основать объем понятия в качестве класса не на понятии, а на отдельных вещах, обречена на неудачу. Связь между математикой и логикой устанавливается у Фреге не через понятие класса, а через понятие функции. Аналогичное утверждает и Рассел. Существует, по Расселу, два пути определения класса: один, когда его члены мыслятся раздельно и связуются друг с другом агрегативно, с помощью союза «и», — и другой, когда указывается общий признак, некоторое условие, достаточное для всех членов класса. Это последнее — «интенсиональное» — образование класса Рассел противопоставляет первому — «экстенсиональному», и хотя сам он рассматривает их различие в чисто психологическом смысле, преимущество дефиниции через интенсию, по Кассиреру, не только субъективно, но и объективно. Прежде всего она дает возможность мыслить и такие классы, которые включают в себя неисчислимое множество элементов. С другой стороны, очевидно, что прежде чем сосредоточить элементы класса и экстенсивно выявлять их через исчисление, необходимо решить, какие именно элементы рассматриваются как принадлежащие к классу, а этот вопрос может быть решен только на основе понятия класса в «интенсиональном» смысле слова. Стало быть, объединенные в класс элементы мыслимы как переменные определенной высказывательной функции и именно эту последнюю, а не элементарную мысль о множестве считает Кассирер сердцевиной понятия.
Что же такое «высказывательная функция»? Необходимо строго отличать ее от определенного частного высказывания, от суждения в обычном логическом смысле. Говоря словами Когена, она есть не что иное, как «логический шаблон» суждений, а не само суждение, поскольку в ней отсутствует решительный признак последнего: сама по себе она ни истинна, ни ложна. Истина или ложь присущи всегда лишь отдельному суждению, в котором определенный предикат относится к определенному субъекту, тогда как высказывательная функция начисто лишена такой определенности и устанавливает лишь общую схему, нуждающуюся в заполнении определенными значениями, дабы получить характер отдельного высказывания. Рассел обозначает ее как функцию, чьи значения суть суждения. В этом смысле всякое математическое уравнение является примером для этой функции. Так, приводя расселовский пример, уравнение х2 + 2х + 8 = 0 будет истинным лишь в том случае, если вместо неопределенной величины мы поставим соответствующую величину, тогда как для всех других величин оно будет ложным. Понятие «класса» получает, таким образом, общую, чисто «интенсиональную» дефиницию. Если теперь мы рассмотрим все х, которые имеют свойство принадлежать к типу некоторой высказывательной функции φ(x), и объединим значения х, оказывающиеся истинными для этой функции, то мы тем самым, благодаря функции φ(x), получим определенный класс. В этом смысле каждая высказывательная функция в итоге дает класс: класс х, которые суть φ(x); сама же функция, определяя класс, остается «логически неопределенной».
Таким образом, именно математика, по Кассиреру, прокладывает в этом пункте логики новые пути, на которых специфический смысл чистой функции понятия может быть адекватно понят. В сущности, речь идет здесь о форме определения и определяемых через нее содержаниях. Обе эти сферы, хотя они и проницают друг друга, должны, быть строго разделены в своем значении. Но именно здесь математическая парадигма приходит на помощь анализу значения: символический язык логического исчисления демонстрирует указанное разделение с непосредственной наглядностью. Если мы — так рассуждает Кассирер — мыслим понятие не экстенсионально, через перечисление того, что попадет под него, а чисто интенсионально, через указание на определенную высказывательную функцию, то очевидно, что эта функция φ(x), содержит в себе два неоднородных момента. Общая форма функции, обозначаемая буквой φ, остро и наглядно отличается от заключенных в скобки величин переменного х, которые могут входить в эту функцию как «истинные» величины. Функция определяет связь этих величин, но сама она не есть одна из них: φ (х) не гомогенна ряду х: х1; х2, х3 и т. д. Сенсуализм полагает функцию понятия как функцию предмета и берет φ так, словно бы она сама была х или простой суммой всех х: хх + х2 + х3 и т. д. Отвлеченный идеализм, напротив, исходит из различия связанных в высказывательной функции моментов и, так сказать, режет ее пополам: φ он приписывает самостоятельную логическую значимость, а х наделяется им самостоятельной «трансцендентной» реальностью, резко обособленной от «имманентных» данностей сознания. Оба воззрения, по Кассиреру, лишены понимания, что «функция именно потому и «значит» для отдельных величин, что ока не «есть» отдельная величина, и, с другой стороны, отдельные величины «суть» лишь в той мере, в какой их соединяет выражаемая функцией связь» (3.379. Курсив мой — К. С.). Иными словами: дан ряд переменных величин, эмпирически совершенно различных. Общность их нечувственна; она — в их сопричастности друг другу, в том, что они, не теряя индивидуальной специфики, организуются и выстраиваются в определенный ряд, каждый член которого во всей полноте своей частной конкретности выступает одновременно носителем и полномочным представителем целого — функции, высказывающей их и лишь потому высказываемой ими в присущей каждому из них форме. Это значит: функция не дана, а задана в чувственно-конкретном; она — не вещь, а принцип и, как таковой, она — принцип координации и детерминации ряда, который, будучи эмпирически-многообразным, является в силу этого принципа синтетически-многообразным. Отличие теории Кассирера от традиционной теории абстракции сводится, по сути дела, к переакцентации залогов: понятие не страдательно, а действительно, т. е. оно не образуется, а образует. В математической логике, пытающейся свести понятие к «классу», особенные трудности возникли с введением так называемого «нулевого класса». Экстенсиональный подход потерпел здесь крах, ибо очевидно, что класс, не имеющий никаких элементов, не может быть определен через данные своих элементов; он может быть обозначен только интенсионально, с помощью определенной высказывательной функции. Поэтому, с точки зрения формальнологической теории абстракции понятие всегда может обозначать лишь то, что «есть», а не то, чего «нет». «Именно этот постулат, — говорит Кассирер, — стоит в начале всякой логики: основная мысль элеатской логики. Но за Парменидом следуют Демокрит и Платон, и оба — один в сфере физики, другой в сфере диалектики — придают небытию новое право и новый смысл» (3.353–354). Каждое отдельное понятие — так учит платоновский «Софист» — вместе с высказыванием о бытии заключает в себе полноту высказываний о небытии; каждое «есть» в предикативном предложении может быть вполне понято лишь в том случае, когда коррелятивно ему мыслят «не есть». Эта гениальная диалектика полностью разделяется Кассирером. Именно поэтому он не перестает подчеркивать что понятие есть не столько расчищенный путь, по которому продвигается мышление, сколько метод расчистки самого пути. Мышление в этой расчистке действует совершенно самостоятельно; оно не связано жесткими, предлежащими в готовом виде целями, но ставит новые цели и задается вопросом о ведущем к ним пути. Интендируя определенное значение, высказывательная функция еще не осуществляет его; она не предлагет готового ответа, но указует лишь на тенденцию вопроса. Понятие, по Кассиреру, устанавливает линии визирования познания, без которых не может начаться исследование, и для получения надежного ответа всякому познанию должна предшествовать такая постановка вопроса. Характерно, что в истории философии само «понятие» выступило впервые в форме вопроса, у Сократа, которого Аристотель назвал первооткрывателем общего понятия. Понятие у Сократа оказалось как новым видом знания, так и видом незнания. В сократическом вопросе «что есть?» (τί έστι) охвачен метод сократической «индукции», метод постоянного и сплошного вопрошания, играющего роль «наводительства». Так и в дальнейшем развитии познания, считает Кассирер, каждое вновь приобретенное понятие остается ничем иным, как попыткой, проблемой; ценность его не только в том, что оно отображает определенные предметы, но скорее в том, что оно открывает новые логические перспективы и тем самым дает познанию возможность нового просмотра и обзора целостного комплекса вопросов. Если суждение в своих основных логических функциях обладает законченным характером, то понятие в отличие от него обладает функцией размыкания. «Оно предлагает вопросы, чье окончательное решение остается за суждением; оно есть лишь составление уравнения, чье решение зависит от анализа определенной идеальной сферы предметов или от дальнейшего опыта… Ибо одна из существенных его задач заключается именно в том, чтобы не сводить проблематику познания к преждевременному покою, но держать ее в постоянной текучести, склоняя ее к новым целям, пока гипотетически принятым. Здесь снова выявляется, что понятие менее абстрактно, чем проспективно; оно не занято фиксацией уже известного и упрочнением его общего наброска, но непрестанно взирает на новые и неведомые связи. Оно не только воспринимает сходства или связи, поставляемые ему опытом, но и творит новые связи: оно — свободная трассировка линий, которая всякий раз должна быть наново осуществлена, дабы внутренняя организация царства эмпирического созерцания и логически идеальной предметной сферы могла выступить в проясненном виде (3.335).[81]
КРИТИЧЕСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
«Философия символических форм», задуманная Кассирером как своеобразная «морфология» духа, исследующая формальные условия понимания мира, остается едва ли не самой значительной попыткой строго логического осмысления культуры в западной философии XX века. Конец исследования подтверждает эту оценку, данную в самом начале работы; уже с чисто формальной точки зрения строгость и логическая добросовестность «Философии символических форм» выразительно выделяют ее на фоне позитивистических и иррационалистических крайностей, разъедающих философскую мысль с разных концов и сходящихся в «провиденциальном» факторе скудоумия. Читатель, достаточно уважающий философию, чтобы не предпочитать логике всяческие чревовещательные инстинкты, может опытно проверить контраст ситуации, перейдя к текстам Кассирера от текстов, скажем, Ортеги-и-Гассета; по крайней мере, нормальная философская атмосфера будет ему вознаграждением после утомительно непочтительных к чужому слуху поминаний «рока», инспирированных печальной памяти гетевским Проктофантасмистом (из романтической «Вальпургиевой ночи»). Но таков, повторяем, чисто формальный аспект ситуации; вкратце отметив его, мы должны перейти к содержательному анализу.
«Философия символических форм» разделила участь многих современных ей направлений западной мысли: колебаться между формализмом и диалектикой, между Кантом и Гегелем, между гносеологией, не допускающей онтологии, и онтологией, не базированной на гносеологии. Кассирер — строгий трансценденталист — испытал на себе все последствия этой неустойчивости. «Годы учения», кропотливые штудии великих диалектических систем прошлого не могли не сказаться явным расколом в эволюции его мысли; не исповедуя диалектики открыто и безоговорочно, он тем не менее не мог открыто же отречься от нее. Но синтез трансцендентализма (в кантовском смысле) и диалектики оказался невозможным; Кант, предвидивший подобные попытки, дал в свое время красочную картину мытарствований познания по рискованным стезям мира идей в «трансцендентальной диалектике». Мы знаем уже, что подобный синтез полагается Кассирером в основу всей системы: это — провозглашение автономности и изолированности каждой символической формы и антиномическое утверждение сквозного развития всех форм. Следует отметить: оба термина антиномии сами по себе логически безупречны. Автономность формы, не допускающая никакой редукции, плодотворно сказалась в ходе фактического исследования; в этом отношении кассиреровский анализ, скажем, языка, понятого как независимая духовная форма, подчиняющаяся собственным — и никаким другим — законам, имеет явное преимущество перед многими концепциями современности: теорией Кроче, например, сводящей проблему языка к общей функции эстетического выражения, или философской системой Германа Когена, автономно расчленяющей логику, этику, эстетику и религиозную философию и исследующей основные проблемы языкознания лишь в степени их связи с эстетическими вопросами. С другой стороны, преимущественна и сама идея развития, историчности форм; штудии гегелевской «Феноменологии» вознаградили автора «Философии символических форм» даром конкретности. Но как возможен синтез? Или иначе: как возможно развитие форм в факте их строжайшей автономии? Самый переход из одной формы в другую обусловлен, по Кассиреру, латентным наличием последующей в предыдущей; форма, скажем созерцания лишь потому может развиться в форму чистого понятия, что «движущей причиной» ее является функция самого понятия. Но если так, то не нарушается ли тем самым принцип строжайшей автономности? Ибо о какой же автономности может идти речь, если формы изначально и органически «присутствуют» друг в друге? Кассирер на десятках страниц подчеркивает указателъностъ символа; это значит, что символ жив другим и для другого; принцип автономии замыкает его в структуралистскую процедуру «закрытого чтения»; здесь он жив собой и для себя. Принцип развития, напротив, выталкивает его из этой самодостаточности; выталкивает силою другого, диалектически соплетенного с ним. О чем же, как не об этом, гласят хотя бы превосходные страницы Кассирера о построении сознания? Сознание интегративно; каждый элемент его проникнут всей полнотой отношений и связей.[82] Вспомним: именно это дает возможность Кассиреру ответить на вопрос Канта об «одном» и «другом». Одно всегда берется через другое, а другое через одно; иначе они невозможны. Но если такова вся система символических форм, то не автономность присуща каждой форме, а причастность, со-причастность — сквозная ответственность. Другой вопрос: возможна ли автономность в самой этой взаимопронизанности? Мы ответим: возможна, но иная, чем у Кассирера, и иначе, чем у Кассирера (об этом в следующей главе). С другой стороны, трещину в фундаменте «Философии символических форм» дает сочетание понятий непрерывности и формы. Мы говорили уже в связи с анализом логики Когена о неправомерной универсализации принципа непрерывности на фоне новейших математических достижений, перефасонивших все здание математики, покоящееся на фундаменте аналитических функций. Это возражение сохраняет силу и в отношении Кассирера. Непонятно, впрочем, другое. Непонятна сама совместимость непрерывности и формы. Если, скажем, понимать число как сумму единиц и образовывать его через непрерывность перехода, то очевидно, что сама бесконечность этого процесса препятствует пониманию числа как формы. Форма индивидуальна: она — целостность, единство, связь, структура, гештальт. Таково понятие числа у Кантора; не непрерывное накопление единиц («порядок в последовательности»), а универсалия, во-первых, от последовательности элементов и, во-вторых, от порядка их, и выступающая как мощность множества. Одно из двух: либо непрерывность без формы, либо форма без непрерывности. Отсылаем читателя по этому вопросу к прекрасной статье П. А. Флоренского «Пифагоровы числа»; здесь же процитируем лишь один отрывок: «Если явление изменяется непрерывно, — пишет П. А. Флоренский, — то это значит — у него нет внутренней меры, схемы его, как целого, в силу соотношения и взаимной связи его частей и элементов полагающей границы его изменениям. Иначе говоря, непрерывность изменений имеет предпосылкою отсутствие формы: такое явление, не будучи стягиваемо в единую сущность изнутри, не выделено из окружающей среды, а потому и способно неопределенно, без меры, растекаться в этой среде и принимать всевозможные промежуточные значения».[83] Несомненно, что сама возможность формы обусловлена у Кассирера логически не выявленным принципом прерывности; в переходе форм должен быть перерыв, ограничивающий и отграничивающий их; в противном случае не может быть и речи не то что об автономности, но и о простой их различимости. «Прерывность» — скрытая власть в «Философии символических форм»; логическое осознание ее должно бы было ниспровергнуть идола «непрерывности», официально провозглашенного гегемоном системы. Скрытая власть — диалектическая власть, или единство непрерывного становления и прерывных скачков.
Обратимся теперь к самому понятию символа. От факта культуры Кассирер умозаключает к символическим формам и от последних — к единству символической функции сознания. Трехчленное это заключение провоцирует три вопроса; вопросителен и проблематичен каждый член его. Что значит факт культуры в критическом смысле слова? Кассирер постулирует его первоначальность: он есть: Критико-познавательная некорректность этого утверждения вынуждает зачислить его в класс догматических суждений. Как критик познания, я не имею логического права исходить из факта культуры; факт культуры — данность, догматически предпосылаемая мною познанию, и если Кассирер надеется спасти положение, квалифицируя эту данность как данность проблемы, он не замечает (по крайней мере, ничего не говорит об этом), что проблематичностью наделяется здесь возможность культуры, т. е. второй шаг познавательного акта, тогда как первый шаг попросту обойден в догматическом утверждении факта (он есть). Что же именно есть? Предположим: есть нечто; откуда, спрашивается, берет Кассирер, что это нечто есть культура? К культуре надо еще прийти; культура — цель исследования. Если я исхожу из культуры, я, стало быть, заведомо знаю то, что мне предстоит еще узнать, и доказываю нечто с помощью доказываемого нечто. Налицо — petitio principii, предвосхищение основания. Ситуация воспроизводит ход мыслей «Критики чистого разума», именно: исходную предпосылку ее, что существует фактически всеобщее и необходимое знание. Можно критически спросить Канта: откуда ему это известно? Возможность ответа, как известно, у Канта двоякая: либо опыт, либо априорная идея: третьего не дано. Но, если опыт, то, оставляя в стороне массу прочих недоразумений, позволительно спросить: как же всеобщность и необходимость могут быть опытом? Если же априорная идея, то чем же тогда отличается кантовский «критицизм» от «догматизма», скажем, Спинозы? Не все ли равно, какая внеопытная догма лежит в начале познания: «субстанция» или «всеобщее и необходимое знание»? Кассирер, как и Кант, перепрыгивает через начало; священное требование теории познания не предпосылать познанию ничего невыверенного познанием здесь нарушено. Результат ложится в основу; то, что должно было быть выводом, становится вводом. Понятие культуры догматически предваряет исследование культуры.
Второе звено — символические формы. Кассирер пытается здесь ответить на вопрос о возможности культуры. Культура возможна как система символических форм. Это значит: факт культуры есть факт наличия разнообразных символических форм, которыми мы конструируем мир. Но что такое символическая форма? Еще один факт, постулируемый ссылкой на Генриха Герца. Ссылка выглядит странною. Герц действительно отмечает факт символичности основных понятий механики; для него, как естествоиспытателя, этот факт естественен и испытан. Философ должен сделать шаг назад. Факт, установленный естествоиспытателем, требует радикального философского вмешательства и не может быть попросту «пересажен» в философию. Впрочем, такая пересадка составляет коренной порок всей «марбургской школы», и Кассирер здесь не является исключением. Символ далее характеризуется им как чувственное воплощение смысла. Но возникает вопрос: адекватен ли символ символической форме? С одной стороны, ситуация выглядит именно так: символ всегда феноменологичен. С другой стороны, Кассирер различает формы как таковые и единство функции. Таково третье и заключительное звено его анализа. Возможность самих форм выводится им из общей трансцендентальной символической функции сознания, как основы основ. Но именно здесь его подстерегает круг. Во-первых (мы отмечали уже в 1-й главе), единство символической функции не может быть основой познания, ибо само это единство есть уже познавательный результат. Кассирер приходит к нему и утверждает его посредством познания; он познает его и уже потом заверяет читателя, что познает им. Во-вторых, символично само это единство. Метко отвергая бергсоновскую метафизику указанием на то, что в своем антисимволизме она пользуется функцией символизма, неужели не замечает он, что впадает в обратную крайность. Обосновывать символ символом столь же недопустимо, как и отрицать символ символом. Скромный язык логики называет эту операцию: idem per idem. Схематическое ее изображение рисует нам тщетные тщания одного небезызвестного литературного персонажа, вытягивающего себя за собственную косу.
Неправомерной представляется нам и общая схема развития форм, предначертанная Кассирером. Сама линеарность этой схемы, неуклонность и непрерывность ее вынуждают признать ее невольной наследницей эволюционистского мировоззрения XIX века. Линия ведет здесь от низшего к высшему, от чувственного к идеальному; при этом делается важная оговорка, что сам процесс обусловлен заданностъю цели в материале; развитие тем самым мыслится как самораскрытие (в гегелевском смысле). Кассирер старательно избегает далеко идущих выводов этой оговорки; мысль его всецело занята конкретным выявлением линии. Но отсутствие радикальности оборачивается для него недодуманностью. Так, выводя первичные языковые свершения из мимики, он и не упоминает о характере и природе самой этой мимики. Она представляется ему типичным феноменом чувственности, т. е. он подводит ее под современное понятие выразительных движений, нисколько не учитывая того, что в современном понятии утрачен самый смысл сокровенного языка жестов и сохранена лишь чувственная, психофизическая скорлупа его. Сказанное равным образом относится и к другого рода переживаниям: цвета и звука, например. Современное понятие красного мыслит этот цвет как 1/7 спектра; понятие звука разлагает звук на колебания. В древности цвет и звук переживались иначе: красное виделось жгучим и нападающим, синее — холодным и неподатливым; Гете посвятил этим переживаниям бессмертный отрывок о «чувственно-нравственном воздействии красок» в «Учении о цвете». Если мимика и развивается до символики в процессе образования языка, то отнюдь не в смысле Кассирера, мыслящего развитие в линии от конкретного к абстрактному. Мимика, поэтому, квалифицируется им как нечистая или недоразвитая символика (по формуле: чем абстрактнее тем символичнее). Мы не станем останавливаться на противоречиях, связанных с грубым нарушением принципа автономности; почему же Кассирер, сурово отклоняющий полуиздевательский тон Штейнталя по поводу недоразвитых негритянских чисел, не применяет эту же санкцию и к себе самому? Жестовая символика ничуть не уступает абстрактно-словесной. Более того, в ряде случаев даже превосходит ее. Рука философа Брентано, по свидетельству Рудольфа Штейнера, слушавшего его лекцию, говорила больше, чем его слова.[84] Таков реальный опыт, быть может, каждого из нас. Но формализм не считается с ним; его опыт тщательно забронирован каталогизацией фактов по априорной схеме. Справедливость требует отметить: личные качества Кассирера-формалиста выгодно выделяют его на фоне «легиона» каталогизаторов. Долголетние штудии мира мыслей Гете не могут сойти даром даже формалисту; присутствие реального он будет чувствовать, судя по заверениям такого эксперта, как Цезарий Гейстербахский, спиной. Ряд страниц у Кассирера представляет в этом отношении любопытный психологический образец. Но речь идет не о личных особенностях формалиста, а о самой тенденции этого метода, небезуспешно узурпирующего круг научного мировоззрения. В результате, высшей «специей» символизма становится у Кассирера научная эмблема. Частные недостатки его анализа всех трех форм мы опускаем; подробный разбор их потребовал бы слишком много места. В качестве примера, подчеркнем один «ляпсус» из главки о мифическом числе. По Кассиреру (он и здесь верен собственной схеме), мифическое чувство числа исходит, в частности, из пространственного опыта. Сакральность, скажем, четверки он объясняет разделением мира на четыре стороны света. Между тем, возможность самого разделения остается необъясненной. Но очевидно, что попытка объяснения этого разделения вынудила бы Кассирера изменить свою схему в силу элементарного хода мысли: не число исходит из разделения, а разделение из числа, и знание четырех стран света есть не что иное, как следствие применения числа четыре к пространственному опыту. Древние авторы, например, Иероним, называли четверщу «видом мира», намекая или прямо указывая на то, что источник сакральности ее следует искать в другом опыте. Почему бы, кстати говоря, не в древнейшем символе копья, составленного из четырех металлов, или не в начертании имени Иеговы (йод-хе-вов-хе). Но, оставляя в стороне эти частности, мы вернемся к нашей проблеме. Идолатрия научного знания, характерная для «марбургской школы» и, казалось бы, ограниченная культурфилософским плюрализмом Кассирера, тем не менее утверждает свои права и в «Философии символических форм». Заключительный том ее, мы думаем, наиболее удался Кассиреру. И это не случайно: «философское познание, — мы цитировали уже эту фразу, — должно освободиться от насилия языка и мифа… прежде чем воспарить в чистом эфире мысли». С другой стороны, развитие языка имитирует несовершенную форму этого познания, а миф, судя по всему, пародирует ее (разве не пародией выглядит мифическая «причинность» в анализе Кассирера, и только смертельная серьезность Юма помешала этому философу понять, что, критикуя теоретическую «причинность», он сокрушал мифического «трикстера», пародирующего ее). Центральной точкой отсчета, таким образом, оказывается форма научного познания; остальные формы, при всей своей заявке на автономность, исследуются, так сказать, с оглядкой на нее. Все это, впрочем, вопросы, вытекающие из специфической сути метода самого Кассирера. Нас интересует другое: вскрыта ли загадка культуры в «Философии символических форм»?
С формальной точки зрения концепция Кассирера по-своему исчерпывает проблему. Ее цель, сводящаяся к разграничению морфем и идиом грамматики символической функции и структурному анализу функционирования каждой из них в установленных пределах, в значительной мере осуществлена. Итог оказался внушительным; читателю явлена богатейшая градация выразительных форм от мимики жеста до теории групп и релятивистской механики. Исследование Кассирера на этом и заканчивается; впрочем, сам автор не ставил себе иной цели, кроме основательной и по возможности полной инвентаризации культурных форм. Но здесь и возникает вопрос: сводится ли культура вся без остатка к этим формам? Разумеется, принцип формы играет первостепенную роль, и несомненной заслугой Кассирера является энергичное подтверждение старого схоластического правила: forma dat esse rei (форма дает вещи бытие); в этом пункте правомерна и оправданна его критика ряда философских доктрин, жертвующих формой ради всяческих «порывов». Но форма — эйдос (близость Кассирера к Платону и Плотину здесь несомненна); эйдос же есть вид. Вид чего? — к этому и сводится вопрос. Иначе: культура, как градация символических форм, как «эмблематика смысла», может ли быть ограничена во всей своей значимости только формами и эмблемами? История науки, повторим мы вместе с Кассирером, неоднократно свидетельствует о том, какую роль может играть для решения проблемы нахождение ясной и четкой формулы. Но формула — эмблема и, следовательно, эмблема чего-то. Это подчеркивает и сам Кассирер: «Всякое отдельное явление, — пишет он, — «репрезентирует» вещь (саму по себе? — К. С.), никогда, будучи отдельным, не совпадая с нею. В этом смысле… «явление» по необходимости указует через самого себя и есть «явление чего-то». Но это «что-то» не означает нового Абсолюта, онтически-метафизического бытия» (3.379). Что же в таком случае «оно» означает? Преодоление метафизики (хотя это преодоление оспорили бы у Кассирера не только Лейбниц, но и его бывший «коллега» по Марбургу — Николай Гартман) составляет пафос всей «Философии символических форм»; метафизику заменяет здесь другая маска «Абсолюта», на этот раз не оптическая, а чисто логическая. И, стало быть, «что-то» здесь уже не «ens realissimum» схоластов, а единство математической функции. Явление есть явление связи, выраженной в функции, и оно «есть» лишь в той мере, в какой указует на эту функцию. На что же тогда указует сама функция, или — явление чего «есть» она в свою очередь? Разумеется, с чисто математической точки зрения вопрос этот лишен смысла, ибо функция тождественна себе, и, как таковая, она «значит», а не «есть» Но вопрос ставится именно не с математической точки зрения, а с философской. Математика — одна из символических форм культуры, и какой бы совершенной парадигмой для других культурных форм она ни была, значимость ее столь же автономна и, следовательно, ограничена, как и значимость всех остальных форм. В противном случае, Кассиреру, критикующему Фосслера и Кроче за сведение лингвистики к эстетике, пришлось бы критиковать и самого себя за сведение философии к математике.[85] «Философия символических форм» утверждает поступенчатость развития форм при латентном наличии «сложного» в «простом». Так, по Кассиреру, функция ощущения и восприятия имплицитно содержит в себе (мы знаем уже) функцию понятия, а понятие «предвосхищает» суждение. Можно, следовательно, сказать, что латентная функция всегда «указует» на более высокую ступень проявления. Образование понятий в языке являет лишь несовершенный тип логического образования понятий, и равным образом этот принцип имеет силу не только для частных проблем, связанных с той или иной символической формой, но и для градации самих этих форм. В этом смысле, вспоминая прекрасную характеристику понятия у Кассирера — «оно предлагает вопросы, чье окончательное решение остается за суждением; оно есть лишь составление уравнения, чье решение зависит от … дальнейшего опыта», — мы вправе парафразировать ее в отношении культурной формы как таковой: символическая форма — вопрос (сократическое «что есть?»); она — составление уравнения, чье решение зависит от дальнейшего опыта. Вот этого опыта и лишена «Философия символических форм»; огромной заслугой ее останется составление уравнения культуры; недостаток ее в том, что она и не ставит вопроса о возможности решения этого уравнения, как если бы существо проблемы исчерпывалось одним лишь составлением. По сути дела речь идет о том, чтобы определить х самой культуры; роль этого х играет теперь сама, функция ψ; будучи ψ для специфически феноменологического ряда х, она сама становится х для новой, более высокой функции φ, чья значимость котируется уже не формально трансцендентальною сферою, но содержательно-жизненным праксисом. Говоря иначе и «символически»: книга — кладезь знаний, но книге положен предел, книга прочитывается и закрывается, и книжник, выступающий на определенном этапе носителем культуры, может стать (и становился исторически) гонителем ее на дальнейшем этапе, в дальнейшем, так сказать, опыте ее, и более того: оправдывать самый факт гонения ссылкой на тени великих авторитетов, перстом, указующим на… переплет. Но «указателен» и сам переплет; символ его — символ выбора: формальной логики конца, как конца, либо диалектики конца, как начала нового. Таково настроение Фауста, склоненного над чашею с ядом… в пасхальную ночь.
Наследовать достоин только тот,
Кто может к жизни приложить наследство.
(перевод Б. Л. Пастернака)
Борьба обеих тенденций в философии Кассирера отмечена все той же контроверсой диалектики и формализма. В результате форма поглощает реальность. Реальности нет вне форм — мы уже слышали этот ответ, фундаментальный для всей «Философии символических форм», — только они и реальны, и, стало быть, формы не покрывают и не открывают ничего, кроме себя; не ищите смысла за символами, ищите его в них самих, ибо они тождественны смыслу.
На этом ответе мы и остановимся в заключение; он имеет первостепенную важность не только для концепции самого Кассирера, но и для критического прочтения ее. Сведение реальности к форме, тоталитарное господство символа, не допускающее ничего «иного», ибо и «иное» в моменте его мысленной фиксации неизбежно становится символом, — это, казалось бы, безупречное в логическом отношении построение рассыпается при малейшей экспликации его потенций. Символ всегда есть символ чего-то; Кассирер не оспаривает этого положения, он лишь меняет местами члены суждения: «что-то» становится у него предикатом символа, который мыслится как субъект. Он не перестает подчеркивать, что предметом научного исследования является только форма и что речь идет о нахождении принципа формообразования, или — что то же — о построении самой реальности. Так, следует рассматривать языковые формы как саму реальность; нет мысли вне языка, язык и формирует саму мысль, больше того, он формирует и реальность.[86] Аналогичное можно сказать о мифе, искусстве, религии и науке. Остановимся на мифе; он даст нам яркий образец ситуации, к которой можно было бы применить формулу Поля Валери: «Истина в непроработанном виде более ложна, чем ложь».[87] Существует мифический образ беса — вполне символическая форма. Обратимся к какому-либо изображению беса (у Босха, например), где это мифическое существо имагинировано черным, как сажа, и с копытцами. И зададим теперь вопрос: реально ли оно? Конечно, нет, — ответит Кассирер, — если мыслить его вне формы изображения; реально оно только в образе, образ исчерпывает его реальность до дна. Но ведь (возразим мы) существо это явлено в мифомышлении как существо нездешнего духовного порядка, а между тем образ являет его в атрибутах физической реальности: черным и с копытцами. Стало быть, образ условен, как условен же образ и «волнового пакета» в физике микромира. В противном случае оставалось бы воскликнуть: «Верую, ибо абсурдно!» и патологически уверовать в реального беса с копытцами (причем, неважно: обрамлен ли этот бес рамой, зарегистрирован ли он как «символическая форма» и где именно; утверждена его реальность и именно такая — вот что важно). Сам Кассирер этой патологии, разумеется, избежал — интересы его, говоря его же языком, были помечены иным «индексом модальности», — но какая разница: ведь не избежали же ее другие, ну, скажем, ученый демонолог XVI-го века Никола Реми, прославленный своими изощренными методами «изгнания бесов», так что четырнадцать женщин, обвиненных в ведовстве, покончили жизнь самоубийством, чтобы не попасть в его руки, о чем сам он не без гордости писал в предисловии своей книги, посвященной кардиналу Лотарингии. Почему же психическая одержимость «излечивалась» через физические пытки? Не потому ли, что уверовали в абсурд: в реальность мифического существа, наделенного физическими атрибутами, и, стало быть, физически же доискивались до этих атрибутов, пытая плоть несчастных больных.[88] Ведь если реальность сведена к образу, если форма объявляется идентичной реальности, то реальность приобретает недвусмысленные черты, граничащие с абсурдом. Кассиреру казалось, что своим ответом он устранил теоретические погрешности кантовского критицизма; может быть, «теоретически» оно и было так: трансцендентальный метод «очистился» донельзя, но страшно подумать, что «трансцендентальное оправдание» культуры трансцендентально же могло оправдывать и практические аберрации культуры.
Высшая независимость мысли, которую открыто исповедовал немецкий философ, оказалась в его конструкциях иллюзорной, ибо была понята как неограниченная монархия мысли, ее абсолютизм, парафразировавший печальной памяти фразу короля-самодура: «Государство — это я!» и растворивший в себе всю действительность. К подлинной независимости вел иной путь. Можно и должно говорить о специфике символического формообразования — заслуги Кассирера в этом несомненны; но абсолютизировать это формообразование, избежав при этом «приведения к нелепости», вряд ли удавалось кому-нибудь. «Философия символических форм» выясняет «как» процесса символизации (в ряде мест блистательно); слабость и уязвимость ее в неопознании того, «что» при этом открывается. «Я всегда считал мир гениальнее моего гения», сказал как-то Гете. Напрасно гадать о том, что бы вышло, лежи эта мысль как активное настроение в основаниях кассиреровской концепции. Но читателю, знакомящемуся с обширным лабиринтом «Философии символических форм», она может оказаться небесполезной, тем более, если настроение гетевских слов будет опираться и на теоретическую их значимость.
ГЛАВА 5 ПРОБЛЕМА СИМВОЛА
Ракурс этой главы — попытка положительного раскрытия тем, негативно отмеченных в предшествующем критическом заключении. Положительное раскрытие не значит разрешение; проблема символа — проблема, а не вопрос; к существу же проблемы относится требование не разрешения, а прояснения. Скажем так: не существует чисто и только теоретического разрешения проблемы символа; концами своими она всегда упирается в апорию. Больше того: она ломает обычный строй представлений о теории, взывая к иному строю. Символ пограничен теории и, как всякое «пограничное понятие», теоретически аберративен. Методологам кантовской школы пришлось немало потрудиться над «Grenzbegriff»; изощреннейшие логические кунстштюки оказались все-таки беспрокой игрой интеллекта, подчиненного строгому закону непрерывности. Символ стал здесь «бесконечно отдаленной точкой» (focus imaginarius Канта), недостижимой целью. Чистой теории оставалось, поэтому, довольствоваться негативами этой цели, или «символическими формами»; идеал теоретической чистоты, провозглашенный первой заповедью всякого философски рефлектирующего ума, взорвался серией блистательных парадоксов, явивших двойника чистоты: отсутствие. Теперь, оглядываясь назад и размышляя над этим отсутствием, мы можем догадаться: символ сыграл злую шутку над идеализмом, страдавшим комплексом пятен и очистившимся до … исчезновения. Так, ревностно точа нож в усилии доточить его как можно тоньше и острее, иной прилежный «очиститель» дотачивает его до расточения, и лезвие улетучивается в небытие.[89] Шарль Пеги сформулировал эту ситуацию единственным, достойным художника образом. «У Канта, — так обронил он однажды, — чистые руки, но у него нет рук». Мы скажем «символически»: в судьбах теоретической чистоты символ оказался просто «нечистою силою», доведшей чистоту до пустоты, а пустоту возведшей в степень «значимости» («Geltung»). Теоретический подвиг Канта, научившего поколения мыслителей отличать действительные талеры от мнимых не по содержанию, а по форме действительности, сыграл здесь едва ли не первостепенную роль. Дело идет не столько о логическом аспекте проблемы, сколько об ином; логическая ценность кантовской критики онтологии несомненна, несмотря на сокрушительную мощь гегелевских возражений. Иное — симптоматологический аспект, или собственно «символический», знаменующий факт скудения практического мышления на широковещательном фоне чисто теоретических, достижений. Сто мнимых талеров, по Канту, содержат в себе ровно столько, сколько сто действительных талеров — теоретически это суждение кажется безупречным. Практически оно абсурдно, ибо сто мнимых талеров содержат в себе ровно на сто талеров меньше, чем сто действительных талеров.[90] Мы подчеркиваем: практически. Скажем так: с утверждением Канта не согласился бы ни один человек, реально обладающий талерами; парадоксально, но корни такого утверждения имеют практическое происхождение в отсутствии талеров. Если их нет, можно мысленно комбинировать их как угодно: действительные они или мнимые — все равно. Практически мысль Канта нуждается в небольшой поправке: сто отсутствующих мнимых талеров, — так должно читать ее, — содержат в себе ровно столько, сколько сто отсутствующих действительных талеров. Эта поправка, вовсе не существенная с точки зрения логики, приобретает решительное значение с точки зрения симптоматологии. Дело, конечно же, не в самих талерах. Талеры — просто пример. И у Канта ведь дело не в них. Дело — мы повторяем — в симптоме скудения практического мышления; пышный расцвет теоретического познания, лишившего себя, по словам Гете, возможности выхода к объекту, вогнал западную философию в тупик неосхоластики. Приведенную выше поправку к суждению Канта «чистый» логик не принял бы в счет; более того, вопрос о реально существующих «талерах» (ну, скажем, имеющих «покупательную способность») представляется ему неуместным; вдвое более того, отсутствие собственных «талеров» он силится возвести до всеобщего и необходимого отсутствия. В «талеры» можно верить; согласно «Критике практического разума» в них даже нужно верить; знать их нельзя; они, как сказал бы Кассирер, не он-тологичны, а проблематичны. Самое большее, что можно знать о них, сводится к принципу регулятивности. Они, собственно говоря, «идея», бесконечная и недостижимая цель наших устремлений, размениваемая в условных ассигнациях «символических форм». Нам не по пути выявлять все рафинированные «специи» этого идеализма.[91] Заметим лишь: здесь сходятся крайности: отсутствие «талеров», то, что Гегель называл «страхом перед объектом» (Angst vor dem Objecte), фатально примиряет столь различных во всем остальном философов, как Кассирер и Файхингер. Теоретическая чистота (пустота) изомстилась каскадом парадоксов, где «доказуемость бытия — стала нам бытием»;[92] так, строгий логик, ревностно очищающий философию от мистики непосредственности (выражение Кассирера), очищал ее до своего рода мистики сплошного функционализма. Разве не совпадает «логический идеализм» с опытом хотя бы нижеследующих строк из стихотворения Поля Валери:
Солнце!.. Блещущая тверды
Изолгавшийся покров,
Облазуривший нам смерть
В соучастии цветов;
В насладительности мук,
Ты — причина забытья,
Высочайший мой аркан,
Что Вселенная — изъян
В чистоте небытия!
(«Зарисовка змеи», перевод автора)
Деонтологизация философии в критическом идеализме устранила этот изъян. Бытие стало предикатом «трансцендентального субъекта», в измышлении которого логике пришлось еще раз невольно воспроизвести мистическое учение о «всечеловеке» (Адаме Кадмоне); «всечеловек» оказался в этом воспроизведении пустейшей тавтологией (Я = Я), формально сопровождающей всякий акт суждения. Прогресс знания, сведенный Кассирером к линии от конкретного к абстрактному, выявился в последовательной серии упразднений знания, некоторые вехи которой могли бы послужить яркими и поучительными образцами феноменологии абсурда.[93] А между тем, «спор о действительности или недействительности мышления, изолирующегося от практики, есть чисто схоластический вопрос».[94] Проблема символа, пограничная теории, знаменует разрыв; разрывна функция самой грани, или скачка от понимания к бытию. Символ, математически выражаясь, уравнение пятой степени, неразрешимое в аналитических радикалах и требующее «перехода в другой род»: по Клейну, в n-мерные пространства, так что число пресуществляется в геометрическую фигуру. Это значит: уравнение символа неразрешимо в теории; логика в погоне за символом описывает круг, окружность которого выразима особым трансцендентным числом, не поддающимся исчислению в конечных логических знаках. Будучи гранью, символ есть не только соединение, на что указывает глагол συμάλλω, но и разделение. Больше того: соединение предполагает разделение и обусловливается им; диалектически символ загадан в тезисе первичноположенной синкретической индифференции, в антитезисе различительной акцентировки и в синтезе конечной целостности. Символ, поэтому, есть прежде разделение и после соединение. Он разделяет миры теоретический и практический, слово и действие, культуру и жизнь; совершеннейший знак его — меч, приносящий разделение, или ересъ (αϊρεσις; и есть разделение). Символ — всегда еретичен: для чистого теоретика, смущаемого «руководством к действию» (другое имя символа), равно как и для «реального» практика, не терпящего ничего «лишнего». В первом случае «мы… остаемся узниками мира образов» (1.47); во втором — «никакого созерцания вечных символов: вожделеющая радость борьбы и победы».[95] Непримиримые миры и рассекающее их странное сечение (не о нем ли обмолвился математик Дедекинд в своей изящной дедукции иррациональных чисел?). Налицо парадокс: непримиримые миры фактически протекают друг в друга. Встречаются: Лейбниц и — страшно сказать! — Крупп… «Не забуду я никогда: еще будучи гимназистом, я нашел на столе у отца два почтеннейших кирпича, испещренных внутри крючковатыми знаками интегралов и функций; это были два руководства; одно называлось: «О внешней баллистике» (о движении ядра вне пушечного жерла); другое же называлось: «О баллистике внутренней». Две почтенных науки об уничтожении себе подобных блистательно развивались; и бескорыстное открытие Лейбница (дифференциальное исчисление) применили-таки мы к войне; преподавание метода убивать своих ближних разработали математики, инженеры, механики, техники культурнейших, цивилизованных стран; сотни тысяч убитых убиты еще до рождения: быть убитыми предначертаны. И знай Лейбниц, что в лучшем из миров открытие его ляжет в грядущее массовым истребленьем людей, колоссальнейшей бойнею мира, — как знать: может быть, свое открытие сжег бы он».[96] Строки эти написаны в 1916 г. Они должны быть написаны и сегодня. В них проблема символа расширяется до проблемы будущности человечества: расширяется не метафорически, не в досужих словопрениях переутонченных культуртрегеров, а насущнейшим образом. Чистейшие теоретические измышления провисли над миром угрозой уничтожения; еще было время, когда острые дискуссии на тему «Что такое математика» саботировались безобидными и уютно подмигивающими остротами типа: «Математика — это каприз математиков» (А. Пуанкаре); теперь эти остроты выглядели бы циничными: «капризу» математиков позавидовал бы Калигула. Разделение теории и практики, непрерывное с точки зрения теории, практически оказалось прерывным. Символ выступил в роли разрывной функции.
И здесь, на самой разделительной грани, с небывалой остротой возникает проблема реальности. Вчерашние споры прагматиков и логистов, охватывающие сердцевину проблемы, отодвигаются внезапно на задний план; смещается самый фокус проблемы, и всякий традиционный подход к ней выглядит теперь, в свете новых ритмов, лишь инерцией вчерашнего дня. Историк философии, берущий свой предмет без чувства этих ритмов, осужден на бесплодную абстрактность; цель его — перечень номенклатур, оторванных от живого процесса брожения мысли. Но историк философии должен быть не только философом, но и историком; исторический же подход к философии требует не номенклатур, а понимания. Сказать, что Плотин — неоплатоник, а Абеляр — концептуалист, значит заполнить, анкетную графу, ничего не поняв по существу ни в Плотине, ни в Абеляре. Век Плотина — не век Платона; платонизм в Плотине отягощен совершенно новыми перспективами, учет которых существенно перекрашивает фон проблемы. Есть в Плотине взлет над Платоном; его «Единое» — грандиозно рискованная попытка систематизировать разбросанные интуиции Платона. Но в Плотине налицо и падение: в усилиях чисто рассудочной реставрации платоновской диалектики. Рассудочные спекуляции Платона нормальны, еще нормальны, ибо вполне отвечают ритму эпохи; у Плотина они уже не нормальны, ибо их разделяет пятивековой интервал; ритм плотиновской эпохи уже взывал к иному, и именно этот ритм обличает любые попытки реставрации, какими бы блистательными ни были они с номенклатурной точки зрения. Формализм рисует другую картину; логика здесь является критерием, и проблематика оценивается с позиций ее чисто логических аспектов, которые-де вневременны и неизменны, как … кантовский «субъект познания». Напротив, историзм ищет критерий именно в историчности; вневременность для него — философский миф, чистейшая бессознательность рефлексии, гордящейся своим «критицизмом». Логики, верующие в эту вневременность, еще и сегодня охотно многословят на темы вопросника Порфирия, перекалечившего в свое время живую мысль Аристотеля и подарившего схоластике шлак этой мысли. Сегодня шлак стал уже шлаком шлака, и с этой точки зрения можно смело сказать, что Абеляр, развивающий в XII веке теорию сознания, более историчен, чем многие психологи и логики XX века, перепевающие давно изжитые представления в догматической ссылке на их вневременный-де характер. Не морфология проблем, а их, так сказать, эмбриология и физиология составляют подлинный предмет истории философии; понимание проблемы иллюзорно в только логической фиксации и реально в учете ее исторического брожения. Так, рассудочность есть мощное средство роста мысли в пору достижения ею совершеннолетия и высвобождения из-под опеки мифа и авторитета; когда мистик Бернанд Клервосский обвиняет Абеляра в переходе через «границы, поставленные отцами (церкви)», мы знаем, что в переходе этом осужденный Абеляр, предвосхищающий, кстати сказать, ряд доводов кантовской «Критики чистого разума», ведом духом времени, и за пять веков до Канта громит будущих Вольфов и Юмов. Но проходит время; на небе европейской культуры загорается звезда Возрождения, указующая иные пути волхвам этой культуры, и уже в знаменитом возрожденческом споре «стилистов» против «диалектиков», т. е. филологов против схоластических докторов очевиден будущий кризис рассудочности, давшей последние пышные плоды в аналитике Канта и исчерпавшей себя. Это значит: на смену рассудочности пришел новый тип мышления; рационализм, объясняющий мир, изжил свою историческую миссию и впал в маразм; прекрасны начинания его в философии, скажем, Августина и даже осень его в картезианской методологии, но маразматичны его бессильные потуги в антиномике Канта и бешеная его тирания в гегелевском панлогизме. Рассудок очерчен кругом «это — так»; мысль, творящая мир, зиждется на иных устоях: «это — да будет так!», или мысль, взбрызнутая импульсом творческой воли, — такова ее природа. Тем самым, однако, решительно изменяется самый подход к проблемам; толковать их на вчерашний лад, оправдываясь мифологемой вневременности, значит изменять духу времени.
Возвращаясь к теме, должны мы заметить: проблема реальности в наше время требует именно иного и нового подхода. Если в сравнительно недавнем прошлом рассудочный подход терзал еще эту проблему в терминологических тисках, так что «естественной установке» противопоставлялся мощный оборонительный заслон рефлектирующего ума, то — скажем прямо — возможности темы исчерпаны до абсурда в крайних выводах обеих точек зрения. Абсурден так называемый «наивный реализм», сведший реальность к рукоприкладству, или, как говорит об этом Платон: «Есть люди, которые согласны признать существующим лишь то, за что они могут цепко ухватиться руками, действиям же или становлениям, как и всему незримому, они не отводят доли в бытии» («Теэтет» 155е). Но абсурден и рационализм, растворивший реальность в трансцендентальной форме. Вл. Соловьев в «Критике западной философии» блестяще изобразил историческое «приведение к нелепости» рационализма в форме следующего силлогизма:
1. (Major догматизма). Истинно сущее познается в априорном познании.
2. (Minor Канта). Но в априорном познании познаются только формы нашего мышления.
3. (Conclusio Гегеля). Ergo формы нашего мышления суть истинно сущее.
Или: 1. Мы мыслим сущее.
2. Но мы мыслим только понятия.
3. Ergo сущее есть понятие.[97]
Реальность здесь сведена к понятию. Кассирер лишь расширил масштабы этого абсурда подчеркиванием наряду с понятием и других форм, но суть дела от этого не изменилась. Вопрос о реальности вне форм, т. е. всего каталога номенклатур, был объявлен «мистикой»; если реальность есть, то она есть форма и только форма. По Когену, она есть в «напечатанных книгах». Реальность звездного неба — не в небе, а в учебниках астрономии. Говорят, что умирающий Гете воскликнул: «Больше света!» X. Ст. Чемберлен, приводя определение света в «Физиологической оптике» Гельмгольца, как «своеобразной формы движения гипотетического медиума, или светового эфира», с коварной серьезностью предлагает представить себе Гете, который, умирая, воскликнул бы: «Больше своеобразной формы движения гипотетического медиума!».[98] Мы скажем, что это смешно; но вопрос в другом. Почему это должно быть смешно (и нелепо)? Ведь, формально говоря, здесь не допущено никакой ошибки; строгая символическая форма выверяется жизненной ситуацией и… попадает впросак. Кассирер счел бы это нарушением принципа модальности; любопытно, однако, что сам Гельмгольц упрекал Гете-естествоиспытателя в привязанности к миру чувственного созерцания. «Больше света!» — это требование глаза, рожденного видеть («Zum Sehen geboren» как поет Линкей в «Фаусте»), есть, конечно же, следствие такой привязанности. Но что бы подумал Гете о «своеобразной форме движения гипотетического медиума»? «Кто не доверяет своим чувствам, — обронил как-то этот «закоренелый реалист» («ein Stockrealist», так он назвал себя), — тот дурак, который неизбежно превратится в умозрителя»[99] Надо представить себе ситуацию, когда не зрячий описывает слепому мир красок, а слепой зрячему («в назидание зрячим»!). Вот пурпур; это 400 биллионов колебаний «гипотетического медиума» в секунду. Можно было бы продолжить по аналогии: вот лошадь; это сумма галопирующих ее шагов. В «Дневниках» Л. Н. Толстого есть такие аналогии: «По Вейсману, — пишет Толстой, — объяснение наследственности состоит в том, что в каждом, зародыше есть биофоры, биофоры же складываются в детерминанты, детерминанты складываются в иды, иды же в иданты. Что за прелесть для комедии». «По Вейсману же, — продолжает Толстой, — смертные существа потому остались жить, что все не смертные не выдержали борьбы с смертными, то есть бессмертные — померли. Неужели не удастся воспользоваться этой прелестью».[100] Толстой — провидец; когда-нибудь этой прелестью воспользуются Мольеры будущего. Пока она отдана профессорам философии. Проблема символа, заостренная в вопросе «что такое культура», свела концы с концами. Культура — царство символических форм. Но символ — мнимый образ (Scheinbild). И значит культура — царство мнимостей: огромный и блистательный паноптикум мнимых условных форм, которым не соответствует никакая реальность. Следующий шаг был шагом конфликта: «жизнь», вытолкнутая на задворки чистой философии, прокляла философию градом необъяснимых катастроф, и «напечатанным книгам» Когена гневно ответил… Александр Блок:
Молчите, проклятые книги!
Я вас не писал никогда!
Символ стал символом переполоха. Мощная броня символических форм спровоцировала извне натиск безумия. Но чем же, как не проекцией непроработан-ного «нутра», был этот внешний натиск! Трансцендентальная форма, покрывающая переживание штампом абстрактной номенклатуры, оказалась пороховой бочкой с вполне безобидными этикетками: здесь — «сила», там — «причинность». Реальная причинность тем временем взрывалась рядом самых непредвиденных следствий. Лейбниц и Крупп. Чистейшее измышление мысли и расстрелянный Реймский собор. «По плодам их узнаете их». Модные философы состязались в «спасительной голословности» (Гете). Шпенглер упивался «инфинитезимальной музыкой» северной фаустовской души. А тем временем нарождалось поколение, которому суждено было испытать совсем иную музыку этой души: оглушительность фауст-патрона.
Выводим морфологии культуры стало провозглашение мнимости и условности символических форм. Модный тезис о независимости и автономной самодостаточности этих форм неуклонно упирался (в своих логических пределах) в парадокс самоликвидации структур культуры, и то, что не рискнули сделать сами философы (впрочем, все ли? разве Сартр, увенчавший свою философскую карьеру блистательным призывом сжечь Мону Лизу, не последовательнее Файхингера?), обернулось катастрофическим обрастанием извне. Мнимости начали лопаться, как мыльные пузыри, под запоздалый шум голосов об опасности, грозящей цивилизации… Мы вправе оспорить эти голоса как «много шуму из ничего». Если культура признана мнимой, к чему все эти беспокойства?
А что, спросим мы, если она не мнима, если она — безусловна? Что, если мнимы, напротив, патетические «выверты» неблагодарных воспитанников ее, от Шпенглера, не без самоупоения сулящего ей гибель, и Адорно, назвавшего ее «мусором,[101] до необозримых множеств всякого рода скептиков, циников, релятивистов, прагматиков, конвенционалистов, позитивистов и прочая, прочая? Поставленные перед альтернативой выбора между творчеством и рефлексией над творчеством, что выберем мы? Впрочем, рефлексия рефлексии рознь. Рефлексия, утратившая симпатическую связь со своим объектом и нарциссически любующаяся собственной безблагодатностью, с необыкновенной легкостью переносит эту безблагодатность на объект (с которым она связана-таки формально и по уставу); мы и здесь вправе подчеркнуть психологическую подоплеку ситуации; квалификация объекта как «мусора» есть по сути дела этап бессознательного самопознания мысли.[102]
Здесь проблема символа упирается в проблему реальности. И если иными интерпретаторами культуры реальность характеризуется как неуместная, то естествен вопрос: как же она понималась самими творцами? Двух мнений быть не может; мы ответим — реальность для них была безусловной. Онтологичность истины, кореняшаяся в самой логике русского языка (истина = естина), составляет центральный нерв любого культурного творчества; удаление этого нерва всегда знаменуется выпадением из круга творчества: «в» культуре становится «о» культуре, конкретный праксис уступает место умствованиям и бесплодному чистописанию. Скажем так: не будь реальность безусловной, культура не возникла бы; готовность Бруно взойти на костер — скрытая пружина всего его творчества, но было бы слишком полагать, что эта готовность вдохновлялась мнимостями и неуместностью. И если пифагорейцы карали смертью за разглашение тайны иррациональных чисел, право же, над этим стоит призадуматься дольше обычного. Чему приписать необходимость этой кары — кары за разглашение того, что известно сейчас любому школьнику и даже некоторым цирковым лошадям? Легкомысленное перо Альбера Камю, отводящее творчеству место безделушек в гуще жизни,[103] с поспешным благополучием разбрызгалось кляксами абсурда; правоту этого пера пусть подтвердят герои романов Камю, живущие «солнцем, воздухом и водою» (почему-то под «гущей жизни» подразумеваются здесь только чувственно насыщенные будни бездельников и негодяев!). Ложь его разоблачается другими героями, героями не романов, а жизни, немыслимой без творчества. И вот здесь-то вырастает проблема реальности. «Vitam impendere vero» — «посвятить жизнь истине» — что это значит? Посвятить ее мнимым формам? Неуместности? Функции φ (х)? Абстрактным измышлениям рассудка? И карать за это смертью? И восходить на костер?
То была наивная вера, скажут.
Пусть. Но она двигала горами, ответим.
И спросим: чем же двигает прожженное это неверие?
Так, безотчетно и сразу. А подумавши: неблагодарная рефлексия, упрекающая в наивности то, что дало самой ей возможность быть рефлексией. Вот Пифагор, гениальный творец-математик и наивный истолкователь собственного творчества. Мы же, посредственные творцы или вовсе не творцы, превосходно толкуем его. Спорить бесполезно; помянем славное имя Эразма и, воздав этим ответам хвалу, последуем дальше. Символы условны и мнимы — в этой точке сходятся противоположные мнения: Герц, Кассирер, Лейбниц, Пуанкаре, Августин, Соссюр… Старинный довод «слово собака не кусает» стал, воистину, хрестоматийным образом философской аргументации. Но точка схождения — точка пересечения линий, и за нею начинается разрыв. Остается обосновывать «конвенционализм» или… критически проверить само понятие условности. Перипетии первого пути мы уже вкратце обрисовали; их теоретический предел упирается в домашнюю позевывающую мудрость: «Все в мире, друг мой, условно», но за теоретическим пределом открывается неохватный плацдарм для нравственно-практических следствий этой мудрости, о которых — здесь — воздержимся… Путь второй отличается от первого прежде всего интонационною силою акцентировки этой «мудрости». Да, условно, но — что есть условность? Это вот «что есть?» и подводит мысль к иному пределу, где теоретическое обоснование символа скользит по грани аберраций. Теория здесь начинает «сереть»; близится разрыв, меч, приносящий разделение. Проблема символа становится проблемой выбора. После выбора теории — либо жест поступка («Jen’écris plus les romans, je les fais» — «Я не пишу больше романов, я их делаю», — так означено это в одном из писем Лермонтова), либо она — Ахилл, посрамляемый черепахой под гомерический хохот небожителей: «некто в сером», уличающий отсюда туда и — невпопад. «Носитель» незаметным для себя образом оборачивается в «гонителя». Фактичность этой ситуации ежедневна, ежемгновенна. Мысль бессознательно (или сознательно) проделывает выбор, ну хотя бы в миге дочитывания прохватившей ее книги. Книга захлопнута. Что дальше? Иоганнес Шефлер, великий немецкий поэт XVII-го века, отвечает на этот вопрос:
«На этом кончим, друг, а хочешь дальше знать, тогда сам книгой стань и сам ее чтецом».[104]
Здесь символ — разделение. Царство форм повисает вопросом. Если форма есть «все», тогда прав Кассирер — «мы остаемся узниками мира образов»; закон непрерывности плотно облекает сознание линией не-преступаемого «здесь» (разве не в этом следовало бы искать «протофеномен» кафковской притчи «Перед Законом»?). Но форма — негатив, требующий проявки (Гете называет ее «стеклом»); форма — сплошное, «сквозь». Так, сквозь стекло видим мы солнце, но солнце не «формализуемо» в стекле; стекло для солнца и вовсе не солнце в стекле. Абсолютизируя форму, должны бы мы были и книгу свести к набору букв; с формальной точки зрения «Фауст» есть совокупность бесконечных комбинаций 26 букв немецкого алфавита. Установив это, формалист может искусно изыскивать законы этих комбинаций (и да пребудет ослепительным предметом его зависти «Великое Искусство» каталанского трубадура и фантаста Луллия!). Толщи доскональнейших исследований лягут в основание науки о «Фаусте» — споры, диспуты, симпозиумы, конгрессы, быть может. А «Фауст» — невпрочет.
Невпрочет и культура в «Философии символических форм» (да и только ли в ней одной!).
Есть истины оскорбительно ясные («beleidigende Klarheit», говорил Ницше о Милле). Сказать, что, читая книгу, читаешь не буквы, а мимо букв, не слова и фразы даже, а мимо слов и фраз, не текст, а контекст, значит высказать такую вот истину. Читатель морщится; ясность и впрямь оскорбительная. А не тускнеет ли эта ясность по мере расширения поля, аналогий? Не сгущается ли она в темноту, когда от чтения книги переходим мы к чтению культурных доминионов, культурных форм, культуры самой, мира? Сказать, что книга — набор букв, что «Фауст» — совокупность бесконечных комбинаций букв (прибавив глубокомысленно: особым образом организованных) значит высказать оскорбительно ясную истину и удостоиться снисходительных усмешек (по) читателей «Фауста». Но сказать, что мир — совокупность бесконечных комбинаций явлений, или, цитируя Г. Марселя, «ансамбль эпистемологических функций», значит обеспечить себе не последнее место за «круглым столом» рыцарей Научного Образа. Уместно было бы здесь напомнить одну из таких комбинаций букв (в «Фаусте») -
Спасительная голословность
Избавит вас от всех невзгод.
Якоби высказал однажды прекрасную мысль о том, что в человеческой природе есть «эластичные места» для правды. Быть может, именно эти «места» вынудили автора «Философии символических форм» заблаговременно оговорить цель и задачу своих конкретно феноменологических исследований как грамматику, только грамматику культуры. В такой ограничительной презумпции книга Кассирера становится обязательным пособием как для теоретиков культуры, так и для специалистов по отдельным областям ее (лингвистики, например). Возражения принимают формальный и имманентный характер. Мы повторяем: «Философия символических форм» в этом смысле остается едва ли не самой значительной попыткой подхода к культуре в западной философии XX века. (Еще одна оскорбительно ясная истина: безграмотному лучше обучаться грамоте, чем, усвоив модный жаргон, с безответственной инстинктивностью упиваться «последними вещами»). Высокая ценность ее в том прежде всего, что она академически строго разъяснила модальные различия общих культурных форм. Усвоившие этот семинарий, должны, по крайней мере, серьезно отнестись, ну хотя бы к мифу и овладеть основными категориями грамматики мифа (без которой, заметим в скобках, отношение к мифу рискует быть безграмотным даже при наличии незаурядного «чутья»). С другой стороны, пафос изложения не умещается в пределах грамматики, и поскольку насущным остается вопрос о смысле символических форм, то самый этот смысл явно или (чаще) в подтексте сводится к грамматике и замуровывается в актуальности форм. Такова идея автономности, основной лейтмотив текста. Можно согласиться, что в аспекте грамматики эта идея правомерна; на фоне засилия редукционизма энергичное отстаивание автономности в высшей степени необходимо. Но вот автономность сама становится идолом системы, гласящим, что форма может быть понята только через самое себя. Язык, миф постигаются имманентно, в процессе экспликации законов их структурирования. Мы скажем: это так и не так. Так — если пытаются свести определенную символическую форму к другим формам и объяснить, скажем, миф через рассудочную аллегорику или психологические законы ассоциации. Не так — ибо природа символической формы в ее указателъности на другое; символ есть символ чего-то. По Кассиреру, это «что-то» есть единство функции образования самой формы, и, следовательно, символ всегда указует на себя. Переводя на конкретный случай: буквенные комбинации «Фауста» указуют на грамматические правила их образования. Понять эти правила значит понять «Фауста». Справедливости ради подчеркнем: лучше так понимать «Фауста», чем в необязательной торжественности рассудочно-дидактических «возвышенностей». По крайней мере будем иметь дело с точностью, пусть в пределах весьма близорукой перспективы, но все-таки с точностью. Ситуация осложняется, когда эта точность перестает восприниматься на выгодном для нее фоне контраста и приобретает самостоятельное значение. Тогда автономность рискует стать термином антиномии, отмеченной нами ранее. Подлинно автономность ограничена проблемой уместности (на этот раз уместности). Из того, что форму нельзя сводить к другим формам, вовсе не следует, что нужно сводить ее к самой себе. Да, форма независима… в служении реальности. «Имя» существует «во имя». Тайна формы — в достижении ею совершенства и в отречении от себя для того, «видом», «эйдосом», «зраком» (не «знаком») чего она есть. Если представить себе культуру в образе оркестра различных культурных дисциплин, то дело идет о месте и партии каждого оркестранта, который не должен урывать партию соседа или стремиться занять дирижерское место. Он, можно сказать, автономен на своем месте. Предполагать же автономность его партии в смысле ее зависимости только от самой себя значит иметь дело с из ряда вон плохим оркестром. Такая автономность остается только за партитурой.
Формализм тем не менее настаивает на замкнутом характере структур. Культура оказывается стиснутой двумя непримиримыми тенденциями: пустым содержательным дидактизмом и пустой формалистической процедурой «закрытого чтения».
И, бедное дитя, меж двух враждебных станов
Тебе приюта нет.
(Вл. Соловьев)
Так, для одних музыка (Вагнера, например) — опасно обольстительный агент национал-социалистической пропаганды, для других она — игра чистых форм. Две профанации теории символа борются здесь за право профанации живого символа. Остается спросить: а где же третье? И что же есть музыка?[105]
Этот вопрос и образует грань между теорией и практикой. Ответить на него так, как обычно даются теоретические ответы, невозможно. Грань всегда аберративна. Грань — разрыв. Остается говорить молчанием или… поступками. Ведь «символы не говорят, они молча кивают без слов». Редкие слова могут служить здесь такими кивками. Слова Лоренцо в последней сцене «Венецианского купца» Шекспира. Или приписываемая Гердеру (по другим источникам, Лютеру) фраза о том, что «Германия была реформирована песнями». Быть может, невероятно меткий образ художника Ленбаха, друга Вагнера, сказавшего однажды композитору: «Ваша музыка, ведь это путешествие в Царство Небесное на ломовой телеге». Или несравненный отрывок из одного письма Рильке, где музыка допустима лишь как совращение к закону («Ибо в ней одной имеет место неслыханный случай, когда закон, обычно всегда повелевающий, становится умоляющим, откровенным, бесконечно нуждающимся в нас»). Разве же не достаточно этих кивков для того, чтобы понять, ну хотя бы то, на что символ не указует!
Последним теоретическим выводом в проблеме символа оказывается, таким образом, негация. Понять то, на что символ не указует, еще может теория. То, на что он указует, находится за пределами книги. Книга здесь должна закрыться или оборваться, уступив место иному. Это иное… можно назвать его завтрашним бытием сегодняшнего познания. Или, как с безошибочной неосторожностью говорит об этом Гете: «Ошибки принадлежат библиотекам, истина же — человеческому духу».
ГЛАВА 6 ПРОБЛЕМА КУЛЬТУРЫ
Понимание феномена культуры очевиднейшим образом связано с последовательной аналитикой различных культурных форм как в плане генезиса, так и в структурно-типологическом аспекте. Гораздо менее очевидно другое необходимое условие, по самой природе своей, казалось бы, не вмещающееся в индекс требований современной научности. Речь идет о sui generis постижении единства культурного космоса в моментальном акте целокупного видения, или синопсиса, без которого аналитические процедуры, сколь бы безупречными они ни были, рискуют уподобиться лихтенберговскому ножу без ручки и с отсутствующим лезвием. Другой вопрос, трудно или легко такое постижение, да и возможно ли оно вообще, — здесь напрашивается вполне уместный парадокс: суть не в том, что оно невозможно, а в том, что оно необходимо поверх всяческих споров о нем или сомнений. Когда Моцарт слышал единовременный гештальт своей еще не написанной симфонии, сжатой в полнозвучное мгновение, ему надо полагать, было не до того, что скажет по этому поводу психология творчества. И если переживание аналогичного гештальта непреложным образом загадано всякому культурфилософскому анализу, притязающему на понимание, а не просто занятому почтенно априорной сортировкой фактов, то здравый смысл вынуждает нас признать, что, наложив на это переживание научный запрет, мы, в конце концов, рискуем потерять саму культуру и остаться у «разбитого корыта» беспредметной науки, строгость которой обернулась злой шуткой отсутствия предмета при безупречном аппарате.
Что и говорить, шутка действительно «глобальная»; ей довелось даже в недавнее время стать темой одной из последних книг (а может, и последней книги) классической европейской философии, где она была означена как «Кризис европейских наук». И все это, несмотря на десятки предостерегающих голосов, вопреки реальным фактам. История самой науки не без дидактического коварства свидетельствует о том, что развитие науки прямым образом и как правило связано с нарушениями требований так называемой «научности», что не было бы действительной науки без постоянной пульсации умственных сумасбродств и что сама наука, в конце концов, больше характеризуется суммой отступлений от «научности», чем прилежным следованием ей. Здесь снова напрашивается парадокс, не из капризов стилистики, а из ритма темы: если «мизинец» Энштейна, по собственному признанию ученого, сомневаться в котором у нас нет никаких оснований, знал то, чего не знала его «голова», то отчего бы нам отказывать этому «мизинцу» в том, в чем мы не отказываем пресному и скучному «принципу верификации», вся безблагодатная миссия которого исчерпывается скепсисом по отношению к действительным силам научного творчества.
Культура, взятая в целом, как единый организм, пронизывающий нескончаемое разнообразие исторических свершений, некая гигантская партитура, спресованная в миг, равный объему, иными словами, культура, как идея, эйдос, вид, ясновид бесконечно красочных перспектив, живая сущность игры переливчатых форм, или, конкретнее: лейтмотив мучительного пути человеческого самопознания, данного в головокружительных зигзагах взлетов и падений, культура в мгновенной вспышке умозрительного магния, освещающего весь фон, на котором только и возможна аналитика композиционного расклада, — это требование, безотносительно к субъективному произволу исследователя, было и остается необходимым условием анализа как такового. Скажем больше: оно необходимо для восприятия вообще, от примитивнейшего, где восприятие целостности, скажем, дерева предваряет восприятие отдельных его частей, до наиболее сложных. Без него восприятие как таковое оказалось бы невозможным, и это справедливо не только в отношении людей; Вольфганг Келер обнаружил аналогичное условие даже у человекоподобных обезьян, не научившихся еще оспаривать этот факт посредством «констатации» и «протокольных предложений». Глядя на многое, видеть одно, ибо само многое и есть одно, перешедшее из логики в историю, — с этой обязательной процедуры и начинается тема человека как творения и творца культуры. Без нее умственный кругозор неотвратимо ограничен постылой фигурой гимназического силлогизма, возвещающего смертность некоего Кая. «Кай смертен», говорят нам, и нам нечего на это возразить. Мы просто спрашиваем, кто он, и находим petition principii в малой посылке силлогизма, ибо прежде чем заключать к смерти Кая, требуется еще доказать, что Кай — человек.
С культурой, ставшей в сравнительно недавнее время центральной проблемой тематического плана европейской философии, повторилась та же история, что и с природой: в ней воцарился гегемон научности, присвоивший себе единственное право на понимание. Подобно тому как природа должна была считаться с требованиями научности, чтобы стать объектом знания, а не «беллетристики», так и культура была подведена под эти же требования, став очередным объектом строго формальных математизированных процедур. Итог не преминул сказаться; критерием истины и на этот раз выступила практика, продемонстрировавшая чисто практические последствия безобидных теорий: дегуманизацию мира природы и мира культуры. То, о чем догадывались в истекшем столетии лишь немногие, то, о чем вскрикивали недавно лишь отдельные, голоса, вопиющие в «растущей пустыне» обесчеловеченного мира, стало нынче первостепенной темой обсуждения, столкнувшей интересы ученого и фельетониста, узкого специалиста и массового агитатора. Требования научности, монополизировавшие природу и культуру, провисли над миром воплощенной мифологемой «дамоклова меча».
За крайностью последовала крайность. Пошатнувшийся авторитет рационализма спровоцировал бурную реакцию иррационалистических тенденций, и строгой научности, столь недавно еще притязавшей на абсолютизм, было — не без фотогенических эффектов — противопоставлено «трагическое чувство жизни» (выражение Унамуно). Участь культуры оставалась безотрадной и в этом случае; дегуманизированная усилиями одного полюса, она отвергалась на другом полюсе именно по причине ее бесчеловечности: в драме новоевропейского самосознания иррационализм оказался не случайной развязкой, а законным наследником гипертрофированного рационализма и плотью от его плоти. Между тем проблема изживалась не в самих крайностях, а в напряженном конфликте их баланса. Объектом разрушительных атак «философии жизни» выступала не культура, а ее формализованный двойник, искусственно сфабрикованный гомункулус, отвечающий всем требованиям научности и тем не менее продолжающий оставаться мертворожденным. Очевидно, что в исходных посылках ситуации лежала некая аберрация, чреватая гигантским плодом «приведения к нелепости»; уже мало-мальски очищая проблему путем радикальной рефлексии, мы сталкиваемся с протофеноменом ее болезни, простейшим фактом, не лишенным тривиальности, но тривиальности в некотором роде роковой. Выразить ее можно было бы следующим образом: не природа должна считаться с научностью, а научность с природой; пытать природу всяческими «парадигмами» и выпытывать у нее тайны, приводящие в движение трамваи, не значит понять природу, а значит утверждаться перед ней в позе эксплуататора и оставлять за ней право на «революционную ситуацию». Сказанное в равной степени относится к культуре. Научное обоснование культуры предваряется логически и генетически культурным обоснованием самой научности. В противном случае всякая культурология покоится на логической ошибке pars pro toto. Целое культуры не сводится только к науке; наряду с наукой оно включает ряд иных форм, обладающих не менее автономными правами, чем наука. Культура — комплекс, и, будучи комплексом, требует комплексного подхода, где каждому из элементов уделена своя неповторимая и уместная роль; только так может проявиться универсальная независимость мысли, которая, по словам Маркса, «относится ко всякой вещи так, как того требует сущность самой вещи».[106] Там же, где сущность вещи подменена методом, абстрактным измышлением или — с обратной стороны — театрализованными экзистенциалами «отчаяния» и «тошноты», там вместо универсальности мысли воцаряется ее партикулярность, в какой бы форме она ни проявлялась: научно или ненаучно, рационалистически или иррационалистически. При всей внешней непримиримости крайности эти сходятся в неприятии сущности культуры: они суть палка о двух концах, просунутая в колесо культуры, и в этом смысле «сциентист», исповедующий системное исследование культуры (по модели замкнутой системы парового отопления), и «экзистенциалист», заключающий к ее абсурдности, действуют сообща. Их перебранки — пора об этом сказать — лишь обманный маневр, рассчитанный на то, чтобы сбить с толку читателя и принудить его к выбору одной нз крайностей. Tertium non datur. Что поделать, культура не может считаться и с этим требованием научности, ибо в ней «третье» не только дано, но и сама она дана как «третье» (измерение, и, стало быть, рельеф, объем, жизнь двухмерной плоскости печатного листа).
Возможно ли универсальное определение культуры? Положительный ответ на этот вопрос зависит от того, насколько мы в состоянии довести абстрактное понятие культуры до живого представления о ней. Культура в целом — это не только совокупность входящих в нее элементов, но и организация этих элементов, более того, она — единство, предшествующее частям и придающее им смысл и оправдание. Каждая отдельная часть, абстрагированная от целого, бессмысленна, как бессмысленна и каждая отдельная часть, притязающая на целое. Без этого связующего единства феномен культуры обречен на неизбежный распад; взгляду предстает некая Вавилонская башня многоязычия, мощная центробежная сила, несущаяся множеством радиусов к периферии круга и порождающая культурные продукты в виде автономных доминионов науки, искусства, мифа, религии, которые, в свою очередь, распадаются на множество форм с явной угрозой регресса ad infinitum. Не просто наука, а науки: математика, химия, физика и т. д., и дальше, не просто математика, а вновь множество школ, направлений, ветвей, и не просто физика, а множество физик. Аналогичный распад, сопровождаемый враждой или отчуждением, присущ всем без исключения доминионам, и если сегодня уже стала обычной ситуация, в которой представитель «точных» наук обнаруживает поразительную глухоту к точности художественной фантазии (вспомним лагарповского геометра, откликнувшегося на «Ифигению» Расина недоумевающим «(Qu’est-ce que cela prouve?» — «Что это доказывает?»), то не будет ничего удивительного, если в недалеком будущем глухота эта достигнет такой рафинированности, что исчезнет всякая возможность понимания между представителями одной и той же науки.
Из сказанного следует, что культура нуждается не в узко научном определении, а в универсальном. Если мы не свернем линию анализа в спираль синтеза, если не соотнесем дифференциалы культуры с ее интегралом, то рискуем потерять и сами дифференциалы в миге профессионального овладения ими. Глядя на многое, видеть одно — без этого условия (платоновского συνοράν είς εν) и «многое» лишается смысла, вырождаясь в количество непроницаемых «специальностей», разобщенных во всем и исчерпывающе формализуемых в незабвенно басенной «парадигме» лебедя, щуки и рака.
Интеграл культуры — безотносительно к «щучьим велениям» и «рачьему ходу» сциентистских методологий и даже к «лебединым песням» философии существования — один и един: он — сама человечность, пронизывающая весь пленум культурных свершений, от жеста кисти Рафаэля и стука лютеровского молотка до мученической позы Бруно и геометрических кентавров мира Минковского. Культура — и таково ее определение in optima forma — человек, homo totus, взятый во всем потенциале осмысленных свершений; она — культ (точнее, культивация) человеческого бытия, мучительная и долгосрочная возгонка этого бытия от данности материала до ослепительной художественной формы. Творя культуру, человек творит себя — идет ли речь о линеарном контрапункте, аналитической геометрии, политической экономии или периодической таблице элементов, всюду речь идет о человеке, и весь этот «терпеливый лабиринт линий тщательно слагает черты его собственного лица» (Борхес). Здесь дан нам ключ к разгадке «страстной недели» культуры: все муки ее — Сократова чаша с ядом, избитый палкой Эпиктет, растерзанная толпой Гипатия, изгнанничество Данте, костры и отлучения, моления и проклятия, оплеванное лицо Мильтона, смирительная рубашка на гениальном ученом (Р. Мейере), «страхи и ужасы» Гоголя, туринский коллапс «антихриста» Ницше — все эти муки (сколько их?) означены высоким и очистительным смыслом последней цели, имя которой — «триумф чисто человеческого». Культура — не ставшее, а становление; как ставшее, она вполне умещается в тематических отвлеченностях очередного симпозиума или конференции; как становление она — сплошной мартиролог, нескончаемая экспозиция взлетов и падений, светлых восторгов и просветленных окаянств, поразительная коллекция черновиков от дюреровских портретов но гоголевских «харь» в поисках окончательного беловика: лика человеческого, транспарирующего выблесками «умного сердца».
Поиск этого лика — скрытая пружина культурного творчества, действующая и финальная причина всех без исключений созданий человеческого гения. И в нем же дан единственный залог интеграла культуры, где «плюралия» культурных форм выступает не как атомистически-разрозненное множество, а как цельный и фигурный комплекс, части которого при всей их автономности и автократности не склеротизируются в узкие и самодовольно замкнутые «специальности», но ритмически изживают свои функции «вольных стрелков» в едином дыхании сопричастности. Если допустимо сравнение культуры с оркестром, то вышесказанное упирается в проблему дирижирования оркестром. Ведь для того, чтобы оркестр играл, а не шумел, множественность его должна с необходимостью преломляться в фокусе дирижерской воли, вперенной в творимую партитуру всех симфонических вариаций на тему «Культура». Кто же этот Дирижер сознания и культуры? Он есть Целое и он есть Ритм, специфически оформляемый каждым элементом многообразия. И когда мы зрим оформленный ряд, скажем, естествознание, музыку, математику, живопись, архитектуру и т. д. — взору нашему явлены не замкнутые специальности, живущие по недостойному принципу «хаты с краю», но специальные модификации Целого, изживающегося в них ритмически и эвритмически. И только катаракта отвлеченной рассудочности помешает нам увидеть, что в неогеометрии Римана и Лобачевского, в периодической системе элементов Менделеева и Лотара Мейера, в додекафонной технике Шенберга, в романе «потока сознания», в символике поэзии Рильке и мира атомных интроспекции многоязычно глаголет и многолико ликует всечеловеческий контрапункт, процветающий всеми «специями» цветов — от «Цветочков» Франциска до «Цветов зла» Бодлера и — будем надеяться! — к «Голубому цветку» Новалиса. В свете этого и встает перед нами по-новому проблема Дирижера, и наново срывается с уст вопрос: кто же он?
Он — … открытая растерянность вопроса, настигнутого звучащей тишиной ответа. «Когда он подошел к шалашу, учитель встретил его каким-то странным взглядом, и были в этом взгляде и вопрос, и сочувствие, и веселое понимание: это был взгляд, каким юноша встречает подростка после того, как тот пережил трудное и вместе с тем немного постыдное приключение, какое-нибудь испытание мужества».[107] На память приходит глубокая притча Кафки «Перед законом». Некто, достигший врат замка, наткнулся на стража и, испугавшись грозного вида его, безропотно уселся рядом и провел в ожидании жизнь. Перед смертью он все-таки решился спросить стража, для кого предназначен вход. «Для тебя», ответил страж умирающему. Эта притча многосмысленна, и не место сейчас говорить о многих смыслах ее. Достаточно будет подчеркнуть лишь один — буквальный — смысл, чтобы получить точный и исчерпывающий ответ на поставленный выше вопрос. Здесь, в фокусе этого ответа, створяющего «физику» с «лирикой» и самое объективное с самым интимным, наука о культуре претерпевает сокрушительный поворот и преобразование: «системные исследования» стряхивают с себя бремя почтенных отвлеченностей и модулируют в моцартовскую тональность. Наука о культуре уподобляется „la gaya scienza” — «веселой науке» провансальских трубадуров.
Культура — всечеловек, понятый, однако, не иконично, а динамично. Ее протофеномен — не культурологическая схема, а универсальная личность, и одно звучание имени Гете насыщено большим пропедевтическим смыслом, чем иные увесистые монографии. В этом смысле может быть прочитано глубокомысленное изречение Новалиса: «Все люди суть вариации некоего совершенного индивида»,[108] и если взять за основу этот принципиальный тезис; то отсюда вытекает, что культурный ценз или культурный уровень каждого человека определяется не суммой образованности или специальной компетентностью, а степенью приближения к означенному «индивиду». История демонстрирует нам поучительнейшие примеры воплощения целой культуры в одной личности, и нам следовало бы усматривать в этих примерах не гипнотизирующие подобия музейных экспонатов (бесценных и недосягаемых), а живые симптомы неограниченной раскачки человеческих возможностей. Они суть напоминания о человеческом первородстве и исконной цели всякой жизни; мы же, побуждаемые инерцией лени и забвения, охотно зачисляем их в ранг исключений. Исключений из чего? Из каких правил? «То были исключения», так защищаемся мы всякий раз, когда в наши разговоры о культуре встревают имена Платона, Леонардо, Гете, и так исключаем мы эти несносные имена из стройных культурологических построений. Наши комфортабельные фразокарциномы (выражение Альберта Стеффена) не терпят их исключительного присутствия, и оттого часто разыгрываем мы фарс поклонения там, где следовало бы культивировать понимание и силу гнозиса. «Исключения» — наша реакция на грань приближенности к «совершенному индивиду», но если так, то исключениями являются все люди, пусть не по реальным плодам, а по праву первородства, первично замысленной роли, по праву вариаций на тему «что есть человек». Что же он есть в смысле этого права? Три лейтмотива отчетливо пронизывают поставленный вопрос, три прозрачных протофеномена, от уяснения которых зависит фундаментальное осмысление проблемы «человек как творение и творец культуры». Эти лейтмотивы, слагающие в факте одновременного звучания всю невыносимую мелодику «исключительности», суть естественность, универсальность и невозможность.
В них концентрируется и ими определяется смысл культурного творчества. Нам остается вкратце проследить существенные штрихи этих характеристик.
Естественность культуры. Уже со времен Руссо феномен культуры явственно обнаруживает теневые моменты, разъедающие общую тенденцию благополучия. Диагностика культурных потенций предстает отныне не в розовом свете роста человеческих достижений, но твердо фиксирует в самих этих достижениях угрожающую бациллу распада и разложения. Культура развращает и извращает; причину этого Руссо усматривает в том, что место естественного человека (l’homme de nature) занял человек искусственных конвенций (l’homme de l’omme); так рождается лозунг «возвращения к природе», вызвавший серию ожесточенных споров, не затихающих и по сей день. Если отвлечься от чисто эвристического и эмоционально оправданного контекста руссоистского клича и проделать над ним своеобразную феноменологическую редукцию, то сущность его обнаружится в довольно сомнительном виде. Что значит «возвращение к природе»? Следует ли понимать это в смысле поступков героев Шатобриана, силящихся сбросить с себя гнет культурных конвенций в почти ритуальном курсе натурализации по образу и подобию краснокожих? Не есть ли это отказ от культуры и возвращение вспять, к изжитым и преодоленным формам девственного варварства? Разумеется, неестественность культуры должна была спровоцировать решительные реакции, но слишком дорогой ценой была куплена культура, чтобы оставлять ее на произвол вспыльчиво-романтических порывов, предпочитающих ее тяжкому крестному ходу стилизованные идиллии быта аборигенов. Печать Каина, первенца культуры, заполучившего право на нее ценою убийства чистого Авеля, пасшего стада, не так-то легко было отмыть, и в результате пресыщенный культуртрегер, возвращающийся к естественности путем отказа от культуры и приобщения к пасторальному быту, лишь умножал свою неестественность в гротескных потугах овладения примитивной безгрешностью. Неестественности культуры следовало противопоставить не возвращение к природе, а исхождение из природы, не «назад к природе», а «вперед от природы». Культура — та же природа, но возведенная в более высокую степень; парафразируя известное изречение Клаузевица, можно было бы сказать, что она есть продолжение природы иными средствами. Это значит творческий лимит природы ограничен, и там, где она исчерпывает свои зиждительные потенции, ей наследует венец ее творения, человек, продолжающий ее дело на ином и более зрелом уровне. Одна и та же сила необходимости проявляется в раскрывшемся цветке и в линнеевской «Philosophia botanica», в разреженном горном воздухе и в шеллинговской философии тождества, в занимающейся заре и в гетевском стихотворении «Ночная песнь странника». Естественность творчества значит: человек не создает мнений о вещах (эмпирических или трансцендентальных, все равно), а дает вещам выговориться через себя и выговориться в том именно, что «глухонемое» от природы вещество несло в себе как собственную неузнанность. Природа требует от человека не «подчинения паче повелевания» (Ф. Бэкон), а самосознания; в первом случае она мстит отчужденностью, извращенностью и бумом экологических проблем, во втором случае она достигает исконной цели, или, как гласит об этом одно средневековое (вполне «чернокнижное») правило: «Quod natura reliquit imperfectum, ars perficit» — «То, что природа оставляет несовершенным, совершенствует искусство».
Из так понятой естественности все пути культуры ведут к универсальности. Отметим: универсальность характеризуется в существенном не количеством приобретенных знаний, а текучей целостностью этих знаний, поставленных на службу единственной цели: самосовершенствованию человеческого бытия. «Плюрализм» культурных форм складывался исторически в довлеющем наличии нарастающей раздвоенности. Историки культуры давно уже наткнулись на факт, представляющий собою не досужее кабинетное измышление, а прямую индукцию, выводимую из груды непредвзято рассмотренного материала. Факт этот выражается в странного рода пропорции между основными модусами действования человеческого творчества и познания. Речь идет об антиномии, ставшей уже достоянием не только серьезно научных исследований, но и популярных научных фельетонов, и, стало быть, о чем-то весьма тривиальном, так что в признании ее согласно сходятся все. Можно по-разному формулировать эту антиномию, в разных, так сказать, эмблемах — суть дела от этого не изменится. Собственно, имеется в виду противоположение двух начал, называемых интуицией и дискурсией, в ином аспекте предстающих как художественное (эстетическое) и научное (логическое). Та же тема, как легко можно заметить, выглядит иначе в популярном ныне психофизиологическом воззрении о двух так называемых полушариях мозга, разделивших меж собою указанные начала. Грубо и доходчиво выражаясь, принято думать, что в человеке преобладает одно из этих начал, и, следовательно, повышение одного из них, как правило, связано с понижением другого. Но то, что фактически и экспериментально наблюдается в отдельных людях, справедливо и в отношении целых исторических эпох. Культурно-историческая индукция отчетливо наводит мысль исследователя на факт обратной пропорции этих двух начал в истории, так что эпохи, являющие собою взлет и расцвет искусства (в широком смысле, художественности), как правило, переживают некоторый упадок дискурсии, логики (в широком смысле, научности). И наоборот: рост рациональности сопровождается затуханием художественности. Таково, впервые установленное Фридрихом Ницше (а до него, пусть в форме намеков, провиденное Гельдерлином), соотношение между «трагической» и «сократической» Грецией. Такова почти вся римская эпоха. Пышный расцвет риторики, поэзии, пластики, и почти ни одной солидной дискурсии (в немецком смысле слова). Эпиктет, Сенека, Цицерон, Марк Аврелий — какие же это философы и ученые с точки зрения профессионализма и профессорско-кастового типа мышления! Это — стилисты, моралисты, риторы, острые аналитики нравственных коллизий и все еще художники, художники во всем не поддающемся учету смятенном смысле этого слова. Но стоит лишь активизироваться противоположному полюсу, как наблюдается явный (моментами весьма резкий) спад художественности. Александрийская эпоха, заостряющая мысль в логических заданиях подвести итог греческой философской умозрительности, ознаменована кризисом художественного гения. На гребне этой эпохи высится фигура Прокла, комментатора, схолиаста, систематизатора, утонченного рассудочника, вытворяющего головокружительные пассажи логизирующего ума; он характеризует эпоху, является ее медалью и моделью, и рядом с ним не находишь ни одной фигуры — равновеликой! — художника. Проследите дальше: почти все средневековье, демонстрирующее непревзойденную во многом технику умственных экзерсисов, некий виртуозный пианизм знающей свою мощь мысли, и сменяющая его новая эпоха, Возрождение, где тотчас же зрим мы и смену мировоззренческого гегемона. Взрыв гениальных интуиций эстетизирующего сознания разрывает паутинное кружево рассудочной души, и субтильных схоластических докторов шумно и бранно вытесняют художники, риторы, стилисты, гуманисты, археологи, поэты, мечтатели, духовидцы, путешественники, коллекционеры идей и судеб, все немного ученые, немного младенцы, немного авантюристы — пылкий, запальчивый, взрывчатый, беззаконящий дух гуманизма вольным и пронзительным сквозняком продувает душевные пространства Европы, вызывая раблезиански, гротескные и бесстыдствующие «чохи» гениальных поступков во всех сферах творчества и быта. Аристократичный Джованни Медичи (он же папа Лев X) и сын рудокопа, бывший монах-августинец Мартин Лютер, называющий его «чертовой свиньей», такие предельно, до ослепительности непримиримые, сроднены-таки в факте продувного единства отмеченного сквозняка. Выражаясь со всей строгостью требований современной научности, оба они, столь враждебные, что столкновение их перекроило карту Европы, сближены все же в факте доминирующего функционирования одного из полушарий их мозгов. Весь Ренессанс — без перувеличения — стоит под знаком этого полушария. И посмотрите, какая разительная рокировка разражается на рубеже XVI–XVII вв.! Какой упадок искусства, индивидуализма, острейшей художественной эйдетики параллельно с каким изумительным пробуждением аналитически-научного гения! XVII век уже весь охвачен этим пробуждением. Галилей, Декарт, Ньютон, Лейбниц, Кеплер, Гюйгенс, Торичелли, Бойль, Гримальди, Ферма, Паскаль — какал вереница славных имен, равноценную художественную параллель к которой нам пришлось бы искать в предшествующих веках, ибо современный им век этой параллели лишен.
Отдавшись желанию, можно было бы бесконечно живописать эту антиномию на неисчерпаемом материале истории культуры. В сущности, возможны самые разнообразные ее характеристики. Все сказанное внятно оформляется в символах сердца и головы, если подразумевать под сердцем всю совокупность индивидуально-артистического, синтетически-художественного и вкладывать в символ головы противоположный комплекс общезначимо-научного, аналитически-логического. Так, например, сталкивая в свете этой символики два столь противоположных феномена, как ветхозаветное видение мира и греческую философию, мы получаем почти адекватную этой символике картину.[109] Греческая философия выглядит нам именно бессердечною (в ветхозаветном смысле слова, где сердцу уделена роль, так сказать, протагониста в драме осмысления человеческих судеб, так что само слово «сердце», по подсчетам филологов, встречается здесь 851 раз). Греческий космос, беспощадно равнодушный к отдельным судьбам, мы могли бы сказать, к проблематике гоголевской «Шинели», находит свое доподлинное соответствие в космологиях греческих мыслителей: от Эмпедокла до Эпикура всюду встречает нас эта, в экзистенциальном смысле слова, беззаботность, бесчеловечность, бессердечность мировосприятия. Здесь, в отмеченной полярности обоих начал, гуманизма и софизма, и встает перед нами проблема универсальности: альтернативное или-или, угрожающее культуре гибелью или, по меньшей мере, справкой об инвалидности, оборачивается порогом, открывающим доступ в зону исключительности.
И здесь же в лейтмотив универсальности врывается каркающее «Nevermore» из бессмертной поэмы Эдгара По. Тяжкий недуг бессилил поражает симпатический нерв культуры. Дальше некуда, дальше — царство невозможности.
Не пытай бессмертия, милая душа -
Обопри на себя лишь посильное.[110]
Душа, парализованная лишь посильным, останется у порога, подобно герою кафковской притчи. Но, кто знает, не прозарит ли ее внезапно острейшая мысль о том, что сама невозможность есть не состояние, а лишь проблема, что если она есть, значит сама она оказалась возможной и значит дело идет не о невозможности возможного, а всего лишь о возможности невозможного и, стало быть, все еще о возможном? Душа не поймет ли, что «жить в идее значит обращаться с невозможным так, как если бы оно было возможным (Гете)? В конце концов, чем рассуждать о том, что возможно и что невозможно, не проще ли, не естественнее ли «броситься в воду и плыть»? О какой невозможности может идти речь сейчас, когда сама действительность на каждом шагу демонстрирует виртуозную технику балансирования на грани возможного, когда самое невероятное становится очевидным, а очевиднейшее просвечивает явными бликами небылиц? И разве сама культура не свершалась доныне под знаком невозможного, вопреки ему? Разве каждая веха ее не воплощает заумный парадокс римского иноверца: «Certum est, quia impossibile est» — «Несомненно, ибо невозможно»? И что остается нам, как не повторить в заключение этот парадокс, окультуривая саму невозможность: «совершенный индивид» культуры невозможен, и именно поэтому бесспорной представляется его несомненность.
Notes
1
В. Виндельбанд. Прелюдии, СПб., 1904, стр. VI.
(обратно)2
Е. Cassirer, Philosophie der symbolischen Formen, Bd 1, Bef Hn, 1923, S. 46. Следующие оба тома датированы 1925 и 1929 гг. В дальнейшем изложении ссылки даются прямо в тексте с указанием в скобках тома и страницы.
(обратно)3
См. его работу “Grundzuge einer Metaphysik der Erkenntnis”, 2 Aufl., Berlin, 1925, в которой марбургский пан-гносеологизм выставлен в свете убийственного парадокса: отсутствия проблемы познания.
(обратно)4
F. Kaufmann, Cassirer, neokantianism, and phenomenology. In: „The Philosophy of Ernst Cassirer", Illinois, 1949, p. 801.
(обратно)5
Е. Cassirer, The Logic of the Humanities, Yale Univ. Press, 1966, p. 62.
(обратно)6
Э. Кассирер. Познание и действительность, СПб., 1912, стр. 352.
(обратно)7
И. Кант. Сочинения в 6 тт., т. 5, М., 1966, стр. 436–437, 438.
(обратно)8
Ф. М. Достоевский. Полн. собр. соч. в 30 тт., т. 15, Л., 1976, стр. 82.
(обратно)9
И. Кант. Сочинения в 6 тт., т. 3, М., 1964, стр. 518.
(обратно)10
А. Шопенгауэр. О четверояком корне закона достаточного основания, М., 1900, стр. 3.
(обратно)11
А. Ф. Лосев. История античной эстетики. Высокая классика, М., 1974, стр. 337.
(обратно)12
P. Natorp, Platos Ideenlehre, 2. Aufl., Leipzig, 1921, S, 473. Прекрасную по сжатости и насыщенности изложения сводку этой главы книги Наторпа дает А. Ф. Лосев в кн. «Античный космос и современная наука». М., 1927, стр. 518–522.
(обратно)13
С. Л. Франк. Предмет знания, Пг., 1915, стр. VII.
(обратно)14
Э. Кассирер. Познание и действительность, стр. 393.
(обратно)15
П. П. Блонский. Философия Плотина, М., 1918, стр. 218.
(обратно)16
А. Ф. Лосев. Античный космос и современная наука, стр. 332.
(обратно)17
Л. Ф. Лосев. История античной эстетики. Высокая классика, стр. 342.
(обратно)18
Е. Cassirer. Die platonische Renaissance in England und die Schule von Cambridge, Leipzig, 1932.
(обратно)19
И. Кант. Сочинения в 6 тт., т. 4, ч. I, М., 1965, стр. 199.
(обратно)20
F. W. J. Schelling. Ideen zu einer Philosophie der Natur. Samtliche Werke, Bd, 2, Stuttgart, 1857, S, 47.
(обратно)21
E. Casslrer, Leibniz, System in seinen wissenschaftlichen Grundlagen, Marburg, 1902.
(обратно)22
F. W. J. Schelling, Samtliche Werke, 1, Abt., Bd. 4, S. 361.
(обратно)23
См. напр. E. Cassirer, Аn Essay on Man, N.Y. 1956. Ср. R. S. Hartman, Cassirer's philosophy of symbolic forms, In: "The Philosophy of Ernst Cassirer".
(обратно)24
M. Scheler, Die Stellung des Menschen im Kosmos, Darmstadt, 1928, S. 13–14.
(обратно)25
См. Эрнст Курт. Романтическая гармония и ее кризис в «Тристане» Вагнера, М., 1975, стр. 305.
(обратно)26
А. Белый. Символизм, М., 1910, стр. 484
(обратно)27
Там же, стр. 453.
(обратно)28
Там же, стр. 96. Ср. «Самую метафизику мы рассматриваем, как особый вид символизма» А. Белый. Арабески, М., 1911, стр. 183.
(обратно)29
А. Белый. Символизм, стр. 118.
(обратно)30
А. Белый. Рудольф Штейнер и Гете в мировоззрении современности, М., 1917, стр. 283. Этот порок «марбургского» неокантианства отметит позднее и Н. Гартман.
(обратно)31
А. Белый. Символизм, стр. 131–132.
(обратно)32
Ср. «Круг объектов, к которым применим и приложим способ рассмотрения математики, все расширяется, пока под конец становится вполне очевидным, что своеобразие этого метода отнюдь не связано и не ограничено каким-нибудь особенным классом предметов» Э. Кассирер. Познание и действительность, стр. 129.
(обратно)33
Ср. «Тело твердое — интерференция бешеных сил, скоростей сумасшедших; нарушится их равновесие — взрыв; тело твердое — бомба; материя — склад таких бомб; атом — что, как не бомба?» А. Белый, Ветер с Кавказа, М., 1928, стр. 99.
(обратно)34
П. Наторп. Кант и Марбургская школа. «Новые идеи в философии», сб. 5, СПб., 1913, стр. 93.
(обратно)35
По подсчетам Куно Фишера разбор всего текста при такой скорости составил бы 20 томов и был бы закончен к 1992 году.
(обратно)36
Крайне интересна в этом отношении его книга „Die Logik der Philosophie und die Kategorienlehre", Tubingen, 1911.
(обратно)37
Этими остроумными скобками я обязан Э. Р. Атаяну.
(обратно)38
Гумбольдт энергично подчеркивал это; слова не предшествуют речи, а, напротив, возникают из целостности речи (aus dem Ganzen der Rede). W.v. Humboldt, Uber die Verschiedenhelt des menschlichen Sprachbaues, Berlin, 1936, S. 74–75.
(обратно)39
К. Маркс и Ф. Энгельс. Соч., т. 3, стр. 182.
(обратно)40
И. Кант. Сочинения в 6 тт., т. 3, стр. 124.
(обратно)41
П. Наторп. Кант и Марбургская школа, стр. 104.
(обратно)42
Н. Cohen, Logik der reinen Erkenntnis, Berlin, 1902, S. 12.
(обратно)43
П. Наторп. Кант и Марбургская школа, стр. 117.
(обратно)44
Ср. Б.Яковенко. Теоретическая философия Германа Когена, «Логос», кн.1, М., 1910, стр. 201–217.
(обратно)45
Н. Cohen, Kants Theorie der Erfahrung, 3. Aufl., Berlin, 1918, S. 784.
(обратно)46
П. Наторп. Кант и Марбургская школа, стр. 105.
(обратно)47
Н. Cohen. Logik der reinen Erkenntnis, S. 38.
(обратно)48
Э. Кассирер. Познание и действительность, стр. 393.
(обратно)49
Н. Cohen. Logik der reinen Erkenntnis, S. 6.
(обратно)50
А. Ф. Лосев. Философия имени, М., 1927, стр. 134–135.
(обратно)51
От этого, по Когену, зависит судьба самой логики. См. Logik der reinen Erkenntnis, стр. 133.
(обратно)52
Э. Кассирер. Познание и действительность, стр. 216.
(обратно)53
Там же, стр. 159.
(обратно)54
Там же, стр. 385.
(обратно)55
Формулы принадлежат нам. Мы воспользовались ими для сокращенного изложения текста.
(обратно)56
П. П. Гайденко. Принцип всеобщего опосредования в неокантианстве марбургской школы. В кн.: «Кант и кантианцы. Критические очерки одной философской традиции», М., 1978, стр. 236.
(обратно)57
Характерно, что, упрекая в этом порочном круге теорию Рассела и Кутюра, Наторп сам не избегает его. См. P. Natorp, Die logischen Grundlagen der exacten Wissenschaften, Leipzig, 1910, S 114. Ср. С. Л. Франк, Предмет знания, с. 327.
(обратно)58
Е. Husserl, Die Krisis der europäischen Wissenschaften und die transcendentale Phänomenologie, „Husserliana“, Bd. 6, Haag, 1954, S. 7.
(обратно)59
См. напр. К. С. Бакрадзе. Очерки по истории новейшей и современной буржуазной философии, Тбилиси, 1960, стр. 271. А. С. Богомолов. Немецкая буржуазная философия после 1865 года, М., 1969, стр. 35.
(обратно)60
Е. Cassirer, Le langage et la construction du monde des objets. „Essais sur le langage", Paris, 1966, p. 63.
(обратно)61
Kleist. Ein Lesebuch für unsere Zeit, Weimar, 1954, S. 338–339.
(обратно)62
Ibid.,S. 340.
(обратно)63
Н. Bergson. Essai sur les données immédiates de la conscience, Paris, 1911, p. 126.
(обратно)64
Н. Bergson, Le Rire, Paris, 1908, p. 160.
(обратно)65
Е. Cassirer. Sprache und Mythos, Leipzig, 1925, S. 8.
(обратно)66
E. Cassirer. An Essay on Man, p. 80.
(обратно)67
E. Cassirer. The Logic of the Humanities, p. 174.
(обратно)68
Ф. Шиллер. Письма об эстетическом воспитании человека. Собр. соч., т. 6, М., 1957, стр. 302. Цитата из Шиллера не случайна. Многие важнейшие места «Философии символических форм» являются по существу своему вариациями на тему бессмертных «Писем» Шиллера.
(обратно)69
Э. Кассирер. Познание и действительность, стр. 389.
(обратно)70
А. Ф. Лосев. Философия имени, М., 1927, стр. 6.
(обратно)71
Яркой параллелью этих точек зрения может послужить спор, разгоревшийся на заре новой физики между Ньютоном и картезианцами и определивший дальнейшее развитие физики, вплоть до XX века. Картезианская механика, исходившая из понятия частицы, была отвергнута Ньютоном, утвердившим примат динамики.
(обратно)72
Цит. по кн.: James Collins. Interpreting Modern Philosophy, Princeton, 1972, p. 202.
(обратно)73
См. об этом в статье Кассирера «Гельдерлин и немецкий идеализм». Е. Cassirer. Idee und Gestalt, 2. Aufl, Berlin, 1924, S. 115–117.
(обратно)74
Т. W. J. Schelling. Philosophie der Mythologle, Sämtliche Werke, 2, Abt., Bd. 1, Stultgart, 1856, S. 207 ft.
(обратно)75
См. ниже стр. 79–80.
(обратно)76
А. Ф. Лосев. Проблема символа и реалистическое искусство, стр. 347.
(обратно)77
Подробный анализ в книге: Joseph Sauer. Symbolik des Kirchengebäudes und seiner Ausstattung in der Auffassung des Milttelalters, Fr. i. В., 1902.
(обратно)78
А. Ф. Лосев. Материалы для построения современной теории художественного стиля. «Контекст 1975», М., 1977, стр. 217–221.
(обратно)79
См. ниже стр. 110–111.
(обратно)80
См. ниже стр. 110–111.
(обратно)81
Более подробны» анализ сделан мною в статье «Учение о понятии в «Феноменологии познания Э. Кассирера». «Ежегодник Армянского отделения Философского общества СССР», 1983, Ереван, 1984, сс. 186–207 (на арм. языке).
(обратно)82
См. ниже, стр. 77–84.
(обратно)83
П. А. Флоренский. Пифагоровы числа. «Труды по знаковым системам» V, Тарту, 1971, стр. 504.
(обратно)84
R. Steiner. Mein Lebensgang, Stuttgart, 1975, S. 42.
(обратно)85
Образец такой критики он мог бы найти в «Идеях чистой феноменологии…» Гуссерля. См. Е. Husserl. Ideen zu einer reinen Phänomenologie und phanomenologischen Philosophie, I, Halle, 1913, SS. 6, 141.
(обратно)86
Хайдеггер, пришедший своим путем к подобному же выводу, сформулирует его впоследствии так: «Поскольку язык есть дом бытия, мы достигаем сущего не иначе, как непрестанно проходя через этот дом. Идя к колодцу, проходя через лес, мы всегда проходим через слово «колодец», через слово «лес», даже когда мы не выговариваем этих слов и не помышляем о языковом». М. Heidegger. Holzwege, Fr. M., 1950, S. 286.
(обратно)87
Paul Valéry, Variété, 1, Gallimard, 1924, p. 172.
(обратно)88
Более подробный анализ дан мною в монографии «Проблема символа в современной философии». Ереван, 1980, в главке «Символ и реальность», сс. 119–146.
(обратно)89
Факт, случившийся с молодым Гуссерлем в студенческие годы.
(обратно)90
R. Steiner. Der menschliche und der kosmische Gedanke, Dornach, 1961, S. 19–20.
(обратно)91
Отсылаем читателя к упомянутой уже нашей монографии «Проблема символа в современной философии».
(обратно)92
А. Белый. На перевале, Берлин, 1923, стр. 26.
(обратно)93
Подробнее об этом в кн.: К. А. Свасьян, Феноменологическое познание. Пропедевтика и критика, Ереван, 1987, стр. 49–50
(обратно)94
К. Маркс и Ф. Энгельс. Соч., т. 3, стр. 2.
(обратно)95
A. Baeumler. Nietzsche der Politker und Philosoph, Leipzig, 1931, S. 64.
(обратно)96
А. Белый. На перевале, стр. 9–10.
(обратно)97
В. С. Соловьев. Собр. соч., 2-е изд., т. 1, СПб., стр. 133–134.
(обратно)98
Н. St. Chamberlain. Immanuel Kant, München, 1905, S. 125.
(обратно)99
И. В. Гете. Избранные философские произведения, М., 1964, стр. 335.
(обратно)100
Л. Н. Толстой. Собр. соч., т. 20, М., 1965, с. 32.
(обратно)101
Th. W. Adorno. Negative Dialekitk, Fr. M. 1966, S. 357.
(обратно)102
Сам Адорно, впрочем, охотно пользуется этим приемом. Так, в Чтениях по социологии музыки он характеризует позитивизм как не осознавшее себя отчаяние. Что же помешало ему проверить и собственную доктрину?
(обратно)103
См. его книгу: „Le Mythe de Sisyphe", Gallimard, 1971, p. 15–16
(обратно)104
Angelus Silesius, Der Cherubinische Wandersmann. Berlin, o. J. S. 115.
(обратно)105
Эрнст Курт, крупнейший музыковед XX века, в лице которого музыка, по словам акад. Б. Асафьева, имеет исследователя, равного по значению Гегелю (см. его редакторское предисловие к книге Курта «Основы линеарного контрапункта», М., 1931), именно этим вопросом заканчивает свою обширную книгу о вагнеровском «Тристане».
(обратно)106
К. Маркс и Ф. Энгельс, Соч., т. 1, с. 1.
(обратно)107
Герман Гессе, Игра в бисер, М., 1969, с. 532.
(обратно)108
Novalis, Dichtungen und Prosa, Leipzig, 1975, S. 516.
(обратно)109
Ср. С. С. Аверинцев. Греческая литература и ближневосточная «словесность» (противостояние и встреча двух творческих принципов), в кн.: «Типология и взаимосвязи литератур древнего мира», М, 1971.
(обратно)110
Пиндар. Третья Пифийская песнь, перевод М. Л. Гаспарова.
(обратно)

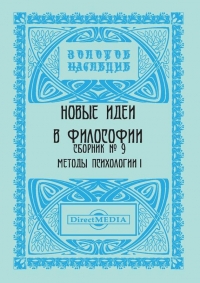

Комментарии к книге «Философия символических форм Э. Кассирера», Карен Араевич Свасьян
Всего 0 комментариев