Кирк Дуглас ТАНЕЦ С ДЬЯВОЛОМ
Пролог
1987.
ЛОНДОН.
В зеркальных стенах репетиционного зала дробились и множились фигуры шести девушек, замерших в тревожном ожидании на неудобных раскладных стульях. Время от времени они поглядывали на дверь. И вот наконец на пороге появился тот, кого они ждали.
Дэнни Деннисон производил сильное впечатление — высоченный, мускулистый, с густыми черными кудрями, кое-где уже тронутыми стального оттенка сединой, четко очерченным лицом, с которого пристально смотрели глубоко посаженные карие глаза, — их неморгающий взгляд мог выдержать не каждый, особенно когда Дэнни в раздумье чуть сужал веки, выпячивая и без того крутой подбородок. Однако стоило ему улыбнуться, как лицо сразу смягчалось и на щеках появлялись ямочки, придавая ему какое-то обезоруживающее мальчишеское очарование, хотя глаза все равно оставались немного печальными. Ему никак нельзя было дать его пятидесяти пяти лет, и при такой впечатляющей внешности он больше походил на кинозвезду, чем на режиссера.
Войдя, он остановился, почесал в затылке. Предстояло выбрать из этих шести — одну. Другой на его месте поручил бы это ассистенту по работе с актерами, но Дэнни всем и всегда занимался сам, чем и снискал себе уважение коллег, понимавших, что в этом деле мелочей нет.
Теперь он по очереди давал каждой из шести возможность блеснуть своими дарованиями и терпеливо смотрел, как они, одна за другой выходя на середину зала, вертят бедрами, наклоняются, показывая изгиб бедер, выпрямляются, выставляя грудь, и всячески стараются понравиться. Однако слишком сильно все они старались. Только одна — кажется, ее зовут Люба — после показа спокойно и тихо сидела в стороне, и эта молчаливая уверенность в себе решила вопрос в ее пользу — роль получила она.
— Люба! — окликнул он, когда она вместе с остальными была уже в дверях.
Обернувшись, она медленно подошла и остановилась перед ним, словно школьница перед учителем, — розовая, по-детски пухлощекая, казавшаяся рядом с Дэнни совсем девочкой. Но у девочек не может быть таких чувственных и сочных губ, да и большие темные глаза глядели по-женски, по-взрослому — спокойно и чуть вопросительно.
— Я… — чуть смешавшись под этим прямым взглядом и стараясь скрыть это, начал Дэнни. — Я хотел вам сказать… Вы сегодня вечером свободны?
— Разумеется, — ответила она так просто, что он опять немного растерялся.
— Может быть, мы пообедаем вместе? Скажем, часов в восемь?
— Раньше десяти не получится. Вы согласны на ужин вместо обеда?
— Конечно. Я живу в «Дорчестере», встретимся в баре.
Она улыбнулась ему одними глазами и пошла к дверям.
За спиной у него раздался негромкий голос:
— Ах, какая попочка…
Дэнни обернулся к своей главной звезде. У Брюса Райана был тусклый и отсутствующий взгляд, может быть, от чрезмерных доз кокаина. Интересно, слышал ли он, как они договаривались о свидании?
— Милый Брюс, — сказал Дэнни благодушно, — попочка эта тебя не должна касаться.
— Угу, — сказал актер, — я сам ее коснусь…
Шагая к машине, Дэнни размышлял над тем, какой идиотский сценарий ему дали. Он возненавидел его, как только прочел, но у него был контракт с «ЭЙС-ФИЛМЗ», а возглавлявший студию Арт Ганн мало интересовался мнением будущих рецензентов.
— Мне нужен фильм, который даст кассу. Кассу, понимаете? — говорил он Дэнни. — Больше вас ничего не должно волновать.
— Да ведь дерьмо получается.
Арт, сидевший за своим массивным столом красного дерева, попыхтел сигарой, потом чуть подался вперед, выпустил клуб дыма и мягко сказал:
— Это и требуется.
«Что ж, желаешь дерьмо получить — получишь», — думал сейчас Дэнни, огибая автомобиль Брюса. Как и подобало яркой молодой кинозвезде, тот ездил на машине неимоверной длины — раза в два больше той, что была у Дэнни. Все как положено.
— Пожалуйста, постарайтесь ладить с Брюсом, — напутствовал его перед отлетом в Лондон Ганн.
Дэнни, припомнив сейчас этот прощальный совет, вздохнул. Не так-то это будет просто.
* * *
Когда под вечер он приехал в отель, портье вместе с ключом протянул ему два письма. Поднявшись в свой номер, он взглянул на почтовой штемпель первого — Рено, штат Невада, чемпион мира по скоростному расторжению браков. Можно не читая, сказать, что там будет написано… Второе письмо было от дочери. Дэнни забеспокоился, но читать не стал, а вместе с первым положил его во внутренний карман.
Обед ему принесли в номер, он быстро поел и долго стоял под душем. На часах было девять. Еще целый час. Отодвинув тяжелые бархатные шторы, он посмотрел в окно: в расплывающихся огнях уличных фонарей, бессильных справиться с туманом, а только как бы разрывавших его в клочья, угадывались очертания деревьев Гайд-парка.
Дэнни попытался было расписать завтрашнюю съемку и бросил это занятие — стало тошно. Снова взглянул на часы: без двадцати. Спускаться в бар рано.
И еще эта девица, Люба… Почему он ей дал этот эпизод, зачем назначил встречу? Ладно, выпьем по рюмке и разойдемся. К себе он приглашать ее не станет.
Когда, опоздав на одну минуту, он вошел в бар, Люба уже ждала его за угловым столиком и в своем светло-голубом обтягивающем платье была прелестна. Подзывая официанта, делая заказ, Дэнни нервничал неизвестно почему и старался скрыть это. А она была совершенно спокойна.
Что-то властно притягивало его к ней — то ли это ее неизменное спокойствие, то ли безмятежный взгляд. Они выпили, и Дэнни, почувствовав, как внутри что-то оттаяло, решил все же подняться с нею в номер.
— Вы меня проводите? — неожиданно спросила она.
Дэнни, скрывая разочарование, сейчас же полез за бумажником.
Такси, доставив их в незнакомый квартал, остановилось перед трехэтажным каменным домом. Люба вылезла из машины, обернулась к нему и взглянула в глаза:
— Пойдемте?
Дэнни стал подниматься следом за нею по винтовой лестнице на последний этаж. Люба отперла дверь и, не включая свет, за руку ввела его в прихожую. В темноте желтым огнем сверкнули два глаза — кошка. В спальне Люба зажгла свечу на ночном столике.
— Выпьете? — спросила она и, не дожидаясь ответа, исчезла.
Дэнни присел на кровать. Поколебавшись немного, раздеваться не стал, только стянул с плеч свой спортивный пиджак. В дверях появилась Люба с подносом — бутылка водки, два стакана с кубиками льда. Поставила поднос, наполнила стаканы. Дэнни молча наблюдал за ней. «Какая попочка…», — вспомнились ему слова Брюса. Что ж, верно.
Она подошла ближе, отпила из стакана, потом наклонилась, прижалась губами к его губам, и водка оказалась у него во рту. Ощущение было незнакомым и возбуждающим. Большие глаза смотрели на него в упор.
— Хорошо, что вы меня позвали. Я рада.
— И я.
Прикосновение пухлых податливых губ было осторожным и нежным. Какой холодный рот, наверно, от ледяной водки. Кончик языка искал его язык. Дэнни обхватил ее, притянул ближе, чувствуя, как нарастает в нем вожделение.
— Я сейчас, — шепнула она и снова исчезла.
Дэнни разделся, прилег на кровать в ожидании ее возвращения, но, неожиданно застеснявшись, стал надевать рубашку. В эту минуту дверь открылась.
Она стояла голая в дверном проеме, слабо подсвеченном сзади, из прихожей. Темно-каштановые распущенные волосы, окаймляя ее лицо, падали на плечи.
Она подошла к кровати, склонилась над Дэнни, распахнув рубашку, кончиками пальцев провела вдоль ключиц. Опустилась на колени, и Дэнни почувствовал, как округлые твердые груди с набухающими сосками заскользили по его груди вверх-вниз, а рука ее коснулась ляжки. Все это время она не сводила с него глаз. Чем так завораживал его этот взгляд?
Дэнни не помнил такого возбуждения — он вдруг превратился в мальчишку, одержимого желанием. Перекатившись, он подмял ее под себя, медленно вошел в нее, глядя ей в лицо. Оно было прекрасно: в мягком свете свечи глаза казались бездонными, широко раскрытые губы тянулись к нему. Чем стремительней и резче двигался Дэнни, тем больше казались ее глаза. Он неотрывно глядел в них, покуда все не заволоклось туманом, и стены комнаты не поплыли по кругу. Он огляделся, помотал головой, но наваждение не исчезало. Какая странная комната медленно вращалась перед ним и вместе с ним! Вычурная резьба громоздкой мебели, золотые буквы на корешках книг в кожаных переплетах. Кажется, это по-немецки. Тускло поблескивала серебром рама картины… Солдаты в мундирах, а лиц не различить.
Он повернулся к Любе и увидел Рахиль. Это ее глаза выкатывались из орбит. Чуть покачиваясь, она висела в петле — веревка была переброшена через потолочную балку, прочный витой атласный шнур обвивался вокруг горла. На полу валялся перевернутый стул. Волосы, окаймляя ее лицо, падали на плечи. Не в силах произнести ни звука, он поставил стул на ножки, взобрался на него, но дотянуться до узла на шее Рахили не сумел — роста ему, двенадцатилетнему, не хватило. Пошатнулся и, теряя равновесие, чуть не свалился со стула — пришлось обхватить талию Рахили. Руки его невольно прикоснулись к твердому округлому животу, уже довольно явственно обрисовывавшемуся под юбкой. Он опять встретился глазами с устремленным на него невидящим взглядом. Потом его ладонь ощутила еле заметный, мягкий толчок. Он спрыгнул со стула, отшатнулся от покачивающегося тела, с ужасом осознав, что там, внутри Рахили, боролось с неизбежностью гибели ее нерожденное дитя.
Глава I
1944.
КОНЦЕНТРАЦИОННЫЙ ЛАГЕРЬ «САН-САББА»,
ТРИЕСТ, ИТАЛИЯ.
Большие карие глаза двенадцатилетнего Мойше с восхищением следили, как его отец, рассыпая паяльной лампой рой искр, превращает бесформенные куски железа в новую скульптуру, постепенно обретающую плоть.
Итальянцы из охраны лагеря ценили его мастерство, немцы были к нему безразличны. В обмен на маленькие статуэтки итальянцы по окончании рабочего дня пускали его в слесарную мастерскую. Сейчас из обрезков жести, металлической стружки и прочего лома он делал маленького мальчика с тачкой. Тонкие завитки стружки удивительно напоминали крутые кудри Мойше.
Горелка освещала резкие морщины на изможденном лице мастера, густую проседь в волнистых волосах — еще год назад, когда его с семьей пригнали сюда, седины не было и в помине, а теперь только борода оставалась черной как смоль. Он был высок ростом и крепок — могучие мускулы вздувались под рубахой, когда он приподнимал и придвигал ближе к переносному горну тяжеленные куски железа. Это потом он вдруг как-то сразу весь высох, стал словно меньше ростом и слабее, потерял свою прежнюю бодрость. И все кашлял, кашлял беспрестанно.
Мойше сидел, пристроившись на подоконнике полуподвальной мастерской, и как раз на уровне его головы проходила дорога из гравия на лагерный плац, где ежедневно казнили заключенных. Отсюда ему не были видны ни «стенка», сплошь покрытая выбоинами от пуль, ни длинный деревянный желоб для стока крови, ни вагонетки, на которых трупы свозили в крематорий. Но винтовочные залпы и крики умирающих он слышал — их не могла заглушить беспрестанно гремящая медь духового оркестра.
Прижавшись щекой к стальным прутьям, он смотрел на мелькающие высокие, начищенные до блеска сапоги эсэсовцев, пыльные башмаки итальянских солдат, рваные опорки заключенных и вспоминал, как задорно стучали по булыжнику деревянные подошвы, когда его сестра Рахиль спешила в хлев. Это было первое, что слышал он, проснувшись утром.
На крытой соломой крыше хлева была укреплена фигура аиста. Отец давно смастерил эту птицу, стоящую на одной ноге с расправленными крыльями, и говорил Мойше, что когда ему исполнится тринадцать и он, пройдя обряд бар-мицвы, станет совершеннолетним, аист улетит.
Мойше надеялся, что аист не улетел, и хлев стоит как стоял. А что же со всеми остальными поделками отца?
Приходя домой после работы в поле, отец до глубокой ночи занимался своими статуями. Мойше, тайком прокрадываясь в мастерскую, как зачарованный, следил за тем, что он делает, и только удивлялся, почему у отца при этом всегда такое горестное лицо. «Близко не подходи — обожжешься», — всегда предостерегал он сына. Ацетиленовая горелка выбрасывала длинный язык белого пламени, во тьме сыпались искры.
«Почему, — недоумевал Мойше, — почему он такой печальный? Ведь он занимается своим любимым делом». Иногда отец бормотал молитву по-древнееврейски, и по щекам его катились слезы. Может, ему не нравится то, что получилось? Может, он просит у Бога помощи? Мойше не знал. Но при виде плачущего отца сердце у него сжималось.
Скульптуры стояли по всему двору. Хрупкий Давид пригнулся, готовясь метнуть камень из пращи в огромного Голиафа, прикрывающегося круглым щитом и нацелившего длинное острое копье в своего юного противника. Мойше часами ждал, когда же наконец из пращи вылетит смертоносный камень, и нисколько не удивился бы, увидев однажды утром, что Голиаф повержен в прах у ног Давида.
А широкие деревянные ворота фермы, обсаженные ореховыми деревьями, охранял Дон Кихот на вздыбленном скакуне. Мойше подбирал орехи и, подражая отцу, пытался раскусить скорлупу зубами. Да не тут-то было.
* * *
Его родители — Якоб и Лия Нойман — перебрались сюда в 1935 году из Мюнхена, где оба преподавали в школе. В Германии поднималась волна антисемитизма, и Нойманы сочли за благо убраться от нацистов подальше: арендовали ферму неподалеку от швейцарской границы в надежде переждать там тяжелые времена.
На замощенном булыжником дворе стояло полдесятка построек под соломенной крышей — дом, где они обосновались, птичник, хлев, овчарня, конюшня на четыре стойла. Двадцать гектаров земли, засеянных пшеницей и кормовыми травами, пахали тяжелым деревянным плугом. Хозяйство было небольшое, но позволяло кормиться плодами своих рук, запасать на зиму вдоволь припасов и почти ни от кого не зависеть. Если же требовалось еще что-нибудь, отряжали работника Ганса — единственного, кто знал, что они евреи, — в соседний городок Равенсбург.
Ганс, веселый малый и большой любитель посидеть за кружкой пива — его солидное брюхо было лучшим тому доказательством — жил в нескольких километрах от фермы, куда каждое утро приезжал на велосипеде. Он и Мойше обещал выучить этому, когда у того ноги будут доставать до педалей. Ганс делал черную работу, Якоб и Лия — все остальное, а потом и дети должны были взять на себя часть общей ноши. У Рахили было особое пристрастие к животным — она вообще любила все, что живет на свете, и всякая тварь земная, казалось, чувствовала это. Мойше в сторонке с опаской смотрел, как она открывает ульи, стоявшие среди вишен. Пчелы густо облепляли ее руки и лицо. Она дразнила Мойше, делая вид, что сейчас двинется к нему, и смеялась, когда он бросался наутек, отшвыривая путавшихся под ногами цыплят.
Мойше ходил за сестрой неотступно: рядом с нею он чувствовал себя под надежной защитой, а она обращалась с ним в точности так, как с телятами, за которыми присматривала. Если он озорничал, она не бранила его, не в пример маме, а просто говорила: «Мойше, не делай так больше», и ее пухлые губы морщились чуть заметной улыбкой. Мойше не мог устоять перед искушением прокатиться по скату соломенной крыши амбара, что было ему строго-настрого запрещено. Он знал: Рахиль сделает вид, что не замечает его проказ. Однажды он, впрочем, доигрался — и упал вниз, прямо на булыжник. Рахиль подняла его, привела плачущего домой, промыла ссадины, перевязала разбитую руку и пообещала, что маме не скажет. В тот день она показалась ему ангелом с картинки в книжке.
Мать — невысокая, плотная, с уложенными вокруг головы косами, отчего широкое лицо казалось еще шире — была неизменно ровна и спокойна, животными не занималась, предпочитая цветы в саду. Когда она подрезала кусты своих любимых белых роз, в глазах, за стеклами очков, появлялось отстраненное выражение. Она никогда и ни на что не жаловалась, хоть и тосковала по Мюнхену, — ей не хватало шума большого города, его музеев, театров и оперы. Здесь, в захолустье, приходилось довольствоваться книгами и пластинками.
* * *
Годы шли, тихая жизнь на ферме разительно отличалась от творящегося в мире безумия. Мойше было семь лет, когда он впервые стал догадываться о том, какие события происходят за высоким деревянным забором их фермы. Отец с матерью часто слушали радио, которое почти всегда сердитыми голосами рассказывало о чем-то непонятном. «Если мировому еврейству, контролирующему банки, удастся навязать человечеству новую войну, результатом этого будет полное уничтожение евреев во всей Европе…» — кричал приемник, но Мойше ни разу не удавалось дослушать до конца — когда бы он ни входил в комнату, мать неизменно выключала радио.
Однажды он помогал Рахили отнести на кухню бидон с молоком и вдруг услышал, как спорят родители:
— Ах, Якоб, твой доктор Гольдман — просто паникер: собрался бежать в Америку, потому что его лишили права практиковать. Почему он не обратится в суд?
— Лия…
— Это же цивилизованная страна, — продолжала, не давая перебить себя, мать, — здесь живут порядочные, добрые, честные, трудолюбивые люди, уважающие законы… Взять хоть нашего Ганса.
— Пойми, у власти сейчас совсем другие люди…
— Какая-то кучка хулиганов не сможет перевернуть то, что складывалось веками. Мы здесь родились. Мы — граждане Германии.
— Ты, кажется, забыла — нас уже несколько лет назад лишили гражданства. Безумие торжествует. И я думаю, Гольдманы рассудили верно.
— Чепуха, Якоб! Я отказываюсь в это верить. Убеждена, что скоро все это кончится, и мы вернемся в Мюнхен.
— Мы едем домой, в Мюнхен? — шепнул Мойше сестре.
— Еще не сейчас.
— Расскажи мне про Мюнхен — какой он?
Поставив бидоны на скамейку в кухне, они вышли во двор.
— Я сама не очень хорошо помню. Он — красивый, а мы жили в таком чудном маленьком домике… и во дворе росли красные цветы.
— А коровы и лошади где же были?
— Глупый, у нас ведь не было ни коров, ни лошадей, пока мы не переехали сюда. Мюнхен — город, а не ферма. Мама с папой там учили детей в большой школе.
— Мне бы тоже хотелось ходить в настоящую школу — там, наверно, задают поменьше, чем мама нам здесь.
— Не хнычь, Мойше, надо учиться.
* * *
Но все свои вопросы Мойше немедленно забыл, когда, лежа рядом с Рахилью, слушал свою любимую сказку про Снежную королеву. Рахиль как раз дошла до того места, где злобный тролль радуется своей коварной выдумке: «…и тогда он решил с помощью этого зеркала подразнить самого Господа, — читала Рахиль. — Но когда он взлетел под самые небеса, зеркало выскользнуло из его пальцев и разбилось вдребезги, на миллиарды крошечных осколков…»
Голос ее звучал проникновенно и мягко, доносившаяся из соседней комнаты моцартовская мелодия не заглушала, а как бы вторила ему: «…и если такой осколок попадет в глаз, будешь все видеть уродливым и искаженным. А если в сердце — станешь жестоким и злым, сердце же превратится в кусок льда».
— Рахиль, — неожиданно перебил ее Мойше, — что это у тебя на груди такое? Какие-то шишечки.
Рахиль не отрывала глаз от книги.
— Можно мне потрогать, а? Можно?
Рахиль захлопнула Андерсена.
— Не хочешь слушать дальше — так и скажи.
Мойше испуганно притих. Рахиль снова открыла книгу и поправила сползавшую с плеч ночную сорочку.
Мойше недоумевал: появись у него на груди две такие шишечки, он бы обязательно дал сестре потрогать их.
* * *
Каждый вечер, разнуздав лошадей и задав им овса, отец разрешал Мойше чистить и смазывать маслом множество хитроумно сплетенных кожаных ремешков — конскую сбрую и упряжь. И всякий раз в ответ на свой вопрос: «Ну, когда же я буду править ими?» — слышал: «Когда научишься запрягать и взнуздывать». До этого было пока далеко.
После ужина он смотрел, как отец работает над очередной статуей. Издалека доносился голосок Рахили — она напевала, помогая матери мыть посуду, но сегодня этот звонкий и чистый голос звучал отчего-то грустно.
Потом Мойше Не раз будет вспоминать, как отец, прервав работу, поднял на лоб «консервы» и вытер слезы.
— Папа, ты плачешь?
Отец не отвечал, утирая глаза.
— Папа, папа! — затеребил он его. — Что с тобой?
Якоб долго смотрел на него, потом улыбнулся:
— В глазах Господа то, что я делаю — грех.
— Почему?
— Когда-нибудь объясню, — он снова включил горелку.
У Мойше было наготове не меньше сотни вопросов. «Почему же делать скульптуры — грех? Как это может быть? Бог, конечно, странный какой-то: велел Аврааму убить Исаака, принести его себе в жертву, а теперь не позволяет создавать такие чудесные фигуры…» Однако он промолчал — не хотел, чтобы отец опять плакал.
* * *
Днем, после уроков с мамой, они с Рахилью занимались хозяйством, и это ему нравилось куда больше алгебры и геометрии. Надо было накормить цыплят, засыпать свежего овса в стойла, помочь Гансу выгрузить с фуры сено.
Однажды он попросил сестру, чтобы научила его доить корову. У Рахили это получалось очень ловко: молоко так и брызгало в подойник из-под ее проворных пальцев. Мойше глядел из-за ее плеча и невольно видел так удивившие его припухлости у нее на груди — они стали больше.
— Рахиль… — протянул он. — Ну покажи-и.
Вместо ответа она брызнула ему в лицо теплым молоком. Мойше, вытираясь рукавом, продолжал канючить:
— Ну, дай я посмотрю… Ну, так нечестно… Я-то тебе все показываю — помнишь, я нашел дохлую змею — сразу тебя позвал…
Они вышли из коровника и вдруг услышали частый стук копыт. На лугу, за вишневыми деревьями, серый в яблоках жеребец, отставив хвост, торчавший, как вымпел, плясал вокруг гнедой кобылки, прыгал, становился на дыбы и снова носился кругами. Кобылка изогнула шею, и, когда жеребец прервал свой танец, потерлась мордой о его гриву, потом повернулась к нему задом, подняла хвост, расставила задние ноги. Жеребец встал на дыбы — Рахиль и Мойше увидели у него под брюхом гигантский член — обхватил бедра кобылы передними ногами и опустился на нее, покрывая. Теперь они видели только, как ритмично и размашисто задвигался его круп.
— Он же ее покалечит! — закричал Мойше.
— Нет… нет… ей приятно, — мягко ответила Рахиль, не сводя глаз с лошадей на лугу.
Они стояли молча, пока не раздался голос матери:
— Дети! Поторопитесь, пожалуйста, пока молоко не скисло.
* * *
Потом они стали играть в прятки. Мойше притаился под грудой одежды, висевшей за кухонной дверью, и беззвучно хихикал, глядя, как сестра пошла совсем в другую сторону. Вдруг он услышал голос отца и заглянул в щель между косяком и дверью.
— Почему ты не слушаешь радио?
— Больше не могу, — отвечала мать, штопавшая за столом носки. — Я должна поговорить с тобой.
— О чем же?
— Знаешь, — сказала мать, — сегодня была случка… Серый и гнедая.
— Ну и прекрасно. Я рад, что жизнь продолжается, несмотря ни на что.
— Дети на это смотрели…
— И?..
— С большим интересом.
— Это невинный интерес. Дети должны усвоить, что на свете есть не только жизнь и смерть. Есть еще и любовь, разные ее виды. Ты не думаешь, что им пора знать об этом?
Мать сидела, не поднимая глаз от штопки.
— Я думаю, что Мойше — уже большой мальчик и должен спать отдельно… Надо его перевести на чердак.
Отец громко расхохотался:
— Что ж, и это — жизнь.
Мойше очень не понравилось то, что он услышал. Зачем это ему спать одному, без Рахили?
Но в тот же вечер он понуро перетащил свои пожитки по деревянной лестнице наверх, на чердак — темный, затхлый, с крохотным оконцем, выходившим на двор и конюшню. Просто какая-то темница. Тяжелые стропила нависали над головой — того и гляди, раздавят — и словно пригибали ее вниз. Мимо прошмыгнула крыса, и Мойше, хоть никогда не боялся их, вздрогнул и отдернул руку. Ему так хотелось опять оказаться внизу, на широком соломенном тюфяке рядом с Рахилью, почувствовать себя под ее защитой, прижаться к ней…
Он лежал, стараясь не расплакаться, и вдруг услышал осторожные шаги по лестнице. В дверях появилась голова сестры, и Мойше заткнул себе рот, чтобы не завопить от радости. Он не сводил с нее глаз, а Рахиль достала из кармана огарок свечи, зажгла его, присела на кровать и начала читать его любимую сказку: «…вдруг подул сильный ветер, и что-то попало Каю а глаз. Герда попыталась вынуть соринку, но Кай вдруг закричал: „Какие противные розы!“, — потом сломал розовый куст, пнул ногой цветочный горшок и убежал…»
— Рахиль, — перебил он ее, — у нас тоже сегодня был сильный ветер… Посмотри, может, и мне что-нибудь залетело в глаз, — и он подставил ей голову.
Рахиль с улыбкой склонилась к нему, поцеловала в лоб:
— Ничего у тебя там нет, никаких осколков злого зеркала. А теперь спи, — и задула свечу.
* * *
По пятницам, когда наступал вечер, отец бросал работу. Вся семья, вымывшись и принарядившись, усаживалась за столом, покрытым белой скатертью. Зажигались свечи, и мать читала молитву, которую повторяла за нею Рахиль. Мойше очень гордился: отец, как взрослому, позволил ему произнести слова молитвы, когда преломляли хлеб, испеченный матерью и сестрой в честь субботы.
После праздничного ужина, когда и суп, и жареные цыплята с овощами были съедены, отец взял Мойше за руку и повел во двор. Подняв голову к иссиня-черному, усыпанному крупными звездами небу, он молча помолился, а потом сказал:
— Трудно быть евреем, сынок.
Мойше молчал, не зная, что ответить на это.
— Бог запрещает евреям делать изображения людей и животных даже из ржавых железок. Это — грех. Вот я и прошу у него прощения за это.
— А мне так нравится то, что ты делаешь, папа.
— Это плохо, Мойше, это греховно. Это нарушает одну из Божьих заповедей: «Не сотвори себе кумира». Я грешник, Мойше, — он взглянул на сына и с печальной улыбкой сказал: — Знаю, сейчас ты не понимаешь, о чем я. А вырастешь — сам увидишь, какая это мука — быть евреем.
* * *
Первым его увидел Ганс, вместе с Мойше сгребавший в стога сено. С пригорка спустился молодой человек с рюкзаком за плечами.
— Эй, вы кто? — крикнул Ганс.
— Я ищу господина Ноймана.
Ганс глядел на него недоверчиво.
— Я был его учеником, — добавил молодой человек и улыбнулся, сверкнув белыми ровными зубами. Он был невысокого роста, коренастый, кареглазый и темноволосый, с едва пробивающейся бородкой.
— Герр Нойман очень занят, — неприветливо буркнул Ганс.
Мойше удивился: отчего это их дружелюбный и веселый работник так ведет себя?
— Ганс, а Ганс… У нас же никого нет… Папа, наверно, обрадуется ему…
Ганс что-то невнятно пробурчал, и тогда Мойше сам вызвался проводить гостя. Они зашагали к ферме, а Ганс молча следовал за ними чуть поодаль.
Отец осматривал ногу лошади, несколько дней назад напоровшейся копытом на гвоздь. Завидев их, он осторожно опустил ногу животного, выпрямился, вглядываясь в лицо незнакомца.
— Вы меня не узнаете? Давид Майер, ваш самый скверный ученик.
Лицо отца озарилось широкой улыбкой. Он стиснул юношу в объятиях.
— Давид, Давид, да у тебя уже борода! Когда мы в последний раз виделись, ты еще и не брился!
— Я и сейчас не бреюсь.
— Господи, сколько же лет прошло? Пять или шесть?
— Да нет, пожалуй, семь или восемь.
— Верно! Мы перебрались сюда, когда Мойше было три года, а ему уже скоро пойдет двенадцатый. Как же ты меня разыскал?
— Доктор Гольдман сказал, где вас найти, и передал со мной весточку.
— Как он поживает?
— Они уехали из Германии.
— Значит, плохи дела?
Давид перестал улыбаться, коротко глянул через плечо на Ганса.
— Мне бы надо с вами поговорить с глазу на глаз…
— Не беспокойся, Ганс — свой. Но пойдем в дом. Умоешься и передохнешь с дороги.
Мойше заметил, что Ганс довел их до самых дверей, продолжая подозрительно поглядывать на гостя.
Все расселись вокруг стола на кухне и стали слушать Давида.
— В городах евреев уже не осталось, а теперь Эйхман сколотил особые группы «охотников», которые рыщут по деревням, хуторам, мызам в поисках тех, кто сумел скрыться.
Наступила тишина. Давид съел несколько ложек супа, поставленного перед ним, время от времени бросая восхищенные взгляды на Рахиль. Та каждый раз заливалась румянцем.
— Пока пробирался к вам, видел, как гестапо набивает грузовики людьми — мужчинами, женщинами, детьми.
— Зачем? — спросила мать. Мойше удивился тому, как дрожит ее голос.
— Не знаю, фрау Нойман, — Давид снова взглянул на Рахиль. — Говорят, их везут в лагеря.
— В лагеря? Какие лагеря? — спросил Мойше, мигом представив себе палатки и костер.
Все посмотрели на него, и он смутился оттого, что перебил разговор взрослых.
— Не знаю, Мойше, — чуть усмехнувшись, ответил Давид.
— А как вы считаете… здесь… мы в безопасности? — все тем же нетвердым голосом спросила Лия.
— Нет! — резко ответил Давид, и Мойше вздрогнул от неожиданности. — Я направляюсь к озеру Констанс. Если дойду, оттуда можно будет перебраться в Палестину или в Америку. Идемте со мной.
— Да, — кивнул Якоб. — Ты прав. Надо бежать.
— Но когда? — в голосе матери Мойше слышал ужас.
— Сейчас же, Лия. Немедленно, — отец обнял ее за плечи, и она припала к его груди. — Мойше, ты бы сходил помог Гансу задать корм скотине. Пусть досыта поест напоследок.
Мойше выбежал из дома, громко зовя работника. Тот не отзывался. И велосипед его куда-то пропал. Куда он запропастился? Что могло случиться? Размышляя над этим, мальчик вернулся в дом, где уже полным ходом шли сборы.
Продолжались они и вечером. Мойше поднялся к себе на чердак, чтобы забрать свои пожитки, и вдруг услышал рычание мотора. Он подскочил к оконцу, выглянул — слепя фарами, в ворота въезжал тяжелый грузовик. Лаяли собаки. Рядом с водителем он увидел Ганса, хотел было окликнуть его, но в этот момент он увидел, как из кузова спрыгнули двое с винтовками.
Мойше никогда не забыть грохот прикладов, ударивших в дверь его дома.
* * *
Солдаты обшарили весь дом. Мойше видел, как один из них сунул в карман золотые часы отца. Другой схватил за руку мать, та отшатнулась, дрожа всем телом. Солдат грубо сорвал у нее с пальца обручальное кольцо. Отец шагнул было вперед, но солдат отбросил его ударом приклада. Рахиль заплакала. Давид обнял ее за плечи, стал приговаривать, успокаивая:
— Все будет хорошо, все будет хорошо…
Мать вцепилась в рукав отцовского пиджака:
— Почему же Ганс — с ними?
— Люди часто совершают необъяснимые поступки — от страха… или из корысти.
Мойше долго пытался понять, что означают эти слова.
В тупике их уже ждал товарный состав. Вместе с тремя другими еврейскими семьями их посадили в теплушку. Один из их невольных попутчиков сказал, что находится здесь уже четыре дня, и, по слухам, их отправляют в Италию, в новый концлагерь…
Когда поезд ненадолго останавливался, принимая последних выловленных в Германии и в Австрии евреев, через чуть приоткрытую дверь им просовывали ржаной хлеб и бадейку с водой. После этого дверь снова тщательно запирали. Выходить наружу не разрешали — приходилось справлять нужду в углу, где лежала охапка соломы. В вагоне было полутемно — свет проникал лишь через небольшие отверстия у самой крыши.
Так прошло три дня. Давид оказался самым бодрым и неунывающим из всех — заводил разговоры с соседями, затевал какие-то игры в слова, чтобы время не тянулось так мучительно долго. Он всячески опекал Рахиль — укутывал ее в свой пиджак, находил для нее место поудобней, когда стоять было уже невмоготу, делился с нею скудной едой.
Постепенно все как-то привыкли и освоились, только Лия была точно в столбняке и смотрела перед собой невидящими глазами. Отец чуть ли не силой заставлял ее съесть кусочек хлеба. Она, ни на что не обращая внимания, раскачивалась всем телом взад-вперед, монотонно повторяя один и тот же пассаж из сонаты Шопена.
Мойше брал пример с отца — тот был спокоен и не выказывал страха — и вскоре нашел себе занятие: маленьким перочинным ножичком пытался проковырять толстую стенку вагона. Дело было нелегкое, вот если бы он был сильным, как папа…
Когда прибыли в Триест, мужчин и женщин разделили, посадили в грузовики, отвезли куда-то на окраину города, там велели построиться перед широкими железными воротами, над которыми было написано: «LA RISIERA DI SAN SABBA».
— А что это значит? — спросил Мойше.
— «Рисьера» по-итальянски значит «рисовая фабрика», — объяснил Давид. — Может, хоть с голоду не помрем.
Никто не засмеялся.
За воротами Мойше сразу увидел высокую трубу, из которой в чистое синее небо поднимался черный дым. Он ухватил отца за руку и с удивлением заметил, что она дрожит. Тогда он задрал к нему голову — дрожал и подбородок, и впервые за все время пути Мойше почувствовал: происходит что-то ужасное.
Их поставили в две шеренги и повели по узкой, посыпанной гравием дороге между фабричными бараками. На плацу снова выстроили, и к ним вышел комендант лагеря — высокий, сухопарый, лет сорока, не больше. Прохаживаясь перед строем, щеголевато постукивая каблуками, он осматривал арестантов, нетерпеливо щелкал пальцами, обтянутыми перчатками из тонкой черной кожи, отдавая распоряжения своей свите.
Испуганных людей быстро рассортировали. Мертвую тишину время от времени разрывал чей-нибудь душераздирающий вопль. Первыми увели женщин с грудными детьми, больных и стариков. Среди них Мойше увидел и мать — она шла, как лунатик.
— Куда она? — спросил он отца, но тот смотрел ей вслед, шепча молитву.
Потом отобрали годных для работы мужчин. Якоб, Мойше, Давид попали в их число. Мойше оглянулся туда, где оставалась Рахиль и другие молодые женщины, увидел, как комендант, показывая на нее, что-то говорит своим помощникам. Офицер учтиво взял ее под руку и повел к ожидавшему в стороне автомобилю. Рядом раздался сдавленный стон. Мойше увидел, как Давид впился зубами в крепко стиснутый кулак.
* * *
С этого дня началось их немыслимое существование. Арестантов держали в крошечных каморках, где раньше хранился неочищенный рис. Мойше часто просыпался по ночам от лязга стальных дверей и воплей людей, которых выволакивали наружу. Днем гремел духовой оркестр — комендант отдавал предпочтение вальсам Штрауса. Из высокой трубы беспрестанно поднимался черный дым.
Поначалу Мойше вообще не спал, вскакивая при каждом новом крике, от которого стыла кровь в жилах, а потом еще несколько часов лежал, не в силах унять дрожь. Но теперь, когда минул год их лагерной жизни, он душевно огрубел и уже не плакал, вспоминая мать и сестру. Жуткий кошмар стал обыденной повседневностью. Хорошо хоть, что их с отцом пока не разлучили.
Давид тоже сначала был вместе с ними, а потом его перевели в столярную мастерскую. Якоба определили в сварщики, а Мойше — ему в подручные. Итальянцы-охранники разрешали им даже ночевать там же, в полуподвальной мастерской, а не возвращаться в переполненный барак.
Ходили они в том же, в чем их привезли в лагерь, и одежда стала ветхой и грязной. Мойше вытянулся, и брюки еле доходили ему до щиколоток. А отец, наоборот, сгорбился и стал меньше ростом, исхудал, постоянно кашлял и пребывал в каком-то своем мире, не имеющем отношения к действительности.
В первое время Мойше все надеялся, что среди множества шагающих мимо их полуподвального окна ног он увидит коричневые башмачки с желтыми шнурками — мать надела их в дорогу. Потом смирился и поверил, что им с матерью увидеться больше не суждено.
* * *
Он сидел на своем обычном месте, у забранного решеткой окна, и смотрел наружу. В отдалении рычали грузовики, потом мимо промелькнули колеса нескольких мотоциклов, а за ними появилось множество устало шаркающих ног. Значит, пригнали новую партию заключенных. Отца совершенно не занимало то, что творится снаружи, и, казалось, он даже не слышал гремевшую за окном музыку — так увлекла его работа.
— Мойше, куда ты смотришь?
— На птиц…
— Да, птицы прекрасны… И так свободны. Я тоже люблю смотреть на птиц, — руки его продолжали колдовать над кусками железа. — Помнишь аиста, которого я смастерил?
— Конечно, помню — на крыше коровника.
Отец печально улыбнулся и сейчас же от приступа кашля согнулся пополам.
— Папа, папа! Что с тобой? Ты нездоров?
Якоб, еще не успев справиться с дыханием, успокаивающе покивал головой:
— Все в порядке, все в порядке… — и снова принялся за работу.
На уродливом остове из приваренных одна к другой ржавых железок, болтов и гаек — по мысли отца, это означало нацистский режим — возвышался человеческий скелет. Руки несчастного огромными гвоздями были прибиты к поперечине деревянного креста, а на локте еще сохранилась белая повязка с голубой шестиконечной звездой. Голова бессильно упала на грудь. За стальными полосами, ребрами, виднелся кусочек сияющей меди. Так мастер хотел показать измученную палачами душу.
Эта работа отнимала у отца последние силы, но что мог сделать Мойше? Вздохнув, он снова повернулся к окну.
Совершенно неожиданно и непонятно откуда на дороге появился ребенок, видимо, только-только научившийся ходить. Он сделал два-три неуверенных шага и шлепнулся прямо перед окном. Мойше бессознательно просунул руку сквозь прутья, чтобы помочь ему. В ту же минуту тяжелый кованый армейский сапог с размаху ударил ребенка в голову, проломив еще хрупкие косточки. Череп словно лопнул, брызнув во все стороны кровью и мозгом.
Мойше похолодел от ужаса, закрыл глаза.
Потом, немного оправившись от потрясения, побрел в глубь мастерской. Отец продолжал работу, время от времени заходясь в кашле.
— Папа, почему Бог не удержит людей от дурных поступков?
— Бог сам уменьшил свою власть над человеком, когда дал ему свободу воли. Человек сам должен выбирать между добром и злом.
— Но ведь добрых людей наказывают!
— Нет. Их не наказывают, они страдают… иногда.
— А разве мы не богоизбранный народ?
— Конечно, ты же сам знаешь.
— Почему же Бог не защитит нас? — голос его зазвенел.
Отец неотрывно смотрел на свое творение.
— Он защитит. Защитит, — очень мягко произнес он.
Мойше побрел прочь. Впервые в жизни он усомнился в правоте отцовских слов.
* * *
Ноги в грубых арестантских башмаках остановились перед окном, потом шагнули назад, и Мойше увидел улыбающееся лицо Давида.
— Давид!
— Как дела, Мойше?
— Хорошо. Только папа все время кашляет.
— Ты присматривай за ним. Сам знаешь, что они делают с теми, кто больше не может работать.
— Ладно.
— И вот еще что… — Давид быстро оглянулся по сторонам. — Передай отцу — это его подбодрит — я слышал, итальянцы говорили, что союзники наступают! Война скоро кончится! Через несколько месяцев нас освободят!
Мойше, вцепившись в прутья решетки, прижался к ним лицом:
— Правда?
Давид кивнул, улыбаясь во весь рот:
— И еще скажи ему… Рахиль жива-здорова.
— Ты видел ее?
— Видел. Мы вешали книжные полки в комендантском доме. Она вас крепко целует.
— Папа будет счастлив.
— Мойше… Потом, когда все кончится, я хочу, чтобы ты был моим шафером.
— Кем-кем? — это слово было ему незнакомо.
— Шафером, свидетелем на бракосочетании, — он снова оглянулся. — Я хочу жениться на твоей сестре. — И лицо его исчезло.
Мойше отпрянул от окна, кинулся в мастерскую, громко крича:
— Папа! Папа! Давид сейчас ска… — и осекся.
Двое немцев-надзирателей выволакивали из мастерской обмякшее тело отца. Якоб, всегда такой сильный, всегда готовый защитить и прийти на помощь, сейчас беспомощно полз по полу, не сводя глаз с сына. Мойше, вскрикнув, бросился на немца, но тот, двинув рукой, отшвырнул его так, что он упал прямо на статую. В ужасе он ждал, когда кованый сапог размозжит ему голову. Потом лишился чувств.
Когда он очнулся, отца уже не было. Ощупав трясущейся рукой голову, он обнаружил на затылке шишку. Пол был весь в крови. Лицо распятого было обращено к нему.
* * *
Давид ставил в особую нишу книжный шкаф, который должен будет скоро заполниться переплетенными в кожу томами Ницше, Шопенгауэра, Гете. Спальня в комендантском доме была просторная, обставлена массивной резной мебелью. На окнах висели тяжелые бархатные шторы, перехваченные внизу атласными витыми шнурами.
Когда появилась Рахиль с картиной в серебряной раме, которую она до блеска начистила на кухне, Давид отложил молоток. Подойдя к столику возле кровати, девушка принялась расставлять на нем фотографии — на них в неестественных позах замерли офицеры.
— Рахиль… — прошептал Давид.
— Т-с-с… могут услышать…
Давид притворил дверь и вернулся к Рахили.
— Прошу тебя, — она пыталась высвободиться, — не надо… Это опасно…
Давид, не слушая, обхватил ее лицо ладонями и поцеловал.
— Какая ты красивая.
Рахиль смущенно комкала свой передник, надетый поверх форменного синего платья. Давид отвел от ее лица длинные темно-каштановые волосы.
— Знаешь, я видел Мойше и сказал ему, как я тебя… как я к тебе отношусь. Ему сказал, а тебе не решаюсь.
Запрокинув голову, она смотрела на него, карие глаза наполнялись слезами.
— Не плачь, Рахиль… — он сжал ее руки. — Я люблю тебя. Я не дам тебя в обиду. Верь мне. Совсем скоро мы будем вместе.
Дверь приоткрылась, и они отскочили друг от друга. На пороге стоял комендант со своим адъютантом.
— Кончил работу?
— Пока нет, господин комендант, — Давид торопливо подошел к шкафу. — Тут еще на несколько часов.
— Доделают без тебя.
Давид, не взглянув на Рахиль, пошел к дверям, ступил за порог, не оглянувшись. Адъютант вышел и закрыл дверь. Рахиль осталась с комендантом наедине.
Комендант снял фуражку и перчатки, присел к столу, просматривая какие-то документы. Рахиль, умоляюще сложив руки, дрожа всем телом, приблизилась к нему:
— Господин комендант… пожалуйста, извините его… Он не виноват…
— Разумеется, не виноват. Виновата твоя красота. Я его отлично понимаю. Устоять невозможно.
— Но он всего лишь сказал мне, что видел моего брата…
— Если тебя интересует кто-либо из заключенных, Рахиль, обращаться следует ко мне, — голос коменданта, утратив начальственную строгость, звучал почти приветливо.
— Я поняла, господин комендант.
— Рахиль, — отложив бумаги, он откинулся на спинку стула, взгляд голубых глаз смягчился, — не надо смотреть на меня с таким ужасом. Я ведь не зверь. Разве с тобой плохо обращаются, разве тебя обижают?
— Нет, господин комендант.
— Сколько лет твоему брату?
— Двенадцать, господин комендант.
— Ну что ж, пусть помогает тебе на кухне. Ты не против?
— Нет, господин комендант… Конечно, нет, господин комендант… — Рахиль смеялась, хотя слезы лились у нее из глаз.
Комендант улыбался.
* * *
Мойше выдали чистую рубашку и пару брюк, в маленькой комнатке за кухней, где жила Рахиль, ему поставили топчан. Снова, как когда-то на мызе, они были вместе. Он рассказал ей про отца. Матери никто из них не видел с того самого дня, как ее увели. Оба знали, какая судьба постигла их родителей.
— Я бы могла их спасти, — шепнула ему Рахиль.
— Ты? Как?
— Так же, как тебя. Они бы тоже работали здесь..
— Так почему же ты не сделала этого?
— Тогда я еще не знала, что это в моих силах…
Лежа рядом с сестрой, Мойше невольно обратил внимание, что вместо «шишечек», так поразивших его когда-то, в вырезе ночной сорочки виднеются полные груди. Но не сказал ни слова, боясь, как бы его не отослали спать на топчан.
— Рахиль… — позвал он.
— Ну, что еще? — вздохнула она.
— Ты что, замуж выходишь?
Она повернулась на бок, чтобы видеть его лицо.
— О чем ты?
— А Давид сказал, что я буду его — как это? — шафером.
Она засмеялась, поцеловала его в лоб:
— Если мы выживем, если выйдем отсюда, — да. Мы с Давидом будем о тебе заботиться.
Часто посреди ночи она вставала и, набросив на голые плечи платок, выходила, плотно прикрывая за собой дверь. Мойше просыпался и сразу же засыпал снова, не дождавшись ее возвращения. Он спрашивал ее, что это за работа такая — глубокой ночью? Но ни разу не получил ответа.
Днем, когда она прибирала комнаты коменданта, Мойше работал на просторной кухне с кирпичным полом и огромной плитой — чистил картошку, мыл кастрюли и сковородки, подметал. Ему нравилось там — тепло и так вкусно пахнет.
Рахиль предупредила, чтоб он носа не высовывал за проволоку, натянутую вокруг комендантского дома. Но искушение было слишком велико, и Мойше всякий раз, направляясь за дровами, выглядывал наружу. Он видел изможденных евреев-заключенных в лохмотьях и отрепьях и, случалось, перебрасывал им через ограду несколько ломтей сворованного на кухне хлеба.
Однажды ночью он спросил:
— Рахиль, как ты думаешь, может, у коменданта в сердце тоже застрял осколок того дьявольского зеркала.
— Нет, — ответила она и замолчала, словно взвешивая свои слова. — Он добрый человек. Мне его жалко. Он солдат: у него в роду с незапамятных времен все были военными. Он исполняет приказ, вот и все.
— Но ведь здесь убивают людей.
— Так ведь на то и война, Мойше, так всегда поступают с теми, кого берут в плен.
— Но мы-то ведь не солдаты и не в плену! — стоял на своем Мойше. — Нас-то за что?
Голос Рахили был едва слышен:
— За то, что мы евреи.
Оба долго молчали. Потом Мойше сказал:
— А давай не будем евреями. Ты ж сказала — мы здесь потому, что мы евреи. Вот давай больше и не будем…
— Это невозможно, Мойше. Мы родились евреями. Тебя назвали в честь нашего великого пророка и вождя Моисея. Мы — евреи и всегда ими останемся… Спи…
Плотно подоткнув одеяло, он смотрел в темноту и думал: «Не хочу быть евреем», — и надеялся, что Рахиль не догадается о его мыслях.
* * *
Постепенно Мойше освоился в новых обстоятельствах, привык к безопасности, осмелел и однажды ночью, когда Рахиль встала с кровати и вышла, неслышно выскользнул за нею следом. Затаив дыхание, он видел, как она закрыла за собой кухонную дверь.
Он выждал мгновение, осторожно приоткрыл ее и не поверил своим глазам: Рахиль спокойно поднималась по лестнице, пользоваться которой было строго-настрого запрещено. Наверху стоял часовой. Рахиль шла прямо к нему, словно не видя его. Вот она поравнялась с ним. «Назад!» — хотел крикнуть ей Мойше, но оцепенел от ужаса.
Рахиль как ни в чем не бывало прошла мимо часового, а он даже не шевельнулся и не окликнул ее.
Мойше вернулся к себе, снова лег, но уснуть не мог. Так пролежал он несколько часов, слушая гулкие удары сердца. За окном светало, когда Рахиль снова вошла в комнату. Мойше понимал только одно: спрашивать сестру, где она была и что делала, — нельзя.
Потом она перестала пускать к себе на кровать брата и больше не выходила из комнаты по ночам. Мойше не хватало тепла ее тела, но он понимал — Рахили нездоровится. Несколько раз он видел, как утром она, зажимая себе рот, выскакивала на двор, и ее рвало.
* * *
Шла весна 1945 года. Давид оказался прав: союзники приближались. Итальянцы ходили хмурые, часто о чем-то шептались друг с другом. Столкновения с немцами стали случаться все чаще, казни заключенных — тоже. Крематорий работал теперь круглые сутки, и дым из его трубы валил днем и ночью.
Мойше в тот день сажал помидоры в огороде, делая аккуратную маленькую ямку для каждого саженца, и вдруг услышал необычно громкие голоса. Выглянув наружу, увидел толпу заключенных, суетившихся возле бараков. В испуге он схватил корзинку с рассадой и побежал на кухню. Двое итальянских солдат чуть не сшибли его с ног — они мчались к грузовику, стоявшему у ворот лагеря. У дверей дома урчал мотор комендантского «мерседеса». Внезапно на него налетел Давид:
— Мойше! Мы свободны! Мы остались живы! Там, на дороге, американцы! — он сгреб в охапку мальчика, все еще державшего в руках корзинку, поднял его, расцеловал в обе щеки. — Мы живы, Мойше! Мы выжили! — Потом опустил его на землю и спросил: — А где Рахиль?
— Наверно, в доме.
Давид кинулся к дому, но дверь открылась, и на пороге появился комендант, за плечом у него виднелась голова Рахили. Двое мужчин стояли лицом к лицу Мойше оцепенел. Давид что-то сказал Рахили, а что — мальчик не слышал. Комендант глянул на нее через плечо, потом снова обернулся к Давиду. В руке был пистолет. Раздался выстрел. Давид пошатнулся и упал навзничь, дернулся и застыл.
Комендант как ни в чем не бывало перешагнул через труп, сел в машину. Мойше отпрыгнул в сторону, побежал к дому и замер перед окровавленным телом Давида. Рахиль исчезла. Охваченный ужасом, он влетел в дом, уже заполненный ликующими заключенными. Он наконец выпустил из рук свою корзинку и крикнул, перекрывая шум и смех: «Рахиль!» На кухне ее не было, в их каморке тоже. Он кинулся в просторную прихожую, продолжая звать сестру. Никто не отзывался, в этой части дома стояла гнетущая тишина, а снаружи доносились радостные крики людей, избегнувших расстрела и крематория.
Внизу, у запретной лестницы, он на миг остановился в нерешительности, потом бросился бегом наверх, перепрыгивая через две ступеньки. Наверху снова замедлил шаги: перед ними были две закрытые двери. Он медленно повернул ручку. Одна комната была пуста. Тогда он толкнул дверь второй, спальни коменданта.
Здесь он и нашел сестру: она висела в петле, горло было захлестнуто витым атласным шнуром от занавески. По пустому дому раскатился его отчаянный вопль:
— Рахиль!
* * *
Маленькая ручка мальчика тонула в огромной лапе чернокожего американского солдата. Улыбаясь от уха до уха, он вел Мойше из лагеря и пытался как-то объясниться с ним. Тыча пальцем ему в грудь, спрашивал:
— Еврей? Jude?
Мойше отрицательно мотал головой. Негр смотрел на него вопросительно.
— Я — цыган.
— Как тебя зовут? — допытывался солдат.
— Даниил, — ответил он, вспомнив цыганенка из лагеря.
— А-а, Дэниэл, Дэнни!
Вся его семья осталась здесь. Все погибли. Ему вот-вот должно было исполниться тринадцать лет. Евреи, прошедшие обряд бар-мицвы, считаются с этого возраста совершеннолетними. Но он больше не был евреем.
Глава II
1980.
ЛАГЕРЬ БЕЖЕНЦЕВ «САН-САББА»,
ТРИЕСТ, ИТАЛИЯ.
К проволочной ограде, отделявшей мужскую зону от женской, подошла девочка лет тринадцати — уже сформировавшаяся, с тонкими чертами лица, с черными беспокойными глазами. Она прижалась лбом к проволоке. Где же Валентин? Из Польши они бежали вместе, а теперь уже почти целую неделю не виделись.
Валентин — длинный, она надеялась разглядеть его белокурую голову над толпой. «Валентина не видали?» — спросила она проходившего по ту сторону изгороди мужчину. Тот пожал плечами. Девочка протянула ему портрет, нарисованный в блокноте. Мужчина посмотрел и снова пожал плечами.
Она горестно вздохнула. Со дня приезда в этот лагерь она каждое утро прохаживалась вдоль ограды, но так никого и не встретила.
Итальянец, присматривавший за беженцами, тронул ее за плечо, жестом показал, чтобы шла в свой барак.
Она подчинилась и медленно двинулась прочь. Впереди возвышались причудливые развалины крематория, где сорок лет назад сжигали евреев. Она поежилась при мысли о том, что происходило здесь в те годы, а теперь это странное место приютило ее и таких, как она. Миновав дом с грозным предупреждением «Вход воспрещен!», она заметила, что боковая дверь открыта. Вошла — и оказалась в комнате, где стояли скамьи и, на невысоком помосте, стол. Похоже на зал суда. Она уже собиралась выйти, как вдруг увидела, что в дальнем углу что-то поблескивает. Подошла ближе. Это была ржавая, покрытая пылью железная конструкция, по форме напоминавшая распятие. Такое же было у них в костеле, в Бродках Массивными уродливыми гвоздями руки распятого были приколочены к поперечине креста. На одной руке было что-то написано незнакомыми ей буквами, а на другой еще сохранилось полустертое изображение шестиконечной звезды.
Раскрыв свой блокнот, она стала рисовать и так увлеклась, что не сразу услышала, когда ее окликнули: «Люба!»
Она поспешно выскочила наружу. Там, подбоченившись, стояла ее мать — молодая женщина чуть выше ростом, чем она сама, удивительно похожая на нее.
— Я тебя зову-зову, ищу-ищу! Где тебя носит?.. Есть новости, и хорошие.
Люба, погруженная в свои мысли, не отвечала.
— Ты слышишь меня? Мне удалось наконец связаться с твоим отцом в Австралии. У нас есть шанс уехать туда, к нему.
— Нет у меня отца.
— Прекрати эти дурацкие разговоры, — под взглядом надзирателя, не сводившего глаз с пышных форм матери, они двинулись к бараку. — Ты что, опять ходила искать Валентина?
— Да.
— Люба, брось свои фокусы!
— Не брошу. Я люблю его.
— Ты не его любишь, а цирк, всякие там карнавалы-карусели. Тебя с самого детства так туда и тянет.
Люба отвернулась от нее и тихо сказала:
— Об одном жалею, что не убежала с циркачами, когда была такая возможность!
* * *
А возможность такая представилась четыре года назад.
Весной в Бродках появилась бродячая цирковая труппа. Пустырь на окраине этого маленького польского городка стал неузнаваем: его заполнили ярко раскрашенные фургоны, расцветили флаги, оглушила задорная музыка, на звуки которой со всех окрестных деревень стали стекаться люди, дивясь причудливо разодетым артистам. Закрутилась карусель, завизжали от удовольствия ребятишки.
Люба часами смотрела, как репетируют свой номер канатоходцы, скользя по туго натянутой проволоке, прыгая друг через друга и даже умудряясь сохранять равновесие, сидя на стуле. Она была околдована их искусством, и польщенные артисты стали относиться к ней как к своей. Иногда даже водили ее по проволоке, поддерживая и не давая упасть.
Потом она попробовала повторить это сама, но глянув вниз с пятиметровой высоты, испугалась. Однако закусила губы и крепче сжала в руках шест-балансир. Осторожно поставила на проволоку ногу, потом вторую. Подошвы скользили. Она сделала еще два-три шага, потеряла равновесие — и полетела вниз, прямо на руки Йозефа, считавшегося в труппе главным. Он подхватил ее, прижал к груди, и страх исчез.
— Ну-ка, давай сначала, — повелительно сказал он. — Вниз не смотреть!
Он помог ей подняться на площадку, кто-то протянул ей снизу шест.
На этот раз она не была так скованна и помнила его слова «Вниз не смотреть!». Она не видела, что Йозеф скользит по проволоке следом за нею, не сводя с нее восхищенных глаз, но присутствие его чувствовала, и оно придавало ей уверенность. Она знала: он в случае чего успеет подхватить ее. Циркачи снизу глядели, как девятилетняя девочка, в трико не по росту, идет по проволоке.
— Расслабься! — звучал за спиной спокойный голос. — Вниз не смотреть!
Люба дошла до середины. Ей больше не было страшно. Левую ногу… потом правую… одну… другую… Дойдя до противоположной площадки, она рассмеялась от радости. Получилось!
Йозеф взял у нее шест, помог спуститься на манеж, поцеловал. Циркачи обступили ее, поздравляя с дебютом, твердя, что ей непременно надо войти в их труппу. Люба была счастлива.
Ей до безумия нравился цирк и разбитая рядом карусель. Деревянные лошадки под музыку скакали по кругу неведомо куда. Ей казалось, что вечером, когда карусель запирают, лошади мягко спрыгивают на землю и уносятся прочь порезвиться на воле, а на рассвете галопом возвращаются обратно, занимают свои места — и все это совершенно беззвучно.
Она мечтала уехать вместе с циркачами, когда кончатся их гастроли в Бродках. Матери, конечно, она не сказала об этом ни слова…
В тот вечер она бежала домой со всех ног. Было холодно, изо рта вылетали маленькие облачка пара. Люба всегда удивлялась: почему этот пар — холодный, а тот, что поднимается из носика чайника, такой, что обожжешься?
Она добежала до своей улицы, свернула за угол. Четвертый с конца — их дом, серый, маленький, с двумя комнатками и с уборной во дворе. Влетела на кухню и остановилась: на столе лежали апельсины. Подумать только, апельсины! С черного рынка! Она замерла в предвкушении чудес. Только отец приносил домой апельсины.
— Папа! Папа!
Ответа не было. Она просунула голову в дверь задней комнаты, служившей одновременно и гостиной, и спальней родителей. Мать стояла у окна, держа в руке листок бумаги. Рядом стоял вовсе не отец, а дядя Феликс и, по правде говоря, никакой не дядя, а лучший друг отца. Держа ее за плечи, он повторял:
— Не плачь, Магда, не плачь.
Мать не сводила глаз с этой бумажки в руке.
— Мама, что случилось?
Прежде чем та успела ответить, раздался громовой стук в дверь, и, не дожидаясь ответа, в комнату ворвались четверо усатых милиционеров. Сразу стало тесно.
— Где находится Адам Вода?
— Здесь его нет.
— А где он?
— Поехал к родственникам в Варшаву.
— Проверим. А вам придется пройти с нами.
— Что вам от меня нужно? — Магда, отпрянув, ухватилась за руку дочери.
Люба почувствовала в своей ладони свернутую во много раз бумажку.
— Пройдемте!
Магда оглянулась на дочь. Люба дрожала.
— Пожалуйста, разрешите… я отведу ребенка к сестре.
Один из милиционеров грубо дернул ее за руку и толкнул в дверь. Другой своей огромной волосатой лапищей ухватил два апельсина со стола.
— Магда! — крикнул вдогонку Феликс. — Не волнуйся, я побуду с Любой.
Милицейская машина отъехала от дома. Мать так и не успела сказать Любе ни слова. Разжав кулачок, девочка поглядела на смятую бумажку.
— Это письмо от твоего отца, — объяснил Феликс. — Он дезертировал из армии и убежал из Польши. По его поручению кто-то принес сюда корзинку апельсинов и письмо.
Люба прочитала:
Я очень люблю тебя. Обещаю, скоро мы будем вместе.
Она тщетно пыталась понять, что происходит. Маму забрали в милицию. Папа уехал. И все это произошло так стремительно… Только несколько апельсинов осталось на столе в доказательство того, что это не тяжкий сон.
— Не горюй, Люба, — сказал Феликс. — Все образуется, вот увидишь. Я тебя одну не брошу.
Она улыбнулась ему, а он — ей. В зубах у него была зажата спичка. Девочка любила Феликса: он всегда смешил ее и придумывал разные игры.
Ночью она без конца ворочалась на своей кровати в кладовке за кухней. То есть, это раньше была кладовка, а теперь ее собственная комната — крошечная, зато своя, как у взрослой. После всего пережитого ей было холодно, одиноко, страшно.
Она спрыгнула на пол и прокралась в спальню. Феликс, постеливший себе на диване, тоже еще не спал. Увидев дрожащую от холода и страха девочку, в одной ночной рубашке, он откинул край одеяла. Она юркнула к нему.
— Ну, — сказал он, — ты почему это не спишь?
— Не знаю, не спится. Страшно. Можно, я тут побуду?
— Можно, — он улыбнулся и притянул ее к себе поближе.
— Дядя Феликс, — шепнула она. — Дядя Феликс, давай с тобой играть.
— Ну, давай, — сонно пробормотал он и пощекотал ее под мышкой, отчего Люба захихикала. — Теперь ты меня щекочи.
Люба тоже пощекотала его.
— Твоя очередь, — сказала она, переворачиваясь на спину.
Феликс поднял подол ее рубашки и начал медленно водить рукой по животу, спускаясь все ниже. Потом остановился. Люба пощекотала его живот. Он засмеялся:
— Ну, хватит!
— Ничего не хватит! Твоя очередь!
Феликс принялся осторожно поглаживать ее между ногами, и это было приятно. Рука его поползла выше. Ей понравилось это, хоть и не было щекотно.
— Теперь ты, — сказал Феликс, разводя ноги.
Люба повела рукой и наткнулась на что-то длинное и твердое.
— Ой, что это? — спросила она.
Феликс тяжело дышал.
— Большой палец, — ответил он.
Люба рассмеялась. Конечно, никакой это был не палец, но ей нравилось трогать это и чувствовать, как оно становится больше и тверже. Феликс взял ее руку в свою и стал водить у себя между ног вверх-вниз.
— А тебе не больно, дядя Феликс?
— Нет… нет… — выдохнул он.
«Палец» подергивался под ее рукой и делался все больше. Потом Феликс негромко застонал, и по руке у нее потекло что-то теплое. Феликс лежал неподвижно, а то, что она гладила, уменьшилось и стало мягким. Любу это поразило.
Феликс вытер ее пальцы о простыню, взял девочку на руки и перенес на кровать. Она сразу же заснула.
* * *
Магду через несколько дней выпустили, но милиция не потеряла надежду выведать у нее, где скрывается Адам. Этот год был ужасен: в любое время дня и ночи мог раздаться стук в дверь, а за ним следовали бесконечные допросы в отделении. Хорошо еще, Феликс никогда не отказывался посидеть с Любой, а та никогда не капризничала и не плакала.
Хотя заплакать было от чего — вокруг творилось что-то странное. Однажды, когда она с матерью шла по улице, к ним подошел сосед, секретарь местной ячейки компартии, и прошипел:
— Твой муж — изменник родины!
В другой раз какая-то женщина хлестнула ее ладонью по лицу:
— Не смей приставать к моему Яцеку!
Спустя год милиция оставила ее наконец в покое, но соседи — нет. Теперь в ход пошли самые невероятные сплетни. Магда и не пыталась опровергать их, а просто всегда следила, чтобы просторная блузка, скрадывавшая очертания ее точеного тела, была застегнута доверху, чтобы длинная юбка прятала стройные ноги, чтобы на лице не было никакой косметики, а волосы были собраны в незамысловатый пучок на затылке.
Тем не менее все соседки считали, что эта привлекательная и цветущая женщина, брошенная мужем-предателем, может разбить их семейное счастье. Магда никак не могла устроиться на работу, и если бы сестра не присылала кое-что из деревни, то им нечего было бы есть. Присылала она немного и нечасто — фруктов, овощей, иногда кусок мяса или тощего цыпленка. Дети изводили Любу, крича ей: «Твоего отца расстреляют!»
Наконец, пришло письмо от Адама. Он сидел в лагере беженцев в Турции, недалеко от Стамбула.
— Слава тебе, Господи, живой! — с радостным облегчением воскликнула Магда и прочла вслух:
Дорогие мои Магда и Люба!
Люблю вас обеих. Скоро уезжаю в Австралию. Постарайтесь как-нибудь выбраться отсюда. Мы обязательно будем вместе и заживем по-хорошему.
Всегда помнящий и любящий вас
Адам.Она стала тормошить дочку:
— Давай-ка пораскинем мозгами, Люба. Нам, прежде всего, нужны деньги — американские доллары. Надо перебраться в большой город, вроде Гданьска или Кракова, там есть работа, туда приезжают иностранцы с деньгами. И уехать за границу оттуда легче.
Она выбрала Краков и вскоре уехала туда, оставив Любу на попечение сестры в деревне. На прощание она купила ей зеленые замшевые туфельки и пообещала выписать ее к себе через месяц. Однако, когда пришло время уезжать, Люба села в поезд с тяжелым сердцем — в Бродках снова гастролировал цирк, притягивавший ее к себе, как магнит, а она уезжала из маленького городка, где прошли первые девять лет ее жизни. Она закрыла глаза, когда за окном вагона появились ярко раскрашенные цирковые фургоны. Ей так хотелось оказаться там, среди артистов, увидеться с Йозефом и его труппой… Поезд набирал ход, и скоро фургоны скрылись из вида.
* * *
Магда встречала ее на платформе краковского вокзала. Увидев дочку с дешевеньким фибровым чемоданчиком, куда поместились все ее пожитки, она бросилась к ней и крепко обняла.
— Любочка! Девочка моя! — Магда плакала от радости.
А Люба не плакала: она смотрела на высокие дома — такие высокие, что верхние этажи были скрыты в туманной дымке, непонятно было, как это они не рухнут. И сколько машин! Магда за руку вела ее по аллее. Начинало смеркаться, зажглись фонари, которых она в Бродках не видела.
Мать говорила без умолку и продолжала всхлипывать. Люба не понимала, с чего это она так расчувствовалась.
— Ты все молчишь — наверно, устала с дороги! Сейчас, сейчас придем, я тебя покормлю и спать положу…
Люба только сейчас заметила, как изменилась мать — губы и ресницы накрашены, вырез блузки открывает высокую грудь. Совсем другой стала она в этом Кракове.
— Какая ты красивая, — потрясенно сказала Люба.
— Ах, спасибо, доченька! И ты очень хорошо выглядишь, я так рада, что мы снова вместе! Что бы тебе хотелось съесть на ужин?
— Мне вообще есть не хочется.
— Ну тогда сразу ляжешь спать, а с утра пойдем гулять, я покажу тебе Краков.
Любе нравилось, что мать говорит с ней, скорее как с подругой. Пока они шли, Магда без конца здоровалась со встречными мужчинами, кому-то улыбалась, кому-то помахивала рукой. Видно, у нее тут много поклонников. Люба гордилась, что у нее такая привлекательная мама.
— Уже близко.
Они миновали высокие бетонные здания, стоявшие вперемежку со старинными домами в стиле барокко, и вышли на вымощенную булыжником площадь, закрытую для машин. Там теснились бесчисленные палатки и лотки, а посреди высилось здание причудливой архитектуры — это был знаменитый рынок, где покупал себе одежду еще Коперник. Люба испуганно прижалась к Магде при виде страшных каменных фигур на крыше.
— Не бойся, — засмеялась Магда, — они называются «химеры».
Любу ошеломил этот водопад новых ощущений: звучала разноязычная речь и музыка, звенела посуда в открытых кафе, пахло свежим кофе.
Наконец они подошли к обшарпанному трехэтажному дому, по лестнице с выщербленными каменными ступенями и ржавыми перилами поднялись наверх, в маленькую комнату. У одной стены стояла старомодная железная, кровать, к другой был придвинут топчан, а посредине Люба увидела комод, а на нем — плитку. Ванная и уборная находились в конце коридора. Магда поставила чемодан на пол.
— Вот на этом диванчике и будешь спать. Давай-ка разложим твои вещички, а то мне скоро уходить на работу.
— А где ты работаешь? — спросила Люба.
— Комнатка, конечно, маленькая, но ничего: в тесноте, да не в обиде, правда? — сказала Магда, не отвечая на ее вопрос.
— Иди, мама, а то опоздаешь. Я сама распакую чемодан.
Та посмотрела на нее:
— Справишься?
— Не беспокойся.
Слезы опять выступили у Магды на глазах, она крепко прижала к себе дочь.
— Ах, девочка моя, как хорошо, что ты со мной. Я так скучала по тебе.
— А я — по тебе.
— Скоро накопим денег, выберемся отсюда, найдем папу, и снова будем все вместе.
Любе что-то мешало разделить эту надежду.
— И будет чудесно, правда?
— Правда, мама.
Магда чмокнула ее в щеку.
— Вещи свои повесь вот сюда, а потом ложись, — и еще раз поцеловала.
Люба слышала, как по каменным ступеням, цокают, постепенно замирая, мамины каблучки. Потом огляделась. На комоде стояла фотография мужчины с девочкой на коленях — это отец снялся с нею, когда она была еще маленькой. Она присела на топчан, стараясь осмыслить все, что с ней случилось. Вечер был теплый, в открытое окно врывался, накатывая, как прибой, шум большого города.
Она разделась и подошла к треснутому зеркалу на комоде, посмотрела на себя. Прижала руки к груди, пощупала. Что-то уже есть! Но когда еще у нее будут такие полные и красивые груди, как у матери! Она надела ночную рубашку, легла в постель, стала прислушиваться к незнакомым звукам, вспоминать Йозефа. Интересно, а он ее вспоминает? Потом подумала о Феликсе, улыбнулась. Кто-то теперь играет с его «большим пальцем»? Наверно, нашел кого-нибудь. Ей не спалось, хотя она устала с дороги, и долго лежала с закрытыми глазами, чувствуя, как несутся, обгоняя друг друга, мысли в голове… Потом увидела, что летит по синему небу, и только успела испугаться, как крепкие руки Йозефа подхватили ее. Она прижалась к его широкой груди — с ним так надежно и уютно…
Ее разбудил тихий скрип двери. Шагов она не слышала. «Мама, я не сплю», — хотела сказать она и вдруг увидела в полуосвещенном дверном проеме не одну, а две фигуры. Она узнала Стаха, гида из туристического бюро, который разговаривал с Магдой на улице.
— Т-с-с, не разбуди ее, — услышала она шепот матери.
Люба видела, как они подошли к кровати, обнялись. Зашуршала одежда, раздался сдавленный шепот, но слов она разобрать не смогла. Потом мать тихо засмеялась. Люба лежала неподвижно, всматриваясь в полутьму. Они разделись, Магда села на край кровати, откинулась назад на локтях, а Стах опустился перед ней на колени, голова его скрылась между ее раздвинутых бедер. Как жалко, что в комнате темно!
Потом они легли. Люба прислушивалась к странным звукам, долетавшим с кровати, видела смутные очертания их переплетенных тел. Раздались приглушенные стоны, тяжелое дыхание… Потом все стихло.
Через некоторое время раздался негромкий храп. Когда Люба открыла глаза, комната была залита солнцем. Мать спала, и рядом с ней в постели никого не было. О ночном госте не было сказано ни слова.
* * *
Два дня они гуляли по Кракову, ели сахарную вату, пили ситро, пересмеивались друг с другом. Мать купила ей новую школьную форму — платьице с белым отложным воротничком, черный блестящий передник — и ранец. Каникулы скоро кончились: утром Люба вскочила, торопливо оделась, боясь опоздать в школу. Она надеялась, что там у нее появятся новые друзья. Магда заплела ей две тоненькие косички, завязала белые банты и попела в школу, стоявшую неподалеку от старого костела. В дверях, как часовой, стоял высокий молодой ксендз в длинной черной сутане. Тонкое узкое лицо его, по контрасту с густыми черными бровями, казалось особенно бледным.
Сама школа размещалась в недавно выстроенном доме и была раза в четыре больше школы в Бродках. По двору носились, хохоча, дети всех возрастов. Люба постепенно освоилась и вошла. Мать поцеловала ее на прощание и заторопилась по своим делам. Люба, предвкушая, как она будет играть с детьми, подходила все ближе. Внезапно, как из-под земли, перед нею выскочила рослая толстая девочка и, скривившись от омерзения, крикнула:
— А твоя мать — потаскуха!
* * *
Мужчины, которых приводила Магда, часто менялись. Люба редко спала во время этих посещений. Она испытывала смущение и какую-то странную радость одновременно. Но иногда мать вовсе не приходила ночевать, и тогда Люба, чтобы не было скучно и тревожно, принималась рисовать на первом попавшемся клочке бумаги. И постепенно каракули сменились искусно нарисованными каруселями и сказочными конями со звездами вместо глаз и полумесяцем во лбу.
Просыпаясь утром, она заставала мать еще спящей, быстро одевалась и бежала в школу, которую ненавидела. История нагоняла на нее смертную тоску — какое ей было дело до Марии Склодовской-Кюри, открывшей свойства радиоактивности, или до Юрия Гагарина, который первым побывал в космосе? А к чему ей учить русский язык с его непонятным алфавитом, если она умеет говорить и писать по-польски? Люба томилась, скучала, и чувствовала себя страшно одинокой. Только раз одноклассница пригласила ее в гости — один-единственный раз. Родители других детей не желали, чтобы они водились с дочерью проститутки и изменника.
Иногда по утрам, чтобы не видеть опостылевшей школы, она шла в церковь, спокойно сидела на задней скамье, вдыхала густой запах ладана и строила фантастические планы побега к Йозефу и друзьям-циркачам. И все же каждое утро она заставляла себя тащиться знакомой дорогой в школу.
* * *
Часы на колокольне пробили семь. Школьный двор, залитый мягким утренним светом, был пуст и казался заброшенным. Гулко раскатился последний удар курантов. До начала уроков еще целый час. Люба вошла в открытые двери костела. Перед алтарем стоял на коленях молодой ксендз. Люба уселась на заднюю скамейку, тоже попробовала молиться. Неожиданно слезы хлынули у нее из глаз.
Потом она ощутила чью-то твердую руку у себя на плече.
— Что с тобой, дитя мое? — прозвучал ласковый голос.
Ответить Люба не могла. Она встала и направилась к выходу.
— Ступай за мной, — сказал ксендз. Обняв ее за плечи, он повел ее к алтарю, там остановился, простерся на полу, потом поднялся, ввел ее в ризницу и закрыл за собой дверь. В маленькой комнатке не было ничего, кроме стола, двух стульев и множества книг. Ксендз усадил Любу и сел напротив.
— Господь поможет тебе, — кротко произнес он.
Люба, сотрясаясь от неистовых рыданий, излила ему душу.
— Я хочу убежать отсюда!.. Мне здесь все ненавистно! Я хочу поступить в цирк, хочу быть с Йозефом!
Ксендз слушал ее не перебивая. Люба опустилась на пол, прижалась лбом к его коленям. Он гладил ее по голове, и от этих прикосновений она чувствовала себя под защитой и в безопасности.
— На все воля Божья, дитя мое, — голос его обладал магическим воздействием — сами собой высохли слезы, исчезли горечь и обида.
Он продолжал гладить ее голову, лежащую у него на бедре. Люба успокоилась и испытывала к нему чувство благодарности.
Внезапно она ощутила щекой что-то твердое и улыбнулась, вспомнив дядю Феликса. Вот как можно отплатить ксендзу за его доброту. Она стала медленно двигать головой из стороны в сторону. С губ молодого священника сорвался слабый стон.
Он резко поднялся. Лицо его пылало.
— Ступай с Богом, — проговорил он, осенив ее крестным знамением.
Она ничего не понимала — почему он ни с того, ни с сего прогоняет ее? — но покорно вышла из костела и направилась в школу. На следующее утро, когда куранты пробили семь раз, она уже была в церкви. Но там было пусто. В высоких и узких окнах плясали в солнечных лучах пылинки. Люба присела на скамью, намереваясь дождаться ксендза. Ей хотелось с ним поговорить — ведь он так помог ей вчера… Она ждала до тех пор, пока не прозвонил школьный звонок, но ксендз так и не появился. Она выбежала из костела и чуть было не опоздала на урок, вбежав в класс в последнюю минуту.
Наутро она снова пришла в костел пораньше и застала ксендза, но он был так поглощен молитвой у алтаря, что не заметил ее. Люба подошла поближе. Священник вскочил, перекрестился и скрылся в ризнице.
Люба была растеряна: разве она что-то делает не так? Ей казалось, что глаза распятого Христа устремлены прямо на нее. Глубоко вздохнув, она подошла к двери ризницы, поскреблась в нее, тихо позвала. Никто не отозвался. Она постучала, зная, что он там. Тишина. Она повернула ручку — дверь была заперта.
Итак, ее снова отвергли. Но больше плакать она не станет.
* * *
Магде очень не нравилось, что Люба столько времени предоставлена самой себе, но и водить клиентов домой ей не хотелось. Однако делать было нечего: она была на заметке у властей как жена изменника родины, а потому ни на одном государственном предприятии ее не брали на работу. В немногих частных ресторанчиках и кафе работали, как правило, родственники и друзья владельцев. На жизнь можно было заработать одним-единственным способом. Конкуренция была высока: многие женщины продавали себя за иностранные вещи или за доллары.
Люба, лишенная друзей и подружек, томилась, скучала и, наконец, упросила Магду взять ее с собой на рынок. Там было весело: гремела музыка, было людно и шумно.
Магда поначалу пыталась оберегать ее от мужчин, норовивших ущипнуть или обнять Любу, но вскоре поняла, что именно близость юной свежей плоти разжигает их и заставляет раскошеливаться. Любу не пугало, когда ее тискали или прижимали, наоборот, мужское внимание ей льстило. Магда поняла, что «быть близ сажи и не замараться» двенадцатилетняя Люба не сможет. Удерживать ее от непоправимого шага становилось все трудней.
* * *
Когда туристский автобус Стаха въезжал в город, Магда всегда радовалась. Его клиенты платили долларами, и это значило, что не надо торчать где-нибудь на углу, боязливо оглядываясь, не идет ли милиционер. На этот раз группа должна была пробыть в городе десять дней — будет вкусная еда, кое-что из одежды, да и спать со Стахом приятней, чем с первым встречным.
Сразу по приезде он повел Магду и Любу в лучший краковский ресторан «Морской конек», что недалеко от рынка. Люба была поражена — она еще такого не видывала. Потолок был затянут рыболовными сетями и украшен разноцветными и яркими морскими звездами, стены покрыты толстым слоем известки. У входа помещался небольшой бар со стойкой красного дерева, покрытой вычурной резьбой. Над ним висели часы со знаками зодиака. Столы были застелены белоснежными скатертями. Человек в цыганском костюме сидел в углу и пел, подыгрывая себе на мандолине.
Им подавали огромные порции свежевыловленного карпа, и Люба впервые в жизни узнала вкус водки.
— Это самая лучшая водка, — сказал Стах. — «Выборова». Попробуешь — не оторвешься, — и засмеялся, глядя на ее ошеломленное лицо: огненная влага обожгла ей горло.
На следующий день они ушли в ресторан уже без Любы, но перед уходом Стах преподнес ей подарок — настоящие американские джинсы. Люба завизжала от восторга. Стах обнял ее и уложил в кровать вместе с джинсами, которые она не выпускала из рук.
Уснуть она не могла. Надо же было примерить обновку! Джинсы оказались великоваты, но все равно — сидели великолепно. Люба долго вертелась перед зеркалом, восхищаясь ярким ковбоем на заднем кармане. Как жаль, что никто ее не видит! Она легла в постель. А Магда со Стахом сейчас, наверно, веселятся. Она испытывала что-то похожее на ревность. С ним хорошо… Она ворочалась, не в силах уснуть, и в голове ее зрел план. Так прошло несколько часов.
Наконец, в передней раздались шаги и голос Магды: «Потише — она уже спит, ей завтра в школу». Стах ответил: «Симпатичная девчонка растет», — и Любе это было приятно.
Потом они легли. Люба слышала звуки поцелуев. Соскочив со своего топчана, она прошлепала по полу и прыгнула к ним в кровать.
— Мама, я замерзла!
— Что ты выдумала? — воскликнула Магда, поспешно натягивая одеяло на себя и на Стаха.
— Я хочу быть с вами!
— Еще чего! Марш в постель!
— Стах, — умоляюще протянула она, прильнув к нему. — Я хочу с вами… Скажи ей, чтоб не прогоняла меня…
— Ладно, Магда, пусть остается. Поместимся.
Магда поняла, что проиграла.
* * *
Вторая зима в Кракове выдалась снежная и холодная: сугробы намело по колено, дул северный ветер, пронизывая до костей. Туристов не было. Стах не появлялся. Магда стояла в длинных очередях за хлебом и за мясом и часто бывало, что напрасно — на ее долю ничего не оставалось. Более или менее нормальные продукты можно было достать только с черного хода и только за доллары, франки или марки, а никак не за польские злотые. Однако Магда не решалась тратить валюту, которую копила и прятала между пружинами кровати. Доллары были нужны для бегства из Польши, для осуществления давней мечты — уехать за границу, разыскать там Адама. Она не теряла надежды на то, что это обязательно получится и они снова будут все вместе.
Чтобы раздобыть денег, она решилась продать кое-что на черном рынке, но одна из торговок-конкуренток заявила на нее в милицию. Магду задержали, и всю ночь она провела в камере.
Вернувшись утром домой без тех нескольких пар чулок, которые она намеревалась продать, без денег, которые отобрали в милиции, она нашла перепуганную и голодную дочку. Кроме картошки, выпрошенной у зеленщика в долг, в доме ничего не было.
Мать и дочь, ни слова не говоря, сварили и съели ее, а потом легли в постель, чтобы согреться.
— Мама, мне холодно, — сказала Люба.
— Ну иди сюда, — ответила Магда, давая ей место рядом.
Люба прижалась к ее теплому телу, и ей казалось, что она чувствует себя сейчас маленькой девочкой, хотя у них с матерью давно уже не было женских тайн друг от друга и жили они, скорее, как подруги. За окном, покрытым наледью, выл ветер.
— Ничего, скоро весна, — нарушила молчание Люба.
— Скорей бы… — вздохнула Магда.
— Стах приедет… Да?
— Надеюсь.
— Он мне нравится. И тебе тоже, да?
Магда не отвечала.
— Ты думала, я сплю, а я не спала и все видела. Много раз.
— Люба!
— Ну что «Люба»? Люба знает, что ты всем предпочитаешь его.
— Люба, я не собираюсь с тобой обсуждать это. Хватит того, что я должна заниматься этим, чтобы не сдохнуть с голоду.
— Не самый плохой способ заработать деньги. Даже приятно. Помнишь ту ночь, когда мы спали втроем, а?
— Люба, да что ты несешь?
— Не придуривайся, мама, — хихикнула она. — Тебе же самой было приятно…
— Прекрати… — слабым голосом сказала Магда.
— Ты была так… возбуждена тогда. И я тоже.
Когда Люба проснулась, Магда варила на плитке кофе. Она подала ей чашку и присела на кровать. Люба заметила, что глаза у нее заплаканные.
— Что же мне с тобой делать? Отослать назад в Бродки?
Губы ее дочери скривились в усмешке.
— Перестань, Магда.
Она впервые так обратилась к ней и больше никогда не называла ее мамой.
* * *
Они пили кофе, задумавшись каждая о своем, когда в дверь постучали. Пришел почтальон. Магда надорвала конверт, надписанный рукой Феликса, и достала второе письмо.
— Это от Адама!
Магда торопливо пробежала его глазами, налила себе еще чашку кофе. Лицо ее сияло. Люба ждала.
— Адам живет теперь в Брисбейне, это Австралия. Становится на ноги. Он зовет нас к себе. Когда мы выберемся отсюда, вышлет денег на дорогу.
Люба нисколько не обрадовалась весточке от отца: так давно о нем не было ни слуху, ни духу, что она успела позабыть, что у нее есть отец. Опоздал он со своим письмом.
— Ну, вот теперь пора. Я только этого и ждала, — Магда помахала письмом. — Переберемся за кордон, — и она стала, захлебываясь, рассказывать о человеке, который сумеет переправить их за границу. Потом откинула простыни и матрас, достала с пружинной сетки завернутые в старую газету доллары, пересчитала их. — Тут хватит. Чтобы выбраться из Польши, хватит.
Люба, прихлебывая кофе, невозмутимо глядела на нее.
Магда торопливо оделась и выбежала на улицу. Вернулась через час, еще более оживленная.
— Я нашла его! Он нас переведет через границу!
— Через какую границу? Русскую? Восточногерманскую? Чехословацкую? Или, может, мы двинем прямо в Швецию, по Балтийскому морю, аки посуху?
— Нечего острить! Он раздобудет нам липовые паспорта и визы.
— С чего это ему рисковать?
— С того, что я ему заплатила. Он уже многих переправил на Запад.
— Ты уже заплатила?
— Пока половину. Да ну тебя с твоими подозрениями! Помоги-ка мне лучше собраться. Мы встречаемся с ним в пять.
Люба нехотя подчинилась. Они связали вещи в два узла и вышли из дома на продуваемую студеным ветром улицу. В кафе, где Магда договорилась встретиться с контрабандистом, сидел, потягивая коньяк, угрюмого вида субъект.
— Вторую половину принесла? — буркнул он.
Магда молча протянула ему деньги. В ту же минуту у столика выросли два усатых милиционера. Путешествие кончилось, не успев начаться.
* * *
Зацвели вишни. В Краков пришла весна, а с нею вместе и бродячая цирковая труппа. Люба, заслышав знакомую музыку, обмерла, а потом со всех ног кинулась туда, откуда она доносилась, — на берег Вислы. Но оказалось, что это не семья Йозефа, а совсем другая труппа — клоуны, жонглеры, акробаты. Вот канатоходцев среди них не было. Поначалу Люба была разочарована, потом она встретила Валентина.
Чем-то он напоминал ей Йозефа, только был гораздо моложе — ему шел двадцать второй год. Валентин заведовал каруселью. Когда Люба впервые увидела его, он, бесшабашно сбив кепку на белобрысый затылок, стоял, прислонившись к столбу на крутящейся карусели. Люба горько пожалела тогда, что не успела расплести косички и накрасить ресницы материнской тушью. Впрочем, он и так заметил ее — Люба была в этом уверена. Она превратилась в настоящую маленькую женщину: блузка обтягивала упругие небольшие груди, черные глаза, видевшие так много, спокойно и задумчиво смотрели куда-то вдаль. Она ловила его взгляд, но парень снова и снова проносился мимо.
Денег на билет у нее не было. Какие-то девчонки садились на лошадок, пяля глаза на Валентина и пересмеиваясь, а она так и стояла в стороне, слушая задорную польку, которая вроде бы хотела казаться веселой, но взвизгивание медных тарелок пророчило беду и грядущие печали. И пророчество сбылось.
Однажды Валентин спрыгнул с карусели и подошел к Любе, заложив руки за спину. Поглядел ей в лицо, подмигнул. Сердце у нее заколотилось. Раньше с ней такого никогда не бывало. Валентин помахал ладонью у нее перед глазами.
— Бесплатно, — сказал он, — за счет фирмы.
Он бесцеремонно и крепко взял ее за талию, легко поднял и посадил на спину ближайшей лошадки.
— Дай ей шпоры, — услышала она его напутствие и унеслась прочь на лошадке, которая то поднималась, то опускалась под ней.
* * *
Теперь, если она была нужна Магде, та знала, где ее искать — на карусели. Работать матери становилось все трудней — с каждым годом все больше девиц выходило на панель, — и она поняла, что без помощи Любы им никогда не скопить денег на побег из Польши. Однако Люба каждый день клятвенно обещала встретиться с нею на рынке и каждый вечер оказывалась на карусели — длинные волосы летят по ветру, глаза неотрывно устремлены на Валентина. Иногда он вдруг исчезал куда-то, и тогда Люба начинала пересчитывать девчонок, крутившихся у карусели, — так она узнавала, с кем именно из них уединялся Валентин в своей маленькой комнатке у реки. Она терпеливо дожидалась его возвращения, и видно было, что он рад ее видеть. Но когда же наступит ее черед?
И вот этот день пришел.
— Пошли, — бросил ей Валентин, и она покорно заторопилась следом за ним.
Неизбежное должно было случиться. Она знала, что надо только ждать — и в конце концов она окажется в его комнатке, в его объятиях. И вот — дождалась.
Ей нелегко было угнаться за долговязым, широко шагавшим парнем. Он, к ее удивлению, направлялся к Вавелю — замку польских королей.
— Куда это мы? — решилась спросить она.
— Не бойся, — ответил он и только прибавил шаг.
Поднялись по каменным ступеням у памятника Костюшко, потом прошли вдоль крепостной стены, выстроенной королем Казимиром Великим. Из бойниц, грозя недругам Польши, торчали стволы пушек. Перед ними открывался тот же самый вид, что тешил когда-то взор короля — поблескивали воды Вислы, иглами вонзались в ясное небо черные шпили соборов. Люба пыталась отыскать карусель, но та была скрыта за рощей, лишь приглушенная расстоянием музыка долетала сюда.
Украдкой она рассматривала Валентина — широкоплечего, чуть скуластого, с вечной ухмылочкой на губах. Скрестив на груди руки, он стоял о чем-то задумавшись, разглядывая раскинувшуюся перед ним панораму. Люба наконец не выдержала:
— Красиво, правда?
— Я прихожу сюда время от времени, чтобы…
— Отдохнуть от своих девчонок? — перебила она его.
— Да, это так, маленькие потаскушки… — засмеялся он.
Люба невольно насторожилась, услышав это слово. Знает ли он, чем занимается Магда? Что он вообще знает?
— Сюда я их не вожу. Мечтать мешают.
— И о чем же ты здесь мечтаешь? — набравшись смелости, спросила Люба.
— О Сан-Франциско.
— А где это?
— В Калифорнии. А Калифорния — в Америке. Я хочу туда сорваться.
— Почему именно туда?
— Песенка такая есть: «Открой мне свои золотые ворота…» — это про Сан-Франциско. Не слышала? — Люба качнула головой, а он продолжал:
— Я хочу выбраться из этого дерьма, из поганой коммунистической ямы! От возни, которую устраивает «Солидарность», от всех этих стачек только хуже становится, — он облокотился о парапет. — Я хочу войти в золотые ворота, — и громко, так что гулкое эхо понеслось по крепостной стене, снова запел. — Скоплю денег, сорвусь в Вену, а оттуда — в Сан-Франциско.
— До Вены тоже еще добраться надо, — заметила Люба.
— Мне поможет мой дружок, Збигнев, он работает на станции «Краков — Товарный», грузит поезда с экспортом, который мы отправляем в Вену и дальше.
Люба видела, как этот Збиг — приземистый коренастый парень лет восемнадцати — разговаривал с Валентином возле карусели. Он всегда притаскивал с собой то водку, то шоколад, то консервированную ветчину, а Валентин помогал ему сбывать все это на черном рынке.
Они прошли еще немного и оказались в небольшой тенистой рощице. Сердце Любы забилось еще сильней. Это произойдет здесь! Сейчас! Но Валентин взял ее за руку и повел обратно к карусели. Люба была вне себя от разочарования: он ее не хочет! Валентин что-то мычал себе под нос. Заходящее солнце вызолотило купол собора. Разочарование ее исчезло. Валентин не выпускал ее руку. Она стала напевать, вторя его мелодии.
На следующий день она еле-еле досидела до конца уроков. Три часа! Люба помчалась на реку. Обошла карусель кругом. Валентина не было. Расспрашивать его помощника она не решилась. Время шло. Она ждала. Наконец она увидела его и Збига — они были так увлечены разговором, что не заметили ее.
— Это наш единственный шанс, — говорил Збиг. — Охраны нет, войска послали в Гданьск, разгонять «Солидарность»… — он вдруг осекся.
Валентин резко обернулся к Любе — она никогда прежде не видела его таким взволнованным.
— Возьмите меня с собой, — сказала она.
— О чем ты?
— Я же понимаю: вы собрались бежать.
Оба уставились на нее.
— Ну, пожалуйста…
— Риск, — сказал Збиг.
— Мы рискнем.
— Кто это «мы»?
— Моя мать и я.
— Ты что, спятила?
— Женщина средних лет вызовет меньше подозрений… — она глядела на Валентина умоляюще. — Ну, пожалуйста, я хочу быть с тобой.
Валентин, не отвечая, отвел приятеля в сторонку. О чем они говорили, Люба не слышала, но судя по тому, как яростно мотал головой Збигнев, спор был ожесточенный. Наконец Валентин вернулся к ней. Куранты отзвонили пять.
— Ладно, через два часа встречаемся в «Рондо».
— Но вы без меня не уйдете?
— Опоздаешь — уйдем, — жестко ответил Валентин. — В семь часов отходит автобус до Нова-Гуты. И возьми с собой доллары, злотые ни к чему.
Люба понеслась домой, взлетела по лестнице. Магда наводила красоту перед треснувшим зеркалом комода. Люба торопливо выложила ей план.
— Это невозможно, ничего не выйдет, — сказала мать.
— Выйдет! Они все продумали!
— Это очень опасно. Если попадусь — меньше пяти мне на этот раз не дадут. А тебя определят в детский дом.
Люба лихорадочно увязывала свои вещи. Магда вырвала у нее из рук узел.
— Прекрати!
— Другого такого случая больше не будет. Надо успеть на семичасовой рейсовый автобус.
— Люба, пойми, мы не можем так рисковать!
— Ты не можешь — я одна рискну! Решай!
— И зачем только я привезла тебя в Краков, — вздохнула Магда.
Люба, метнув на нее колючий взгляд, выскочила за дверь. Магда облокотилась на комод, прижалась лбом к зеркалу. Неужели дочь уедет одна, бросив ее? По щекам, смывая румяна и пудру, потекли слезы. До отхода автобуса оставался час.
Она взяла себя в руки, торопливо накрасилась заново и пошла к рынку. Там, углядев одинокого туриста, что-то зашептала ему на ухо. Он кивнул, и они свернули в проулок. Деньги нужны.
…Некоторое время спустя она нервно прохаживалась по автовокзалу, заполненному людьми. Уже объявили посадку, а Любы все не было. В панике она купила билет до Нова-Гуты, вскочила в автобус, и он сейчас же тронулся. Магда протискивалась в хвост — и с облегчением перевела дух, когда на заднем сиденье она увидела дочь. Напротив, притворяясь спящими, устроились Валентин и Збигнев. Магда села рядом с дочерью, та сделала вид, что не замечает ее. В растерянности Магда хотела было окликнуть ее, но перехватила ее взгляд, устремленный на милиционера. Но тот просто сел. Люба стиснула руку Магды.
Не прошло и часа, как они добрались до Нова-Гуты. Пробираясь к выходу, услышали какие-то крики, но слов разобрать не могли. Когда вышли из автобуса вслед за остальными пассажирами, поняли, в чем было дело. На площади шла манифестация металлургов в поддержку гданьских забастовщиков. Отряд милиции в шлемах, со щитами и дубинками окружал демонстрантов.
— Это нам на руку, — шепнул Збиг. — Давайте за мной!
Обходя площадь, Люба увидела на высоком постаменте гигантскую фигуру Ленина из черного гранита. Глядел он гневно, словно знал, что они задумали. Люба поежилась. Валентин обхватил ее за плечи и весело фыркнул:
— Прощай, товарищ, больше не свидимся.
Когда подошли к товарной, гудки маневренных тепловозов, лязг колес и буферов заглушили крики демонстрантов. Збигнев вывел всех на какую-то поросшую травой прогалину.
— Деньги достаньте, — сказал он.
Они извлекли свое богатство — доллары, которые должны были обеспечить им свободу. Збиг исчез в темноте.
— А ему можно доверять? — спросила Магда.
— Скоро узнаем, — пожал плечами Валентин.
Они стояли неподвижно, завороженные безостановочным движением стальных поездов вокруг. Вынырнул Збиг и показал им на железнодорожника с фонарем, который шел вдоль товарных вагонов, потом остановился, откатил дверь одного из них и помахал им фонарем:
— Сюда.
Они влезли, и Збиг, забравшийся последним, задвинул дверь. В вагоне было темно, они пристроились на каких-то коробках или ящиках и снова замерли в тревожном ожидании.
— А если… — начала Люба.
— Ш-ш, молчи, пока не тронулись, — оборвал ее Збиг.
В эту минуту дверь снаружи затряслась и громыхнула. Магда и Люба, вцепившись друг в друга, замерли от страха. Но все стихло.
— Запломбировали… — успокоил их Збиг.
— Зачем? — встревожилась Люба.
— Все вагоны на границе проверяют. Если пломба повреждена — отцепляют и досматривают.
— Но как же мы-то выберемся отсюда?!
— Это уж мое дело, не волнуйтесь, мамаша.
От сильного рывка они повалились друг на друга. Поезд тронулся и поехал, набирая скорость. Валентин включил свой фонарик:
— Ну-ка, посмотрим, что у нас в попутчиках… О-о, повезло! Лучшая в мире консервированная ветчина. Сейчас устроим пир на весь мир, — он вынул из ящика банку, вскрыл ее перочинным ножом и стал нарезать ветчину.
— Теперь я знаю, куда девается ветчина, — сказала Люба. — Она тоже выбирает свободу.
Все засмеялись. Збиг достал из кармана бутылку водки, отвинтил пробку и, прежде чем отхлебнуть, провозгласил:
— За Вену! За наш новый дом!
— За Сан-Франциско! — сказал Валентин, прикладываясь к горлышку. Он сделал глоток и передал бутылку Магде.
— За Австралию! — она явно приободрилась и повеселела.
Люба, поднеся бутылку к губам, тихо произнесла, взглянув на Валентина:
— За Австралию!
Выпив бутылку, они громко, заглушая стук колес, спели «Многая лета» в честь своего избавителя Збигнева.
— А далеко до австрийской границы? — спросила Люба.
— Часов десять. Долго еще — можешь поспать, — Збигнев улегся на картонные ящики и положил голову на свернутый пиджак.
Люба скользнула к дверям — туда, где устроился Валентин. Он пододвинулся, давая ей место, и они лежали теперь щека к щеке.
Магда, сидя одна в углу, видела их сплетенные в тела и погрузилась в свои невеселые мысли. Теперь она понимала, почему дочь так ни разу не вышла с него вместе на промысел.
— Ты не жалеешь? — шепнул Валентин.
— Нет, — просто ответила Люба.
— И не боишься?
Люба протянула руку и погладила его лицо.
— Я люблю тебя.
Никогда прежде она не произносила этих слов — только слышала, как в фильмах холеные женщины в прозрачных рубашках говорили их, обращаясь к элегантным мужчинам, не спеша потягивавшим коньяк. А она лежала на твердом полу товарного вагона, подрагивающем на стыках рельсов, среди ящиков с ветчиной. Вагон мотало из стороны в сторону, губы Валентина касались ее лба, бровей, век, носа… Но вот они нашли ее губы, и этот поцелуй был слаще, чем в любом кино.
* * *
Они проснулись от скрежета и лязга колес. Состав замедлял ход. В щели вагона проникал солнечный свет. Все вскочили.
— Тихо! — предупредил Збиг, когда снаружи раздались голоса. — Австро-венгерская граница.
Валентин приник ухом к двери, пытаясь разобрать слова.
— По-каковски говорят? — шепнул Збиг. — По-венгерски?
Валентин пожал плечами.
— По-немецки?
— Не разберу.
Поезд тронулся, и они вздохнули с облегчением. Збиг взглянул на часы.
— Еще два часа — и Вена.
— И что же мы будем делать? — спросила Люба.
— Откроем дверь и попросим политического убежища.
— А дадут?
— Дадут, они добрые. Поместят нас в лагерь для беженцев.
* * *
Прошло еще шесть часов. За стенами вагона по-прежнему было светло. Поезд, казалось, все набирал и набирал скорость. Когда же он остановится? Когда будет Вена? Куда они едут? Все посматривали на Збига, а он — на часы.
— Збиг, где мы? — не выдержала наконец Люба.
— Не знаю. Мы давно уже должны были прибыть в Вену. Может, поезд опаздывает? — Збиг впервые выглядел растерянным.
— Может, мы не в ту сторону едем? — поддела его Люба.
— Ну, тогда кричите хором «Здравствуй, Москва!», — пошутил Валентин.
— Перестань ты! — мрачно отозвался Збиг.
— Вы злитесь оттого, что есть хотите, — вмешалась Магда, стремясь разрядить обстановку. — Давайте-ка лучше вскроем еще баночку!
Люба завела глаза:
— Мне теперь до самой смерти не захочется ветчины!
Валентин снова прильнул к щели, пытаясь понять, где садится солнце.
— Вроде едем на юг.
— В Югославию? Не может этого быть.
— Надо бы открыть дверь и, пока не стемнело, определить, где мы находимся, — сдерживаясь, сказала Люба.
— Верно, — захохотал Валентин, — и если увидим снег, значит, в Сибири.
— Эту дверь черта с два откроешь, — сердито сказал Збигнев. — Да и опасно.
— Послушай, ты, — повернулась к нему Люба. — Затевать все это ты не боялся, деньги у нас брать — тоже, а теперь не даешь даже узнать, куда нас по твоей милости занесло.
— Ну а что, если мы еще не выехали из коммунистической зоны?! Пойми, нельзя срывать пломбу с вагона, а иначе дверь не открыть!
— Да не шуми! — успокаивающе сказал ему Валентин. — Никто тебя ни в чем не обвиняет. Ты свое дело сделал чисто. Но, думаю, Люба права.
— Чего?
— Да-да, она верно говорит. Мы слишком долго сидим тут взаперти. Сам знаешь — едем лишних шесть часов, а поезд знай себе пилит. Так что надо открыть дверь.
— Зря вы это затеяли.
— Давай-ка сориентируемся на местности, а дальше видно будет.
И, не дожидаясь ответа, он шагнул к дверям. Люба бросилась ему на помощь, и вдвоем они откатили дверь в сторону, сорвав пломбу. В вагон ударила струя свежего воздуха, разогнавшая духоту. Мимо пролетали зеленые луга — на них мирно паслись овцы и коровы. Они увидели дорожный указатель, но, что там было написано, не разобрали, маленький автомобильчик у переезда, мальчика-пастуха, помахавшего им.
— Мне тут нравится, — сказала Люба, — давайте сойдем.
— Жить надоело? — осведомился Валентин. — У него скорость под восемьдесят.
Они выглядывали из дверей, подставляя лица свежему ветру, и пытались понять, где находятся. Стало темнеть, впереди показались огни. Поезд замедлил ход.
— Ну! — крикнула Люба, — надо прыгать, а то опять разгонится!
— Рано еще! — крикнул Валентин. — Я скажу, когда можно будет. Приготовьтесь! Прыгайте по ходу поезда! Первый — я, за мной — Збиг, будем ловить женщин.
Он взялся за дверь, ободряюще подмигнул Любе, оттолкнулся и разжал пальцы. Люба видела, что он не упал, а побежал рядом с медленно идущим поездом. Збиг тоже устоял на ногах. Люба и Магда, прыгнув, оказались в высокой траве, совсем неподалеку от вертящихся колес. Когда во тьме исчезли огоньки хвостового вагона, они двинулись вверх по склону — туда, где слышался собачий лай.
— На Париж непохоже, но и русским духом не пахнет, — не очень-то весело сказал Валентин. — Постойте-ка тут, схожу на разведку.
— Ты поосторожней, смотри, — сказала Люба.
— Возьми, пригодится, — сказала, протягивая ему что-то, Магда. — Во всем мире собаки без ума от польской ветчины.
Они в тревоге принялись ждать его возвращения. Казалось, его не было целую вечность. Но вот он вынырнул из темноты на прогалину, подхватил Любу на руки:
— Аллилуйя! Мы в Италии!
— Да ну?
— Я заглянул в окно — они пили красное вино и ели горы спагетти. Ошибиться невозможно! — Он чмокнул Магду в щеку. — Вы попали в точку: собаки оценили ветчину и даже не гавкнули.
* * *
К полуночи они добрались до полицейского участка, где и попросили политического убежища. Оказалось, поезд завез их в Триест, почти на самой границе с Югославией. Для полицейских беглецы из соцстран были не в диковинку, их встретили довольно радушно и разрешили переночевать в двух пустующих камерах.
Люба улеглась на койку, повернулась лицом к решетке, разделявшей две камеры, и губы ее встретили губы Валентина. Поцелуй был долог: они забыли обо всем, что было вокруг.
Магда смотрела на нее с соседней койки, а потом со слезами на глазах прошептала:
— С днем рожденья, доченька.
Утром Любе исполнялось тринадцать лет, но она совсем об этом забыла.
* * *
Полицейские посадили их в автобус, а водитель растолковал, что везет их в лагерь для беженцев «Сан-Сабба» — во время войны там десятками уничтожали евреев и итальянских партизан, а теперь — это земля обетованная для тех, кто удрал от коммунистов.
В лагере их разделили. Люба долго еще видела светловолосую голову Валентина, возвышавшуюся над другими, пока его вели к каким-то дверям. Он несколько раз обернулся, пытаясь найти ее глазами.
Их завели в комнату, и итальянец, в жеваном мундире, приказал раздеваться и идти под душ. Сам он и не подумал выйти или хотя бы отвернуться, но никто не осмелился возражать: каждый боялся, что его отправят на родину. Вереница голых женщин потянулась по коридору в душевую. «Неужели Валентин тоже голый? — вдруг подумала Люба. — И женщины-надзирательницы смотрят на него?»
Когда они вымылись и снова оделись, их отвели на допрос к чиновнику иммиграционной службы, который спрашивал каждого: «Почему вы покинули свою страну? Есть ли судимости? Чем больны?» Неужели и Валентину задают такие же вопросы?
Любу и Магду поместили в маленькую комнатку на третьем этаже, окно которой выходило во двор, перегороженный на две части. В доме по ту сторону ограды поселили мужчин. Но Валентина она не увидела.
Ночью, лежа на топчане рядом с матерью, она думала: «Как странно, что нас держат там, где когда-то люди ждали смерти». А ей хотелось жить, хотелось ощутить прикосновения рук Валентина… Голос Магды отвлек ее от этих мыслей.
— Люба…
— А?
— Прости меня.
— За что?
— За все, за все. За то, что я была тебе плохой матерью…
— Перестань, Магда.
— Нет, не перестану… У тебя не было детства, это я отняла его у тебя… Но теперь все будет по-другому, вот увидишь… Мы заживем теперь по-новому, мы всегда будем вместе…
Вместе? Но она хочет быть вместе с Валентином, а вовсе не с Магдой. И ей, и Магде уже поздно играть в «дочки-матери». Она хочет стать женщиной и принадлежать Валентину. Люба соскочила с топчана, кинулась к маленькому, забранному решеткой окну, выглянула во двор и громко выкрикнула:
— Открой мне свои золотые ворота!
— Что с тобой? — Магда приподнялась и села в постели.
Голос Валентина эхом отозвался с другой стороны двора.
— Что такое? — повторила Магда.
— Так, ничего… просто песенка одна, — Люба снова растянулась на топчане, натянула одеяло до самых глаз, чтобы мать не видела ее счастливую улыбку.
* * *
Магда встретилась с представителями Красного Креста, и ей сказали, что их переезд в Австралию вполне реален, если Адам действительно проживает в Брисбейне. Нужно только его заявление, в котором он гарантирует оплатить их проезд. Магду это окрылило — ждать теперь осталось недолго. А Люба часами простаивала у ограды, высматривая Валентина.
Через неделю им велели собрать вещи и пройти в канцелярию. Там уже стояло человек шестьдесят беженцев, и среди них Валентин, улыбнувшийся Любе с другого конца комнаты. Каждую ночь она молилась: «Господи, дай мне увидеться с ним», — и теперь она готова была поверить в Бога.
Их вывели к двум автобусам. Люба надеялась, что их с Валентином посадят вместе, но времени помолиться уже не было. Чиновник, делавший перекличку, без объяснений отправил Валентина и Збига во второй автобус. Прошел слух, что всех переводят в другой лагерь, под Миланом. Но тогда они с ним все-таки будут вместе.
Автобусы тронулись, Люба перегнулась назад, стараясь разглядеть Валентина. По длинной грязной проселочной дороге выбрались на шоссе. На перекрестке ее автобус свернул налево и поехал на юг. Автобус, в котором сидел Валентин, — в противоположную сторону.
На север! Неужели назад, в Польшу? Автобусы быстро набирали скорость, расстояние между ними увеличивалось. Люба смотрела назад.
Что же с ним будет? Его посадят в тюрьму? Он вернется на карусель? Увидит ли он золотые ворота Сан-Франциско? Люба снова обернулась — второй автобус уже скрылся из вида за скатом холма.
Она съежилась на сидении, голова кружилась, сердце щемило, и голос, который она тщетно старалась заглушить, твердил ей: «Ты никогда больше его не увидишь».
Глава III
1945.
СИРАКУЗЫ, НЬЮ-ЙОРК.
Весь полет от Триеста до Сиракуз Дэнни был как во сне. Он судорожно вцепился в металлическое сиденье военного транспортного самолета, прижавшись к плечу Тайрона — того самого чернокожего морского пехотинца, который вывел его из ворот «Сан-Саббы». Огромный негр во всю глотку распевал песни, без умолку балагурил, радуясь возвращению домой, но Дэнни не очень понимал значение этого слова. Понимал он одно — им с Тайроном предстоит разлука.
Они не расставались с того дня, когда Тайрон нашел его в концлагере. Негр хотел сначала посадить его в огромный грузовик, увозивший уцелевших евреев, но мальчик повис у него на шее.
— Да не бойся, там тебе будет хорошо, — уговаривал его Тайрон.
Однако в памяти мальчика слишком четко запечатлелся другой грузовик — тот, на котором его со всей семьей увезли с фермы. В глазах у него застыл такой ужас, что Тайрон прекратил уговоры, взвалил мальчика на плечо, прыгнул в свой пятнистый камуфлированный «джип» и поехал в маленькую гостиницу, где разместился его десантный взвод.
Командовавший лейтенант делал вид, что не замечает затесавшегося среди его чернокожих парней белого «зайца». Дэнни стал всеобщим любимцем. Десантники, поражаясь его невероятному аппетиту, с хохотом накладывали ему в тарелку огромные порции копченой говядины из своих пайков и учили его английскому языку, а, вернее, — американскому солдатскому жаргону, густо приправленному бранью. Потом отряду было приказано возвращаться на базу, в Сиракузы. «Не горюй, Дэнни, берем тебя с собой», — заявил Тайрон, но когда взревели двигатели транспортного самолета, мальчик затрясся как овечий хвост. Куда он летит? Что с ним будет?
Наконец приземлились. Солдаты свистом и гиканьем выразили свой восторг от встречи с отчизной. Тайрон на руках снес Дэнни по трапу к черному длинному автомобилю, на борту которого было написано «Детский приют Св. Иоанна». Внутри Дэнни заметил какую-то черную пирамиду и, лишь когда женский голос сказал «Я сестра Мария-Тереза», разглядел толстое бледное лицо: несколько двойных подбородков «стекали» на гофрированный белый воротник.
— Она за тобой присмотрит. Держись, старина! — Тайрон стиснул мальчика в объятиях и побежал догонять взвод.
* * *
Детский приют Св. Иоанна размещался в бывшем пакгаузе, и как ни старались монахини придать ему хоть немного уюта, как ни развешивали они по стенам цветные литографии святых и мучеников, но толку было мало. Пакгауз стал отчим домом для ста двадцати мальчиков в возрасте от шести до десяти лет. Многие попали в сиротские дома еще в младенчестве, а когда подросли, их определили в это заведение.
Дэнни отвели в унылую белую комнату, где вдоль стен стояло шесть коек. Узкие окна были так высоко, что приходилось влезать на стул, чтобы выглянуть на улицу. Чем-то все это напомнило ему «Сан-Саббу» — не хватало только лагерного плаца.
Сестра Мария-Тереза объяснила, что он как самый старший обязан будет следить, чтобы в комнате было чисто, а все кровати — заправлены. В ответ Дэнни загнул одно из выражений, которые были у десантника Тайрона в большом ходу.
— Матерь Божья, — перекрестилась монахиня. — Чтоб я больше не слышала от тебя таких слов.
После этого он на все распоряжения только молча кивал.
Мать-директриса была к нему менее снисходительна и разозлилась всерьез, когда он сообщил ей, что цыган закону божьему не учили. Маленькие глазки за толстыми стеклами очков неприязненно оглядели его с ног до головы.
— Ничего, — сказала она. — Мы это дело поправим.
И Дэнни стали учить катехизису и священной истории, готовя к таинствам крещения и конфирмации. Он не сопротивлялся, но на уроках дремал, объясняя это тем, что плохо понимает по-английски, и добился своего — крещение решили на год отложить. А пока он стал ходить в школу по соседству.
Он чувствовал себя изгоем: в приюте дети сторонились его, за спиной передразнивая его странный выговор. Одноклассники оказались более жестоки и, когда он коверкал слова на уроках, насмехались над ним открыто.
Однако учительница английского, миссис Маргарет Деннисон, была на удивление терпелива и добра и одергивала тех, кто издевался над ним. Эта высокая, еще привлекательная женщина средних лет с изысканными манерами, всегда носившая кружевные воротнички и распространявшая вокруг аромат лаванды, в первый же день задержала его после уроков, вручила учебник, объяснила, как им пользоваться. И с ее помощью дела вскоре пошли на лад. Миссис Деннисон стала в Америке первым человеком, отнесшимся к нему по-человечески.
Вторым был шестилетний Рой, его сосед по койке, — худенький хрупкий темноглазый мальчик с жидкими рыжими волосами и густой россыпью веснушек вокруг носа. Он всегда улыбался, показывая передние широко расставленные зубы. Дэнни заметил, что другие помыкают им, заставляя мыть за них пол или посуду, а за это изредка позволяют ему поиграть с ними в бейсбол. Дэнни, хоть и не понимал правил, видел, что в команде от Роя, при всем его старании, очень мало толку.
Однажды в душевой, подстрекаемый другими мальчиками, Рой принялся смеяться над обрезанным членом Дэнни.
— Ну-ка, ну-ка, покажи, никогда такой пипки не видел!
Дэнни разозлился и оттолкнул Роя с такой силой, что тот отлетел к стене, поскользнулся на мокром кафеле и разбил себе нос. Дэнни совсем не собирался обижать его, но Рой был такой легкий, что отлетел, как пушинка. Все остальные поспешили убраться из душевой. Дэнни наклонился над Роем, скорчившимся на полу. Из носа у него хлестала кровь. Дэнни пытался остановить ее.
Сестра Мария-Тереза стояла на выходе, выдавая полотенца и проверяя, чисто ли вымыты уши. Когда появился заплаканный и окровавленный Рой, она в ужасе воскликнула:
— Что с тобой? Кто тебя так?
— Никто, сам упал, — пробурчал он в ответ.
Монахиня, заметив виноватый вид Дэнни, бросила на него угрожающий взгляд и продолжала допытываться:
— Тебя ударили? Толкнули?
— Никто меня не толкал, просто поскользнулся.
Вечером, когда погасили свет, Дэнни подошел к койке Роя.
— Спасибо, — сказал он.
— Научишь меня правильно подавать? — шепнул тот в ответ.
— Да я ж не знаю, как биту-то держать.
— Ну, тогда расскажи мне сказку.
— Рассказчик из меня никудышный, — ответил Дэнни и вспомнил, какую радость ему самому доставляло чтение сказок перед сном.
С того дня они стали неразлучны и даже за обедом садились рядом. Дэнни защищал мальчика от обидчиков. Рой отдал сушеную шкурку лягушки — главное свое сокровище — соседу Дэнни по койке, чтобы тот согласился уступить ему свое место. Теперь они не расставались и ночью. Дэнни раздобыл фонарик и, после того как сестра Мария-Тереза выключала свет, читал Рою сказки, впрочем, тот иногда засыпал, не дослушав.
Дэнни рылся в приютской библиотеке, отыскивая для нового друга книжки поинтересней. Однажды он наткнулся на роскошно изданный том сказок Андерсена и с волнением принялся перелистывать его. Когда же он нашел картинку, на которой был изображен злобный тролль с зеркалом, у Дэнни защипало глаза. Он зажмурился, захлопнул книжку и с такой силой задвинул ее на прежнее место, что она упала с полки.
* * *
Миссис Деннисон радовалась его успехам в школе. Однажды она сказала, чтобы он почаще ходил в кино — это поможет ему побыстрее освоиться в английском языке: привыкнуть к интонациям и начать думать на нем.
— Я, вообще, ни разу в жизни не был в кино, — смущенно признался он.
— Как? Ах ну да, я забыла, что ты всего полгода в Америке… Ничего, мы наверстаем. Киноутренник по субботам — одно из лучших воспоминаний моей жизни.
И когда наступила суббота, автобус доставил их в центр города. У Дэнни голова пошла кругом — он никогда еще не видел такого столпотворения. Обгоняя друг друга, куда-то спешили люди, ревели моторы проносящихся мимо автомобилей, завывали сирены и гудки, вспыхивали, чередуясь, красные, желтые, зеленые огни на перекрестках, разноцветные горящие буквы то зажигались и складывались в слова, предлагавшие приобрести прохладительные напитки, автомобили, пятновыводители, то гасли. На тротуарах вереницы лоточников протягивали им жареные орешки и какие-то витые твердые штучки из теста — миссис Деннисон назвала их крендельками, — а дети, несмотря на то, что стояла зима, лизали мороженое. Каждый куда-то спешил, у каждого было свое дело и занятие, никого не смущала эта бешеная оглушительная круговерть — они же ее и создавали.
Миссис Деннисон и Дэнни свернули за угол, и тут он увидел это. Ослепительно яркие синие буквы горели на уже темнеющем небе. «РИАЛЬТО», — прочел он. Они стали в длинную очередь, медленно продвигавшуюся к деревянной будочке в виде маленькой пагоды. Там продавали билеты. Потом вошли внутрь, и его ошеломили переплетающиеся красно-сине-зеленые струи, бившие из фонтана. Как это сделано? Потом поднялись по лестнице с массивными мраморными перилами. Околдованный, завороженный Дэнни не видел ни выщербленных ступеней, ни облупившейся штукатурки, ни облезлой ковровой дорожки. Все было волшебно в этом мире.
Они вошли на балкон. Перед ним и под ним разверзлась какая-то пещера, пышная и роскошная, как дворец. Толстые колонны, покрытые ажурной резьбой, подпирали синий свод потолка, на котором мерцали звезды. Разинув рот, ошеломленный и пытающийся хоть как-то освоиться в этом водопаде новых впечатлений Дэнни оказался в красном бархатном кресле. Из одного угла зала связка длинных золотых трубок, как-то соединенных вместе, вдруг издала глубокий и низкий звук, и он почувствовал, как по спине побежали мурашки. Он забыл и про миссис Деннисон, когда прямо напротив того места, где он сидел, вдруг медленно пошел кверху занавес. Музыка стала замирать, свет меркнуть. За занавесом обнаружился огромный белый экран. В зале было теперь совсем темно. Дэнни испугался. «Надеюсь, тебе понравится», — услышал он голос миссис Деннисон, но не в силах был вымолвить ни слова. Потом черноту прорезал пучок света, экран ожил и заполнился образами другого мира. Зазвучали трубы, по склону холма поскакали рыцари в доспехах, и впереди всех сам король — Генрих Пятый, осадивший коня у ворот своего замка. Так в жизнь Дэнни вошел Шекспир.
* * *
Это стало привычкой. Каждую субботу миссис Деннисон и Дэнни сидели бок о бок в полупустом зале кинотеатра, уставившись на прямоугольный экран, и по очереди доставали из кулечка кукурузные хлопья.
Дэнни не вставал со своего места, пока не исчезал последний титр, он испытывал ненависть к вспыхивавшему свету и гаснущему экрану. Он знал теперь о кино все — названия картин, фамилии режиссеров, кинозвезд, операторов и сценаристов. Все мальчики в приюте наизусть помнили, сколько мячей пропустил Джеки Робинсон в 1947-м году, но зато понятия не имели о том, что Роберт Колман получил «Оскара» за «Двойную жизнь». Всей душой полюбил он эти тени волшебного фонаря, оживающие на экране. Оцепенев, следил он за тем, как Гарольд Рассел в «Лучших днях нашей жизни» берет чашку кофе стальными крючьями, заменившими ему руки, и, когда фильм кончился, быстро вытер глаза, стыдясь своих слез. К его удивлению, плакали, не стесняясь, многие мужчины в зале.
Они вышли на улицу, и он заметил, что и миссис Деннисон тоже взволнована фильмом. Она сказала:
— Во всем мире люди плачут в кинозалах. Кино — форма искусства, не менее важная, чем литература, и, наверно, более мощная.
«Да, — подумал Дэнни, — я испытал эту мощь на себе».
Всю следующую неделю он занимался еще усердней, чем всегда, безропотно выполнял все, что ему поручали, предвкушая Фреда Астора в «Восточном параде». Но миссис Деннисон в эту субботу была занята.
Дэнни в отчаяньи и в полном одиночестве — Роя наконец включили в состав команды запасным игроком — расхаживал по комнате из угла в угол. Влезал на стул и через узкое окошко смотрел, как во дворе играют в бейсбол, а Рой со страдальческим выражением лица сидит на скамейке и держит в руках биту, размером с него самого. Видно, не только Дэнни был несчастен в этот день.
Он взглянул на стенные часы — половина двенадцатого. Всего через полчаса на экране «Риальто» появится Фред Астор. Он должен его увидеть! Надев кепку с эмблемой приюта — все воспитанники были обязаны носить ее, — он на цыпочках прокрался мимо директорского кабинета.
— Куда собрался, Дэнни? — догнал его уже у самых дверей голос Марии-Терезы.
— Меня ждет миссис Деннисон, — солгал он.
Она кивнула, и Дэнни на подгибающихся ногах выбрался на улицу.
Денег у него не было, но зато был план. В «Риальто» он сунул кепку в карман и пристроился в очередь за билетами за величественного вида женщиной. Когда она склонилась к окошечку кассы, скользнул мимо билетера, сказав «Билету мамы», и помчался наверх, на балкон. Там забился в угол и дрожал, пока не погасили свет. Но как только раздалась музыка, он забыл обо всем и с таким воодушевлением завертел головой в такт движениям Фреда Астора, что сидевшая рядом женщина толкнула его локтем.
На этот раз он не дождался финальных титров, а через боковые двери выбрался на улицу и заторопился в приют, пританцовывая, вертя ветку, заменявшую ему тросточку Астора, и напевая только что услышанную песенку.
Сестра Мария-Тереза по-прежнему несла караул у дверей.
— Спасибо, миссис Деннисон! — крикнул он, обернувшись на улицу, потом вежливо кивнул монахине и направился в свою комнату.
Он никому не рассказал об этой, проделке — ни миссис Деннисон, ни Рою.
* * *
Самым скверным днем было воскресенье. Их поднимали очень рано, в шесть утра, и вели на службу в соседнюю церковь.
Священник не хотел, чтобы они смешивались с другими прихожанами. После богослужения надо было готовиться к завтраку, на котором присутствовали возможные усыновители. Директриса обращалась к ним с речью: объясняла, какое богоугодное дело они совершат, если дадут несчастным сироткам дом и семью, и как щедро воздастся им за это на небесах. Потом они строем входили в столовую, становились в четыре шеренги на возвышении и пели гимны, пока будущие родители, пережевывая поджаренный хлеб и яичницу, с интересом рассматривали их как товар на прилавке. К концу завтрака по крайней мере одного из воспитанников забирала какая-нибудь бездетная чета.
Дэнни, как только попал в приют, постоянно слышал, что его-то никто не возьмет — слишком большой, и радовался этому. Он втянулся, привык и не желал никаких перемен. Перемены будут только к худшему. А вот Роя могли усыновить, и это его тревожило. Рой, как и все остальные, всматривался в сидевших в столовой людей отчаянно молящими глазами, надеялся, что этот волшебный день наконец наступит, и представлял себе своих будущих родителей. Отца и мать он не знал, и с младенчества кочевал по сиротским домам.
— Дэнни, а ты помнишь своих родителей? — спросил он однажды.
— Я не хочу об этом говорить, — оборвал его тот.
По воскресеньям, после этой тяжелой процедуры, Роя мучили кошмары, и он писался во сне. За это в приюте сурово наказывали: провинившегося оставляли без обеда, и, пока его товарищи дружно стучали ложками, он стоял в углу с плакатиком на груди, рассказывающим о его прегрешении. Дэнни уже несколько раз похищал из кладовой чистое белье и перестилал постель Роя, чтобы сестра Мария-Тереза не заметила происшествия. Грязные простыни прятали под матрас, а потом сдавали в прачечную вместе с остальным бельем.
Однажды Дэнни разбудил шепот Роя:
— Дэнни, опять…
— Ах, чтоб тебя… — Дэнни, еще не проснувшись толком, побрел в кладовую и обмер — ни одной чистой простыни! Он вернулся в спальню, снял простыню со своей кровати и постелил ее на кровать Роя.
— Тебе попадет… — заскулил тот.
— Спи давай, — буркнул Дэнни, ища на влажной простыне местечко посуше. — Я без обеда обойдусь как-нибудь, а тебя и так ветром шатает.
Уже засыпая, он услышал шепот Роя:
— Дэнни…
— Ну, что еще?
— А, может, нас обоих вместе усыновят?
— Может, может…
Всю жизнь он будет вспоминать, как стоял в углу столовой с плакатиком на груди «Я намочил свою постель».
* * *
По случаю окончания учебного года был устроен вечер. Дэнни должен был выступать с декламацией, — так хотела миссис Деннисон.
— Не волнуйся, ты теперь прекрасно говоришь по-английски. Я сяду в первом ряду и в случае чего подскажу. Смотри на меня.
Но подсказка не понадобилась: он не сбился ни разу, читая безо всякого акцента:
— О, если ты — спокоен, не растерян, Когда теряют головы вокруг, О, если ты в самом себе уверен, Когда в тебя не верит лучший друг…Раздались аплодисменты, и ему очень понравилось это. Ночью он рассказал о своих ощущениях Рою, который тоже уже знал стихи наизусть, потому что Дэнни несколько недель подряд учил их вслух.
И когда был устроен очередной «родительский завтрак», он заставил Роя прочесть их со сцены. Рой имел грандиозный успех — улыбалась и хлопала даже суровая директриса. Особенно громко аплодировала одна немолодая чета. Потом супруги подошли к директрисе и о чем-то говорили с нею. Дэнни, убиравший со стола тарелки, догадывался — о чем. Они решили усыновить его дружка.
Глядя на счастливое лицо Роя, он должен был скрывать свои чувства. Он должен был делать вид, что ему нравятся новые родители Роя — широкая улыбка не сходила с их упитанных розовых физиономий. По крайней мере, они хоть откормят тощего рыжего мальчишку… Он сказал ему, что поможет сложить вещички. Вещичек-то, в сущности, и не было, кроме железной коробки из-под сигар, где тот хранил свои сокровища, ему разрешили взять с собой только то, в чем он ходил. Новые родители ждали его внизу.
— Главное — не бойся, — напутствовал его Дэнни. — Больше писаться не будешь. У тебя теперь есть отец, мать, отличный дом, своя комната. Кошмары больше сниться не будут. Спать будешь как убитый.
— Да-а, а если все-таки?… — ныл Рой.
— Попроси почитать тебе перед сном сказку, — и скомандовал: — Пошли!
Он донес коробку до дверей вестибюля, где продолжали улыбаться новые родители. Когда они повели Роя к машине, тот вдруг вырвался, побежал обратно и кинулся Дэнни на шею. Хрупкое тельце мальчика содрогалось от рыданий.
— Дэнни… Дэнни… Я так люблю тебя… Я никогда тебя не забуду!
Машина уехала, увозя Роя, а Дэнни долго еще в каком-то оцепенении глядел ей вслед. И еще долго у него в горле был комок.
* * *
Теперь он больше, чем прежде, был благодарен судьбе за встречу с миссис Деннисон. Он рассказал ей, как ему не хватает маленького Роя, обретшего семью.
— Может быть, найдутся добрые люди, которые и тебя усыновят, — сказала она.
— Да нет, я — слишком взрослый. Мне уже пятнадцать.
В следующее воскресенье Дэнни пел в хоре и вдруг с удивлением заметил за одним из столиков миссис Деннисон рядом с каким-то высоким сухощавым мужчиной с длинными прядями полуседых волос, зачесанных поперек лысого черепа. Он решил, что это ее отец, но потом понял, что это ее муж, мистер Джон Деннисон, за которого она вышла десять лет назад, директор школы на пенсии. И для нее, и для него это был первый брак.
Когда «родительский завтрак» закончился, Дэнни позвали к директрисе. У нее в кабинете сидели Деннисоны, и по выражению их лиц он понял: сейчас что-то произойдет.
— Сядь, Дэниел, — сказала директриса, кивнув ему. — Хочу тебе кое-что сообщить.
Он медленно опустился на стул, вопросительно взглянул на миссис Деннисон.
— Дэниел, — произнесла та. — Бог не дал нам с Джоном детей… и мы хотим усыновить тебя.
— Да, мой мальчик, — слабым голосом подтвердил ее муж и слегка откашлялся.
— Вы хотите меня… усыновить? — Дэнни не верил своим ушам.
Миссис Деннисон склонилась к нему и поцеловала его в лоб.
* * *
Перед тем как покинуть приют, Дэнни попросил у сестры Марии-Терезы адрес Роя. Она покачала головой:
— Эти сведения мы никому не даем, Дэнни, ты же знаешь.
— Но ведь мы с ним так дружили!
— Дружили. Но в жизни приходится иногда забывать наши сиюминутные привязанности ради чего-то более важного. Ты должен помнить, Дэнни, что мы пришли в этот мир, чтобы любить Господа и служить ему.
Дэнни снова почувствовал, как спазмы сжимают горло. Он никогда больше не увидит Роя, никогда не сможет рассказать ему об отце, матери, Рахили, никогда не поделится своей тайной с единственным человеком, способным сохранить ее. Он несколько раз хотел сделать это — и останавливался. А теперь у него — новая жизнь, и он вступает в нее под новым именем. Теперь он — Дэниел Деннисон, сын Маргарет и Джона Деннисон. У него — своя комната на втором этаже их маленького домика, как две капли воды похожего на другие домики по обе стороны узкой, обсаженной деревьями улицы. Его кровать, в нише под скосом потолка, стоит у окна. В ящике он хранит свои реликвии — кольцо от парашюта, которое дал ему на прощание Тайрон, и бейсбольный мячик — подарок Роя.
В доме, где приятно пахло лавандовым мылом, во всем чувствовались викторианские вкусы миссис Деннисон — от ситцевого чехла на диване и абажуров с бахромой до салфеток с кружевными краями.
Мистер Деннисон несколько раз заводил речь о прошлом мальчика, о его корнях, но Дэнни отвечал кратко, что его разлучили с родными во время войны, и он попал в лагерь. Маргарет в таких случаях старалась перевести разговор на другое и никогда ни о чем его не расспрашивала, однако в минуты нежности называла его «мой цыганенок». Впрочем, минуты эти были редки: она обращалась к нему, как к взрослому — Дэниел.
Мистер Деннисон, которого Дэнни так и не смог никогда назвать «отец», часто прихварывал, и потому мальчик проводил много времени наедине с Маргарет. По утрам они вместе шли в школу, а вечером она, как и прежде, помогала ему с английским. По субботам ходили в кино.
Мистер Деннисон настаивал, чтобы Дэнни посещал воскресную службу. Они с женой принадлежали к евангелической церкви и, как потом узнал Дэнни, мать-директриса не сразу согласилась отдать своего воспитанника в некатолическую семью. Впрочем, проповеди пастора действовали на него так же усыпляюще, как и месса. Но здоровье мистера Деннисона ухудшалось, он все больше времени проводил дома, и воскресные службы отпали сами собой.
Интерес мальчика к кино не ослабевал: он уже ходил в библиотеку Сиракузского университета и читал книги по истории и теории кинематографа, а сидя перед экраном, обращал внимание на то, какими средствами достигается правдоподобие, как строится кадр, работают свет и звук.
Они посмотрели «Белый зной». Дэнни, подавшись вперед, вцепился в ручки кресла, завороженно глядя, как преследуемый полицией гангстер взбирается по лестнице на нефтяную цистерну. Вокруг бушует пламя. Гангстер кричит «Мама, погляди на меня — я на вершине мира», и тут цистерна взрывается. В этом месте Дэнни коротко всхлипнул. Маргарет погладила его руку.
По дороге домой она грустно сказала:
— Ты меня извини, зря я тебя повела смотреть такие ужасы…
— Но зато как замечательно она сделана! Все как настоящее, правда?
— Слишком настоящее — невозможно смотреть.
Дэнни промолчал, не сказав то, что ему хотелось сказать: «Я бы мечтал снять такую картину».
* * *
К его шестнадцатилетию был испечен шоколадный торт и извлечена бутылка шампанского. Мистер Деннисон, тяжело отдуваясь, сидел во главе стола в халате и не притронулся к вину, хотя и провозгласил тост «За здоровье нашего сына…» Внезапный спазм помешал ему продолжить. Маргарет дала ему таблетку. Сделав глоток вина, она протянула Дэнни маленький сверток в нарядной упаковке. Он развернул — там оказались ручные часы из нержавеющей стали на черном кожаном ремешке. От волнения он никак не мог застегнуть его у себя на запястье, так что миссис Деннисон пришлось помочь ему. У него никогда еще не было часов, и он растроганно поблагодарил своих новых родителей.
— Ну хорошо, довольно сильных ощущений на сегодня, — сказала миссис Деннисон. — Джек, тебе надо лечь в постель, — и она подала ему таблетку снотворного и стакан воды.
— Позволь, Маргарет, я же принял…
— Ах, Джек, какой ты стал забывчивый! — улыбаясь, она вложила таблетку ему в рот и поднесла к губам стакан.
Дэнни молча помог ей убрать со стола и перенести в кухню посуду.
— Ну а тебе, именинник, тоже пора спать, но не забудь сначала доделать уроки.
— Не забуду, Маргарет, — сказал он, зная, что ей нравится, когда он так ее называет.
Она прикоснулась губами к его щеке.
— Попозже я зайду проверить.
Приняв душ, Дэнни надел чистую пижаму, висевшую на спинке кровати, и открыл хрестоматию — ему нравилось перечитывать стихи, которые они проходили с миссис Деннисон в классе, а она часто просила продекламировать их. Его английский был теперь безупречен, никто бы не догадался, что это не родной ему язык.
Дверь бесшумно отворилась, и на пороге появилась она. Дэнни с удивлением увидел на ней не теплую ночную кофточку, в которой она обычно спала, а полупрозрачную, с глубоким вырезом на груди сорочку.
Она присела на край его кровати. Дэнни не мог отвести глаз от ее груди: под тонкой тканью явственно обрисовывались напряженные соски.
— С днем рожденья, Дэниел, — она наклонилась к нему. — Мы оба так рады, что ты с нами.
— Спасибо вам за часы, — с трудом проговорил Дэнни, загипнотизированный ее присутствием.
Она говорила как во сне, и словно не слышала его:
— Никогда не забуду тот день, когда ты читал Киплинга на вечере. Ты ни разу не взглянул на меня, ни разу не сбился, ты стоял на сцене — такой уверенный, высокий, красивый… и читал: «…Земля — твое, мой мальчик, достоянье, и более того, ты — человек…»
Она перебирала его кудрявые волосы, и у самой щеки он чувствовал ее грудь. Сердце колотилось, ладони стали влажными.
— Смотри, — она показала за окно, — какая луна… — свободной рукой она погасила лампу. — Так лучше, правда?
— Правда, — прошептал он.
Мурашки побежали по его телу, когда она прилегла рядом и прижалась к нему. На какой-то миг ему захотелось вскочить и убежать, но тут она прильнула к его рту, кончиком языка мягко раздвигая плотно сжатые губы. Его обдало жаром.
— Тебе сегодня шестнадцать, ты чувствуешь себя взрослым мужчиной? — с нежной насмешкой спросила она и, прежде чем он успел ответить, снова поцеловала его. На этот раз его губы сами раскрылись навстречу ей, кончик языка встретил ее язык. Рука Маргарет, пробравшись под пижаму, гладила его живот.
Дэнни обхватил ее, крепко прижал к себе. Рука ее скользнула ниже.
— Да, — услышал он ее шепот. — Ты уже мужчина.
* * *
С того дня это стало таким же ритуалом, как и кино по субботам. Дэнни иногда спрашивал себя, не дает ли она мужу перед их свиданием лишнюю таблетку снотворного?
Теперь он по-другому смотрел на девочек-одноклассниц, на их созревающие груди. Самая хорошенькая — ее звали Пегги, на биологии они сидели рядом — пригласила его на свой день рождения. И в субботу после обеда он вбежал к себе в комнату, где лежали заранее приготовленные лучшая белая рубашка, темно-синий костюм, вишневый галстук. Начищая башмаки, он весело насвистывал и потом в такт той же мелодии запрыгал по ступенькам вниз. Там, внизу, стояла с замороженной улыбкой Маргарет.
— Желаю тебе как следует повеселиться.
Ее тон смутил его:
— Я ненадолго, ма… Маргарет…
— Почему же, Дэниел? Оставайся там, сколько захочешь, — глаза ее, казалось, пронизывали его насквозь. — Сегодня же суббота. А обо мне не беспокойся.
— Ну, хочешь, я совсем не пойду?
— Решай сам, ты уже взрослый. Поступай так, как сочтешь нужным, — она отвернулась и ушла.
Дэниел постоял, несколько раз взглянул на часы и медленно начал подниматься по ступенькам обратно. Руки его бессильно болтались вдоль тела.
* * *
Чем ближе был день окончания школы, тем чаще Маргарет заставляла его сидеть дома и заниматься, готовясь к поступлению в Сиракузский университет. Но у Дэнни на уме было другое. Он понимал, что должен уехать отсюда, иначе придется так и жить под неусыпным и жестким контролем Маргарет. Не только о подружке нечего было и думать, она не давала ему встречаться и с одноклассниками.
Но когда он получил уведомление о том, что принят в Институт искусств при Университете Южной Калифорнии, Маргарет ничего уже поделать не могла.
Шел 1950 год. Кому-то он запомнился тем, как президент Трумэн счастливо избег покушения, другим — началом антикоммунистической истерии, развязанной сенатором Маккартни, но для Дэнни это был год выхода на экраны увенчанного «Оскаром» фильма «Все о Еве» с Бетт Дэвис и Энн Бакстер. Это был последний фильм, который он смотрел вместе с Маргарет Деннисон. На следующий день он уехал на Западное побережье.
* * *
Стоял сентябрь. В Сиракузах желтели и облетали листья, а здесь, в Калифорнии, было по-летнему жарко, распускались цветы, и в безоблачное синее небо целились верхушки пальм — таких высоких, что непонятно было, как они стоят и не падают.
Дэнни робко бродил по многолюдному университетскому кампусу, поглядывая на студентов, чувствовавших себя вполне уверенно и свободно, и читая греческие буквы у них на свитерах — они обозначали, к какому «братству» принадлежат их владельцы. Дэнни не решался подойти и заговорить с ними, а когда все же отваживался — мямлил и запинался от смущения. Ему было восемнадцать лет, а он чувствовал себя, как в тот день, когда его привезли в приют.
Он тосковал по дому, где под крылышком у Маргарет было так уютно и надежно. Первую неделю он писал ей ежедневно. Потом услышал, как его хорошенькие сокурсницы перешептываются «Какой красивый», стал получать столько приглашений на разнообразные вечеринки, что времени на письма не оставалось, да и надобность в них отпала. А потом, когда он начал подрабатывать официантом в кафетерии, исчезла и последняя зависимость от миссис Деннисон и от тех небольших денег, что она ему присылала еженедельно.
Ему предложили стать членом нескольких студенческих «братств», и в том числе — еврейского. Это смутило его.
— Тут какая-то ошибка, — сказал он, — я же не еврей.
— Ну и что? — ответили ему. — У нас нет ограничений, мы принимаем всех, кто нам подходит.
Дэнни был в смятении. Почему они пригласили именно его? Заподозрили в нем еврея? Узнали своего? Он заперся в комнате и принялся разглядывать в зеркале над умывальником свои черные вьющиеся волосы, прямой нос. Он не похож на еврея. Маргарет говорила, он — вылитый Роберт Тейлор, а ведь Тейлор — не еврей. Или еврей?
И когда представилась возможность вступить в братство «Сигма-Альфа-Эпсилон» — САЭ, он ухватился за него. Члены САЭ считались самыми требовательными и разборчивыми, лучше всех одевались, выглядели, как истые «белые англосаксы-протестанты», у них были самые длинноногие и загорелые подружки, и размещался их клуб в лучшем доме — большом, белом, двухэтажном, со стрельчатыми окнами и высокими колоннами в дорическом стиле, окружавшими террасу.
Дэнни волновался, и поэтому явился на церемонию «беседы» загодя. Один из членов братства в темно-синем блейзере с вытисненным на грудном кармане золотым вензелем встретил его и провел в комнату, все стены которой были заставлены книжными полками. За большим столом красного дерева сидело четверо, одетых так же, как его спутник. Дэнни сразу понял, что его собственный спортивный пиджак тут «не проходит».
Председатель, старательно выговаривавший слова на британский манер и посасывавший трубку, учтиво задавал ему вопросы, и поначалу все шло гладко. Но потом он откинулся на спинку кресла и взял со стола листок бумаги.
— Нам стало известно, что вас приглашали вступить в братство «Альфа-Бета-Гамма». Так это?
— Да, но…
— Надо говорить «да, сэр».
— Да, сэр, приглашали… но… Они ошиблись…
— Так вы не еврей?
— Нет, сэр. Моя семья принадлежит к епископальной церкви.
Сидевшие за столом переглянулись, и председатель ласково сказал:
— Ну, еще несколько вопросов, которые мы задаем всем кандидатам. Вы не возражаете?
Дэнни приняли. Теперь он тоже носил блейзер с вензелем из переплетенных греческих букв, и под руку его держала самая красивая и аппетитная блондинка из их колледжа — она окончила закрытую женскую школу и теперь просто мечтала воспользоваться новообретенной свободой.
Дэнни хоть и пользовался большим успехом, но не мог бы сказать, что счастлив. Ни один из его скоропалительных романчиков не перерос в более или менее прочную привязанность, не избавил его от гнетущего чувства одиночества. Иногда по вечерам он поднимал голову от учебника и представлял, как Рой входит в комнату. Бывают же чудеса? Рой сумел бы понять его тоску, он бы все рассказал ему — даже самые свои сокровенные тайны… Дэнни написал в приют в надежде напасть на его след, но ему кратко ответили, что разглашение тайны усыновления является нарушением существующего закона.
* * *
В начале второго семестра в братство принимали новых членов. Рыжий толстячок Джозеф Макдермот выдвинул ошеломившую всех кандидатуру Зака Абрамса — университетской баскетбольной звезды.
— Но он же еврей! — воскликнул председатель посреди общего ропота.
— Ну и что с того? — сказал Макдермот. — Он — центровой нашей сборной по баскетболу и отличный малый. Будет ценнейшим приобретением для нашей корпорации. Пора кончать с этими допотопными правилами членства. Давайте первыми от них откажемся. Я предлагаю Зака Абрамса в члены «Сигмы-Альфы-Эпсилон».
Стало тихо. Джозеф презрительно оглядывал собравшихся.
Дэнни, вспомнившего мучительную процедуру приема, бросило в пот. Он видел; многие посматривают на него. Поднялся со своего места, но когда все приготовились слушать, пожалел о том, что вылез.
— Я хочу сказать… — начал он и остановился, прикусив губу. — Хочу сказать, что… мы все… э-э… принесли клятву, когда вступали в наше братство. Клялись поддерживать его традиции… И… думаю, что… эту благородную и… и давнюю традицию ломать не стоит… — Он осекся и сел.
При голосовании выяснилось, что за Абрамса — один лишь Макдермот. Все похлопывали Дэнни по плечу, поздравляли с удачным выступлением, а он сидел, не поднимая глаз. Внезапно раздавшийся голос Макдермота заглушил общий шум:
— Я вам заявляю: вы все — дерьмо! Все до единого! Я отказываюсь состоять в вашем поганом братстве! — он двинулся к выходу, а поравнявшись с Дэнни, бросил ему в лицо: — Ненавижу антисемитов! Знать тебя не желаю!
Дэнни смотрел в пол. Он не хотел обнаруживать ни перед кем, как он восхищается Джозефом и как презирает себя. Это смутное чувство вины и недовольства собой не покидало его весь семестр, и только каникулы принесли какое-то облегчение.
* * *
Когда он приехал домой, Маргарет на кухне готовила его любимые блюда. Они не виделись почти целый год. Расцеловав ее в обе щеки, он забормотал о том, почему так редко писал ей — множество дел, лекции и прочее.
Она остановила его сбивчивые объяснения.
— Дэниел, не надо. Знаю: первый курс самый трудный.
— Ах, ма… Маргарет, ты все сама понимаешь…
— Мы с отцом так гордимся тобой. Но знаешь, его состояние в последнее время ухудшилось.
Дэнни спохватился, что совсем забыл спросить о мистере Деннисоне, которого несколько месяцев назад пришлось отправить в больницу для «хроников».
— Да? Как это грустно… Я пойду навещу его. Прямо сейчас.
— Ну, зачем же сейчас лететь сломя голову? Я была у него утром. Завтра пойдем вместе.
— Нет-нет, я пойду сейчас, так будет лучше.
Когда сиделка провела его в палату, он вздрогнул, увидев, как истаял мистер Деннисон. Глаза его были открыты, но он, казалось, был в забытьи. Вокруг лица змеились зеленые резиновые трубки. Дэнни сел у его постели. Лицо старика вдруг передернулось судорогой, из открытого рта потянулась ниточка слюны.
«Этот человек усыновил меня, — думал Дэнни. — Он дал мне свое имя. Он хотел быть моим отцом. А я ни разу даже не поблагодарил его». Теперь он хотел поговорить с ним, попросить прощения за то, что предавал его. Но сидел неподвижно и молча — больше ему ничего не оставалось.
Дома его ждала миссис Деннисон в кружевной розовой блузке и черной бархатной юбке. На столе были парадный сервиз и серебро. За обедом оба ели мало и говорили без умолку, словно боясь, что возникнет пауза.
— Ты, наверно, устал, — сказала Маргарет. — Через всю страну на автобусе… Я уберу посуду, а ты ложись. Я поднимусь к тебе, пожелаю спокойной ночи.
Дэнни долго рассматривал кофе в чашке.
— Да, я устал.
В его комнате все было в точности, как при нем. Он выдвинул ящик, где лежали кольца Тайрона и мячик Роя, подбросил его на ладони и поймал. Что только ни приходило ему в голову в эти минуты?!
Дверь была полуоткрыта. Он слышал, как поскрипывают ступеньки и как Маргарет поднималась к нему. Сейчас она войдет в комнату. Больше всего на свете ему хотелось, чтобы ее не было здесь. Он рванулся к дверям, но убегать было поздно: Маргарет уже шла по коридору. Он закрыл дверь, повернул ключ.
Потом отступил, сдерживая дыхание. Ручка двери поворачивалась. Он ощущал присутствие Маргарет за порогом. Ручка повернулась снова. Казалось, целая вечность прошла — и вот ее шаги стали удаляться.
Выдохнув, он сел на кровать. Как страшно ему было, когда началась их близость… Теперь все кончено, а ему еще страшней.
Утром ни он, ни она даже не упомянули о том, что произошло ночью. Миссис Деннисон естественно и непринужденно приняла его объяснения того, почему он должен вернуться в университет, на летний семинар.
Потом он еще раз приехал в Сиракузы, на похороны мистера Деннисона, но остановился в отеле. Порог этого дома он больше не переступал.
Глава IV
1982.
МИЛАН, ИТАЛИЯ.
Куда ее везут, Любе было безразлично. Валентин теперь за много сотен миль от нее. Из окна автобуса она видела скачущих коней — казалось, их копыта не касаются укрытой под стелющейся дымкой земли. Словно карусельные кони с развевающимися гривами, умчались они за склон холма и унесли с собой Валентина. В сердце ее было пусто.
Автобус доставил их в окрестности Милана, где находился другой, гораздо более крупный, чем «Сан-Сабба», лагерь для беженцев из стран Восточного блока — там собрались тысячи людей из всех стран «народной демократии». Каждый знал, что достаточно пересечь границу «свободного мира», и Красный Крест постарается найти тебе новую родину. Однако ждать этого приходилось довольно долго, а пока надо было жить в похожих на казармы бараках, где впритык одна к другой стояли длинные ряды армейских коек.
Любе в ее нынешнем состоянии это место показалось совершенно непригодным для житья, хотя Магда каким-то образом сумела выхлопотать у коменданта отдельную маленькую комнатку, куда селили обычно матерей с грудными детьми.
По документам Люба проходила как несовершеннолетняя, но вокруг нее постоянно вились мужчины. Двое югославов — высокий и гибкий серб Мирек и низенький плотный хорват Франек — ухаживали за нею особенно рьяно. Оба работали в лагере мусорщиками, изводили крыс и прочую нечисть, копошащуюся в отбросах. Всегда под хмельком, они, чуть завидев Любу, начинали хохотать, отпускать по ее адресу грязные шуточки на ломаном польском и приглашать ее «на пробу» в подпол кухни Люба просто бегала от них.
Магда устроилась на неполный день в один миланский ресторан, а потому приносила в лагерь кое-какую еду, так что с этим проблем не возникало. На заработанные деньги обе приоделись. Но когда Люба намекнула, что прежним своим ремеслом Магда заработала бы здесь за ночь вдвое больше, чем на рынке за неделю, мать оскорбилась. «К прошлому возврата нет», — заявила она. Они живут теперь в свободном мире, и ничто не должно помешать им получить желаемые визы.
Прошло два месяца, а они все еще ждали. Требовалось ручательство Адама в том, что он оплатит дорогу и пребывание в Австралии. Магда послала ему уже два письма, одно из — Сан-Саббы, другое — из Милана, объясняя, что нужно.
И наконец пришел ответ. Магда дрожащими от нетерпения руками вскрыла длинный конверт — внутри лежала бумага, напечатанная по-английски, со множеством штампов и печатей — потом потянула дочь в представительство Красного Креста.
Пожилой чиновник взял у нее документ:
— Первый раз такое вижу, — сказал он, надевая очки, висевшие у него на шее на черной резинке.
— Что там сказано? — допытывалась Магда.
— Погодите минутку, я разберусь — очень много юридических терминов.
Магда опустилась на стул, Люба осталась стоять, молча глядя на чиновника.
Прошло довольно много времени, прежде чем он поднял на Магду сочувственный взгляд.
— Из этой бумаги следует, что вы с Адамом Водой в разводе.
— То есть как? Что вы такое говорите?
— Ваш муж расторг с вами брак, — чиновник, привыкший на своем веку приносить людям дурные вести, говорил тихим ласковым голосом. — В Австралии эта процедура проста.
Магда залилась слезами.
— Ну чего ты рыдаешь? — сказала Люба. — Ничего другого и быть не могло: слишком много времени прошло. Что же нам теперь делать? — обратилась она к чиновнику.
— Только ждать. Терпеливо ждать. Мы направим ваши бумаги в иммиграционные службы еще нескольких стран. Рано или поздно одна из них примет вас.
Магда предприняла столько усилий, перенесла столько страданий, преодолела столько препятствий — и все для того, чтобы узнать, что Адам от нее отрекся. Адаму она больше не жена. Это известие сразило ее.
Больше она не говорила о нем, не упоминала его имени, хотя Люба часто просыпалась ночью от ее сдавленных всхлипываний. Она не знала, как утешить мать. Она и сама тосковала по Валентину. Общая беда, вместо того чтобы сблизить их, развела окончательно, они отгородились друг от друга глухой стеной отчуждения.
Магда жила теперь точно в полусне: какая-то часть ее души совсем омертвела. Весь день она работала в ресторане на кухне, а когда возвращалась в лагерь, должна была выполнять свои обязанности — никто ее от них не освобождал.
К счастью, она познакомилась еще с одним польским беженцем — толстеньким пятидесятилетним человечком, наделенным даром заразительной веселости, и он сумел немного разогнать окружавший ее мрак. Они вместе чистили картошку на кухне, и он рассказывал ей, что был активистом «Солидарности» и бежал из Польши в трюме скандинавского сухогруза после того, как в стране ввели военное положение. В Неаполе попросил политического убежища, а здесь, под Миланом, ждал визы в Америку, где у него была какая-то дальняя родня.
Магда искоса взглянула на его спорые руки и заметила номер-татуировку.
— А это откуда? — спросила она.
— А-а, это! Это — память об Освенциме. Я был тогда еще мальчишкой.
— Освенцим?! Господи…
Он продолжал ловко орудовать ножом, словно ничего, кроме приятных воспоминаний, это слово у него не вызывало. Круглое щекастое лицо с высоким, с залысинами лбом было безмятежно.
— А вы не похожи на еврея, — сказала Магда.
— Похож, похож. Вы на глаза мои взгляните. Нацисты утверждали, что могут узнать нашего брата по глазам, — у нас якобы у всех глаза карие и печальные. — Он придвинулся к ней почти вплотную и спросил, широко раскрыв глаза: — А у меня?
Но глаза были совсем не печальные, а, наоборот, искрились беззлобным и доброжелательным юмором. Магда рассмеялась.
— Как же вам удалось выжить?
— Мне нельзя было умирать. Меня при рождении назвали Хаимом — по-еврейски это значит «жизнь». — Он улыбнулся и улыбка эта была полна такого тепла, что Магда не могла не ответить на нее. — И потом, у меня голос хороший. Певческий голос. Нацисты, видите ли, народ сентиментальный. Целый день убивают евреев, а вечером хотят послушать, как маленький мальчик трогательно выводит романтическую мелодию… — и мягким звучным голосом он запел начало старинной баллады.
Магда не понимала по-немецки, но была очарована исполнением. С того дня они подружились. И после многих часов работы на кухне миланского ресторана Магда охотно стала приходить на лагерную кухню. Хаим всегда умел ее развеселить — и каждый раз по-новому. Он то жонглировал картофелинами, то, как заправский фокусник, вынимал у Магды из уха маленькую луковицу. В его присутствии делалось как-то неловко унывать.
Однажды Магда, мягко прикоснувшись к его руке, — к тому месту, где синели цифры татуировки, — спросила:
— Хаим, как вам удается всегда быть счастливым?
— Я — живой, — улыбаясь, отвечал он.
— Но ведь вы прошли через столько бед, видели и лагерь смерти, и наш польский антисемитизм, и разгон ваших рабочих союзов…
— Да, все это ужасно.
— Как же вы сумели не ожесточиться?
— Ах, Магда, меня в этом случае давно бы на свете не было. — Он стал вытирать руки полотенцем. — Ожесточенность съедает прежде всего того, кто ее носит в своей душе. Я ничего не забыл и вам не советую. Воспоминания — скверные или отрадные — часть нашей жизни. А жизнь надо принимать. — Он вдруг стал вытирать полотенцем пальцы растерявшейся Магды, потом, глядя ей прямо в глаза, продолжал: — Иначе вы заключаете сделку с дьяволом и пляшете под его дудку. — Он добродушно рассмеялся, обнял Магду и тихо, почти шепотом, договорил: — А я не хочу плясать с дьяволом. Я бы охотней с вами сплясал.
Магда спрятала вспыхнувшее лицо у него на груди.
Эта немудреная философия глубоко потрясла ее. Она замечала за собой, что мурлычет себе под нос его песенки, она научила его своей любимой балладе «Мое сердце». Магда опять стала уделять внимание своей внешности, подкрашиваться и приводить в порядок волосы. Купила новую юбку, в подсолнухах, и к ней желтую блузу. Заполнила анкету и подала просьбу о выдаче ей американской визы — кто знает, что случится с ней в другой стране?
В жизни ее забрезжила надежда. Что же касается Любы, та все видела в черном свете. Она постоянно была одна. По вечерам Хаим уходил ловить рыбу — это было его страстью — и теперь брал с собой Магду. Люба смотрела им вслед и видела, как они в обнимку идут вдоль берега: Хаим с удочками и ведром, Магда со сложенным одеялом.
А ее единственным развлечением стало подкармливать бродячих собак: тощие, грязные, запуганные, они стаями бродили вокруг лагеря. Вскоре у нее появился и любимец. Это был пес, не похожий на других. Кто-то из понимающих людей объяснил ей, что в его жилах течет волчья кровь. С этим можно было согласиться, глядя на его уверенную и даже дерзкие повадки, в его дикие синие глаза, без страха встречавшие взгляд человека. Она дала ему кличку Блю-Бой.
А кроме собак, заняться ей было решительно нечем: только в школу ходить, но школу она ненавидела. Итальянка на ломаном польском учила беженцев английскому, и понять ее было невозможно, на каком бы языке она ни говорила. Люба с трудом досиживала до конца занятий, выскакивала из школы и со своим альбомчиком бежала на поиски Блю-Боя. Пока она говорила с ним и рисовала его, он сидел неподвижно.
Однажды, когда она тщетно пыталась передать в рисунке загадочное выражение его почти человеческих глаз, рядом появились Мирек и Франек — по обыкновению, пьяные. Они как раз занимались отловом бродячих собак и были в перчатках, с толстыми веревками в руках, с длинными ножами у пояса. Люба не успела ахнуть, как они набросили на шею ничего не подозревающему Блю-Бою веревочную петлю и потащили прочь. Он захрипел в удушье.
— Отпустите его! — закричала она.
Живодеры в ответ только расхохотались.
— Красавица моя, — сказал, пошатываясь, Франек. — Это наша работа.
— Отпустите, не трогайте его! — она колотила их своими маленькими кулачками.
Марек свободной рукой облапил ее, схватил за грудь, впился слюнявыми губами в ее губы.
— Ты пьяный, — сказала она, пытаясь высвободиться.
— А меня поцеловать? — подступил к ней Франек.
Люба перестала отбиваться. Пес, горло которого все сильнее стягивала петля, хрипел и поскуливал.
— Вот что, — сказала она неожиданно спокойно и даже кокетливо. — Отпустите собаку, а я вас за это поцелую — каждого.
— Больно дешево хочешь нас купить, красотка, — заржал Марек.
— Ладно. Пойду с одним из вас в подпол.
Оба уставились на нее, а потом почти в один голос спросили:
— С кем?
— Подеритесь. Кто победит — с тем и пойду.
Парни бросили на землю веревки, и Люба торопливо освободила шею Блю-Боя от петли, поцеловала его. Вертя хвостом, он лизал ей руки.
Потом подняла глаза — и обомлела. Марек и Франек, вытащив ножи, на нетвердых ногах ходили друг вокруг друга. Франек оступился, задев за какую-то деревяшку, и соперник всадил ему нож в живот. С хриплым криком Франек по-медвежьи обхватил его, полоснув клинком по горлу. Сцепившись, они медленно перекатывались по земле, размазывая по ней хлещущую кровь.
К ним бросились лагерники, радуясь даровому развлечению. Люба поспешила убраться с места происшествия и увести Блю-Боя. Чем кончилась поножовщина, ей было все равно — главное, что спасла собаку.
Прибежав в свою маленькую комнатку, она достала банку копченой осетрины, которую Магда вместе с другими деликатесами принесла из ресторана и хранила за плинтусом, и стала учить пса выполнять команды, награждая его неуклюжее старание кусочками рыбы.
К возвращению Магды жестянка была пуста, а Блю-Бой умел кувыркаться, сидеть и давать лапу.
— Сию минуту убери отсюда собаку, — приказала она.
— Она же никому не мешает…
— Она мне мешает. Здесь и так повернуться негде.
— Ты же здесь почти не бываешь.
— Да, я работаю, я надрываюсь с утра до ночи, чтобы достать тебе вкусную еду. Я все делаю только ради тебя.
— И с Хаимом спишь ради меня?
В ту же минуту раздалась звонкая пощечина. Магда тяжело дышала.
— Хаим — единственное светлое пятно в моей жизни Адам бросил, предал меня! Но тебе до этого дела нет! Тебе ни до чего нет дела с тех пор, как ты встретила Валентина. Ты бы не задумываясь побежала за ним, а обо мне и не подумала бы!
Люба прижала ладонь к горящей щеке.
— У меня больше нет Валентина. Так пусть будет хоть собака! — Она открыла дверь и увидела приближающегося. Хаима. — Пошли, Блю-Бой, нам тут делать нечего.
Она брела по пыльным дорожкам лагеря, жалела себя и говорила Блю-Бою:
— Магда со своим хахалем. Что ж, отлично, развлекайся, мамочка, развлекайся. Вот посмотришь, Блю-Бой, какой подарочек я ей преподнесу.
* * *
Когда Магда была в городе, Хаим уходил рыбачить один. И как-то раз на берегу появились Люба и Блю-Бой.
— Можно, мы посмотрим, как вы ловите? — спросила она.
— Да что ж ты спрашиваешь? — рассмеялся Хаим. — Располагайтесь на одеяле.
Хаим пообещал, что к обеду у них будут свежие окуни Люба, сняв чулки и туфли, зашла в воду Хаим вскоре вытащил первую рыбу, Блю-Бой возбужденно залаял.
Люба побежала взглянуть, споткнулась на мелководье и, с хохотом отряхиваясь, выбралась на берег.
— Смотри не простудись, вот одеяло, закутайся, — Хаим ловко снял окуня с крючка и, держа его под жабры, дал стечь крови, потом с гордостью показал улов Любе. — Сроду таких здоровенных не вытаскивал. Ты мне приносишь удачу.
— Ну раз так, поцелуйте меня, чтоб не сглазила.
Поднявшись, она сбросила одеяло и предстала перед ним голая. Хаим не мог отвести от нее глаз.
— Ну, что же вы?! — Она обвила руками его шею и поцеловала в губы. Окунь выпал из его пальцев.
Торжествующая Люба отдалась ему здесь же, на берегу, рядом с дохлым окунем, под тявканье Блю-Боя.
Магда появилась, когда они еще не успели разомкнуть объятий. В руке она держала записку Любы:
Мы с Хаимом ждем тебя на берегу.
Хаим попытался встать, Но Люба держала его крепко, с вызовом глядя на мать. Та повернулась и пошла прочь.
— Боже мой! — Хаим торопливо натягивал штаны. — Как я мог? Как я мог это сделать? — продолжая бормотать, он устремился следом за Магдой.
Люба, растянувшись на прибрежном песке, медленно провела руками сверху вниз — по груди с еще напряженными сосками, по плоскому животу, по бедрам. Она чувствовала себя женщиной, взрослой женщиной. Пес лежал рядом и, виляя хвостом, лизал ей пятку.
— Да, Блю-Бой, я теперь женщина, — шептала она. — Из-за меня Марек и Франек зарезали друг друга, и любовник моей матери принадлежит теперь мне.
Но триумф ее длился лишь до той минуты, пока она не переступила порог дома и не увидела разом постаревшее и осунувшееся лицо Магды. Та не произнесла о случившемся ни слова.
Хаим был в отчаянии и все пытался вымолить у Магды прощение. Однако она не желала его слушать.
Через неделю Магда сообщила дочери о том, что получены английские визы.
— Англия? Но там, кажется, сыро и всегда стоит туман. Я думала, ты будешь добиваться разрешения уехать в Америку — следом за Хаимом.
Магда повернулась. Глаза ее были, как сталь.
— Теперь мне все равно, куда ехать, лишь бы выбраться отсюда. Мы проторчали здесь больше года. Слава Богу, что хоть англичане согласились выдать нам визы.
— Но я не хочу в Англию…
— Поздно, Люба.
Прошли обычные предотъездные собеседования, осмотры и прочие формальности. Вскоре они должны были покинуть лагерь, но теперь это их теперь нисколько не радовало.
* * *
Любу мучило чувство вины, когда она в сопровождении ни на шаг не отстававшего Блю-Боя бродила в полутьме по лагерю. Через несколько дней они уедут отсюда, Хаим исчезнет из их жизни. Да, она поступила с ним и с Магдой жестоко. Матери без него будет плохо. Хаим помогал ей забыть о предательстве Адама. «Зачем я это сделала? Зачем так унизила Магду?» Присев на камень, она взглянула в обожающие собачьи глаза, потрепала Блю-Боя по голове.
— Знаешь, Блю-Бой, мужчины — глупы, а женщины — жестоки.
* * *
Блю-Бой не хотел, чтобы его оставляли. Снова и снова бился он всем телом о борт автобуса, клочья пены летели из оскаленной пасти. Люба и Магда замерли в креслах. Одна думала о Хаиме, другая — только о собаке. У Любы не хватало сил и решимости взглянуть на верного друга, которому когда-то спасла жизнь. Может быть, не надо было? Может, лучше бы он погиб или остался независимым и отважным зверем, которому не нужны люди? Зачем она вмешалась в его судьбу?
Краем глаза она видела, как Хаим тщетно пытается оттащить пса от автобуса. Он обещал, что присмотрит за Блю-Боем, но ведь он и сам доживает здесь последние дни.
Автобус тронулся. Хаим, с трудом удерживая пса на поводке, помахал им вслед. Люба заткнула уши, чтобы не слышать пронзительный, полный беспредельного отчаяния вой.
Магда, плача, повернулась к ней, сжала ее руку, и от этого ласкового прикосновения что-то словно оттаяло в ней, отпустило. Закусив губу, она зажмурилась, чтобы сдержать слезы. Ей вдруг стало ясно: она вовсе не женщина, а маленькая девочка. Девочка, потерявшая свою собаку. Ей так хотелось припасть к груди Магды и выплакаться, но она этого не сделала.
1984.
УЭЙМАУС, АНГЛИЯ.
Когда поезд, лязгнув буферами, остановился у платформы вокзала Виктория-Стейшн, Магда и Люба, ошеломленные незнакомой речью, звучавшей вокруг, и бешеной вокзальной сутолокой, не сразу решились выйти на перрон. К счастью, одна польская дама, по фамилии Кулик, представительница Комитета помощи беженцам, встретила их и посадила в другой поезд, отправлявшийся в маленький приморский городок Уэймаус.
Там им дали квартирку на первом этаже двухэтажного домика с маленьким садом. Теперь у Любы была своя собственная комната: она впервые в жизни могла закрыть за собой дверь и побыть одна — неслыханная роскошь. Со всем прочим было трудней. Магде и Любе пришлось входить в колею нормальной жизни, а она поначалу представлялась им странной и неправильной. Так долго жили они в одном, а потом в другом лагере, что диким казалось снова платить за квартиру, газ, электричество. Магда быстро нашла работу, а Люба пошла в школу.
Над ними жила семья венгерских эмигрантов, приехавших в Англию два года назад. Оба работали на фабрике готового платья: жена — швеей, муж — закройщиком. Оба уже бегло говорили по-английски, помогали им чем могли и, вообще, оказались очень милыми людьми. Пухленькой, но не толстой Жинже было под сорок, а Яношу — лет двадцать пять. Счастье, что эти супруги, уже приобретшие кое-какой опыт, оказались рядом.
Через несколько дней Магда с помощью все той же миссис Кулик устроилась официанткой в ресторан на берегу. Люба отпросилась из школы, чтобы проводить ее туда и помочь заполнить нужные документы.
Увидев у дверей красную ковровую дорожку, Магда попятилась:
— По ней нельзя ходить!
— Можно, можно, — успокоила ее Люба, первой ступив ка ковер.
Магда робко последовала за ней — она была уверена, что их немедленно схватят за то, что осмелились идти по дорожке, положенной, очевидно, для лиц королевской крови.
Убедившись, что мать слегка освоилась, Люба вернулась в школу. В классе она была единственной иностранкой и долго чувствовала себя чужой для всех, хотя акцент ее исчез довольно скоро. Одноклассники казались ей желторотыми сопляками, и ей дико было слышать рассказы хихикающих девочек о том, как они целовались на заднем ряду кинотеатра. Ее так и подмывало вмешаться и спросить: «Ну, так он тебя трахнул или нет?»
Она потешалась над возбужденными неловкими юнцами, неуклюже пристававшими к ней, пытавшимися запустить потные от волнения руки ей под юбку или за шиворот. Ей доставляло удовольствие разжигать их так, что они кончали, не успев даже стянуть с нее трусики.
…В семнадцать лет она окончила школу и устроилась в магазин Вулворта, но не продавщицей — управляющий не хотел, чтобы иностранка имела дело с покупателями, — а на склад. Там, в этом темном и грязном помещении, двигая с места на место ящики и коробки, она проводила теперь большую часть дня. Ее не пугала никакая работа, но скуки она не переносила. И однажды Магда услышала:
— Я познакомилась на пляже с одной дамочкой, она работает в Лондоне в «эскорт-сервис». Ее зовут Луи. Так вот, она говорит, что смогла бы подыскать работу для нас обеих…
— Работу? Ты что, не знаешь, какая на самом деле работа у девушек из «эскорт-сервис»?
— Знаю. Не очень трудная, довольно приятная и очень денежная.
— Люба, я тебе уже сказала…
— Нет уж, теперь послушай, что я тебе скажу! Хватит мне качать бицепсы, ворочая эти коробки на складе, а тебе возить тряпкой по столам в твоей забегаловке на пляже!
— Но у нас же все есть!
— У нас ничего нет!
— Потерпи немного, через несколько месяцев накопим денег, купим телевизор…
— Да? И сядем смотреть, как живут другие? Я сама хочу жить!
— Я тоже. Я мечтаю когда-нибудь открыть маленькую закусочную…
— Закусочную! Тоска… Помнишь, как мы работали в Кракове?
— Прекрати, Люба! Мы живем теперь в другой стране, мы начали жизнь сначала и… Короче говоря, я даже слышать об этом не желаю! — она вышла из комнаты.
Люба вскоре убедилась, что Магда окончательно решила поставить на прошлом крест, забыть, что на свете есть Краков. Она больше никогда не упоминала Хаима, хоть и напевала иногда его песенки. Она очень строго одевалась, почти не красилась. Перед Любой был совсем другой человек.
Тогда-то и произошла ее встреча с полковником Стенли Джонсоном.
Отставной полковник африканских королевских стрелков Джонсон был всегда безукоризненно одет — хорошо сшитые костюмы ладно сидели на его приземистой плотной фигуре, складки брюк были остры, как лезвия, башмаки сияли глянцем, из верхнего кармана выглядывал белоснежный платочек, а чуть ниже были прикреплены ленточки двух орденов, полученных за подавление восстания племени мао-мао. Над тонкими губами топорщились тонкие усики. Трудно было сказать, сколько ему лет — на узком лице совсем не было морщин, — но, должно быть, подходило к пятидесяти. Он взял за правило каждый вечер приходить в тот ресторан, где работала Магда, садиться за столик лицом к морю и заказывать кофе с ячменной лепешкой.
Он был неизменно и изысканно вежлив. Время от времени Магда замечала обращенный на нее взгляд, и тогда он с учтивой улыбкой вновь принимался за свой кофе, а на прощание всегда говорил какую-нибудь любезность.
Однажды он досидел до самого закрытия и проводил Магду домой. Потом она рассказывала Любе, что он — вдовец и ветеран многих войн, а после того как вышел в отставку, провел много лет в каких-то экзотических странах — в Уганде, Танзании, Кении. Однако нынешние режимы там пришлись ему не по вкусу, и недавно он вернулся на родину. Теперь собирается купить небольшой отель или пансионат в окрестностях Брайтона.
— Таких мужчин я еще не встречала. Кажется, у него серьезные намерения. Главное — не спугнуть его.
* * *
«Ишь, как они счастливы, прямо голубки», — думала Люба, наблюдая в окно за матерью и ее поклонником. Полковник Джонсон держался очень прямо, ведя улыбающуюся Магду под руку. Войдя в дом, она первым делом показала дочери колечко с крошечным брильянтиком.
— Мы с полковником Джонсоном собираемся пожениться, — со слезами на глазах сообщила она.
Люба переводила взгляд с застывшей на лице полковника улыбки на взволнованную мать. Интересно, она и в постели будет называть его «полковник Джонсон»?
— Я очень рада за тебя, мама, — сказала она, обняв ее и впервые за последние годы, обратившись к ней не по имени.
Полковник по-прежнему стоял, как на строевом смотре, чуть поодаль. Люба не знала, пожать ли ему руку, поцеловать ли в щеку. Чтобы нарушить неловкое молчание, она выбежала на лестницу и крикнула:
— Жинжа! Янош! Магда выходит замуж!
Вскоре соседи уже были в комнате. Начались поздравления. Янош сказал, что по такому случаю непременно надо выпить.
— Отпразднуем это событие! Пошли, пошли!
— Магда, дорогая, идите, — сказал полковник. — А мне нужно перемолвиться с Любой словечком-другим.
Янош направился к двери, а рослая, дородная Жинжа потащила за собой Магду. Люба осталась наедине с улыбающимся полковником, чувствуя себя крайне скованно и неловко.
— Давайте присядем, — сказал он и подвел ее к дивану.
Люба не решалась взглянуть ему в лицо и видела только заутюженные стрелки на его брюках.
— Люба, я люблю вашу мать и надеюсь быть ей хорошим мужем, — с характерной британской четкостью, словно откусывая каждое слово, начал он. — Я и вас люблю и надеюсь, что стану вам вторым отцом. Я присмотрел в окрестностях Брайтона небольшую гостиницу и уверен, что если мы втроем приложим некоторые усилия, то добьемся успеха.
Его отрывистый выговор мешал Любе — она не все понимала. Интересно, каково Магде, которая вообще еле-еле знает английский?
— Мне известно, как трудно вы жили. Я хочу, чтобы теперь ваша жизнь стала счастливой. Вы, дорогая Люба, получите то, чего были лишены, — счастливое детство. Магда сказала мне, что у вас несомненные способности к рисованию, — их надо развить. Что еще вам по вкусу? Танцы? Я пошлю вас в балетную школу. Плаванье? В Брайтоне для этого будут все условия. Я хочу, чтобы вы занимались тем, что вам нравится, а не сидели на складе.
У нее на глазах выступили слезы, и начищенные башмаки полковника расплылись в два радужных пятна.
— Со всеми своими заботами и тревогами приходите ко мне, — продолжал он все с той же застывшей улыбкой. — Мы обсудим и решим все проблемы, и уверен, что станем друзьями. Я помогу вам. Но и вы, — тут Люба в первый раз подняла на него глаза, — и вы мне помогите. Помогите сделать вашу маму счастливой.
Люба припала к его плечу.
— Спасибо, спасибо вам. Я… все сделаю… я помогу, честное слово…
Как могла она сомневаться в искренности этого маленького, улыбающегося человека? Он любит Магду, он хочет, чтобы она была счастлива. Волна нежности поднялась в ней. Наконец-то у нее есть отец! Наконец-то будет настоящая семья! Из «полковника Джонсона» он станет «папой». Она поможет ему! Она сделает все, чтобы он гордился ею.
* * *
На регистрации брака в городской ратуше присутствовали миссис Кулик и Жинжа, возвышавшаяся над своим Яношем. Местная газета прислала фоторепортера. Романтическая история: британский герой берет в жены полячку-изгнанницу. Конец долгим мукам. Начинается новая жизнь. После скромного приема Джонсон отбыл в Брайтон, чтобы подписать купчую на отель. Так что первой брачной ночи, к удивлению Любы, не было. Она, вообще, не знала, спал ли уже полковник с Магдой.
Новобрачная сияла от счастья. Она стала законной женой настоящего британского джентльмена — обходительного, культурного, вежливого, с безупречными манерами. Она вспыхивала, как девочка, когда к ней обращались «миссис Джонсон». «Да ведь она проститутка, — эта мысль вдруг кольнула Любу. — Мы с ней обе потаскухи, мы этим зарабатывали себе на хлеб». Но теперь все будет иначе. Теперь они заживут нормально и счастливо — полковник Стенли Джонсон, миссис Магда Джонсон и их дочь, мисс Люба Джонсон.
Глава V
1954.
ГОЛЛИВУД, КАЛИФОРНИЯ.
Каждый студент должен был в качестве курсовой работы снять десятиминутный ролик и показать материал профессиональным кинематографистам. Когда Дэнни узнал о том, что в этом году темой одночастевки выбрана война, он оцепенел. Все его сокурсники рылись в документах Нюрнбергского процесса, просматривали военную хронику, а он слишком усердно в свое время пытался забыть все это. Он не мог снова стать Мойше. Он хотел даже отказаться от курсовой, но это означало бы потерю целого года.
Внезапно его осенило — он снимет фильм о Тайроне. Пусть чернокожий десантник возвращается с войны к себе на Юг с маленькой белой девочкой, оставшейся сиротой. Фильм будет называться «Спасенная».
С подбором актеров хлопот не было: все, с кем он подрабатывал в кафетерии, мечтали повертеться перед камерой в надежде, что их заметит кто-нибудь из профессионалов. Расходы по съемкам брал на себя университет. Трудности возникли было с исполнителем главной роли, поскольку чернокожих актеров было мало. В конце концов Тайрона сыграл повар и справился со своей задачей блестяще.
Натуру снимали в предназначенном на снос квартале, на месте которого собирались выстроить стадион. Фейерверк и салют в честь Дня Независимости прекрасно заменили фонограмму батальных сцен. В первый день съемок Дэнни, стоя перед своими актерами и объясняя им смысл сцены, окончательно поверил, что когда-нибудь станет режиссером.
«Спасенная» получила первую премию.
* * *
Довольно скоро после этого Милтон Шульц, прыткий и шустрый молодой человек из агентства «Фэймос Артистс», входивший в жюри, пригласил его на «интервью».
Дэнни пришел в дом на углу Биверли-Драйв и Уилшайр-Булевард загодя, поднялся на шестой этаж и стал ждать в приемной. Вокруг сидели, стояли, расхаживали молодые красавцы, сексапильные девушки и какие-то бородачи — писатели, как он догадался. Когда появился мистер Чарльз Гроссман, все взоры обратились к нему, хотя на улице никто не обратил бы на него внимания. Однако этот человек ничем не примечательной наружности — среднего роста, темноволосый, круглолицый — был одним из самых удачливых и влиятельных голливудских агентов. Не взглянув на тех, кто часами, а, может быть, сутками ждал встречи с ним, он прошел в кабинет и прикрыл за собой дверь.
— Мистер Деннисон, — раздался голос секретарши, — пройдите, пожалуйста, налево по коридору, последняя дверь.
У Милтона Шульца было пухлое лицо, украшенное реденькой бородкой, не делавшей его старше. Ему, наверно, было лет на пять больше, чем Дэнни. За очками в черепаховой оправе весело поблескивали маленькие глазки, и казалось, он еле сдерживается, чтобы сию минуту не выложить какой-нибудь забавный секрет. Когда он, встав из-за стола, пошел навстречу Дэнни, тот заметил, что на нем туфли на высоких каблуках и толстой подошве — ему явно не хватало роста: Дэнни рядом с ним казался просто гигантом.
— Мне понравилась ваша лента, — с места в карьер начал Шульц. — Сценарий сами писали?
— Сам.
— Сами поставили, сами продюсером были?
— Да.
— Великолепно! Мастерская работа! И берет за душу!
— Спасибо, — скромно ответил Дэнни.
— А сцена с девочкой — просто потрясающая. Сразу вспомнились все невинные жертвы нацизма. Я был глубоко тронут. Вы — еврей?
Дэнни почувствовал знакомую тяжесть под ложечкой.
— Нет… Но всегда восхищался этим народом и, как многие, ужасался тем страданиям, которые выпали на его долю.
— Ну, среди гоев таких, положим, немного, — пробормотал Шульц.
— Как вы сказали? Среди кого?
— Среди гоев. Ну, неевреев. В этом слове ничего обидного нет — с улыбкой пояснил Шульц.
Дэнни, глубоко вздохнув, ответил слабой улыбкой.
— Однако здесь, в Голливуде, еврейская тема успеха не имеет, залов не собирает. Тут другое нужно. — Он подмигнул и показал на фотографию пышногрудой девицы. — Одна из моих клиенток. Нужны такие, как у нее, или даже побольше.
Оба засмеялись. Шульц подвел Дэнни к кожаному дивану, перед которым на столике стояли шахматы.
— Играете?
— Нет, не приходилось.
— Вот это зря. Замечательная штука. Ну, это так, к слову… Скажите, что вы собираетесь делать?
Ответ у Дэнни был припасен заранее.
— Собираюсь снимать художественные фильмы.
Черные брови Шульца изогнулись, как два полумесяца.
— Вот как? Ни больше, ни меньше?
— Ну, я…
— Чтобы иметь право скомандовать «Мотор!», курсовой одночастевки мало.
Дэнни покраснел.
— Давайте-ка лучше начнем с телевидения.
— Придется ехать в Нью-Йорк?
— Нет, можно и тут посидеть. Я вас представлю одному из режиссеров Си-Би-Эс. Идет?
— Да, сэр, конечно.
— Да зови меня просто Милт.
— Хорошо, сэр. То есть, Милт.
Агент набросал несколько слов на листке бумаги.
— Вот его фамилия и адрес. Он тоже мой клиент, — потом чуть понизил голос. — Зашибает сильно. Он — из этих, из стариков. В последнее время стал что-то сдавать. Не тянет. Ему надо будет помочь. Понимаешь?
Дэнни кивнул.
— А я двух зайцев убиваю. Вытягиваю его работу и одновременно даю тебе шанс… Даже трех. И получаю от вас обоих, по десять процентов комиссионных. — Он расхохотался.
Дэнни тоже засмеялся, чувствуя, что попал в надежные руки.
* * *
Над массивной тяжелой дверью мигала красная лампочка и горело предупреждение: «НЕ ВХОДИТЬ!» Дэнни дождался, когда лампочка погаснет, и, быстро повернув ручку, оказался в гигантском, размером с авиационный ангар павильоне студии «Парамаунт», где шла съемка телефильма. Пока он пытался освоиться в сутолоке съемочной площадки, к нему подскочил долговязый белобрысый парень.
— Дэнни Деннисон?
— Да, сэр.
— Да какой там «сэр». Называй меня Слим, — рассмеялся тот. — Я ассистент режиссера — так изящно называется моя каторжная должность. Пошли!
Дэнни зашагал за ним мимо рабочих, ставивших декорации, актеров, репетировавших эпизод, разминавшихся у станка балерин, еще каких-то людей, толпившихся у кофеварки. Слим подвел его к сгорбившемуся над чашкой человеку на высоком стуле, по спинке которого шла надпись: «МИСТЕР ЭНДРЮ».
— Дэнни Деннисон.
Мистер Эндрю вздрогнул и обернулся. Потом снял темные очки и стал вглядываться из-под набрякших полуопущенных век в лицо Дэнни, словно вспоминая, где он мог его видеть раньше. Помотал головой, так что разлетелась полуседая грива волос, и, наконец, сказал:
— А-а! Тот паренек, которого Милт обещал прислать.
— Я очень рад, мистер Эндрю, что мне выпала честь работать вместе с вами…
— Раньше времени не радуйся, — прозвучал в ответ низкий хрипловатый голос.
Дэнни не знал, шутка ли это, и надо ли рассмеяться.
Эндрю, отвернувшись, наливал что-то из термоса в чашку.
— Ладно, еще поговорим. Пока держись за Слима.
Они отошли, и Слим ободряюще улыбнулся Дэнни:
— Он отличный малый и большой режиссер. Был… К нам он перешел из «Лондон-Филмз».
— Ах, вот почему он пьет столько чая!
— Чая? — хмыкнул Слим. — Н-да, он без чая жить не может. — И сейчас же закричал в глубину павильона: — Массовка, по местам! Музыканты, выдвиньтесь!
Шумная толпа двинулась к съемочной площадке, превратившейся в ночной клуб. Вспыхнули юпитеры. Слим взглянул на Эндрю, и тот, отхлебывая из чашки, кивнул. «Внимание! — завопил Слим. — Камера! Мотор!» Из динамиков грянула танцевальная музыка, все заплясали, музыканты самозабвенно имитировали игру на своих инструментах. Потом музыка резко оборвалась, но актеры продолжали ритмично двигаться в такт неслышной мелодии. Двое актеров, исполнявших главные роли, начали разговаривать, повышая голос, чтобы заглушить беззвучную музыку. Слим подал сигнал, и она раздалась снова. Потом он глянул на Эндрю и крикнул «Стоп!» Танцующие застыли. «Дубль пять. Снято!» Статисты, шумно переговариваясь, покидали площадку.
Слим с видом заговорщика наклонился к Дэнни:
— У нас на телевидении считается: не то хорошо, что хорошо, а то, что быстро. — Он кивнул на Эндрю, все еще сгорбленного над чашкой. — Он выдающийся режиссер, но ужасно копается. Поэтому ты оказался здесь.
После съемок Дэнни следом за постукивавшим тростью по плитам пола Эндрю направился в его кабинет. Там режиссер усадил его и предложил виски, которое составляло большую и лучшую часть содержимого термоса. Когда они выпили, Эндрю спросил:
— Паренек, чем ты намерен заниматься?
— Снимать кино, сэр, игровое кино.
— Сначала надо овладеть ремеслом. Те, кто сегодня хорошо пишет и снимает для телевидения, завтра будут делать игровое кино.
— Вы полагаете, сэр?
— Я в этом уверен. — Он снял темные очки и протер стекла рукавом. — Студийные дурни в грош не ставили ТВ, когда оно появилось, а потом заметили, что каждый вторник по вечерам город вымирает и в кинотеатрах пусто.
— А где же зрители?
— А зрители сидят по домам и смотрят очередную серию по «ящику». Джек Уорнер, от большого ума, запретил тем звездам, что паслись на его лугах, сниматься для ТВ. А теперь он запускает по три сериала одновременно. Телевидение — это восхитительная штука. Все дело портят те, кто нами вертит.
— То есть, телекорпорации?
— Да нет… они мало что решают.
— А кто ж тогда?
— Рекламодатели. Спонсоры. Вот сейчас, например, у нас спонсор — табачная фирма. И хочешь верь — хочешь нет, мне приказано, чтобы все положительные герои в кадре курили, а злодеи нет. Ну, что ты вытаращился на меня? Злодей не должен курить хорошие сигареты. — Он хрипло расхохотался. — А вот тебе история похлеще. Когда делали сериал о Нюрнбергском процессе, спонсор — некая газодобывающая компания — наложила запрет на слово «газ». А? — От смеха Эндрю согнулся вдвое. — Весь фильм был про то, как евреев убивали в газовых камерах, а слово «газ» произносить было нельзя. Нет, как тебе это? — Он вдруг оборвал смех. — Ну, теперь понял, кто нам гадит?
Дэнни молча сделал еще глоток.
— И все еще хочешь лезть в эту помойку?
— Да, сэр.
— Большую глупость делаешь. Ну да ладно, переубеждать тебя уже поздно. — Он звучно отхлебнул виски. — Вот смотри. Это наш следующий эпизод. Прочти этот кусок в сценарии и поработай с актерами.
— А что я должен буду делать?
— А что хочешь. Пройди с ними роли — может, что-нибудь подскажешь. Ну что, берешься?
— Берусь! Берусь, мистер Эндрю!
— Ну, тогда все! Свободен! Можешь бежать к своей красотке — заждалась, наверно.
— Да нет, меня никто не ждет. Мне так интересно разговаривать с вами.
Мистер Эндрю, сощурясь, оглядел его:
— Тебе сколько?
— Двадцать два, сэр.
— Эх, я в твои годы… — Он покрутил головой с мечтательной улыбкой. — Все, проваливай отсюда!
Дэнни нравилось работать с актерами. Поначалу они стеснялись, но постепенно, подражая вдумчиво-неторопливой манере Эндрю, он сумел завоевать их доверие. Они видели его одаренность и были благодарны за помощь.
А он проникался все большим уважением к режиссеру. Старик нравился ему: Дэнни мог сколько угодно слушать его бесконечные воспоминания о работе в театре, его мысли о великой литературе.
— Эй, паренек, откуда это: «…так всех нас в трусов превращает мысль и вянет, как цветок, решимость наша в бесплодьи умственного тупика»?
— «Гамлет», кажется?
— Верно. «Гамлет». Классика. Все стоящие вещи в английской литературе написаны, и давным-давно.
Когда Эндрю доставал новую бутылку, Дэнни старался завершить разговор. Он тревожился за него — Эндрю все чаще терял над собой контроль. Случалось, ему было лень возиться с термосом и он пил прямо из горлышка, поставив бутылку в бумажный мешок.
Подружился Дэнни и со Слимом: они сработались и часто обедали вместе. Мистер Эндрю проводил обеденный перерыв за бутылкой, не покидая режиссерского кресла. Но однажды, вернувшись в павильон, они обнаружили, что его нет.
— Разыщи его, я пока все приготовлю к съемке, — приказал Дэнни Слиму.
Тот появился через несколько минут в полной растерянности.
— В стельку. Не могу его поднять.
Режиссер в полубессознательном состоянии лежал грудью на своем столе, и попытки привести его в чувство ничего не дали.
— Делать нечего, Дэнни: веди съемку, пока он не очухается.
— Я не могу.
— Надо. Иначе мы выйдем из графика.
— Да это я понимаю, но ведь режиссер картины — мистер Эндрю.
— Режиссер? Ты посмотри на него, на режиссера этого.
Дэнни взглянул на человека, к которому уже успел привязаться.
— Вот что, Слим, давай-ка его все-таки поднимем и доведем до его кресла.
— А что толку?
— Может, если он дойдет и окажется на рабочем месте, хмель выскочит.
Слим неохотно двинулся следом за Дэнни. Вдвоем они ухватили Эндрю под мышки, поставили на ноги и, поддерживая с обеих сторон, через боковую дверь втащили в павильон, усадили в кресло. Казалось, что взгляд за темными очками стал более осмысленным. Дэнни потряс его за плечо.
— Мистер Эндрю!
В ответ раздалось невнятное бормотание. Съемочная группа стояла в ожидании.
— Пожалуйста, потише! — в мертвой тишине крикнул Слим.
— Хорошо, сэр! — громко сказал Дэнни режиссеру и с улыбкой повернулся к группе. Глубоко вздохнул и начал:
— Леди и джентльмены, у мистера Эндрю острый ларингит, и он… будет передавать мне указания шепотом, а я, так сказать, донесу их до вас.
Слим уставился на него в недоумении. Дэнни заговорил громче и уверенней:
— Итак, мистер Эндрю желает начать с того эпизода, Джо, когда вы входите и видите, что ваша жена плачет. Внимание! Тишина на площадке! Аппаратная?
— Готова!
— Камера?
— Готова!
— Мотор!
— Сцена семь, дубль первый! — щелкнул хлопушкой ассистент оператора.
Слим подмигнул Дэнни, который делал вид, что слушает раскинувшегося в кресле режиссера.
Все шло гладко до самого конца съемки, когда Эндрю приподнялся и что-то забормотал.
— Что вы говорите, сэр? — наклонился к нему Дэнни.
— Я говорю, что ты молодец.
* * *
К концу дня Дэнни был совершенно измотан. Слим подошел к нему, обнял за плечо:
— Ну, брат, не знаю, как мы это вытянули. Ты — гений! Я думал, меня в психушку свезут.
— Он оклемался к концу, ты видел?
— Да, когда все уже отсняли. Ты его спас от очень крупных неприятностей.
Дэнни, измученный и счастливый, присел на стул и сейчас же вскочил от телефонного звонка, прозвучавшего в пустом павильоне нестерпимо резко. Это был Милт Шульц.
— Старому дурню собираются дать коленом под зад.
— О чем ты? Я не понимаю…
— Отлично понимаешь.
— Мистеру Эндрю нездоровилось… Но сейчас он чувствует себя прекрасно.
— Прекрати, ты не на того напал. От него уже давно мечтали избавиться. Всем известно, что произошло сегодня на съемках. Ты спас положение, и с тобой заключат контракт.
— Но если его уволят, он никогда больше не найдет работу! Это убьет его.
— Дэнни, разве может здоровый крепкий парень быть таким слюнтяем и размазней?! Соберись! Ощетинься!
— Но если он бросит пить?!
— Он никогда не бросит пить.
— Но позволь мне хотя бы попытаться… уговорить его…
— Ей-Богу, я тебя не понимаю. Ты хочешь быть режиссером или нет? Решай, — и Шульц дал отбой.
Дэнни, с посеревшим от усталости и огорчения лицом, бросился в кабинет Эндрю и ворвался туда без стука.
— О, это ты, паренек, я тебя ждал. Садись, выпей.
— Я не хочу пить, мистер Эндрю, — это прозвучало так, что режиссер на секунду задержал горлышко бутылки над стаканом, но потом спокойно наполнил его и поднес к губам. В эту минуту Дэнни схватил его за руку. — Не надо! Пожалуйста, не надо! Вы должны бросить пить!
Старик горько рассмеялся вместо ответа.
— Прекратите пить! — выкрикнул Дэнни ему в лицо.
Эндрю откинулся в кресле и снизу вверх взглянул на возвышавшегося над ним Дэнни.
— Хороший ты парень, — наконец сказал он. — И я тебя люблю. Но с тем же успехом ты мог бы выйти на берег моря и сказать приливу: «Прекрати!» — и он залпом выпил свой стакан до дна.
Дэнни стоял над ним, чувствуя свою полнейшую беспомощность и не зная, что сказать. А когда режиссер налил себе следующую порцию, медленно двинулся к дверям. В этот вечер он в последний раз видел мистера Эндрю живым. Наутро его изуродованное тело полиция нашла в машине на Сансет-Булевард — она врезалась в столб и перевернулась.
* * *
Дэнни долго еще не мог руководить съемкой, когда позади стоял пустой стул мистера Эндрю. Никто никогда не садился на него.
Он был рад, что Слим остался в группе. Они понимали один другого без слов и, казалось, читали мысли друг друга. Если что-нибудь не ладилось на площадке, они начинали острить и дурачиться.
Однако лучшим другом Дэнни стал Милт Шульц, хотя они были полной противоположностью друг другу. Милта невозможно было вывести из себя. Он был грубоват и бесцеремонен, но честен и прям. Он гордился тем, что его юный клиент так быстро завоевывает себе известность в мире телевидения, и часто приглашал его к себе отведать еврейских блюд. Дэнни же бывал у него изредка и сидел недолго: слишком много давно похороненных воспоминаний пробуждали в нем эти вечера.
* * *
Дэнни нажал кнопку звонка, слыша, как из квартиры доносятся звуки гаммы: это Кэти, восьмилетняя дочка Милта, барабанит по клавишам. Упорству этой девочки можно было позавидовать.
Жена Милта, Сара, красная от жара плиты, открыла ему дверь, вытирая руки о передник в оборочках на крупных бедрах, немилосердно стянутых светлыми брючками на два размера меньше. Она как всегда чмокнула Дэнни в щеку и произнесла обычную в таких случаях фразу:
— Входи, входи, Дэнни. Сегодня наконец ты поешь как человек — без всяких гойских штучек! Надо тебя немножко откормить. Извини… — и она скрылась на кухне, откуда доносился обычный аромат жареной куриной печенки, картофельных оладьев и бульона с фрикадельками из мацы.
Милтон сидел, напряженно уставившись на шахматную доску.
— Как раз вовремя, — произнес он, не поднимая головы.
Его семилетний сын Джонатан сидел напротив, и на лице его было скучающее выражение игрока, знающего исход партии.
— Мат, — сказал он, небрежно передвинув слона.
— О, Боже, опять он выиграл! — Милт встал и пожал Дэнни руку. — Ну-ка, сыграй с ним.
— Да я же не знаю, как ходить…
— Ничего-ничего, Джонатан тебе подскажет, — Милт уже усаживал его на свое место.
Дэнни, решившись не обижать хозяина, сделал несколько ходов пешками, а потом двинул вперед слона.
— Ну как? — улыбнулся он Джонатану.
— Глупо, — поморщился тот.
— Ход некорректный, — не слишком сурово укорил его и Милт.
Дэнни любил детей, но по отношению к Джонатану испытывал странную необъяснимую неприязнь, переходившую в ненависть. В соседней комнате гремел рояль: Кэти упорно отрабатывала один и тот же пассаж.
— Послушай, Дэнни, — с гордостью сказал Милт. — Здорово, правда?
Дэнни и рад был бы не слышать, но это было невозможно.
— Замечательно, — ответил он, беспорядочно двигая фигуры, чтобы поскорее завершить партию. Это ему удалось.
Когда обед был окончен (попросить соды Дэнни не решился), и дети милостиво оставили взрослых одних, Милт прошептал:
— Ненавижу еврейскую кухню. Слава Богу, хоть не кошерное.
— Дэнни, я приглядела тебе невесту! — крикнула из кухни Сара. Дэнни и Милт быстро переглянулись. Сара появилась в дверях с подносом. — Не девушка, а чистый брильянт, правда, Милт? — восторженно говорила она, разливая кофе. — Да еще и богатая.
— Спасибо, Сара, но в ближайшее время я с помощью Божьей и твоего мужа намерен заняться карьерой.
— Хорошая жена поможет карьере больше, чем Милт, — бросила она через плечо, уже в дверях. С кухни донесся ее голос: — Милт, ты бы пригласил ее как-нибудь почерком к нам. Надо их познакомить.
— Непременно, непременно, дорогая! — крикнул Милт, одновременно делая страшные глаза Дэнни: дескать, не бойся. Оба засмеялись. — А ведь ты еще не был у меня в кабинете.
— Как это я не был? Налево по коридору, последняя дверь.
— А вот и нет. Я теперь в соседях у самого мистера Гроссмана.
— Ну? Поздравляю. Значит, преуспеваешь.
— С такими клиентами как ты разве можно прогореть? Все твои телешоу идут «на ура». Ты исключительный молодец, Дэнни.
— Что ж ты не можешь устроить такому исключительному молодцу постановку игровой ленты?
— Мы как раз снова к этому подходим.
— Ну-ну, только не торопись, ради Бога. Я пять лет ждал и еще подожду.
* * *
Шел 1960 год. Президентом Соединенных Штатов стал Джон Кеннеди, бешеным успехом пользовались Чабби Чекер и твист, но двадцативосьмилетнего Дэнни интересовала только обещанная Милтом встреча с Артом Ганном.
Этот человек сделал себе имя на низкопробных фильмах ужасов — обходились они дешево, доход студии приносили огромный, — а теперь сам намеревался возглавить киноконцерн «ЭЙС-ФИЛМЗ». «Ему пальца в рот не клади», — предупреждал Милт. Ганн был родом из России и принадлежал к числу тех евреев, что ринулись из нью-йоркского гетто в Голливуд осуществлять свою «великую американскую мечту». Впрочем, его мечты были незамысловаты, прозаичны и просты.
Перед встречей Милт, надевший самый яркий из своих клетчатых спортивных пиджаков, и Дэнни в обычном синем блейзере и серых фланелевых брюках зашли в студийный кафетерий позавтракать. Милт, увлеченно разделываясь со стейком «Хемфри Богарт», проговорил с набитым ртом:
— Потом не говори, что я тебе на студию ходу не давал.
Дэнни ел салат из тунца под названием «Грета Гарбо», поглядывая по сторонам. Мимо, направляясь в особую комнату, прошли два знаменитых и высокооплачиваемых режиссера — Уилли Уайлер и Говард Хоукс.
— Давал, давал. Мне бы теперь еще вон туда попасть.
Свидание с Ганном длилось пять минут. Сидя за своим неимоверных размеров письменным столом и словно ставя зажатой в пальцах толстой сигарой точку после каждого слова, магнат произнес:
— Достаньте сценарий, чтобы поставить по нему фильм могла даже ваша собака и чтобы фильм принес мне миллион.
Дэнни, потеряв всякий интерес к телевидению, стал рыскать в поисках сценария, который отвечал бы невысоким запросам Ганна. Дело было непростое, но он вспомнил слова Эндрю о том, что все уже написано классиками, и двинулся в нужном направлении. Первой его заявкой стал перелицованный под вестерн «Король Лир»: старый владелец ранчо пытается разделить свое имущество между тремя дочерьми. Сценарий он написал сам.
На предварительный просмотр, состоявшийся в кинотеатре «Гондола», Дэнни привез Милт, уверявший, что его в таком состоянии за руль сажать нельзя. Дэнни подташнивало, и он, поручив другу смотреть кино, прогуливался в непосредственной близости от дверей туалета. На другом конце огромного фойе, у столика, где лежали карточки и груда карандашных огрызков, расположился сам Арт Ганн. Из зрительного зала, где сидели студенты, коллеги Дэнни, не доносилось ни звука, и он не знал, как понимать это молчание.
Когда же гогочущая, горланящая, выдувающая пузыри жвачки толпа повалила к столу ставить свои отметки фильму, Дэнни взглянул на студентов с ненавистью. Подошел Милт. Дэнни едва сумел выдавить из себя улыбку.
— Подумать только, мое будущее зависит от того, сколько баллов поставит мне какой-нибудь олух!
— Этот олух заплатит за билет, — хмыкнул Милт.
Когда толпа вокруг стола поредела, Дэнни увидел Арта Ганна, разбирающего карточки. Крепко сжимающие толстую сигару зубы скалились в широкой улыбке.
* * *
Милт заключил со студией «ЭЙС-ФИЛМЗ» очень выгодный контракт, позволивший Дэнни переехать из скромной квартирки на Сансет-стрит в дом, о котором совсем недавно он не мог и мечтать. Это было швейцарское шале на склоне холма, чуть в стороне от Тауэр-роуд и в пяти минутах от отеля «Беверли Хиллз». Подземный гараж, на первом этаже — большая кухня, просторная столовая с камином и комната для гостей. Лестница вела на второй этаж, где находилась спальня, из которой можно было выйти прямо на тихий зеленый луг. Дэнни мечтал пристроить к дому бассейн и теннисный корт, а пока самым любимым местом стала для него спальня. Он перетащил туда письменный стол и, работая над сценарием, вылезал наружу, прохаживался по траве, поглядывал на далекие бурые холмы.
Переделка классики в вестерн оказалась золотой жилой. Снятые им фильмы не выдвигались на «Оскара», интеллектуалы морщились и говорили, что он в угоду массовому плебейскому вкусу портит бессмертные творения. Но кое-кто считал, что, напротив, его фильмы приобщают широкого зрителя к классике, поданной в облегченной и усеченной форме. Эти споры, происходившие публично и в печати, привлекли к нему всеобщее внимание. Впрочем, даже самые язвительные критики не могли отрицать, что его фильмы — умны. Тем более, что они неизменно собирали полные залы.
Когда Дэнни читал статьи, посвященные собственному творчеству, ему всегда казалось, что написаны они о ком-то другом. Успех казался ему ненастоящим. Жизнь казалась не похожей на жизнь. Он словно играл роль в одном из своих фильмов.
Его имя стало часто мелькать в колонках светской хроники, где его «подавали» как одного из самых завидных женихов — тридцать три года, безмерно одарен и находится на взлете. Его находили, кроме того, очень привлекательным и сравнивали с признанными красавцами, вроде Клиффа Ричардса или Роберта Тейлора. У него возникали романы то с одной хорошенькой актрисой, то с другой, но ни одна связь не длилась больше нескольких месяцев.
Сара Шульц, разумеется, лезла вон из кожи, чтобы женить его на очередной «очень-очень достойной и порядочной девушке, идеальной будущей супруге и матери», которая при ближайшем рассмотрении оказывалась существом тучным и мечтающим выскочить за кого угодно. Милт действовал в противоположном направлении, посылая другу вереницы соблазнительных и шальных девчонок, которые хотели сниматься в кино.
Однажды после обеда, когда Сара варила на кухне кофе, Милт шепотом осведомился:
— Ну, как тебе Нэнси?
— Ничего, — улыбнулся Дэнни.
— Завидую тебе. Хоть бы недельку опять пожить холостяком.
— Но ведь Сара — такая прелесть, — сказал Дэнни, стараясь, чтобы это прозвучало искренно.
— Да прелесть-то она, конечно, прелесть, но, видишь ли, мы поженились сразу после колледжа, — довольно уныло сказал Милт, — а с тех пор много воды утекло. Жизнь меняет людей. Я обожаю свой сумасшедший бизнес, а она так и жила бы в Бронксе.
— Почему ты ее никогда не берешь с собой, когда идешь ко мне?
— В следующий раз непременно возьму, — заржал Милт, воровато поглядывая на дверь кухни. — С Нэнси познакомлю, да? А в этот уик-энд мы с тобой летим в Лас-Вегас.
— Это еще зачем?
— Летим — и все! Ни зачем, так просто. Встряхнуться. Тебе понравится, — Милт говорил очень настойчиво.
— Да я бы с удовольствием, но у меня работы по горло.
— Друг мой, в твоей жизни переизбыток работы и недостаток баб.
Дэнни засмеялся.
— Милый, — сказала, входя Сара, — давай познакомим Дэнни с этой Розалиндой, которая была тогда у Розенбергов. Такая милая девушка, хоть и не еврейка.
— Ну, что же, — завел глаза Милт, — это удачная мысль.
Когда Сара вышла, он присел на ручку кресла Дэнни.
— Скажи, я тебе друг?
— Друг, — улыбнулся Дэнни. — Единственный друг.
— Тогда ты полетишь со мною в Вегас.
— Милт…
Но тот, сжав его руку, предостерегающе взглянул на дверь, за которой Сара, производя на удивление много шума, взбивала крем для земляничного торта.
— Ты меня прикроешь, создашь мне алиби. Сара что-то пронюхала.
— А кто у нас в Вегасе?
— Дарлен.
— Кто?
— Да не придуривайся! Ты ее отлично помнишь! Блондинка-танцовщица, снималась у тебя в последнем фильме. Помнишь?
— Смутно.
— Потрясающая баба! Сейчас она работает в Вегасе. В субботу после ночного шоу мы договорились встретиться. Понял? Она приведет для тебя девочку.
— Зря ты все это затеял, Милт, но если это так много для тебя значит, ладно, летим, — поколебавшись, сказал Дэнни.
Милт глядел на него так, словно собирался заплакать:
— Ты — настоящий друг, Дэнни. Никогда этого не забуду.
* * *
Сидя рядом в «Цезарь-Паласе», они смотрели шоу.
— Вот она, — шепнул Милт, толкнув Дэнни локтем так, что чуть не выбил у него из рук стакан. — Третья слева. А для тебя есть хорошие новости: она приведет с собой свою подружку Тину. Видишь — темненькая с краю.
Тина была сложена как богиня. «Отличный проведем вечерок», — подумал Дэнни.
По окончании шоу Милт, не теряя времени, повел Дарлен в свою комнату. Дэнни повернулся к Тине:
— Пообедаем?
— Пообедаем?
— Вы, наверно, очень проголодались после такого шоу?
— Ужасно, — благодарно кивнула она.
Дэнни поднялся с нею на крышу, где находился самый дорогой ресторан. Тина растерянно вертела в руках роскошно разукрашенное с французскими названиями блюд меню.
— Если вы мне доверите, — улыбнулся Дэнни, — я закажу для нас обоих.
— Да-да, пожалуйста! — с явным облегчением воскликнула она.
Он незаметно рассматривал ее. Тина, должно быть, стала «королевой красоты» в каком-нибудь захолустном городке на Среднем Западе, а теперь готова была сделать все, чтобы запомниться голливудскому режиссеру. Она соблазняла его, но очень неумело, и Дэнни стало ее жалко. Хватит с него: всю процедуру он знает наизусть. И после обеда, к несказанному удивлению Тины, он отвез ее домой, а сам первым же рейсом улетел в Лос-Анджелес.
В понедельник на студии появился Милт.
— Что-то ты очень скоро отстрелялся, Дэнни. Не понравилась Тина?
— Не знаю. Мы пообедали и расстались.
— Не может быть!
— Придется поверить.
Милт поскреб бородку и взглянул на Дэнни из-под очков.
— Знаешь, извини, но ты как-то странно относишься к сексу.
— Да?
— Да. Ты чертовски интересный мужчина, девочки на тебя вешаются, а ты — ноль внимания.
— Короче, Милт.
— Ты совершенно явно не добираешь свою квоту.
Дэнни рассмеялся над тем, с каким искренним огорчением произнес эти слова Милт.
— Послушай, выбери себе по вкусу любую звезду, позвони ей, назначь свидание. Большая часть, кстати, сидит по вечерам дома, потому что все думают, что они заняты, и никто никуда не приглашает. Так вот, ты бы мог каждое утро просыпаться рядом с новой звездой.
— Скажи мне, Милт, а неужто тебе хочется переспать с каждой смазливой девчонкой?
— Это было бы грандиозно, но об этом можно только мечтать! — Он расхохотался и обнял Дэнни за плечи. — Ты явно со сдвигом, но все равно — отличный малый и мой друг! Ты меня отмазал перед Сарой, и я — твой должник.
— Ах, вот так? Тогда дай мне снять следующую картину без Арта Ганна.
— А-а, хорошо, что ты сам заговорил о творческих планах. Когда ты запускаешься с «Землей буйволов»?
— На следующей неделе.
— Займи в ней Дарлен.
— Так все роли распределены. Не буйволицу же ей играть?
— Ну впиши какой-нибудь эпизодик… А то нам придется регулярно летать в Лас-Вегас.
Дэнни засмеялся:
— А я-то думал: тебя волнует моя квота.
— Послушай, — голос Милта стал непривычно серьезен. — За красивые глаза девочки со мной спать не будут, да и потом надо их сначала иметь, эти красивые глаза. Сара не устает мне напоминать — чтоб я был Кларк Гейбл, так нет! Войди в мое положение!
Дэнни вошел и сочинил для Дарлен маленькую роль танцовщицы в салуне. Это была его пятая игровая лента, переделка «Макбета»: владелец ранчо и его жена пытаются прибрать к рукам окрестные пастбища.
* * *
Дэнни завел свой новый «порше» на стоянку и со сценарием под мышкой быстро вошел в павильон. Чмокнув в щечку свою помощницу Матильду, он показал ей отмеченные в сценарии изменения. Электрики ставили свет, готовясь к съемке назначенного на сегодня эпизода. Он заглянул в видоискатель и чуть изменил композицию кадра. Потом поднял голову и тут увидел, что на него с улыбкой смотрит Слим.
— Меня на улыбочки не купишь, — пошутил Дэнни. — На морде улыбочка, а внутри злоба кипит, оттого ты и лысеешь, Слим.
Рука Слима сама собой дернулась к увеличившейся плеши.
— У меня для тебя сюрприз, Дэнни, — шепотом сказал он.
— Мне только сюрпризов и не хватает, — ответил Дэнни и тут заметил ее.
Маргарет Деннисон стояла у края съемочной площадки. Потом пошла к нему. Глаза ее влажно блестели.
Дэнни обнял ее, почувствовав, как тонка и хрупка она стала. На лице появились новые морщины.
Они не виделись много лет. Дэнни лишь позванивал ей по праздникам да приписывал несколько сухих фраз к ежемесячному чеку. В ответ получал сердечное и теплое письмо. Сейчас его охватило чувство вины перед нею.
— Как я рад тебя видеть, Маргарет! Каждый раз, когда я собирался приехать к тебе, приходилось срочно запускаться с новой лентой…
— Я понимаю, Дэниел, и не в обиде. Я видела все твои картины.
— В «Риальто»?
— Конечно.
— Да, там-то все и начиналось. — Дэнни усадил ее в свое режиссерское кресло. Платье мешковато свисало с ее похудевших плеч, из-под подола выглядывал краешек комбинации. — Я никогда не забуду эти утренние сеансы.
— И я тоже.
Маргарет прижала его голову к груди.
— Босс, у нас все готово, — вмешался Слим.
— Дэниел, я, наверно, тебя задерживаю…
— Не беспокойся, звезды всегда опаздывают на съемку. Слим, пожалуйста, возьми мою маму под свое теплое крылышко, пока я буду создавать у нее на глазах нетленный шедевр.
— Вам здесь удобно, миссис Деннисон? Может быть, хотите кофе? — Слим был сама предупредительность.
— Нет-нет, спасибо, не беспокойтесь… Вот если бы только вы рассказывали мне, что происходит: я ведь никогда раньше не видела, как снимают кино. Что это — салун?
Слим пустился в объяснения, но она, казалось, не слушала. Ее восторженный взгляд был прикован к лицу Дэнни, который очень спокойно, но уверенно говорил с актерами, игравшими злодея Мак-Мэртри и его жену.
— Тишина на площадке! — гаркнул Слим над самой ее головой. — Идет репетиция!
— Довольно, давай остановимся, — подал реплику Мак-Мэртри.
— Нет, назад пути нет. Мы должны доделать то, что начато. Соберись с силами, Мак, — ответила его жена.
— Да, ты права, слишком далеко мы зашли и поздно поворачивать.
Лицо миссис Деннисон оживилось.
— …как бы собой наглядно воплотив кровавый шаг, который я задумал… — вдруг произнесла она и, заметив недоумевающий взгляд Слима, голосом учительницы в классе объяснила: — Это тема шекспировской трагедии «Макбет». Душевные муки человека, зашедшего туда, откуда уже невозможно вернуться. Ему нет пути назад. Он движется к несчастью.
— Понятно, — сказал Слим и, взглянув на часы, завопил: — Перерыв!
Дэниел подошел к Маргарет и подал ей чашку кофе.
— Я и не знала, что ты такой требовательный, Дэниел. Заставляешь актеров снова и снова повторять одни и те же фразы. Ты их, наверно, совсем измучил.
— Вот за эти муки им и платят такие деньги.
Она засмеялась:
— А что делают вон те люди на площадке?
— Дублеры. Они заменяют актеров, чтобы мы могли правильно поставить свет.
— А почему сами актеры этого не делают?
— Ты же только что сказала, что они и так измучены мной.
Она снова прыснула, как девчонка, крепко сжала его руку. Дэнни радовался, что она наслаждается этим новым миром, словно школьница. Уже на выходе они столкнулись с Милтом, у которого в кабинете Дэнни было назначено свидание с Дарлен. Милт поцеловал руку миссис Деннисон, что на европейский манер делал по отношению ко всем пожилым дамам, и сказал:
— Ну, теперь я понимаю, в кого это наш Дэнни такой красивый.
Маргарет просияла.
— Милт — мой лучший друг…
— …и поэтому я отдаю ему девяносто процентов своих заработков, — подхватил тот.
Дэнни засмеялся, глядя на озадаченно-испуганное лицо Маргарет.
— Он шутит, мама. Но некоторые агенты именно так и поступают.
* * *
Вечером он повел Маргарет к «Чейзену» в Беверли-Хиллз.
— За женщину, которая сыграла главную роль в моей жизни! — провозгласил он, подняв бокал шампанского.
— Ты устроил мне настоящий праздник, Дэниел, — глаза Маргарет увлажнились.
Дэнни никак не мог привыкнуть к тому, что она так постарела. Губы были намазаны криво, куда-то делась ее патрицианская изысканность.
Дэнни заказал фирменное блюдо Чейзена — два стейка «Хобо».
— Среднепрожаренный, да?
— Да, это будет прекрасно.
Сквозь тонкое стекло бокала он глядел на ту, которая сделала для него так много. Маргарет была грустна и сосредоточенна, следа не осталось от веселого любопытства, искрившегося в ее глазах на съемочной площадке. Зрачки расширились так, что глаза стали черными, и, когда она подносила к губам бокал, рука ее дрожала.
— Маргарет… — как странно было после стольких лет называть ее по имени! — Маргарет, ты хорошо себя чувствуешь?
Она взглянула на него и ответила тихим голосом, еле слышным в ресторанном шуме:
— Прости меня, Дэниел, если я совершила какой-нибудь грех по отношению к тебе.
— Зачем ты это говоришь? Ты сделала мне столько добра — больше, чем кто-либо другой на этом свете.
Слабо улыбнувшись, она отпила немного шампанского.
— Мне хотелось бы так думать. Я уповаю на то, что ты запомнишь мои добрые дела, если они и вправду были…
«Как она странно говорит, — мелькнуло в голове Дэнни. — Может быть, немного опьянела?» Вслух он спросил:
— Что-нибудь случилось?
— Нет-нет, ничего, — все с той же блуждающей улыбкой отвечала она. — Я так горжусь тобой, твоими успехами! Но, знаешь, я… я немного устала, а завтра рано утром мне надо улетать.
— Но почему ты так торопишься, Маргарет? Ты еще не видела мой новый дом — там есть отличная, удобная комната для тебя…
— Спасибо тебе, Дэниел, но… я должна возвращаться.
— Пожалуйста, останься еще. У тебя усталый вид. Поживи у меня немного, прошу тебя…
Грустно улыбнувшись, она вынула из своей потертой сумочки небольшой пакетик, обернутый в голубую бумагу и перевязанный кружевной ленточкой.
— Это тебе, Дэниел. Эту книгу мне подарили в юности, и тогда я редко в нее заглядывала, но потом стала читать ее все чаще и чаще. Пожалуйста, прочти и ты ее, только прочти внимательно и подумай о том, что в ней сказано. — Глаза ее настойчиво молили его о чем-то. — Считай, что это домашнее задание от твоей старой учительницы.
Дэнни в растерянности принял у нее пакет, не зная, что сказать. Они попрощались, и он обещал, что скоро прилетит к ней и они увидятся.
Однако увидеться им больше не пришлось. Неделю спустя он получил письмо: духовник миссис Деннисон извещал его о том, что она скончалась. У нее был рак, и она прилетела в Калифорнию, нарушив запрет врачей, чтобы в последний раз взглянуть на него.
Вот тогда Дэнни, убитый и горем, и неизбывной виной, развязал кружевную ленточку и вскрыл голубую, пахнущую лавандой обертку.
Это была моралите — духовная пьеса XVI века — на двух языках. Она называлась «Всякий человек». Дэнни плохо понимал архаичный английский текст и потому стал читать ее по-немецки.
«Господь сказал: да приидут пред лицо Мое все живущие и дадут Мне отчет о жизни своей», — так она начиналась. Главный герой ее в Судный День, покуда посланная Богом Смерть ожидает его, тщетно зовет своих былых друзей свидетельствовать в его пользу. Все — и Красота, и Сила, и Наслаждение — отступаются, все предают его. Он отпирает свои ларцы и сундуки, но деньги бесполезны и бессмысленны. Его единственное спасение Добрые Дела, но и им нечего сказать в оправдание ему. Смысл пьесы сводился к тому, что отчета в твоих действиях у тебя потребуют раньше, чем ты думаешь, а потому спеши творить добро ежедневно и ежечасно, не откладывай это на потом.
Дэнни, опустив книгу на колени, рассеянно перелистывал страницы. Что хотела выразить своим прощальным подарком Маргарет Деннисон? «Не живи бездумно, отдавай себе отчет в том, что делаешь»? Может быть. Что же — это нечто вроде ее завещания ему? Но книга эта больше подходит для умирающей от рака пожилой женщины, которая знает, что дни ее сочтены. Ему нужно что-то другое — то, что способно было бы снять налет какой-то беспросветности, омрачавшей его жизнь, — даже самые светлые ее минуты. Вряд ли пригодится ему для этого «Всякий человек», но тем не менее пахнущий лавандой томик остался в его памяти и в его мыслях.
Глава VI
1986.
БРАЙТОН, АНГЛИЯ.
На платформе их ждал прямой и улыбающийся полковник Джонсон.
— Через несколько минут вы войдете под крышу вашего нового дома, — провозгласил он, открыв перед ними дверцу и багажник автомобиля, куда они поставили свои тяжелые сумки.
«ГРИНФИЛДС-ИНН» — было написано на дорожном указателе. «Как это красиво звучит, — думала Люба, поглядывая в окно машины, — и каким покоем веет от всего». Это было увитое плющом четырехэтажное здание в викторианском стиле — восемнадцать номеров.
Полковник, заводя машину на стоянку, тем временем объяснял Магде, что ей как человеку опытному и сведущему в кулинарии придется взять на себя заботы о гостиничном ресторане и питании постояльцев. Сам он займется рекламой. Дел впереди много, сезон только начинается.
К началу второй недели отель был заполнен до отказа. Магда работала, как каторжная, не выходя из кухни: надо было приготовить тридцать завтраков. От ленча многие постояльцы отказывались, чтобы не покидать пляж, но зато были не прочь взять с собой сандвичи. А потом наступало время обеда.
Все восемнадцать номеров надо было прибрать, в каждом постелить постели. Это выпало на долю Любы. Полковник обещал нанять горничную, но, по его словам, пока не нашел ничего подходящего. Тем не менее он был по-армейски придирчиво строг и требовал, чтобы все делалось в срок и как полагается. Очень скоро оказалось, что полковник умеет сердиться и тогда становится весьма неприятен. Впрочем, с постояльцами он всегда был улыбчив и приветлив, постоянно упоминал о «чудесной жене» и «очаровательной дочке».
Любу радовало одно: у нее теперь была своя комната на четвертом этаже, где помещались самые маленькие и дешевые номера, — не комната, а крошечная каморка, переделанная, наверно, из кладовой. Но зато она принадлежала ей.
Однако уже через неделю Люба своего достояния лишилась. Это был вечер субботы, и она, полумертвая от усталости, мечтала только подняться к себе и вытянуться на кровати. Они с Магдой домывали последние тарелки, когда на кухню вошел полковник Джонсон.
— Люба, — сказал он, — освободи свою комнату.
Она смотрела на него с недоумением.
— Постоялец, — объяснил он. — Вещи свои пока положишь к нам в шкаф. А переночуешь на диване в моем кабинете, — и, снова нацепив свою приветливую улыбку, повернулся и вышел.
— Почему он не сказал, что мест в гостинице нет? — вскинулась Люба.
Магда молча мыла посуду.
— Почему не отказался выкинуть свою очаровательную дочь из ее комнаты? Где его хваленое плаванье? Где балет? А теперь еще и комнату отнял! Дальше что?
— Разгар сезона, — наконец сказала Магда. — Он нервничает. Он хочет, чтобы дело шло. Пожалуйста, потерпи немножко.
— Потерпеть? Мы целый месяц пашем на него, как черные рабы. Он никого до сих пор не нанял нам в помощь — одни обещания! Обещания давать легко! Ему-то что! Напялит белый пиджак и стоит внизу, улыбается. Отличная работа: изображай из себя радушного хозяина да прибыль считай!
Магда грохнула кастрюлей о край раковины:
— Замолчи! Не желаю тебя слушать! Мы с тобой — в чужой стране, в незнакомом городе! Я хочу, чтобы наша жизнь…
Она осеклась. В дверях стоял полковник, неслышно подошедший в своих башмаках на резине.
— Вы — в Англии и говорить впредь извольте только по-английски, — отрывисто бросил он, и окинув их долгим колючим взглядом, круто повернулся и вышел.
Люба еле сдерживала ярость. Как могла так ошибиться Магда в этом человеке? Как она сама не сумела раскусить его сразу? Конечно, мать отчаянно держится за него, потому что еще одной неудачи она просто не переживет.
Ладно, решила она, я ей помогу. Как бы трудно мне ни пришлось, я сделаю это для нее — и стала подниматься по лестнице за своими вещами.
* * *
В кабинете стоял огромный и старомодный письменный стол-бюро с поднимающейся крышкой. Полковник каждый день священнодействовал за ним — проверял счета, вел гроссбухи, — никогда не забывая после работы тщательно запереть его на ключ, который хранил в застегнутом нагрудном кармане. Люба часто видела, как полковник то и дело ощупывает карман, проверяя, на месте ли ключ.
На вторую ночь она проснулась на жестком диване оттого, что прямо в лицо ей бил яркий свет. Полковник сидел за столом.
— Что случилось? — зевая, спросила она.
— Когда я работаю, мешать мне нельзя.
Он считал деньги — Люба видела целую кучу банкнот — сбивался и начинал сначала, бормоча себе под нос что-то о «нерадивости» и «лени». После того как британские колонии, получив независимость, национализировали банки, он потерял значительную сумму и с тех пор не доверял ни текущим счетам, ни абонентским сейфам. Сколько же у него тут денег? — думала Люба. Окончив подсчет, он опустил крышку стола, тщательно запер его и сунул ключ в карман.
То был его первый, но далеко не последний визит среди ночи.
Однажды он в полной парадной форме при всех орденах вломился в кабинет с криком:
— Подъем! Подъем! Сегодня день рождения ее величества королевы! Сбор и построение в пять по нулям Гринвича!
Ничего не соображая со сна, Люба помчалась вниз, где заспанная Магда прикрепляла британский флаг к вытяжным шнурам мачты во дворе. Появился полковник, скомандовал «смирно!» и поднял флаг.
— Мы будем устраивать этот церемониал в каждый национальный праздник, — сказал полковник, ведя их на кухню.
«Матерь Божья, — думала Люба, — и неужели всегда на рассвете?»
Было только начало шестого — еще целых два часа можно было бы спать… Но полковник заставил их взяться за работу и готовить парадный завтрак по случаю тезоименитства ее величества.
Он расхаживал по кухне, нетерпеливо поглядывая на них. Потом неожиданно смял кулаком-скрученные бутонами порции масла.
— Неправильно! Так не подают! — крикнул он.
Магда и Люба, стараясь не встречаться глазами, стали переделывать.
Через три часа, сияя медалями, глянцем башмаков, обворожительной улыбкой, выутюженный и надраенный полковник стоял в дверях столовой, встречая постояльцев:
— Доброе утро… Как вы спали?.. Моя жена приготовила сегодня кое-что особенное…
Еще через несколько часов он принял решение перенести все хозяйственные запасы и припасы из подвала на чердак, чтобы их не украли.
«Кому в голову взбредет красть твою туалетную бумагу?» — думала Люба, в десятый раз взбираясь по шаткой железной лесенке на чердак. Но она молчала, помня свое обещание.
Когда она наконец в последний раз появилась на чердаке, полковник аккуратно убирал все свои воинские доспехи и регалии в большой сундук. Сложил, закрыл украшенную вычурной резьбой крышку, запер сундук, отдал ему честь и вышел, как будто Любы не было там вовсе.
* * *
Но сезон, наконец, кончился. С моря задул холодный сентябрьский ветер, прогоняя тепло. Отель опустел. «Теперь, наверно, он угомонится», — думала Люба. От постояльцев не было отбоя все лето, дела шли превосходно, и заработал полковник немало, хоть и словом не обмолвился об этом — он, вообще, не считал нужным обсуждать с ними свои финансовые дела. «Теперь все изменится», — мечтали обе.
И все действительно изменилось. К худшему.
В отеле все шло, как в самый разгар сезона, — этого требовал полковник Джонсон. Хотя большая часть номеров опустела, Люба ночевала по-прежнему на диване в кабинете. Нетронутое постельное белье менялось каждое утро, и каждое утро натирались полы, по которым никто не ходил. «Мы должны быть в любую минуту готовы к приему постояльцев», — говорил полковник.
«Он что, спятил? — думала Люба, и тут вдруг ее осенило: — Да ведь он и в самом деле спятил! Он — сумасшедший!» Магда, словно прочитав ее мысли, сказала:
— Готовится съезд производителей и поставщиков пива. Полковник надеется, что он пройдет здесь, — и испуганно оглянулась на дверь. Запрет полковника говорить по-польски оставался в силе.
По ночам он теперь чаще приходил в кабинет — распахивал дверь, включал свет и начинал шагать из угла в угол, что-то недовольно бурча себе под нос.
Люба только хотела было обсудить с Магдой эти ночные вторжения, как они прекратились. Но она рано обрадовалась: однажды, когда она раздевалась на ночь, у нее возникло странное ощущение — она почувствовала на себе чей-то взгляд. Подскочив к двери, она распахнула ее настежь. В коридоре, нагнувшись к замочной скважине, стоял полковник Джонсон.
— Я проверял замки, — выпрямляясь, заявил он и удалился.
* * *
Люба лежала на диване, слушая, как шумит за окном проливной дождь. После происшествия на прошлой неделе она стала вешать на ручку двери полотенце, закрывая замочную скважину. Она чувствовала себя глубоко несчастной, внутри неудержимо нарастала злоба, и напрасно пыталась она отвлечься мыслями о чем-нибудь приятном. Даже самое испытанное средство — образ скачущих по кругу карусельных лошадок — не помогало ей сегодня: только выплыло из тьмы, приобретя четкие очертания, лицо Валентина, только заглушила полечка звуки ливня, как вдруг снизу долетел грохот, словно двигали и уронили мебель, а следом — пронзительный крик. Так кричат от боли. Это кричала Магда.
Люба соскочила с дивана, что-то набросила на себя и побежала вниз. Дернула дверь спальни. Заперто.
— Ты — грязная потаскуха! Я убью тебя, сука!
Боже, неужели эта брань срывалась с губ безупречного джентльмена? Люба ни разу не слышала от него такого?
— Не надо, не надо!.. — послышался умоляющий голос Магды.
«Он бьет ее!» — Люба забарабанила в дверь.
— Магда! Магда!
За дверью все стихло, а потом полковник рявкнул:
— Марш в свою комнату!
Снова раздались звуки ударов. Люба слышала свист кожаного ремня, рассекающего воздух, глухой удар и потом — вскрик матери. Она опять забарабанила в дверь.
— Ты что, оглохла, тварь?! Я кому сказал — отправляйся к себе! Сунешься сюда, я сверну ей шею!
Люба выбежала во двор, под дождь, и босиком, по лужам кинулась в полицию и, вымокшая до нитки, отводя от лица облепившие его волосы, влетела в двери участка.
— Он убивает мою мать! Он убивает ее! Спасите!
— Прежде всего успокойся, девочка, — ответил полисмен, сидевший за столом на небольшом возвышении. Он был толстый, лысый и с такими густыми моржовыми усами, словно хотел возместить ими недостаток волос на голове.
— Да помогите же! Мой отчим… он убьет ее!..
— Сожалею, мисс, — сказал полисмен, безмятежно перекладывая какие-то бумаги с места на место. — Сожалею, но вмешаться мы не можем.
— Вы что — не поняли? — закричала Люба, блуждающими глазами обводя комнату в поисках еще кого-нибудь. — Он убивает мою мать!
— Семейное дело, мисс, нас это не касается.
Люба лишилась дара речи. Даже в Польше такое было бы немыслимо.
— Таков наш английский закон, — пояснил полисмен, заметив, очевидно, ее акцент.
Высокий молодой сержант подошел к Любе. Он смотрел на нее с участием, и на секунду мелькнула надежда, что он поможет.
— Выпейте чая, — приятным голосом сказал он. Люба уставилась на него. Сержант явно был смущен: лицо с пробивающимися над верхней губой усиками залилось краской. — Выпейте, — повторил он, улыбаясь.
Она не верила своим ушам, не понимала, что происходит: ее мать убивают, она обращается в полицию за помощью и защитой, а ей предлагают выпить чая.
— Отличный, горячий чай, — продолжал сержант.
Покачав головой, Люба вышла за дверь и зашлепала по лужам назад. Когда, совсем окоченев, она добралась до отеля, то обнаружила, что дверь заперта. По счастью, недавно она спрятала ключ в горшок с искусственными геранями. Войдя, она затаила дыхание, прислушалась. В доме стояла мертвая тишина.
* * *
Наутро Люба подкараулила Магду в буфетной и загородила дверь.
— Сколько еще это будет продолжаться? — вполголоса спросила она.
В глазах матери был ужас.
— Не надо об этом, Люба. Все хорошо.
— Хорошо?! Что хорошего? Ты понимаешь, что он — сумасшедший? Надо бежать отсюда.
— Куда нам с тобой бежать?
— Да куда глаза глядят!
— Он мой законный муж… Скоро все наладится… вот увидишь.
Увидев приближающегося полковника, она торопливо отвернулась.
Джонсон вошел и медленно обогнул длинный разделочный стол посреди комнаты, не сводя глаз с Магды и Любы. Потом остановился, взглянул вниз и, достав носовой платок, обмахнул пыль со своих сияющих ботинок. Потом медленно сложил и спрятал платок в карман. Растопырив пальцы, оперся обеими руками о край стола, вытянул шею и взглянул на Магду.
— Здесь говорят только по-английски. Только по-английски, Магда! Ты что, забыла?
— Нет, — тихо отвечала та. — Я помню…
— Громче! — потребовал он.
— Я помню.
Люба отвернулась, чтобы никто не видел, как закипают у нее в глазах злые слезы.
* * *
Прислонив альбом к закрытой крышке бюро, Люба красным карандашом делала злую карикатуру на отчима. Они с Магдой попали в самый настоящий омут, еще немного — и их утянет на дно. Надо бежать, пока не поздно.
День был для конца сентября необычайно теплый, и Люба взмокла — то ли от жары, то ли от ненависти. Отложив альбом, она сняла блузку, подошла к умывальнику за ширмой, раскрутила кран и стала брызгать на себя холодной водой. Внезапно она услышала скрип отворяющейся двери. В кабинет вошел полковник.
Люба замерла за ширмой, надеясь, что он скоро уйдет, и не понимая, что он делает. Она прислушалась. Может быть, он уже вышел?
В эту минуту просунувшаяся за ширму рука схватила ее за грудь.
— Дай, я тебе помогу, — произнес знакомый ненавистный голос.
Люба резко обернулась. Полковник Джонсон стоял перед ней совершенно голый и в состоянии крайнего возбуждения.
— Не трогайте меня! — она оттолкнула его и кинулась за своей блузкой.
Полковник, вырвав из альбома лист с нелестным для себя изображением, размахивал им, приплясывая вокруг Любы и приговаривая:
— Грязная тварь… грязная маленькая блядь…
Он разорвал рисунок на мелкие кусочки, подкинул их вверх, как конфетти, и еще быстрее заплясал вокруг Любы, онанируя и скороговоркой выкрикивая бранные слова.
Люба бросилась вон из комнаты, и в этот миг полковник кончил.
Весь день после этого она старалась не встречаться с Магдой. Как она посмотрит ей в глаза? Как расскажет о случившемся? У нее в памяти еще свежа память о Хаиме, и она решит, что Люба повторила свой опыт.
Люба накрывала столы к ужину, раскладывала серебро, когда в дверях появился полковник Джонсон в своем кургузом белом пиджачке. Он испытующе взглянул на нее, спросил: «Чего нос повесила?» — и, не дожидаясь ответа, вышел.
* * *
Пришла осень, а за ней — зима, но все оставалось по-прежнему: периоды затишья сменялись бешеными вспышками. Магда скрывала синяки, Люба делала вид, что не замечает их. Полковник никогда не бил жену по лицу, с осмотрительностью безумца помня, что с фонарем под глазом ей нельзя будет обслуживать постояльцев.
Стараясь как можно реже встречаться с ним, Люба проводила все свободное время на чердаке. Забравшись на сундук, она клала на колени альбом и рисовала, пытаясь не думать о том, что происходит внизу. Но забавные карусельные лошадки, выходившие из-под ее карандаша в Кракове, здесь уступили место туманным силуэтам, прильнувшим к изгороди лагеря «Сан-Сабба», дохлому окуню на прибрежном песке, океанскому пейзажу, перечеркнутому тяжелыми стальными конструкциями.
Ее отсутствие не принималось во внимание: полковник делал вид, что не замечает его. Потом он повторил свою атаку.
В тот день она, став коленями на стул, подравнивала брови перед маленьким зеркальцем в кабинете. Щелкнул замок. В зеркало она увидела входящего в полной форме полковника. Он стал навытяжку у двери, потом быстро расстегнул молнию на брюках и начал мастурбацию. Люба, не поворачиваясь, смотрела на него в зеркало.
Когда он подошел ближе, она резко обернулась и схватила его за напряженный член. Полковник отпрянул назад, как ужаленный, но она держала его крепко и, толкнув к стене, процедила сквозь стиснутые зубы:
— Ну, давай по…ся.
Полковник в оцепенении привалился к стене, бормоча бессвязную брань. Волна ярости захлестнула ее, ударила в голову, и Люба принялась колотить его, сама поражаясь кипевшему в ней бешенству.
— Ты… старый козел… сволочь… только попробуй еще хоть раз ударить Магду… Я убью тебя, поганая скотина!..
Полковник не сопротивлялся. Выбившись из сил, она выскочила из кабинета, слетела вниз и, накинув пальто, толкнула входную дверь. День был ясный и яркий. Люба жадно вдохнула свежий воздух, но гадкий осадок не проходил. Она оглянулась по сторонам: уже зацвели крокусы — весна в этом году будет ранняя. Это был первый погожий мартовский день, и все жители Брайтона наслаждались теплом.
На улице она поравнялась с тем долговязым полицейским сержантом, который так настойчиво угощал ее чаем. Он поднес руку к козырьку шлема, приветствуя Любу:
— Как поживаете, мисс? Славный денек, а?
Люба ничего не ответила и продолжала шагать, обгоняя счастливых мамаш, толкавших по тротуару коляски. На скамейке на фоне отливавшего серебром спокойного моря сидели, прижавшись друг к другу, влюбленные. Ей бы тоже хотелось любить и быть любимой, а не отбиваться от наскоков старого полоумного извращенца. И Магде бы тоже хотелось. Как она старалась вырваться из Кракова! Как ликовала, когда Господь услышал ее молитву и в награду за все муки послал ей в мужья полковника Джонсона! Хороша награда…
Ведь он по-настоящему болен психически, это ясно. Куда заведет его это безумие, что будет дальше? Магда работала, как одержимая, и ничего не желала слушать. Когда Люба заговаривала с ней, она просто отмахивалась.
— У нас с тобой нет денег даже на билеты.
— Я достану денег.
— Откуда, Люба? Может быть, взломаешь его бюро?
— Его не взломаешь, а с ключом эта старая сука не расстается…
— Ну, предположим, мы уедем. Куда? В Краков?
— А хоть бы и в Краков! Там было в тысячу раз лучше! Ну ладно, поедем в Лондон. Помнишь Луи, которая предлагала мне устроиться в «эскорт-сервис»? У меня остался ее телефон и адрес.
— Это все равно, что снова идти на панель.
— Ну и что? Платят хорошо.
— Ни за что. Никогда этого больше не будет.
И сейчас, вспоминая эти разговоры, Люба смотрела на серебристые волны и думала, нет ли тут ее вины. Может быть, ей уехать, и Магде станет легче? Печальные ее, мысли были прерваны слабым, мучительно знакомым звуком. Люба побежала в ту сторону, откуда он слышался, и вскоре увидела небольшую карусель. Детский смех переплетался с полечкой.
Валентин, где ты? Это было единственное светлое и тщательно хранимое где-то на дне души воспоминание… По ночам Валентин появлялся из тьмы, улыбался, утешал ее, кружился вместе с лошадками карусели, не сводя с нее глаз, а она подскакивала вверх-вниз, вверх-вниз, в восторге уносясь все дальше и дальше под неотвязную мелодию, звучавшую в ней:
Без остановки, лошадка, умчись Сквозь непогоду и вьюгу, Как карусель, наша бедная жизнь Путь свой свершает по кругу.* * *
Весна выиграла сражение, с ликующим громом и шумом штурмуя последние цитадели зимы. За окном лил дождь, и черное небо полосовали молнии. Люба, закутавшись в одеяло, лежала на диванчике в кабинете и ждала, когда перед мысленным ее взором появится Валентин.
Но этот сон наяву был прерван дикими криками, заглушившими даже раскаты грома.
Соскочив с дивана, она, как тогда, побежала вниз. Крики усиливались и стали невыносимыми, когда она толкнула дверь в спальню. Дверь поддалась. Магда извивалась на полу, полковник Джонсон, сидя верхом, стегал ее кожаным ремнем. Оба были голые. Полковник изрыгал чудовищную брань.
Люба вцепилась ему в плечи, пытаясь оторвать от матери. Он отшвырнул ее с неожиданной силой, лицо его было искажено слепой яростью.
— Убирайся отсюда! — зарычал он. Потом подскочил к стенному шкафу, распахнул створки и принялся срывать с вешалок ее вещи. — Вон отсюда! Вон! — Он сгреб в кучу туфли и платья, схватил чемодан и выбросил все это в дверь. — Убирайся, пока цела!
Люба стояла не шевелясь. Багровое лицо придвинулось почти вплотную:
— Ты что, оглохла, тварь?
— Магда, вставай, вставай, пойдем со мной, — овладев собой, обратилась она к матери.
Та поднялась на ноги, но полковник одной рукой вцепился ей в горло, а другой схватил с туалетного столика длинные ножницы и приставил к ее груди. Все трое на мгновение застыли, сделавшись похожими на восковые фигуры из музея мадам Тюссо.
— Еще шаг — и я ее убью, — с ледяным спокойствием сказал полковник.
— Уходи, Люба, — пролепетала Магда.
Люба окинула взглядом два голых, блестящих от пота тела. Мать была покрыта синеватыми рубцами от ударов ремня, по ноге текла струйка крови. Острия ножниц уже готовы были проткнуть кожу на груди и вонзиться глубже.
— Бросьте ножницы — тогда уйду, — стараясь, чтобы не дрожал голос, сказала она.
Полковник медленно опустил и швырнул ножницы на кровать. Из глаз Магды хлынули слезы.
— Уходи, уходи, прошу тебя…
Люба забрала ножницы и вышла. Тотчас дверь захлопнулась за ней, ключ повернулся в замке. Все смолкло — слышался только шум ливня за окном. Она сложила разбросанные вещи в чемодан.
«Я давно говорила ей, что надо бежать от него. Я старалась как могла помочь ей. Что еще я могу сделать? — Люба отчаянно старалась не заплакать. — Я делала все, что было в моих силах… Но ведь я тоже человек, мне всего девятнадцать лет, я хочу жить, я не хочу похоронить себя здесь…»
Как тогда, она вышла под дождь. Но на этот раз назад не вернулась. Первым же поездом она уехала в Лондон.
Глава VII
1968.
БЕВЕРЛИ ХИЛЛЗ, КАЛИФОРНИЯ.
Дэнни сотрудничал с «Фэймос Артистс» уже пятнадцать лет, но пока ни разу не удостоился чести побывать на торжественном обеде, который ежегодно устраивал владелец и глава агентства Чарли Гроссман. Да что Дэнни — не звали даже Милтона Шульца, который сидел через два кабинета от босса. Список примерно из шестидесяти фамилий подробно комментировался ведущими светских хроник и давал ясное представление о том, кто есть кто в Голливуде. В этом году наконец обоих включили в этот престижнейший перечень. Милт был на седьмом небе и даже купил себе новый смокинг, а Дэнни досадовал — в приглашении его фамилию написали через одно «н».
Милтон вел машину, Дэнни сидел рядом, на заднем же сидении, оберегая многоярдный тафтяной подол, раскинулась Сара. Служитель на стоянке занялся автомобилем, а они стали подниматься по каменным ступеням, ведущим к парадному входу, причем Сара шепотом заклинала мужа не наступить на шлейф своего платья.
Дэнни удивило скромное убранство дома, выдержанное в приглушенных серовато-бежевых тонах, оно придавало обстановке особую изысканную простоту, служа прекрасным фоном для великолепного собрания живописи: Дэнни заметил полотна Моне, Вламинка, Матисса, Шагала, а чьей кисти принадлежали другие, он не знал.
К ним приблизился Чарли Гроссман, и Дэнни впервые в жизни представилась возможность поговорить с человеком, чье агентство забирало десять процентов всех его гонораров. Во избежание недоразумений Милтон поторопился представить его:
— Чарли, познакомьтесь с одним из самых значительных наших клиентов — Дэнни Деннисон.
Гроссман, словно знал Дэнни с детства, похлопал его по спине.
— Налейте себе что-нибудь, Дэнни. Будьте как дома.
И он отошел к Джеку Уорнеру и Деррилу Зануку — двум крупнейшим киномагнатам, ненавидевшим друг друга лютой ненавистью, но на людях демонстрировавшим самые нежные чувства. Милт, Сара и Дэнни — неразлучные, как три мушкетера, двинулись по просторному холлу, заглядывая направо и налево в комнаты, набитые знаменитостями. Здесь были самые «сливки» — Джоан Кроуфорд, Рита Хэйуорт, Кэтрин Хэпберн и все руководители голливудских студий. Ширли Маклейн в «мини» громко хохотала над остротой, пущенной ее братом Уорреном Битти с другого конца гостиной. Джейн Фонда, Не обращая никакого внимания на окружающих, нежно держала за руку своего нового французского мужа Роже Вадима. Но сколько бы звезд ни собралось здесь, все взоры притягивала к себе Элизабет Тейлор, которая в этот вечер подчеркнуто не замечала Ричарда Бартона.
Когда гостей пригласили к столу, все во главе с губернатором Калифорнии Рональдом Рейганом и его женой Нэнси потянулись в освещенный свечами сад. Персики на ветках соперничали красотой с персиками на фарфоровых блюдах, которыми были уставлены окружавшие плавательный бассейн столы. Каждый стол был украшен орхидеями. Дэнни убедился, что и на карточке перед прибором его фамилия переврана. Соседкой справа оказалась знаменитая миссис Чендлер, основательница Музыкального центра, где так привольно жилось театру, опере и балету. Место слева было не занято. На карточке значилось: «Мисс Стефани Стоунхэм». «Вот влип, — подумал Дэнни, — нечего сказать, повезло: посадили между вдовствующей императрицей и старой девой».
По другую сторону пустовавшего стула сидел бывший оптик и нынешний глава компании «МТТ» Адольф Бернс, непринужденно переговаривавшийся с миссис Чендлер через голову Дэнни, словно тот был невидимкой. Бернс носил очки, но, должно быть, как думал Дэнни, он неверно выписал себе на них рецепт.
В эту минуту что-то произошло. Бернс остановился на полуслове и заулыбался, глядя куда-то поверх головы миссис Чендлер. Дэнни взглянул туда же.
По дорожке, выложенной каменными плитами, к их столу шла женщина. Все головы поворачивались к ней. Неудивительно — никого красивей ее Дэнни в жизни не видел. Высокая и тонкая, с золотистыми волосами до плеч, она, казалось, не шла, а стремительно плыла между столами, держа курс прямо на него. Бернс поднялся ей навстречу, расцеловал ее в обе щеки.
— Стефани, дорогая, наконец-то! Я уже начал опасаться, что вы совсем не придете.
— Ну как же я могла не прийти? — она грациозно опустилась на стул.
Дэнни не мог отвести глаз от ее длинной, молочно-белой шеи, так плавно перетекавшей к безупречно выточенным оголенным плечам и к облачку голубого шифона, которое трепетало на полной груди.
Окинув его взглядом дымчато-серых глаз, она взяла со стола карточку:
— Мистер Денисон?
— Да, только с двумя «н».
Она улыбнулась.
— А вы — мисс Стефани Стоунхэм?
— Как вы догадливы…
— Вы — актриса?
— Господи, конечно, нет! — хрипловато рассмеялась она. — Последнее, чего бы мне хотелось в этой жизни, — это быть актрисой!
Чтобы такая красавица не хотела сниматься в кино? Для Дэнни само собой подразумевалось, что всякая миловидная девушка в Голливуде мечтает стать звездой. Краем глаза он видел, что мажордом, склонившись к Бернсу, что-то шепчет ему на ухо, а тот поднимается. Обернулась и Стефани:
— Вы меня покидаете, Адольф?
— Что поделаешь, дорогая, я должен отвезти Агнес домой. Для нее час коктейлей опять несколько затянулся, — добавил он не без досады.
— Ах, как жалко. Поцелуйте ее за меня.
— Непременно. А вы не забудьте — в пятницу вечером мы вас ждем.
— Адольф, я не смогу… Я должна быть на Лонг-Айленде.
— Это очень досадно, Стефани. Нам будет вас не хватать. Ну передайте в таком случае Джи-Эл, что мы постараемся все же выбраться с ним на юг Франции, — и он отошел, так ни разу и не взглянув на Дэнни.
Пока Стефани, не притронувшись к супу, маленькими глотками пила вино, Дэнни предпринял попытку возобновить беседу.
— Вы живете на Лонг-Айленде?
— О, нет, просто отец устраивает прием в честь принцессы Маргарет и требует, чтобы я непременно была там.
Да что она, издевается над ним, что ли? Очень хороша, но несет какую-то несусветную чушь.
Подали «гвоздь программы» — лососину со спаржей и рисом, — но соседка не ела, а занималась тем, что складывала рис на тарелке маленькими кучками. Дэнни, соображая, как продолжить разговор, смотрел на ее длинные, тонкие пальцы, нервно вертевшие вилку. Внезапно она поднялась со своего места:
— Пойду повращаюсь в обществе и заодно выясню, кто доставит меня домой.
— Останьтесь в моем обществе, и я возьму это на себя, — быстро проговорил Дэнни.
Их глаза встретились. Он видел, что она оценивает его, и чувствовал, что оценка довольно высокая.
— Ну что ж, — сказала она. — Я сейчас буду готова.
Она ушла, и только тут Дэнни спохватился, что его привезли сюда Шульцы на своей машине. Да где же они? Миссис Чендлер, обращаясь ко всем сразу, пустилась в пространные описания оперной премьеры, недавно прошедшей в ее Центре. Дэнни вертел головой, пока наконец не заметил махавшего ему рукой Милта. Когда миссис Чендлер на минутку остановилась перевести дух, он сумел улизнуть от стола.
— Милт, кто такая эта Стефани Стоунхэм, с которой меня посадили?
— Ты что, не знаешь?
— Не знаю. Вижу, что при больших деньгах. И очень хороша.
— Это дочь Д. Л. Стоунхэма.
— А это кто?
— То, что называется «акула Уолл-стрит», один из самых богатых людей страны.
— Так, значит, она в самом деле летит на Лонг-Айленд?
— Дэнни был ошеломлен.
— А почему бы и нет, раз там живет ее отец?
— И будет обедать с принцессой Маргарет?
— Вполне вероятно.
Дэнни всегда гордился тем, что сразу умеет расслышать ложь в словах собеседника. И вот вам, пожалуйста, — не поверил чистой правде.
Он стал озираться по сторонам, но ее нигде не было. Гости уже разъезжались. Может быть, кто-нибудь другой предложил подвезти ее? Тут его слегка дернули за рукав:
— Вы собирались бросить меня на произвол судьбы?
Перед ним стояла улыбающаяся Стефани — она показалась ему еще красивей, чем прежде.
— Что вы! Я договаривался с тем, кто нас отвезет, — и показал на Милтона.
— Привет, — сказал тот, пожимая ей руку. — Я агент этого блистательного юного дарования. Дела его идут так успешно, что вечерами я подрабатываю еще и шофером, — и он зашелся своим кудахтающим смехом.
Когда сели в машину, Дэнни заметил, что Сара внимательно разглядывает шифоновое платье Стефани — изысканно простое, классически строгое и дьявольски шикарное, — так разительно отличавшееся от ее собственного аляповатого туалета с топорщившимися на обширной груди кружевами.
Милтон был в отличном настроении и не умолкал ни на минуту, не давая Дэнни перемолвиться со своей спутницей хотя бы словом.
— А этот знаете? — Милтон хохотал, еще не успев начать рассказывать. — Решил один пьяный заняться подледным ловом. Продолбил лунку, опустил леску, сидит и ждет. Вдруг слышит громовой голос, — он заговорил громкий, натужным басом: «Здесь рыбы нет!» — и обернулся посмотреть, как воспринимают анекдот на заднем сиденьи.
— Милт, я тебя умоляю, следи за дорогой, — сказала Сара, слышавшая эту историю много раз.
— Ну вот, — продолжал неугомонный рассказчик, — он, значит, встает, переходит на другое место, снова вертит лунку и снова слышит голос: «Здесь рыбы нет!» И так — несколько раз. Потом поднимает голову и спрашивает: «А кто это со мной говорит?» А голос отвечает: «Тренер по фигурному катанию!»
Милт судорожно задергался от смеха, и Сара на всякий случай положила руку на руль.
— Чтоб ты был Боб Хоуп — так нет, — сказала она.
Но Стефани расхохоталась еще громче и веселей, чем Милт. Дэнни понравилось, что она ведет себя так раскованно и естественно. Когда понеслись по Родео-драйв к отелю «Беверли Уилшир», он отважился слегка прижаться бедром к ее бедру. Она ничего на это не сказала, но и не отодвинулась. У дверей отеля он пожелал ей спокойной ночи и галантно поцеловал руку.
— Вижу, мои уроки пошли тебе на пользу, — закудахтал Милт, когда он вернулся в машину.
— Милт, и Казанова из тебя — тоже никакой, — вздохнула Сара.
* * *
Наутро Дэнни первым делом отправился в цветочный магазин и послал Стефани букет белых роз, приложив к ним записку:
Позвоните мне, прежде чем они завянут.
Дэнни Деннисон (через два «н»).После чего отправился в кабинет Милта Шульца, недавно заново отделанный Сарой в восточном вкусе (даже шахматы были китайские, а фотография очередной старлетки висела на стене в бамбуковой рамочке).
— Не могу ее забыть, — признался он Милту, глядя, как внизу течет поток автомобилей.
— А придется. Джи-Эл — не только ее папаша, но и всем известный сукин сын. Он тебя близко к ней не подпустит.
— Что ты имеешь в виду?
Милт поскреб свою бородку.
— Да все же знают эту историю! Его отец лежал в больнице при смерти. Все состояние перевел на Джи-Эл. А потом взял да и выздоровел! И что ты думаешь — тот отдал деньги?! Даже не подумал! И старик, оставшись без гроша, все же умер — с горя. Вот я тебя и спрашиваю: как еще назвать такого человека?
— Да что мне за дело до него? Меня интересует Стефани. Когда она возвращается?
— Понятия не имею.
В эту минуту в кабинет вошла секретарша:
— Мистер Шульц… «ЭЙС-ФИЛМЗ» прислала нам документы для мистера Деннисона.
Милтон, расплывшись в улыбке, схватил бумаги, похлопал ладонью по сиденью дивана, приглашая Дэнни сесть рядом. Они быстро просмотрели контракты на его шестую картину — это была переделка шекспировской комедии «Много шума из ничего».
Пухлый палец Милта ткнул в одну из граф договора — Дэнни увидел, что гонорар его значительно увеличился.
— Теперь хватит и на бассейн, и на теннисный корт, — самодовольно сказал Милт и перевернул страницу. — А погляди-ка сюда: в первый раз в титрах будет «Фильм Дэниела Деннисона», а уже потом название. Сделайте еще несколько экземпляров, — приказал он секретарше, — мистер Деннисон окантует этот контракт и повесит на стенку.
Когда секретарша вышла из кабинета, Дэнни закрыл лицо руками.
— Я горд тем, Дэнни, что мне все это удалось из них выбить. А ты что, не рад?
— Да нет, старина, я рад и очень тебе признателен… Но знаешь, «Много шума из ничего» — так можно озаглавить всю мою жизнь. Мне платят большие деньги за пустышки, за ленты, в которых нет ничего. И дела никому до этого нет.
— Неправда, Дэнни, люди ходят на твои фильмы, они им нравятся, на два часа они забывают все свои неприятности, и это очень важно…
— Ах, Милт, ты не понимаешь…
— Не дури, Дэнни… — Милт обнял его за плечи. — Тысячи людей мечтали бы оказаться на твоем месте, зарабатывать так, как ты зарабатываешь, и обладать твоим талантом. И хотел бы я посмотреть, что сумели бы сделать из такого дерьма, с которым ты имеешь дело, Казан или Уайлдер!
— То-то и оно, Милт. А мне хочется сделать ленту, которая бы что-нибудь значила и о чем-нибудь говорила…
— Так, пошло по кругу… Значит, искусством желаете заняться, а не ремесленными штучками-дрючками? Может, ты собираешься экранизировать ту древнюю пьесу… как ее?.. ну, про добрые дела? А что? Чем плохо? Сюжета нет, характеров нет, играть нечего, одна сплошная проповедь.
— Напрасно смеешься. Просто я еще не имею права поставить такой фильм. Пока еще не имею. Но я нутром чувствую — это было бы послание ко всему человечеству!..
Милтон в изнеможении откинулся на спинку дивана.
— Опять Кафка.
— Что?
— Понимаешь, у меня был клиент, даровитый режиссер, — Милт сел попрямей. — Тоже с закидонами. Хотел снять фильм по рассказам Кафки. Я тогда еще был сопляк, дал себя уговорить. Ну, снял он свое кино. Полный провал.
— А о чем кино?
— О евреях. Помнишь, я тогда еще, в первую нашу встречу, тебе сказал, что это не тема. Публику на нее не соберешь! Этот парень тоже все носился с идеей послания всему человечеству. Кончилось все пшиком. Я тебя хочу от этого предостеречь.
— Пшик — это то, что я сейчас делаю. А я хочу снимать кино! И вовсе необязательно на еврейскую тему…
— Дэнни, я не буду с тобой спорить. Прошу только — забудь пока об этом. Ладно?
* * *
Но забыть об этом Дэнни мог только, начав думать о Стефани, о ее длинной стройной шее, о прядях золотых волос, падающих на голые плечи, о той минуте, когда ее дымчатые глаза встретили его взгляд. Стефани дала о себе знать через неделю.
Когда часов в одиннадцать он вернулся со студии, то обнаружил под дверью записку:
Я пришла, а вас нет. Позвоните. Спасибо за цветы.
Она прислала записку с посыльным или была здесь сама? Дэнни не мог в это поверить. Он взглянул на часы. Не поздно ли звонить? Надо рискнуть.
— Да? — он узнал бы этот голос из тысячи.
— Простите за поздний звонок, но… — Начал он.
Она перебила его:
— Нет, нет, нисколько не поздно, приходите.
Дэнни, несколько удивленный этим приглашением, быстро побрился, надел легкие светлые брюки и рубашку «оксфорд» и поехал в «Беверли Уилшир».
Стефани ждала его в атласном домашнем платье цвета шампанского, удивительно сочетавшимся с ее золотыми волосами. Дэнни не мог не отметить, что под платьем этим ничего не было.
— Я совсем недавно вернулась, мне нужно как следует выпить, чтобы организм поскорее забыл Лонг-Айленд.
— Готов участвовать.
Она налила ему и себе двойного виски, присела рядом.
— Как провели время?
— Как всегда — провалялась в постели больная. Боже, как я его ненавижу!
— Кого?
— Отца. Как вижу — так заболеваю.
— Почему? Он плохо к вам относится?
— Он отлично ко мне относится, когда я делаю то, что он хочет. Видите, какой славный номер? — Дэнни огляделся по сторонам, только сейчас заметив обстановку — сплошь белая кожа и стекло. — Это его апартаменты. Если я не буду его слушаться, он меня отсюда выгонит.
— Это вы всерьез?
— Так уже бывало. Ему никак не угодишь: что бы я ни надела — не то, что бы ни сказала — глупо. Я не могу быть такой, какой он хочет меня видеть. Я его ненавижу, — слезы выступили у нее на глазах.
Дэнни обнял ее за плечи.
— Не надо, Стефани. Давайте забудем его. Мне вот вы нравитесь какая есть.
Ее заплаканное лицо вмиг просияло.
— Мне еще никогда не говорили этого, — сказала она и с кокетливой улыбкой придвинулась ближе. — Я так рада, что вы пришли, Дэнни.
Она прикоснулась губами к мочке его уха — и его словно пробил сладостный электрический разряд. Он повернул голову, и их губы встретились. Поцелуй продолжался, Стефани расстегивала на нем рубашку. Длинные нервные пальцы, которыми он любовался еще за столом, теперь медленно двигались по его груди, расстегивали пояс, поглаживали и теребили напряженный член.
Потом она повернула выключатель лампы и плавно соскользнула на пол. Свет едва проникал в комнату через полуоткрытую дверь, и в этом мягком сумраке Дэнни увидел, как Стефани, вытянувшись на меховом ковре, обеими руками медленным истомным движением развела в стороны края своего атласного одеяния. Ее нагота была ошеломляюще прекрасна.
Дэнни склонялся к ней, гладя рукой по шелковистым волосам и шее, потом охватил ладонью крепкую грудь, почувствовав, как от его прикосновения выпрямился и отвердел сосок. Он опустился на пол рядом с нею, ощущая под пальцами влажное тепло между ее ног. Ласки его были осторожны и бережны. Стефани закусила губу, потом простонала: «О, Дэнни…», — мотая головой из стороны в сторону.
Разметавшись на полу, она приняла его, с силой вцепилась в его плечи, прижимая к себе. Дэнни чувствовал, как под его тяжестью упруго подаются ее груди, но она только крепче держала его. Движения его стали более стремительными и размашистыми, он ощущал свою силу и, наконец, бурно и обильно разрядился. Тяжело дыша, лежал он на еще содрогавшемся под ним теле Стефани. Она так и не отпускала его.
* * *
Наутро, небрежно побросав кое-какие вещи в сумку, она поехала с ним, к нему, в его маленький дом на Тауэр-роуд. Дэнни был во власти неизведанных и упоительных ощущений, поглядывая на сидевшую рядом красавицу самого что ни на есть высшего класса.
Дома она преподнесла ему еще один сюрприз — оказалось, что она великолепно и изысканно готовит. Приезжая со студии, он вдыхал струившиеся из кухни ароматы каких-то экзотических блюд. В комнатах теперь всегда стояли свежие цветы, появились новые светильники и коврики, а потом и аквариум с диковинными яркими рыбами. Дом преобразился.
Просыпаясь по утрам, Дэнни любил подолгу рассматривать ангельское личико крепко спящей Стефани в ореоле золотистых волос. Приходя домой, он слышал ее голос, взлетал по лестнице — и находил ее в ванне: устремив на него призывный взгляд, она протягивала ему мыло. Обладание ею было чудесно: Стефани уступала ему с детской покорностью, от которой Дэнни чувствовал себя всемогущим. Отчего же он заколебался, когда она предложила жениться на ней? Он сам не знал. Ему тридцать шесть лет. Еще ни к одной женщине его не тянуло с такой силой. Ясно, что это было — настоящее. Так почему бы не жениться?
Но слишком стремительно все произошло. И потом его смущали резкие перепады ее настроения — то почти истерическое веселье, то слезы. Она была непредсказуема. Ему хотелось бы жениться на ней, но что-то его удерживало. Однако все решилось само собой, когда через неделю грубый голос в телефонной трубке заявил:
— Я категорически против.
Это был Джи-Эл Стоунхэм.
— Против чего, мистер Стоунхэм?
— Моя дочь — человек неуравновешенный, увлекающийся, она не представляет себе всех последствий. А я не желаю, чтобы она становилась женой актера. Ясно?
— Я не актер, мистер Стоунхэм, а режиссер.
— Это все равно — одна еврейская шатия.
— Я не еврей, — чуть поспешней, чем следовало бы, сказал он.
— Неважно, вы заражены тем же духом.
— Что?
— Короче говоря, на Стефани вы не женитесь!
— А вам не кажется, сэр, что это дело касается только нас с ней?
— Нет! — взревел собеседник. — Как будто вы первый, кто разевал рот на ее приданое!
— Послушайте, мистер Стоунхэм, — но тот не дал ему договорить: — Так вот, предупреждаю: если этот брак состоится, никто из вас не получит ни цента!
— Мистер Стоунхэм, о чем вы…
— …а вот если у тебя, сынок, хватит ума отойти в сторонку, то появится возможность огрести куш поприличней.
— Вы что, покупаете меня?
— Всему на свете — своя цена, сынок. Я тебе предлагаю выгодную сделку.
— Я не продаюсь! — и Дэнни швырнул трубку.
К исходу следующего дня они со Стефанией улетели в Лас-Вегас и обвенчались.
* * *
Джи-Эл никак не прореагировал — молчание его становилось демонстративным, но Стефани, если и была задета, не показала обиды. Они были счастливы, и, где бы ни появлялись, на них смотрели во все глаза. Прекрасная пара: высокий темноволосый красавец Дэнни, словно излучающий энергию, и тонкая, неправдоподобно стройная Стефани с золотыми волосами.
Она любила появляться с Дэнни там, где собиралась элита, и даже устроила ему членство в закрытом клубе «Вестсайд Кантри», где он мог играть в теннис с ее друзьями.
Все шло прекрасно, если не считать явного охлаждения к нему со стороны Сары Шульц. После первого же обеда у них, когда она блеснула фаршированной рыбой и борщом, стало ясно, что закадычными подругами-наперсницами женщины не станут. Зато Милт и Дэнни стали чаще проводить время вдвоем, без жен.
* * *
Джи-Эл наконец дал знать о себе: его поверенный прислал Стефани письмо, где уведомлял, что мистер Стоунхэм предпринимает шаги по лишению ее наследства по суду…
Мистер Стоунхэм сим уведомляет вас, что отныне не считает вас своей дочерью.
Это произвело на Стефани неожиданно сильное впечатление. Дэнни, вернувшись домой с натурных съемок, нашел жену в полубессознательном состоянии: по всей видимости, она пила несколько дней подряд.
Когда она немного пришла в себя, он решил поговорить с ней:
— Мы же это предвидели. Отчего ты впала в такое отчаянье?
— Но он же отнял у меня все!..
— Ну и что? Зачем нам его деньги? Я зарабатываю достаточно.
— Да ведь дело не только в деньгах! Получается, что у меня нет и не было отца, что я — как из приюта…
— Какие глупости, Стефани…
Но переубедить ее он не мог: она продолжала твердить, что чувствует себя покинутой, брошенной на произвол судьбы. Потом ее уныние исчезло так же быстро, как появилось, Стефани опять стала беззаботна и весела.
Новый срыв произошел через месяц.
Она предложила устроить небольшой званый обед. Дэнни одобрил эту идею — ему хотелось похвастать перед гостями своим домом и кулинарными талантами жены, которая по такому случаю приготовит что-нибудь восхитительное. Решено было позвать Арта Ганна и еще нескольких магнатов кинобизнеса.
Накануне обеда он обнаружил, что ничего не готово, а у Стефани — очередной срыв. Она запила.
Дэнни в ярости тряс ее за плечи:
— Да соберись же, приди в себя, ведь скоро начнут собираться люди!
— Не могу, не могу… — стонала она в ответ.
— Да что тут такого — приготовить обед?! У тебя это так замечательно получается!
— Не могу! — выкрикнула она, вырвалась и побежала наверх. Щелкнул замок в двери спальни.
Дэнни вне себя от гнева вылетел из дому. Пришлось поручить секретарше позвонить всем приглашенным и сообщить, что обед отменяется — Стефани нездорова. Домой он вернулся с твердым намерением выяснить с нею отношения — раз и навсегда. Но дома ее не было, она исчезла, даже не оставив записки. Двое суток Дэнни не находил себе места, не зная, где ее искать. На третий день она появилась.
— Стефани, я тут с ума схожу, где ты была?
— На Лонг-Айленде.
— У отца?
— Нет, — она заплакала. — Он не захотел меня видеть. У меня нет больше дома, мне нет места на земле, мне негде преклонить голову…
Дэнни обнял ее, привлек к себе.
— Твой дом — здесь. И место твое — здесь, рядом со мной. Я так тревожился о тебе эти два дня, так тосковал…
— Правда? — она просияла, плотней прижалась к нему.
Последовавшая за этим ночь любви навсегда запомнилась Дэнни.
Он решил проявлять к жене еще больше внимания и заботы, быть с нею терпеливым и кротким. Он играл с нею в теннис, чаще водил в гости. Так было некоторое время, пока Джи-Эл не прислал дочери приглашение приехать в Лонг-Айленд — одной, без мужа. Ликующая Стефани немедленно сорвалась домой. Дэнни старался даже перед самим собой не показывать, как он обижен, ибо надеялся, что примирение с отцом приведет Стефани в норму. Однако вернулась она в еще более угнетенном состоянии, хотя и увешанная драгоценностями. При мысли о том, как дорого заплатила она за них, Дэнни невольно морщился. Она стала еще больше пить, и как-то вечером, вернувшись домой, Дэнни обнаружил ее полуодетой, растрепанной, с размазанной по лицу тушью. Плача, она стала рассказывать ему о своем детстве.
Только тогда Дэнни услышал эту кошмарную историю и узнал, что мать Стефани покончила с собой, а отец после этого словно окаменел, требуя от дочери абсолютной покорности и вмешиваясь в ее жизнь на каждом шагу и ежеминутно. Любое проявление слабости казалось ему признаком бесхребетности и безволия, проявлением дурной наследственности, а потому — каралось. Для наказания или поощрения использовались деньги.
Дэнни терпеливо, не прерывая, слушал эти почти бессвязные излияния, понимая, что Стефани надо выговориться. Но вот она умолкла и в изнеможении откинулась на спинку кресла. Он опустился рядом с нею на колени.
— Милая, мне бы так хотелось помочь тебе, но это не в моей власти. Тебе нужно показаться психиатру.
Она оттолкнула его, пошатываясь, подошла к бару, вылила то, что еще оставалось в бутылке, в стакан:
— Меня смотрели многие психиатры. Все хотели только одного — запереть меня в лечебницу.
— Но ведь ты страдаешь — надо попытаться вылечиться…
— Нет! — она залпом выпила.
— Тебе надо полечиться, Стефани… Давай попробуем… Ради меня, — он подошел ближе, взял ее за руку.
— Не трогай меня! — она вырвалась, гневно взглянула на него. — Это тебе надо лечиться!
— Послушай меня, Стефани…
— Нет, теперь ты меня послушай! Это ты страдаешь, это тебе надо искать помощи — тебе, а не мне! Это ты, а не я, вечно скулишь, что хочешь снимать великое кино, а потом мастеришь очередную грошовую поделку! — она выскочила из комнаты.
Слова ее больно ранили Дэнни, потому что были правдой.
Несколько дней они не разговаривали и даже спали порознь. Он знал, что сделал все, что мог. Никто не виноват — ни он, ни Стефани. Проку не будет. Разбитое не склеишь. Значит, надо кончать.
Приехав со студии, он был настроен на решительное объяснение с женой. Пусть остается здесь, а он уедет. Он готов взять на себя вину на бракоразводном процессе.
Он пошел искать жену и нашел ее на кухне — она готовила какую-то экзотическую рыбу. Когда Стефани обернулась, он не узнал ее — причесана, подкрашена, нарядна и просто излучает радость. Он замялся, не зная, что сказать. Молчание нарушила она:
— Дэнни, я беременна.
* * *
В их доме вновь воцарились мир и согласие. Стефани не прикасалась к спиртному. Она увлеченно и радостно превращала гостевую комнату в детскую.
Однажды вернувшийся со студии Дэнни увидел, что на площадке перед домом стоял гигантский фургон для перевозки мебели и двое грузчиков с трудом затаскивают в дом высокие старомодные часы.
— Сюда, сюда! — распоряжалась Стефани. — В угол!
Часы едва-едва уместились.
— Объясни, что происходит, — сказал сбитый с толку Дэнни, когда грузчики ушли.
— Это для него!
— Для кого?
— Для ребенка! — она с азартом просунула ключ и завела часы. — Я читала в журнале… — она переводила дух. — Я читала, что дети любят тиканье часов — оно напоминает им стук материнского сердца.
— Может, сгодился бы и маленький будильник?
— Ах, ну что ты! Конечно, нет! — воскликнула она. Щеки ее рдели, и Дэнни подумал: «Беременность творит с женщинами чудеса». — Нашему ребенку — все самое лучшее!
Дэнни не удержался от усмешки. На языке Стефани «лучшее» означало самое большое и дорогое. Ну и черт с ними, с часами.
* * *
«Ба-бам! Ба-бам!» — раздавались каждый час гулкие удары. Дэнни ненавидел этот бой.
Он сидел, пытаясь сосредоточиться над сценарием. Стефани в спальне смотрела телевизор. Вдруг она громко позвала его. Дэнни в испуге бросился вверх по лестнице.
— Что с тобой?
— Подойди, — сказала она. — Дай руку.
Дэнни покорно приблизился к кровати, протянул руку. Стефани прижала ее к своему животу, и Дэнни почувствовал мягкие толчки — это шевелилось его дитя. Он побледнел, на лбу выступил холодный пот, и улыбка исчезла с лица Стефани.
— Что такое?
Дэнни отнял руку, метнулся в ванную. Его стало рвать.
— Дэнни, что случилось? — кричала Стефани. — Тебе плохо?
— Нет-нет, все в порядке, уже прошло… — вытирая лицо полотенцем, он вышел из ванной.
— Почему тебе стало плохо?
— Не знаю. Но все прошло. Я так счастлив был услышать…
— Нет, Дэнни, тебя затошнило от меня!
— Что за глупости!
— Нет, не глупости! Я стала толстая, уродливая… Я внушаю тебе отвращение!..
— Да нет же, милая, просто я съел что-то не то в студийном кафетерии… — говорил Дэнни, борясь с новым приступом тошноты. Как он мог сказать ей, что эти мягкие удары вернули его в концлагерь «Сан-Сабба»? Как он мог открыть ей эту тайну? Но почему же нет, если он любит ее? Разве нельзя доверить тому, кого любишь, все, что было в твоей жизни? Значит, это не любовь?
Но все эти мучительные мысли исчезли, когда Стефани родила ребенка — девочку. Дэнни знал теперь, зачем он живет на свете, в его существовании появился смысл — оберегать это маленькое, такое чистое, такое невинное существо, смотреть, как оно растет, всегда быть рядом с ним… Глядя через окошко палаты на розовое сморщенное личико, он клялся, что сделает все, чтобы оно никогда не искажалось гримасой боли и страдания. Он постарается, чтобы жизнь улыбалась ей и чтобы она взяла от жизни все.
Дэнни не мог дождаться, когда Стефани с дочкой вернутся домой. Они с женой решили, что нанимать няньку не стоит: они сами будут по очереди вставать среди ночи, чтобы переменить пеленки. Девочку — ее назвали Патрицией в честь матери Стефани — привезли, положили в новую кроватку, и она тотчас спокойно заснула.
Дэнни осторожно поцеловал жену:
— Ложись. Завтра начнется сумасшедшая жизнь молодой мамаши, — сказал он, играя взятую на себя роль образцового мужа и отца. — Тебе надо набраться сил.
— Я вовсе не устала, милый.
— Пожалуйста, Стефани. Ну, ради меня…
— Я лягу, но не ради тебя, а вместе с тобой. — Она подмигнула. — И можешь не беспокоиться: доктор сказал, что еще неделю нет риска залететь.
Они вытянулись рядом.
— Никогда еще мне не было так хорошо, — прошептала. Стефани в его объятиях.
— И мне.
— Ой, я и забыла, — она приподнялась и села в постели. — Кто будет крестными Патриции?
— Об этом я еще не думал.
— В крестные матери я позову Беатрис — мы с ней давно не виделись, но в колледже были очень дружны. А ты реши, кто будет крестным отцом.
— Тут и решать нечего — Милт Шульц.
— Милт Шульц не годится.
— Это еще почему? Он мой самый близкий друг.
— Он еврей.
Дэнни заиграл желваками на щеках.
— А что ты имеешь против евреев?
— Ничего. Но мы принадлежим к епископальной церкви. И крестные нашего ребенка должны исповедовать ту же веру, ты и сам это знаешь.
— Да, конечно, — ответил Дэнни и до боли стиснул зубы.
Стефани воркующим голоском говорила о каком-то Тэде Роузмонте из клуба «Вестсайд Кантри».
— Отличная идея, — мертвым голосом отозвался он.
* * *
От всего обряда крещения осталось в памяти лишь то, как высокий, дородный пастор в белом кропил водой заходящуюся в крике Патрицию. Дэнни еле сдерживался, чтобы не схватить дочку на руки и не выскочить с нею из церкви. Потом, уже у них дома, Тэд Роузмонт отвел его в сторонку:
— На следующей неделе будет собрание всех членов клуба. — Он склонился к уху Дэнни. — Наши радикалы хотят упростить прием, открыть дорогу всякой швали. Я им так и сказал, в рифму: — Будет в клубе жидовня — остаетесь без меня.
Тэд засмеялся, брызгая слюной, — Дэнни чуть отстранился, глядя на его белые зубы.
— Тэд, а вы случайно не из ку-клукс-клана? — не сдержался он.
Снова расхохотавшись, тот незаметно для окружающих стиснул в дружеском пожатии руку Дэнни.
К тому времени, когда гости разошлись, у него нестерпимо разболелась голова.
* * *
Каждый день теперь был отмечен, точно вехой, новым достижением Патриции — вот она в первый раз улыбнулась, вот пролепетала что-то похожее на «папа», вот ухватилась своей крошечной ручкой за его палец.
Приезжая домой, Дэнни шел прямо в детскую и однажды вечером споткнулся о новый трехколесный велосипед. Грудному ребенку — велосипед? Не сошла ли Стефани с ума? Он прошел в детскую и увидел, что она была вся заставлена и завалена столь же неподходящими играми и игрушками. Мало того, у кроватки спящей Патриции сидела нянька. Откуда она взялась? Зачем? Стефани доставляло столько радости самой возиться с девочкой.
— Где миссис Деннисон?
Ответ ошеломил его:
— Они с мистером Стоунхэмом во дворе, у бассейна.
От дурного предчувствия заколотилось сердце. Он вышел в патио. В дверях остановился, увидев седовласого джентльмена, сидевшего очень прямо, и Стефани — она стояла к Дэнни спиной.
Так вот, значит, каков этот знаменитый Джи-Эл. Они разговаривали и не замечали Дэнни.
— Не понимаю, папа, почему этими деньгами будет распоряжаться Тэд Роузмонт, а не ее родной отец, — услышал он голос Стефани.
— Потому, моя милая, что Тэд — солидный бизнесмен, президент банка, а к твоему мужу у меня слишком много вопросов, которые пока остаются без ответа.
Дэнни, кашлянув, шагнул вперед.
— А-а, мистер Деннисон! — обернулся к нему тесть. — Садитесь.
Дэнни, чувствуя себя в собственном доме гостем, подошел к Стефани, поцеловал ее. Она ничего не сказала ему.
— Мы как раз говорили о том, как я намерен обеспечить свою внучку, — продолжал Стоунхэм.
— Я вполне в силах обеспечить Патрицию сам.
— Не сомневаюсь, мистер Деннисон. — Чуть раздвинулись тонкие губы. — Но сообщаю вам — дочке я уже это сказал — что как наследница всего состояния Стоунхэмов Патриция получает все, что мы можем дать ей. Я положу в банк на ее имя определенные суммы — на образование, воспитание, лечение и прочие непредвиденные расходы.
— Это очень великодушно с вашей сто…
— Я в ваших благодарностях не нуждаюсь, — отрезал тот.
Дэнни казалось, что по нему проехал бульдозер.
— И, надеюсь, вы не будете возражать, если я захочу увидеться с внучкой?
— Нет, не буду.
— Я нанял специально подготовленную няню, которая будет ходить за ребенком во время ее приездов на Лонг-Айленд. — Он повернулся к Стефани. — Значит, на будущей неделе?
— Да, папа, — покорно произнесла она.
— Самолет за тобой я пришлю, — он взглянул на часы, которые были у него на обоих запястьях, и вышел, прежде чем Дэнни успел произнести хоть слово.
Стефани сидела, как пришибленная, и прятала от него глаза.
— Ты хочешь этого?
Она молча кивнула, глаза ее наполнялись слезами.
Дэнни злился — и больше всего на самого себя. Почему он смолчал? Почему позволил Джи-Эл командовать у себя в доме? Что ж, еще не поздно внести некоторые коррективы в чудный дедушкин замысел. Джи-Эл волен навещать свою дочь в любое время — ему будут рады всегда. Что же касается Патриции, она будет видеться с дедушкой дважды в год — на его день рождения и на День Благодарения…
Как ненавидел Дэнни эти праздники! Как он скучал по дочери, как радовался, когда они со Стефани возвращались домой! Как любили они оба возиться с девочкой, особенно по четвергам, когда у няньки был выходной.
* * *
Как-то он привез домой плюшевого медведя, подошел к дверям и позвал:
— Патриция! Где ты тут?
Четырехлетняя Патриция скатилась по ступенькам:
— Вот я, папа!
Но Дэнни сделал вид, что не замечает ее, — он озирался по сторонам и продолжал звать:
— Патриция! Патриция!
Златокудрая — в Стефани — девочка со смехом подбежала к нему, ухватила за ногу:
— Да вот же я!
Дэнни продолжал валять дурака, притворяясь, что не видит дочь. С площадки на них, улыбаясь, смотрела Стефани. Патриция висела у него на ноге, вцепившись в брючину, а Дэнни мотал ее по всей комнате и приговаривал:
— Ну, что ты скажешь? Ну, что ты будешь делать? Ну, нет ее — и все! Пропала куда-то! Придется мишку нести назад в магазин, — и он двинулся к выходу, но тут вдруг обнаружил у себя на ноге заливавшуюся смехом девочку. — А-а, вот ты где?! — Он подкинул ее кверху, поймал и расцеловал разрумянившееся личико, слезящиеся от смеха голубые глазки. Потом прижал ее к себе: — Я уж думал, ты ушла от меня.
— Нет-нет-нет! — завопила Патриция, крепко обнимая его за шею. Она прильнула своей шелковистой шечкой к его щеке.
Он обхватил ее еще крепче и понес во двор — ему нравилось нести дочку, державшую одной рукой его, другой — медведя. Небо было по-калифорнийски синим, с клочками белых облачков.
— Папа, я люблю тебя, — прошептала она ему на ухо.
— И я тебя, — Дэнни чмокнул ее во вздернутый носик. — Обещай, что всегда будешь любить меня.
— Обещаю.
— Всегда?
— Всегда!
* * *
Дэнни по-прежнему был неудовлетворен и недоволен тем, что делал в кино, но теперь у него были семья и дом, где он мог спрятаться, закрыться от всего на свете — от войны во Вьетнаме, от «Уотергейтского скандала», от «Оскара», полученного человеком, талант которого он в грош не ставил.
Это совсем не значило, что он был неудачником, — наоборот, звезда Дэнни разгоралась все ярче. Мысли о дочери подсказали ему, какое кино может понравиться детям: он задумал и снял переделку «Принца и нищего» — историю двух девочек-подростков, богатой и бедной, которые на неделю меняются местами. Комедия имела огромный успех и открыла новое направление в кинобизнесе.
Ленты его неизменно собирали полные залы, и в компании «ЭЙС-ФИЛМЗ» он был теперь одним из самых высокооплачиваемых режиссеров. Давно уже позабыл он свою мечту найти верный подход к «Человеку». Теперь это было неважно — у него была Патриция.
Он любил по дороге на студию завозить ее в школу. Джи-Эл настоял, чтобы девочку отдали в частную и привилегированную «Джон Томас дай скул», хотя Дэнни хотел, чтобы она училась вместе с другими соседскими детьми. Поначалу она не хотела ходить в эту элитарную школу и даже плакала, и Дэнни целый день думал о ней и не мог сосредоточиться на работе. Слава Богу, вскоре она привыкла.
У них выработался утренний ритуал. Патриция, собирая свои тетрадки, распевала песенки Фреда Астора из того давнего, первого в жизни Дэнни фильма.
В машине она прижималась к нему щекой, мурлыча, как котенок, если Дэнни был выбрит, а если нет — вскрикивала: «Какой ты колючий, папочка!»
Эти минуты были очень дороги для Дэнни.
* * *
Но пришел день, когда позвонили ему на студию и сообщили, что Патриция попала в автокатастрофу. Он бросился домой и столкнулся в дверях с выходившим доктором. Выяснилось, что она выпала из открывшейся дверцы машины, когда мать везла ее домой. Доктор уверял, что девочка отделалась несколькими ушибами.
Дэнни взбежал по лестнице в спальню — Патриция с повязкой на лбу мирно спала, прижимая к себе своего плюшевого мишку, — голова у него тоже была забинтована.
В гостиной на диване, в обществе полупустой бутылки скотча и полного стакана сидела Стефани.
— Не думаю, что сегодня есть повод… — сквозь зубы проговорил Дэнни.
— Мне так грустно… Позвонил папа и…
— Плевать мне на твоего папу. Объясни лучше, как ты умудрилась выронить Патрицию?
— Не знаю… Я как раз снизила скорость перед светофором, а она, наверно, прислонилась к дверце…
— Запертая дверца не открывается.
— Значит, она не была заперта, — огрызнулась Стефани.
— Если бы ты не накачивалась виски после каждого звонка Джи-Эл, то помнила бы, может быть, про такую маленькую кнопочку на двери.
— Не надо разговаривать со мной, как со слабоумной!
— Я разговариваю с тобой так, как ты этого заслуживаешь… — в эту минуту, ему показалось, что Патриция заплакала.
Он бросился к ней, стал на колени возле ее кровати, вытер ей слезы своим носовым платком.
— Не плачь, не плачь… Я так люблю тебя. Не надо плакать.
— А маму ты тоже любишь?
— Конечно! Почему ты спрашиваешь?
— А почему ты кричал на нее?
— Мы просто оба сильно расстроились из-за того, что с тобой приключилась такая неприятность.
— Но она же не виновата…
* * *
После этого происшествия супружеская жизнь Дэнни явно дала трещину. Стоило ему уехать на съемки, как Стефани, забрав дочку, улетала к отцу. Дэнни ни разу не был у него в гостях, и это, очевидно, устраивало обоих. Так и шло. Он все чаще выезжал на «натуру» — тем более, что павильоны и декорации выходили из моды, требовался больший реализм, правдоподобие и достоверность, — а жена с Патрицией все чаще гостили на Лонг-Айленде. Джи-Эл пригласил даже учителя, чтобы внучка не отстала от класса.
Дэнни часто вспоминал потом, каким пустым и безжизненным показался ему его дом в День Благодарения 1980 года, когда он вернулся со съемок. Увидев плюшевого мишку — с полуоторванным ухом, без одного глаза, — он едва удержался от слез. В первый раз Патриция не взяла его с собой.
Но по-настоящему он понял, что дочь отдаляется от него, на дне ее рождения — ей исполнилось двенадцать. Она ворвалась в его кабинет в белых рейтузах и черных высоких сапожках.
— Папочка, у меня будет лошадь, представляешь? Моя собственная лошадь!
— О чем ты, не понимаю, — Дэнни, отложив рукопись сценария, посадил дочь на колени.
— Дедушка дарит мне на день рождения настоящую, живую лошадь — серую в яблоках. — Она порывисто обняла его.
— Это замечательно, Патриция, но где она будет жить?
— На Лонг-Айленде.
— Да? Ну, тогда тебе не слишком часто придется скакать на ней.
— Ну, почему же? Каждый уик-энд. Дедушка устраивает меня там в школу.
Дэнни почувствовал, как сухо стало во рту, но глаза дочери так сверкали от счастья, что он ничего не мог ответить ей.
— Посмотри-ка, папочка! — она подняла руку. — Тебе нравится?
Дэнни смотрел на массивный золотой браслет, обвивавший ее хрупкое запястье. Он наверняка стоил несколько тысяч долларов. Его подарок — часы с изображенным на циферблате медвежонком — казался в сравнении с этим убогой дешевкой.
— Пойду покажу маме!
Когда она спрыгнула с его колен и выскользнула за дверь, Дэнни показалось, что она ушла навсегда.
* * *
Все это было печально, но неизбежно: они со Стефани пришли к выводу, что им необходимо расстаться. Часы больше не били — некому стало заводить их. Стефани и Патриция почти постоянно жили теперь на Лонг-Айленде. По жене он совсем не скучал, а вот разлука с дочерью была непереносима.
Дэнни считал дни, оставшиеся до конца учебного года. 24 июня Патриция должна была, как обычно, прилететь в Калифорнию и провести с ним три недели — целых три недели они будут вдвоем: он и она, и больше никого.
Он был горд и рад, когда через несколько дней после прилета она спросила:
— Папа, можно я пойду с тобой на студию? Я хочу посмотреть, как снимают кино.
Ей ужасно понравилось на съемках. Теперь она читала все его сценарии. Она задавала вопросы — на взгляд Дэнни, очень толковые — и вносила дельные предложения.
В последний день, когда Дэнни вез ее со студии домой, Патриция о чем-то глубоко задумалась.
— О чем ты думаешь?
— Я хочу заниматься тем же, чем ты. Хочу снимать кино, — сказала она, выглядывая из окна.
Дэнни, охваченный волнением, не сразу нашелся, что ответить. Прелестная четырнадцатилетняя девочка не сказала: «Хочу быть кинозвездой». Она хочет снимать кино. И у нее есть способности к творчеству, она хорошо пишет. Но вместе с тем ей присуща особая душевная тонкость, которая может обернуться хрупкостью и неуравновешенностью — это тревожило Дэнни. Ее голосок вывел его из задумчивости:
— Папа, возьми меня летом в экспедицию. Возьми, а?
— Конечно, возьму, — ответил Дэнни, стараясь скрыть, какой восторг забушевал в нем от этих ее слов.
Она улетела, а потом раздался звонок с Лонг-Айленда:
— Папочка, я так огорчена… Мне так хотелось поехать с тобой летом на «натуру»… Но… так получается… что… Одним словом… — она осеклась.
— Ну, так что же, говори, Патриция!
— Ты не подумай, что дедушка специально это подстроил… Он не виноват, честное слово….
Дэнни с бьющимся сердцем слушал. Так он и знал.
— Но он заказал сафари в Африке…
— В Африке?
— Да, а мы как раз проходили горилл в школе…
— Значит, ты со мной не поедешь?
— Он так старался… так хлопотал… хотел сделать мне сюрприз и везет туда весь наш класс…
— Я все понимаю, — сказал Дэнни, чувствуя, как заныло сердце. Да уж, подумалось ему, Джи-Эл костьми ляжет, но не допустит ее в «еврейскую шатию».
— На будущий год я обязательно поеду с тобой, папочка.
— Конечно.
Этому не суждено было случиться никогда.
Глава VIII
1987.
БРАЙТОН, АНГЛИЯ.
Магда с трудом распрямила затекшую спину, обеими руками потерла ноющую поясницу. Но облегчение было мимолетным: боль вернулась, как только она взглянула на пирамиду коробок с мылом, сложенную у двери. Три коробки она уже отнесла на третий этаж, причем по более крутой и длинной черной лестнице — полковник Джонсон не желал, чтобы постояльцы видели его жену за этим занятием.
Раньше это было обязанностью Любы. «Где она теперь? Что с ней?» — поглядывая на море, растирая поясницу, думала Магда. За полгода она получила только одно письмо от дочери и страшно обрадовалась.
Почтальон пришел в тот день позже обычного, когда полковник Джонсон прилег вздремнуть. Магда отнесла всю корреспонденцию к нему в кабинет — и вдруг узнала на одном из конвертов почерк Любы. Дрожащими руками она достала письмо.
Дорогая мама!
Я очень скучаю по тебе. Я в Лондоне, мы с моей подругой Луи снимаем на двоих очень милую квартирку. Тебе бы тут понравилось. Из новостей — главная: я сыграла в одном фильме и, если повезет, может быть, я стану актрисой…
Внезапно письмо вырвали у нее из рук.
— Разве я не запретил тебе поддерживать с нею связь? — Полковник Джонсон комкал письмо в кулаке. — Твоей дочери больше не существует! — Он с силой толкнул Магду на тот самый диван, где когда-то спала Люба.
Со своего письменного стола он схватил перо и бумагу, швырнул их дрожащей Магде:
— Пиши то, что я буду тебе диктовать! По-английски пиши!
Магда, опустившись на колени перед низеньким кофейным столиком стала писать:
Моя дорогая Люба!
У меня все прекрасно. Но я очень занята и не могу тратить время на письма. Поэтому будет лучше, если и ты перестанешь мне писать.
Потом он забрал у нее листок и сказал, что сам отправит письмо. Магда поднялась с пола, достала из мусорной корзины письмо Любы, бережно разгладила его и спрятала в карман передника.
Уже шесть месяцев это письмо было единственной нитью, связывавшей ее с дочерью, и Магда перечитывала его сотни раз. Вчера, преодолев страх перед полковником, она наконец написала Любе, рассказывая, каким неслыханным унижениям подвергает ее муж, и прося помощи. Что ей делать? Искать адвоката? Убежать? Она ждала от дочери совета. Магда украла со столика портье почтовую марку и попросила одного из уезжавших постояльцев бросить письмо в ящик. Если Люба получит его, она скажет ей, как поступить.
Сейчас, стараясь не обращать внимания на ломящую спину, она нагнулась за очередным картонным ящиком. Каждый следующий поход на чердак казался длиннее предыдущего. Магде давно уже надо было начинать готовить ужин для тех немногих, что остались в отеле на осень. Следовало поторопиться. Коробка была неподъемная. Может быть, полковник еще спит? Тогда можно было бы пройти короткой дорогой — по главной лестнице. Магда, крадучись, потащила ящик, а когда увидела мужа, поворачивать было уже поздно. Как всегда выхолощенный, безукоризненно одетый, с торчащим из нагрудного кармана краешком белого платка, он приветливо и доброжелательно беседовал в углу холла с кем-то из постояльцев. Магда похолодела.
Улыбаясь, он приблизился к ней и весело сказал:
— Дорогая, зачем же самой поднимать такую тяжесть? Позволь… — он взял у нее ящик, изящно поклонился клиентам. — Прошу извинить, я вернусь через минуту.
Магда молча шла за ним. Когда они поднялись на второй этаж, где их никто не мог видеть, он швырнул ящик Магде так, что та едва успела подхватить его. Полковник хлестнул ее по щеке.
— Сука, — прошипел он сквозь зубы. — Тебе же было сказано носить только черным ходом! Шевелись и смотри, не опоздай с ужином! Курва!
Магда начала подъем по крутым и скользким железным ступеням. Добравшись наконец до чердака, она уселась на ящик и заплакала. Последнее слово, брошенное ей полковником по-польски, почему-то особенно больно задело ее. Неужели клеймо проститутки навечно пристало к ней? Джонсон выспросил у нее все бранные польские слова, какие она знала, быстро выучил их — в его устах, с его отрывистым британским произношением они звучали особенно гнусно, жгли раскаленным железом. «Курва» стало его любимым. Если бы он только знал, как это близко к истине! Магда уронила голову на руки. Да, она грешила в Кракове, но сколько же еще ей искупать этот грех?
Раздавшийся за спиной голос заставил ее вздрогнуть:
— Все это — твое, — двумя пальцами, словно грязную тряпку, он держал ее письмо. — Слишком дешевую марку налепила, — саркастически хмыкнул он. — Может быть, сегодня вечером ты соблаговолишь перевести его мне?
Знакомый тугой ком заворочался у нее в желудке.
— Я вижу, ты стала непослушна, — полковник сунул письмо в карман. — А я ведь тебе говорил: никакой Любы больше нет! Нет на свете! Она умерла! Умерла! Умерла! — шипел он ей в лицо.
Боль в животе стала нестерпимой, Магда согнулась, с трудом переводя дыхание, снизу вверх, исподлобья глядя на этого странного, жестокого человека, которого судьба определила ей в мужья. Он стоял на ступеньках, чуть покачиваясь на правой ноге, и осторожно стряхивал пыль со сверкающего носка левой туфли.
Ком в желудке вдруг взорвался. Словно обезумевшее животное, Магда кинулась на полковника, ударилась о него всем телом. Нелепо взмахнув руками, он кубарем покатился с лестницы. Магда, зажмурившись, слышала, как несколько раз стукнулась его голова о железные ступени. Потом она открыла глаза и увидела его маленькое тело, распростертое на площадке следующего этажа.
Магда подождала немного. Полковник не шевелился. Она медленно, задерживаясь на каждой ступеньке, стала спускаться к нему. Из глубокой раны на виске текла кровь — ее собралась целая лужица. Полковник не дышал и был похож на сломанную куклу. И этот человек внушал ей такой ужас?
Магда, сама удивляясь своему спокойствию, почувствовала, как утихла боль под ложечкой. Оглянулась по сторонам. Был «мертвый сезон», и маленькие номера на верхнем этаже пустовали.
Она поспешно вынула из мертвых пальцев запачканный кровью конверт, потом полезла в нагрудный карман, достала оттуда ключ. Побежала в кабинет, отперла бюро, стала рыться среди бумаг, покуда не нашла то, что искала — перехваченную резинкой толстую кипу ассигнаций. Рядом лежала небольшая стопка невскрытых писем — все они были от Любы. Магда сунула то и другое в карман передника и побежала на кухню. Там она схватила очередной ящик мыла и через холл, здороваясь с постояльцами, пронесла его на лестницу.
Подойдя к неподвижному телу полковника, она положила ключ в карман его пиджака, аккуратно застегнула пуговицу. И только потом завопила во всю мочь.
ЛОНДОН.
Серый персидский кот с довольным мурлыканьем свернулся в клубок на подставке для музыкального центра. Люба улыбнулась ему — ничего не вышло из ее решения никогда больше не привязываться ни к какому зверью. Когда Луи сменила квартиру, Люба упросила ее оставить кота ей — и он стал ее постоянным спутником.
Она отступила на шаг, сощурилась. Нет, сходства ей добиться не удалось: она редко писала маслом. Но, может быть, ей удастся вскоре снова увидеться с Дэнни, внимательней приглядеться к его лицу. Какой необычный человек!
Когда из полудюжины девушек, пробовавшихся на этот эпизод, он остановил свой выбор на ней, а потом назначил свидание, Люба подумала, что это нормальная цена: путь к роли неизменно пролегал через постель режиссера. Но даже тогда, несмотря на опьянение, она поняла: Дэнни Деннисон — не такой, как другие. В нем чувствовалась какая-то давняя, но до сих пор саднящая рана, к которой страшно было прикоснуться. Она чувствовала, что обладание ею сделало его еще более несчастным, и все же ей хотелось вновь увидеться с ним.
Она занялась его глазами — как передать этот печальный взгляд? Она снова отступила на шаг от холста. Абрис лица верен, но с его черными вьющимися волосами выходило что-то не то. Люба изобразила Дэнни в виде кентавра — его голова сидела на туловище карусельной лошади, скачущей в густой траве. Ах, вот в чем дело! Несколькими размашистыми мазками она превратила короткие полосы в развевающуюся по ветру гриву.
Люба с нетерпением ждала понедельника — в этот день она снова встретит Дэнни. И, кроме того, в понедельник она получит свою первую роль со словами — всего несколько реплик, но начало положено. Может быть, ей удастся закрепиться в кино. Это гораздо интересней да и выгодней, чем скрашивать досуги развлекающихся бизнесменов. Этим она занималась уже полгода — с тех пор, как приехала в Лондон.
Она навсегда запомнила, как, впервые оказавшись одна, вышла из вагона брайтонского поезда и полноводный людской поток закружил и унес ее. Хорошо, что сохранился клочок бумаги с телефоном Луи. Люба набрала ее номер, но отозвался лишь автоответчик. Она оставила сообщение: «Это Люба, мы познакомились в Уэймаусе. Помнишь ли ты меня? Я в Лондоне, ищу работу. Позвоню тебе попозже еще раз».
Потом подсчитала свою наличность. Билет на поезд стоил ровно четверть ее мизерных сбережений — тех денег, что она с трудом скопила из чаевых. Остального больше чем на два-три дня не хватит. Но Люба знала, что делать, и не собиралась тратить время попусту. Подхватив свой чемоданчик, она вышла из телефонной будки и двинулась к реке.
Чем ближе был порт, тем торопливей становились ее шаги. Она свернула за угол пакгауза и остановилась: у пирса стоял под разгрузкой большой пароход. Двое матросов шли ей навстречу. Люба улыбнулась им, ощутила прежний счастливый подъем.
В эту минуту она почувствовала острую боль в пояснице. Оглянулась. За спиной стояли две женщины в черных мини-юбках и высоких, до бедра, черных сапогах.
— Отскочи, дешевка, — произнесла та, что была повыше, с намазанными пурпурными губами.
Вторая загородила дорогу морякам.
Люба собиралась перейти на другую сторону, но и там наткнулась на угрожающие взгляды двух ярко размалеванных женщин. Да, это будет не так просто, как кажется.
Зайдя в паб, она снова позвонила Луи, и на этот раз ей повезло.
— Ну, конечно, Люба, я тебя помню. Ты где сейчас?
— В порту.
— Боже, как тебя туда занесло?
— Деньги на исходе, вот я и подумала…
— Да ты просто спятила! Вот что, у тебя есть мой адрес?
— Есть.
— Бери такси и приезжай.
Луи встретила ее, как давнюю подругу, усадила на разноцветные подушки, разбросанные по великолепному анатолийскому ковру, напоила горячим чаем, а на недоуменный взгляд Любы со смехом объяснила, что все это подарки «одного турецкого друга».
— Тут есть еще одна спальня, — сказала она. — Поживи пока у меня. Будешь кормить моего кота, а то я дома почти не бываю.
Пушистый «перс» тем временем уютно устроился на коленях у Любы.
Луи налила ей еще чашку чаю и заговорила серьезно:
— Ну вот что, моя дорогая — в порт не больше таскайся. Это плохо кончится…
— Да, я уже столкнулась с какими-то девицами…
— Не в девицах дело.
— А в чем?
— В СПИДе!
— Но я слышала, это опасно только для гомиков.
Луи изумленно вытаращилась на нее:
— Ты что, с луны свалилась? — После чего принялась подробно втолковывать Любе историю вопроса и суть дела. — Помни, надо быть очень разборчивой, — завершила она свою лекцию. — Попросту говоря, чем клиент богаче, тем меньше риска. Потому я работаю в «эскорт-сервис»: там с кем попало дела не имеют, обслуживают только богатых бизнесменов.
Преисполненная благодарности Люба стала работать там же, и вскоре один из ее новых знакомых, высокопоставленный сотрудник «ПАЙНВУД СТУДИОС» устроил ей «проход» — это был еще не эпизод, но уже не массовка. Мир кино восхитил ее, хотя было ясно, что деньги можно заработать только за роль — а не за бессловесное появление в кадре.
Денег между тем требовалось все больше. Луи окончательно перебралась к своему «другу» — японскому промышленнику, — и платить за квартиру приходилось одной Любе. Впрочем, ей нравилось быть хозяйкой в доме — она даже начала называть вторую спальню своей студией.
…Телефонный звонок прервал ее мысли. Может быть, это Дэнни — она дважды звонила ему в отель, но не заставала в номере. Вытерев испачканные красками руки, она побежала в гостиную.
Но в трубке зазвучал голос Дороти из «эскорт-сервис»:
— Мистер Браунер, бизнесмен из Мюнхена. Отель «Савой», номер 5–20. В девять вечера. Сначала поешь.
Эти «свидания» давно уже перестали радовать или хотя бы развлекать — тут вам не Краков, выбирать нельзя, а у врача на освидетельствовании приходится бывать регулярно. Нет, надо держаться за кино: это и приятная смена впечатлений, и возможный выход из положения.
Она повесила трубку, взглянула на часы: — пять. Она так увлеклась портретом Дэнни, что совсем забыла поесть. Надо перекусить. Она тщательно закрыла тюбики с красками, разложила их по местам. Масляные ужасно дороги. Закрыла этюдник и спрятала его на верхнюю полку в стенном шкафу, туда же, где лежали ее работы — карусели, пейзажи, собаки, кошки, бешеные кони. Портретов было мало — улыбающаяся Магда за столом, Йозеф на канате, Валентин на карусели.
Она пошла на кухню, налила себе чая и села у окна, глядя, как блестит под нудно моросящим дождиком мостовая, как торопятся люди под зонтами, как пролетающие мимо автомобили обдают их потоками воды. Любе было уютно и покойно сидеть с котом на коленях, когда за окном такое ненастье… Как хорошо иметь крышу над головой — свое собственное жилье!..
Она вдруг подумала о Магде. Впервые они жили в разлуке, и Люба не могла бы сказать, что скучает по ней. Она свободна — это главное! Тотчас ее охватило чувство вины. Как-то она там, в Брайтоне, без нее? Люба несколько раз писала ей, а в ответ получила только одну коротенькую записку по-английски, явно продиктованную полковником Джонсоном.
Надо съездить в Брайтон, посмотреть, что там творится. Она звонила, но каждый раз трубку снимал полковник… Люба вдруг в неосознанном порыве придвинула к себе телефон. Она потребует, чтобы он позвал Магду!
— Номер, по которому вы звоните, отключен, — услышала она голос телефонистки.
ЗАЛЬЦБУРГ, АВСТРИЯ.
Дэнни вскинулся на кровати и сел, мотая головой, чтобы избавиться от кошмара. Ступни ног холодили стальные прутья кровати, как всегда слишком короткой для его почти двухметрового тела. Он заморгал, оглядывая темную комнату, — свет в нее проникал только из-за неплотно задернутой шторы.
Взгляд его упал на буклет на ночном столике. «Hotel schloss fuschel — das schloss von herr von ribbentrop». Какого дьявола надо было срываться из Лондона, лететь в Австрию, чтобы оказаться на бывшей вилле этого гитлеровского прихвостня?! Дэнни снова закрыл глаза. Память о том, что было позапрошлой ночью, была свежа. Он отмотал назад и прокрутил это воспоминание, как пленку с отснятым материалом.
…Когда образ Рахили исчез после его безмолвного вскрика, Дэнни в холодном поту вытянулся рядом с Любой.
— Тебе было хорошо? — шепнула она, подсунув руку под его голову.
— Да, — он мягко отвел закрывавшие ее лоб волосы. — Очень хорошо, ты — просто чудо. Но мне как-то не по себе… Выпил слишком много, что ли?..
Он приподнялся на локте и, боясь, что голова опять закружится, осторожно двинулся в ванную. Когда умылся холодной водой и обтерся губкой, стало легче. Выйдя в прихожую, он взглянул на себя в зеркало и в полутьме зацепил висевшую на стене картину. Он стал поправлять, машинально вгляделся — и опять его охватило чувство нереальности происходящего. На картине с фотографической четкостью было изображено то самое распятие, над которым работал перед смертью его отец. У Дэнни зазвенело в ушах.
— Откуда это у тебя? — спросил он хрипло.
— Что?
— Вот это.
— А-а! Это я нарисовала, когда была в лагере «Сан-Сабба».
Звон в ушах стал оглушительным — он почти не слышал собственного голоса. Прислонился к стене, по-прежнему держа раму в руке.
— Ты что… была в концлагере?
— Да нет же, — рассмеялась она. — Мне же всего двадцать лет. — Она поднялась, набросила на себя халат. — Нас поселили там через много лет после войны, когда там устроили перевалочный пункт для беженцев.
— А что тут изображено?
— Я увидела там распятие, которое сделал кто-то из погибших в лагере евреев.
Дэнни ухватился за спинку стула, чтобы не упасть. Одолевая дурноту, он глядел, как Люба расчесывает волосы перед зеркалом. Лицо, отражавшееся в нем, было лицом Рахили.
— Устал, — еле выговорил он. — Пойду.
— Завтра вечером увидимся? — Люба подошла к нему, положила ему руку на плечо.
— Может быть, мне придется уехать завтра из города. Я позвоню…
— Будь так добр, — ее глаза улыбались.
Вернувшись в «Дорчестер», он долго не мог уснуть. Какое право имеет эта девица вторгаться в самую сокровенную часть его души? «Сан-Сабба»! Для него это слово — провозвестник гибели. Для нее — символ начала и жизни.
Надо было как-то отойти от этой странной девушки. И вот тогда он позвонил вниз и заказал себе билет на самолет до Зальцбурга — накануне он видел рекламный плакат: там должна была состояться премьера «Всякого человека» с Клаусом Мария Брандауэром в главной роли.
И вот он здесь.
От громкого стука в дверь Дэнни вздрогнул. Пожилой кельнер вкатил в номер столик на колесах.
— Guten morgen, Herr Dennison![1]
Столик занял место посреди комнаты. Из носика кофейника поднимался пар. Кельнер с тевтонской четкостью придвинул стул и одним движением раздернул шторы. В комнату хлынул утренний свет, отражавшийся от синей глади маленького озера, по которому уже скользили белые паруса.
Кельнер подошел к двери, полуобернулся — Дэнни даже почудилось, что он щелкнул каблуками несуществующих сапог — и спросил:
— Ist allee in Ordnung?[2]
«Он считает, наверно, что я понимаю по-немецки, — подумал Дэнни. — Интересно, где ты был во время войны? Гнал стариков и детей в газовую камеру? Или сжигал их трупы в крематории?»
Кельнер закрыл за собой дверь, не ответив на эти невысказанные вопросы. Дэнни вылез из кровати, потянулся всем своим крупным телом и, подойдя к окну, взглянул на мирное озеро Фушель. От красоты открывшейся ему картины в душе всколыхнулась ненависть. Иоахиму фон Риббентропу, надо думать, было здесь очень хорошо.
Дэнни присел к столу, поднес к губам тонкую фарфоровую чашку, откуда струился густой аромат свежего кофе, потом резко поставил ее на блюдце. Зачем он сюда приехал?
Конечно, ему всегда хотелось увидеть «Обывателя». С тех пор, как миссис Деннисон подарила ему эту книгу, он без конца читал и перечитывал ее, продолжая мечтать о том, что когда-нибудь сделает по ней фильм. Но пришлось срочно запускаться с пятнадцатой лентой «Лондон-Рок». Это Люба пробудила в нем непрошенные воспоминания.
Спектакль, который состоится на средневековой площади Зальцбурга, раньше пяти не начнется. Еще много времени. Он пообедает в «Золотом дубе» — ему усиленно рекомендовали этот ресторанчик.
Он позвонил Милту, и вскоре услышал чуть измененный записью голос друга: «Нельзя только работать и совсем не отдыхать. Человек от этого дуреет. Даже Господь Бог после недельных трудов предался отдыху. А потому после длинного гудка оставьте сообщение, и Милт с Божьей помощью вам отзвонит».
— Милт, в этот уик-энд меня в Лондоне не будет. Я — в Зальцбурге, смотрю «Человека», помнишь? Да-да, того самого.
Ему не сиделось на месте, и он решил пройтись. Доставая из чемодана рубашку, он вдруг заметил два письма, которые портье «Дорчестера» вручил ему перед свиданием с Любой, — он тогда сунул их в карман и забыл про них.
Комкая их в кармане и медля вскрыть, он шагал по берегу озера, поглядывал на белые яхты, слышал, как звенят вдалеке чьи-то счастливые голоса. Дети возились на песке, мальчишки швыряли камни в воду, хихикали девушки.
Дэнни присел на траву. Письма жгли ему карман. Он вытащил их, взял в каждую руку по конверту и уставился на них. Он наперед знал, о чем писала Стефани — она должна прожить в Рено обязательные для развода полтора месяца. Но письмо Патриции ему было страшно вскрывать. Наконец, набравшись храбрости, он надорвал конверт.
Оно начиналось с пустяков — с описания выставки лошадей, на которой питомица Патриция получила приз. Дэнни заглянул в конец. Вот ради чего и писалось это письмо. Бросившиеся ему в глаза строчки вышли, казалось, из-под пера мистера Стоунхэма:
После развода мы с мамой будем жить на Лонг-Айленде. Джи-Эл собирается удочерить меня, что очень мило с его стороны. Это многое упростит для всех нас и никак не уменьшит мою любовь к тебе.
Дэнни читал эти несколько строчек снова и снова. Да, он сам виноват. Он слишком увлекся своей работой — и потерял семью. Он уделял слишком мало внимания Стефани, но это-то еще полбеды. Он отдалился от Патриции. Он покорился воле Джи-Эл.
Но с какой стати ему удочерять Патрицию? Зачем превращать внучку в дочь? Бессмыслица какая-то. Она и так его наследница, она живет в его доме, она всецело под его влиянием и контролем. Удочерение это преследует одну-единственную цель — уничтожить последнюю связь между ним и Патрицией.
Он думал о ней и воочию видел ее сейчас — эту семнадцатилетнюю красавицу. Она любила его, она вцеплялась ему в штанину, а он мотал ее по комнате, притворяясь, что не замечает. Это был самый настоящий «золотой век» — краткий миг естественного и невинного счастья, когда еще не было ни школы, ни правил и обязанностей, ни деспотической воли Джи-Эл, растлившего его дочку. Дэнни откинулся на спину, задрал голову к безоблачному небу. Да, эти минуты с маленькой Пат были попросту драгоценны… А вспоминать о них — такая мука. Она была так полна любви и доверия ко всему на свете. В его детстве не было, правда, и такого краткого мига…
Ах, нет — был! Было и в его жизни счастливое время, когда они жили на ферме, Рахиль доила коров, а он стоял рядом, когда мать хлопотала на кухне, а отец делал свои статуи.
Когда ему было столько лет, сколько этим мальчишкам на берегу… Отец и его учил швырять плоский камень так, чтобы он несколько раз скользнул по воде…
Дэнни подобрал камень и бросил его. Камень булькнул и ушел под воду. Дэнни выбрал другой — более плоский, примерился и снизу пустил его. Пять «блинков»! Молодец, Дэнни.
Он взглянул на часы и удивился — оказывается, уже десять минут четвертого. Обедать уже поздно. Вернувшись в номер, он побрился, принял душ, переоделся и заказал лимузин.
По дороге в Зальцбург Дэнни поглядывал на выпиравшую из-за ворота форменной тужурки толстую красную шею водителя, поросшую светлым пухом.
— Вы где были во время войны? — неожиданно для самого себя спросил он и сейчас же разозлился, что не сумел подавить внезапной неприязни.
Тот обернулся, поглядел водянисто-голубыми глазами и улыбнулся.
— Не гофорю по-английски.
— Еще бы ты говорил, сволочь нацистская!
Шея водителя напряглась, но он промолчал. Вскоре они были уже в самом центре города. Водитель резко, пожалуй, даже слишком резко затормозил, вылез, угрюмо распахнул перед Дэнни дверцу. Потом она громко хлопнула у него за спиной. Дэнни двинулся на площадь.
Уже вечерело — наступал час, когда Господь задерживает дыхание. Садящееся солнце лило золотой свет на угловатые кровли готических зданий. Их острые шпили вонзались в розовеющее закатное небо, а на карнизах, где сидели голуби, сгущались тени. На вымощенной булыжником площади была установлена сцена. Дэнни отыскал свое место и сел. Импровизированный партер быстро заполняла разноязыкая толпа туристов, но немецкая речь слышалась громче всего, и это раздражало Дэнни. Но когда начался спектакль, он забыл обо всем, и немецкий язык вдруг зазвучал мелодично и пленительно. Дэнни удивляло то, что он понимал язык, который на протяжении стольких лет пытался изгнать из памяти.
Бог обращается к Смерти: «Мне больно оттого, что Всякий Человек печется только о земных благах и живет лишь для удовольствия. Ступай к нему и во имя мое прикажи ему одуматься».
Быстро сгущавшаяся темнота придавала спектаклю какое-то особое, мистическое звучание. Дэнни был полон сочувствия к герою пьесы, который с отчаянием убеждается, что жизнь его была бесцельна и бессмысленна. Как жалобно просит он помощи у всех, кто его окружает! Когда он со стуком откинул крышку своего сундука, испуганные голуби взвились в подсвеченное оранжевое небо.
Бедный Человек! Он говорит Смерти: «Ты являешься, когда мысли мои в разброде…»
Дэнни казалось, что все это прямо про него. Если завтра и к нему придет смерть, что он скажет ей? Что он успел сделать? Его отец был истинным художником, а он — нет. Его отец был сильным, а он слаб. Он так и остался перепуганным ребенком. Да, он в чем-то преуспел, но что-то безвозвратно ушло. Ему неуютно в собственной шкуре. Он неприятен самому себе и не может вспомнить, было ли когда-нибудь иначе.
Рано утром он вылетел в Лондон. Когда самолет приземлился в Хитроу, Дэнни, потянувшись всем своим длинным телом, взглянул в иллюминатор. Где-то в этом исполинском, покрытом туманом городе, раскинувшемся внизу, находится Люба.
Она внушала ему страх. Одна ночь в ее объятиях — и ожило все, что он считал мертвым и похороненным.
Что ж, один съемочный день — и она навсегда уйдет из его жизни.
Глава IX
1987.
ЛОНДОН.
Дэнни пришел на съемочную площадку, постаравшись выкинуть из головы все, что было с ним накануне. Он не испытал никаких чувств, увидав Любу в костюме и гриме лондонского панка, и коротко, по-деловому кивнул ей. Она в ответ улыбнулась.
Он объяснил им суть эпизода. Люба со своей двоюродной сестрой сидят у стойки и едят рыбу с жареной картошкой. Когда появляется Брюс Райан, Люба смотрит на него и потом, толкнув девочку локтем, громким шепотом, с характерным простонародным выговором, произносит: «До чего сексуальный, с ума сойти». — «Что такое сексуальный?» — спрашивает та. — «Подрастешь — узнаешь», — говорит Люба.
Эпизод был довольно простой, но Дэнни потратил много времени, добиваясь от Любы, чтобы она произносила свою реплику не как взрослая женщина, а как восторженная хулиганистая девчонка-подросток. Она совсем не робела, но внимательно, слишком внимательно следила за всем, что происходило вокруг.
— Это кончится когда-нибудь? — осведомился Брюс, в пятый раз появляясь в барс.
— Вот-вот, именно с таким видом ты и должен входить, — кротко заметил ему Дэнни. — Входи по-хозяйски, как будто ты тут самый главный.
— Так и есть, — ответил Брюс, и двое его прилипал-телохранителей, сидевших у самого края съемочной площадки, громко расхохотались.
Дэнни повернулся к Слиму, который за годы их знакомства из лысеющего превратился в лысого, Тридцать лет они работали вместе, начав еще на телевидении, и теперь, когда у них за плечами было девять вестернов и пять картин для подростков, читали мысли друг друга.
— Не тянет, — тихо сказал он Дэнни.
Тот вздохнул:
— Готовь все к съемке, Слим, а ей скажи, чтобы зашла в мой фургон.
Люба, усевшаяся напротив, выглядела безмятежно спокойной.
— Не нравится, — сказала она.
В ней не было даже следа обычного актерского волнения в начале съемок, да еще когда сцена не идет. Ее это вроде бы совершенно не беспокоило.
— Да не то чтобы не нравится, — сказал Дэнни, — но могло быть лучше. Подумай немного о своей роли. Представь, что рядом с тобой — маленькая девочка, понятия не имеющая о сексе.
— Почему?
— Что «почему»?
— Почему это она понятия не имеет о сексе? Я вот имела понятие.
— В десять лет? — вздернул бровь Дэнни.
— В девять, — и она деловито рассказала ему о забавах дяди Феликса.
— Здорово! — произнес Дэнни. — И долго это продолжалось?
— Больше года. Ну, не каждый день, разумеется.
Дэнни негромко присвистнул:
— В неделю раз?
— Иногда и чаще.
— Ну да?
— Мать по ночам без конца тягали на допросы в милицию. Феликс был, что называется, друг семьи и соглашался посидеть со мной.
— Еще бы он не соглашался, — Дэнни был несколько шокирован той откровенностью, с которой она рассказывала о своем сексуальном опыте.
— Для меня это было вроде новой игры — интересней, чем в куклы.
— Да уж, какие там куклы…
В ответ Люба только усмехнулась, не без лукавства.
— Меня поражает, что он никогда не предупреждал тебя: «Только смотри — никому ни слова…»
— Никогда. В этом не было необходимости.
Дэнни пристально посмотрел на нее. Она выглядела не то что юной, а просто девочкой, — но глаза, как и в первую их встречу, поразили его. В них была доброта и умудренность, появившаяся оттого, что видели они гораздо больше, чем должны были видеть. И выражение их было в точности то же, что и у Рахили.
— Знаешь, Дэнни, — прервала его мысли Люба, — я слышала о детях, слишком рано узнавших, что такое секс. Я думала, что их сначала обманули, потом запугали… Они боялись наказания и постоянно чувствовали себя виноватыми. Со мной не было ничего подобного.
— Тебя не мучило чувство вины?
— Никогда. Не из-за чего было мучиться. Но взрослые редко понимают, что дети очень чувственны по самой своей сути. Взрослые испытывают к ним сексуальную тягу и забывают, что дети могут ответить тем же.
— И что же, — спросил Дэнни, одолеваемый любопытством, но стараясь не показывать этого. — Ты… отвечала ему?
— Да… Но я сама не понимала… не сознавала, что ощущаю. Но ощущения эти были приятны.
— А пойти дальше он не решался?
— Ну, я же была совсем маленькая… Так, просто засовывал мне его между ног.
Его поражала эта манера говорить о сексе так, словно речь шла о том, что она ела на завтрак. Дэнни невольно начинал чувствовать возбуждение.
— А когда Феликс не мог сидеть со мной, меня забирала тетка. У нее был муж-турок, он научил меня целоваться…
— Что?
— И мне это тоже нравилось.
— Я думал, для тебя это был пройденный этап. Феликса разве ты не целовала?
— Целовала, но не туда, куда принято целовать.
— То есть ты научилась делать минет раньше, чем целоваться?
Она засмеялась и кивнула. Дэнни, против воли заражаясь ее весельем, удивлялся и радовался тому, как ему легко с нею: еще никто и никогда не говорил с ним об интимной стороне жизни так открыто, как она.
— Люба, Люба… Красивое имя.
— По-польски это значит «любовь».
— Ты полька?
— Я родилась там.
— А как ты сюда попала?
— Это долгая история.
В дверь трейлера постучали, и раздался голос Слима: «Босс, у нас все готово».
— Иду! — крикнул в ответ Дэнни, хотя ему хотелось слушать и слушать ее.
* * *
Дэнни прогнал сцену в баре еще раз. Ее отсняли, но по взгляду режиссера Слим понял, что при монтаже материал пойдет в корзину.
Когда Дэнни, обсудив с операторами завтрашнюю съемку, уже выходил из павильона, он заметил, что Люба ждет его у дверей.
— Спасибо, Люба. Ты хорошо поработала.
Она пропустила эту вымученную похвалу мимо ушей.
— Мы не увидимся вечером?
— Мне надо будет посмотреть, что мы там с тобой наснимали.
— Ну, если освободишься не поздно, знай, что я — дома. — Она улыбнулась, и у Дэнни возникло сильнейшее искушение не ходить в просмотровый зал. — Я еще много чего могу рассказать, — тихо добавила она.
* * *
Дэнни сидел перед большим экраном, но сосредоточиться не мог. Едва лишь он усилием воли перестал думать о Любе, как его стали одолевать мысли о Патриции. Он плохо понимал, что происходит на экране. Кое-как досмотрев, он вышел и около десяти был у себя в номере. Заказал копченой лососины, но когда ее принесли, есть не стал.
Еще со вчерашнего дня, как только вернулся из Зальцбурга, он хотел позвонить Патриции. Что-то удерживало его. Он боялся. Как, какими словами объяснить ей, что у него нет на свете существа дороже? И поверит ли она в это — ведь они столько лет провели в разлуке? Поймет ли она, что потерять ее для него равносильно смерти?
Он посмотрел на часы — в Вирджинии сейчас пять вечера. Сняв трубку, он заказал разговор со Стоунриджским колледжем. Как он ненавидел эту частную и закрытую школу, созданную для таких вот несчастных девочек с громкими фамилиями: их знаменитые родители были в разводе, а на счету в банке, ожидая их совершеннолетия, лежали огромные суммы. Эх, если бы Патриция жила с ним, ходила бы в обыкновенную школу в Беверли Хиллз!
Ему ответили, что Патриция на несколько дней уехала.
— Куда?
— Простите, сэр, подобные сведения мы не предоставляем.
— Да черт бы вас взял! Я ее отец!
На другом конце провода наступила пауза, а потом сказали:
— Она на Лонг-Айленде и вернется завтра.
Ничего себе, подумал Дэнни. Впрочем, если за тобой присылают самолет… Он заказал Лонг-Айленд.
— Дом мистера Стоунхэма, — произнес голос с британским выговором. Наверно, дворецкий.
— Попросите к телефону Патрицию.
— Кто ее спрашивает?
— Ее отец.
— Минутку, сэр.
Дэнни ждал очень долго и даже подумал, что их разъединили, когда тот же голос сказал наконец:
— Пожалуйста, позвоните через час. Она играет в теннис с мистером Стоунхэмом.
— Передайте, что ей звонит отец, из Лондона, — Дэнни едва сдерживал ярость.
— Сэр, она сейчас занята, — с расстановкой, словно втолковывая слабоумному, проговорил дворецкий. — Мистер Стоунхэм сказал, чтобы ее сейчас не беспокоили.
Дэнни бросил трубку. Через час он позвонил снова.
— Мисс Патриция обедает и подойти к телефону не может.
Дэнни медленно положил трубку на рычаг, тяжело дыша, лег на кровать. Он проиграл вчистую. Раньше надо было сражаться, раньше, а не прятать по-страусиному голову в песок.
Не в силах пошевелиться, он долго лежал так.
* * *
Массовка в костюмах и гриме сидела в павильоне, где стояли декорации дискотеки. Дэнни, стараясь не глядеть ежеминутно на часы, показывал им, как они должны вести себя при появлении Брюса Райана. Он ждал возвращения Слима, посланного за «звездой». Но вот ассистент появился на площадке.
— Он еще не разгримировывался, но все равно придется подождать, — мрачно сказал он.
— Чего ж так долго-то?
— Ты бы видел его, Дэнни: не человек, а кусок растекшегося дерьма.
— Кокаин?
— А что ж еще? Гример битый час потратил только на круги под глазами. Недавно кончил.
— Черт, хорошо бы отснять до обеда хоть кусочек.
Слим, скрестив руки на груди и покачиваясь с пятки на носок, проворчал:
— Если играть не можешь, то хоть приходи на съемку вовремя — за три-то миллиона… Ты должен накрутить ему хвост, Дэнни.
— Слим, — сдерживаясь, ответил Дэнни, — нельзя ли без добрых советов? В конце концов, это мое дело.
— Верно, босс. Я свое сделал, — и он исчез.
Дэнни плюхнулся в свое кресло. Слим — столько лет в кино, а актеров понимать так и не научился. Не понимает, что наглая бравада Брюса — это маска, за которой он прячет свой детский страх перед камерой, перед возможной несостоятельностью, перед необходимостью выкладывать сокровенное. Дэнни терпеть не мог Брюса, но понимал его. Сын каменщика из Пенсильвании, этот парень с внешностью любовника и бойца обладал и какой-то едва уловимой женственностью. Может быть, это немыслимое сочетание и определило его громовой успех? Успех успехом, но ни слава, ни деньги, ни популярность не смогли излечить Брюса от неуверенности в себе. Может быть, оттого что не доучился в школе, он чувствовал себя глупее других? Ему постоянно казалось, что над ним посмеиваются, и при всей своей ограниченности был в этом недалек от истины.
Через два часа он наконец появился в павильоне.
— Все по местам! — завопил Слим.
— Итак, Брюс, — подошел к нему Дэнни. — Ты сидишь и смотришь, как танцуют, потом идешь прямо на камеру и подаешь свою реплику.
— Не буду, — буркнул тот.
— Что «не буду»?
— Не буду я ничего подавать, — громче повторил Брюс.
Все уставились на него. Дэнни не верил своим ушам:
— Позволь узнать, почему?
— Потому что текст дурацкий!
Дэнни развернул сценарий и нашел реплику Брюса.
— «Я — мамин помощник». Ну, и чем она тебе не нравится? Это строчка из знаменитой песни «Роллинг Стоунз».
— Не слыхал.
Дэнни раздраженно отшвырнул сценарий:
— Потому, наверно, и снимаешься в картине о рок-музыке.
В толпе статистов послышались смешки.
Брюс вспыхнул и наставил на Дэнни указательный палец:
— В общем, так: либо ты меняешь текст, либо я — режиссера, — и вместе со своими прихлебателями вылетел из павильона.
Дэнни понял, что его обычная выдержка ему изменила: Брюс не терпел никаких шуток на свой счет и был болезненно самолюбив. Надо было спустить дело на тормозах. Он кивнул Слиму, растерянно почесывавшему в затылке.
— Перерыв на час!
Все бросились к выходу из павильона. Дэнни не торопился, зная, что ему предстоит малоприятная процедура.
Брюс Райан ждал его в своем трейлере.
— Послушай, Брюс, — устало заговорил Дэнни. — Если тебе не нравится реплика, значит, реплика плохая. Тебе должно быть удобно произносить текст, а мое дело — обеспечить тебе это…
— Кончай, — ответил Брюс. — Принес новый текст?
— Что бы ты хотел говорить?
— Я сценарии не пишу.
Дэнни чуть не ляпнул: «Потому что писать не умеешь», — но вовремя прикусил язык.
— Мне платят за игру.
«И втридорога», — подумал Дэнни, однако вслух сказал лишь:
— Ладно, пообедай, а мы заменим твою реплику.
— Тогда и позовете.
Дэнни послал ему самую чарующую из своих улыбок и вышел. «Ненавижу этого кретина», — бормотал он, шагая по людным коридорам студии. Какую силу взяли эти чертовы звезды! Две последние картины Брюса принесли огромные деньги студии. В случае открытого столкновения боссы, не моргнув глазом, заменят режиссера, а не звезду, имя которой у всех на устах, и никакие прошлые заслуги тут Дэнни не спасут.
Мимо него торопились в кафетерий латники в средневековых костюмах, девушки, матросы. Все были веселы и оживлены — даже какое-то чудовище из фантастической картины.
Дэнни хотелось уйти подальше, и он забрел на зады студии, где помещались заброшенные ныне открытые павильоны для натурных съемок. Проходя мимо ряда лестниц, он подумал о том, сколько же разнообразных сцен разыгрывалось на этих ступенях. По ним, фехтуя, спускался Эррол Флинн и поднимался, неся на руках Вивьен Ли, Кларк Гейбл; с этих перил со шпагой прыгал на люстру Дуглас Фербенкс. Он запомнил все это с детства, когда сидел в зале «Риальто» рядом с Маргарет Деннисон и думал, какое замечательное и увлекательное дело — снимать кино. Сейчас он так не считает.
Сейчас он испытывает стресс, тревогу, тоску, напряжение.
Самое время послушать, что расскажет ему Люба.
* * *
В дверь позвонили, и Люба, второпях набросив на себя что-то, побежала открывать. Господи, почему Дэнни послал за ней машину в такую рань — она не успела ни накраситься, ни причесаться.
На пороге стояла женщина — бледная, изможденная, с заплаканным лицом, и платье на ней висело, как на вешалке.
— Магда!
От изумления она не могла больше произнести ни слова — за то время, что они не виделись, мать постарела на добрый десяток лет.
— Ну, входи же! — наконец опомнилась Люба. — Как я рада тебя видеть! — Она обняла ее и почувствовала, что та, как деревянная. — Я несколько раз пыталась тебе дозвониться, но твой номер отключен. И письмо твое было такое короткое… Ты написала, что все у тебя прекрасно, но я не очень-то в это поверила…
— Он только раз позволил мне написать тебе, — голос Магды тоже был сух и безжизнен.
— Сволочь! Как же он отпустил тебя?
— Он умер.
— Как?
— Упал с лестницы на чердаке, — почти шепотом произнесла Магда, нагибаясь за своей сумкой.
— Собаке — собачья смерть… — сказала Люба и под взглядом матери осеклась. Взяв у нее сумку, она повела мать во вторую спальню.
— Это тебе, — Магда протянула ей свернутые в тугой рулон и перехваченные резинкой деньги. — Больше там не оказалось, как я ни искала.
— А гостиница?
— Гостиницу забрал банк в счет погашения ссуды..
— Радуйся, что все уже позади. Да сядь же, отдохни… Завтра я вынесу отсюда все свои кисти-краски. Сейчас я тебя покормлю, ладно?
Магда, кивнув, тяжело осела на кровать.
В кухне, разогревая суп, Люба пересчитала наличность — триста фунтов, — в обрез за квартиру. Где же остальное? Там же было несколько тысяч… Мысленно она перебирала все тайники и укромные места в «Гринфилдз-Инн», куда полковник мог бы запрятать деньги.
Магда, вяло проглотив две ложки, отодвинула тарелку: она так устала, что ей не хотелось есть.
Люба отвела ее в спальню, уложила, убедилась, что она спит и отправилась к Дэнни, радуясь, что можно уйти из дому. Слишком тяжкое впечатление произвела на нее Магда — и вид ее, и это безразличие. Может, не стоило оставлять ее одну в первый же день? Но ей не терпелось увидеться с Дэнни. Люба откинулась на мягкую кожаную спинку сиденья — ей казалось, что лимузин еле ползет.
* * *
— Ну, скажи мне, Люба, неужели тебя ни к кому не тянуло по-настоящему?
— Дай сообразить.
— Пожалуйста, — рассмеялся Дэнни. — Сколько угодно. Ты не на экзамене.
Растянувшись рядом с Любой на широченной кровати в номере «Дорчестера», потягивая замороженную «Выборову», которую заказал специально, он погружался в прошлое этой женщины.
— Тянуло, — наконец ответила она. — К Йозефу.
— Это канатоходец?
— Да. Я его любила. Он гордился мною и вселял в меня веру. Я была частью его семьи. А остальные — остальным нужно было только одно, я это сразу чувствовала, даже если они меня и не лапали с ходу. Йозеф был единственный, кто сажал меня к себе на колени, обнимал и — ничего…
— Может быть, остальных ты сама… провоцировала?
— Может быть. Но, знаешь, я была очень любопытная, и если уж бралась выяснять что к чему, то ничего не боялась. Ну и хватит об этом, — она закрыла глаза.
Дэнни было удивительно легко с ней. Очевидно, Милт когда-то был прав, и он действительно пуританин по духу. Но Люба демонстрировала ему такую свободу, о которой он не имел и представления. И, кроме того, она оказалась великолепным «противоядием»: с нею он забывал и Брюса Райана, жившего в роскошных апартаментах этажом выше, и все случившиеся задень неприятности. Улетая из Зальцбурга, он решил больше не видеться с нею — сейчас он чувствовал, что не может без нее обойтись.
Он еще долго не мог уснуть после того, как она уехала. Да, у нее есть и мужество, и упорство, и хватка. А как узнаешь, на что ты способен, чтобы выжить, покуда жизнь не устроит тебе испытание? Разве не для этого спала в концлагере с комендантом его сестра Рахиль? Она хотела выжить, но умерла. Почему? Ведь спасение было уже совсем близко. Что заставило ее покончить с собой? Мысль о том, что она спала с нацистом и носила под сердцем его ребенка? Давид, так зверски застреленный у нее на глазах? Он любил Рахиль и хотел на ней жениться, а вот любила ли она его? А, может быть, ей стал милей немец-нацист, комендант лагеря? Он собирался бежать, оставив ее. Но она бросилась не к окровавленному трупу Давида, а в комендантскую спальню… Кто знает, о чем думала она, глядя на кровать, на которой каждую ночь спала с ним? Задавать себе эти вопросы — то же, что требовать ответа у ветра, — ничего, кроме эха, ты не услышишь.
А вот Люба должна знать ответы. Она бы поняла, что двигало Рахилью. Но она никогда, даже в таких обстоятельствах, не покончила бы с собой. В этом Дэнни не сомневался.
Он хотел новой встречи с нею — завтра же вечером. Он хотел знать до мельчайших подробностей все, что было в ее жизни.
* * *
Его разбудил настойчивый телефонный звонок.
— Какого дьявола? — спросонья рявкнул он.
— Дэнни, как здоровье?
— Милт! — невольно улыбнулся он. — Кому еще взбредет в голову звонить в половине третьего ночи?!
— Ах, прости, старина: я вечно путаю часовые пояса — Англия впереди, Япония позади или наоборот.
— Ты не очень торопился позвонить мне.
— Я опасался, что ты опять заведешь свою шарманку насчет «Человека».
— Тебе опасаться нечего. Говорить я буду с Артом Ганном. Я нашел, наконец, подход. Это будет фильм о художнике, загубившем свой талант ради выгоды.
— Да, пожалуйста.
— Так что, ты устроишь мне встречу?
— Считай, что уже устроил. Слушай, Дэнни, я тебя хочу спросить о другом… Как «Лондон-рок»?
— Движется понемножку. Плохо, по правде говоря, движется, но, ей-Богу, это последнее, что меня волнует.
— А что ж тебя в таком случае волнует?
— Эх, Милт, мне трудно об этом говорить…
— Брось, старина, мне ты можешь сказать все, — Милт стал серьезен.
— Джи-Эл.
— А что тебе-то сейчас до этого хмыря?
— Он собрался удочерить Патрицию.
— Что за бред?! При живом отце?
— Наверно, мистер Стоунхэм придерживается на этот счет иного мнения.
— Да плевать мне сто раз на его мнение! Что Патриция-то говорит?
Дэнни не отвечал. Не то что лучшему другу Милту, но и себе самому он не мог сознаться в том, что боится: Патриция не хочет, чтобы ее отцом был он.
* * *
На следующий день Брюс продолжал капризничать и брюзжать. Он восседал на своем «троне» с телохранителями по бокам. Один из них потягивал из банки «7-АП», пока Брюс, вырвав у него из рук, не швырнул ее в мусорный ящик.
Сцену на дискотеке пересняли. Брюс теперь появлялся там, произнося: «Я большой человек, а ты мой маленький помощник».
— Я вижу, ты не сердишься на меня, — сказал Слим. — Ты прости меня за вчерашнее.
— Да ладно… Мы с тобой тридцать лет состоим «в законном браке», надо иногда и поругаться.
— А зачем мы премся в Португалию? — вмешался в разговор подошедший к ним Брюс.
— Ты что, не читал сценарий? Там рок-концерт на арене для боя быков и фиеста на пляже.
— Ненавижу страны, где не говорят по-английски. Лично я знаю одно испанское слово — «si».
— Видишь ли, Брюс, в Португалии, как на грех, говорят по-португальски, — объяснил Слим.
— Новое дело, — и Брюс, матерясь себе под нос, двинулся к выходу из павильона.
Слим шепнул Дэнни:
— Эх, не послушался меня, не накрутил ему хвост, так дал бы хоть мне ему рыло начистить.
* * *
После утомительного рабочего дня Дэнни спешил в свое святилище — номер «Дорчестера», где в камине потрескивал огонь, а на кровати ждала его Люба. Она обладала каким-то волшебным даром одновременно вселять в его душу и мир, и бодрость. Все исчезало, когда Дэнни был с нею.
— Ну, как съемки? — спросила она, положив голову ему на грудь.
— Все нормально, но я жду не дождусь, когда все это кончится.
— И ты вернешься в Америку?
— До Америки еще далеко. Когда вернемся из Португалии, еще доснимем кое-что здесь и уж потом двинем домой.
— А я никогда не была в Америке.
— Правда? Надо бы съездить.
— Вы, американцы, сами не понимаете своего счастья. Слышал ты, чтобы кто-нибудь бежал из Америки? — спросила Люба и, не дожидаясь ответа, продолжала: — В Польше каждый — понимаешь, каждый! — мечтает попасть туда. Я же помню, хотя мне было всего тринадцать лет, когда мы сбежали… Ах, прости, тебе надоело слушать про это. Темная история.
— Вовсе нет. История честная и очень увлекательная. Ты прямо Шахерезада. Даже лучше.
Она польщенно рассмеялась.
— У меня таких историй — вагон. Только попроси.
— Ну, расскажи мне, чем ты занималась весь день?
— Сегодня?
— Да нет, там, в Кракове.
— Ах, мы уже вернулись в Краков? — она взбила подушки, поудобнее устроилась на груди Дэнни. — Чем занималась? В школу ходила. Знаешь, я все схватывала прямо на лету, но мне там было жутко скучно. А вот ночью — нет, — она засмеялась.
— Что смешного?
— Да нет, просто я вспомнила, как мать однажды привела домой клиента-американца. Я лежала на своем топчане в темноте и вдруг слышу — она говорит по-польски: «Езус-Мария, этот парень, наверно, считает себя Геркулесом, сколько можно? Хоть бы уж кончил поскорей». Но интонация была такая, словно она изнывает от наслаждения. Я чуть не прыснула — пришлось заткнуть себе рот подушкой.
— Ну а если ей нравился партнер, она тоже давала тебе знать об этом?
— А как же! Раз на раз не приходится.
— И при том, что ты была в той же комнате…
— Ну ей же хотелось поделиться впечатлениями! Она ведь была так одинока, все мечтала удрать из Польши — не могла забыть моего отца. О чем ей было говорить с людьми — она же никому не доверяла: вдруг выдадут? Оставалось только это.
— Тяжкая жизнь.
— Да нет, у нас с ней всякое бывало, но мы оставались всегда очень близки.
— Как вам это удалось?
— Что?
— Вам обеим пришлось столько испытать, через такое пройти — как же вы сумели остаться близкими друг другу?
Люба зевнула.
— Просто я всегда знала, что Магда меня в беде не бросит, и она была уверена, что сможет на меня положиться, — сказала она сонно.
— Откуда ты знаешь?
— М-м-м?
— Да ты заснула на мне! Я спрашиваю, откуда ты знала, что она не бросит тебя в беде?
— Так… не знаю… я это чувствовала… И она тоже. Что бы ни случилось, мы друг друга не предадим…
Она взбила подушку, закрыла глаза. Дэнни осторожно, чтобы не потревожить ее, поднялся, подошел к окну, постоял, глядя, как хлещут за стеклом струи дождя, как воет ветер в Гайд-парке. Ему отчаянно хотелось, чтобы по ту сторону Атлантического океана Патриция почувствовала сейчас: что бы ни случилось, он не предаст ее.
Потом он оглянулся на мирно спящую Любу. Теплая волна прошла по всему телу. Он испугался этой внезапной нежности. Только не хватало влюбиться в нее — мало у него проблем? Все душевные силы нужны ему будут, чтобы отвоевать Патрицию. Он снова взглянул на Любу. Нежность не исчезала. Дэнни отвернулся.
* * *
Люба выпроводила Магду из квартиры, чтобы без помехи заняться живописью, но сегодня дело не шло. Они трижды раскладывала на полу газеты со всем своим живописным скарбом — и каждый раз убеждалась, что ей неудобно. Наконец поставила этюдник на ковер, а тюбики с красками — на телевизор. Теперь должно было получиться. Модель терпеливо лежала на подоконнике, время от времени тихо мяукая.
Нет, что-то ей мешало! И это «что-то» были мысли о Дэнни. Не стряслось ли с ним чего-нибудь? Двое суток как он ни звонил, а ведь до этого несколько недель они виделись каждый вечер.
Встреча с этим человеком преобразила ее жизнь. Она перестала отвечать на звонки из «эскорт-сервис», хотя, видит Бог, с деньгами было туго. Но Люба хотела проводить ночи с ним, понимая, впрочем, что ведет себя глупо. В понедельник он улетает в Португалию, а о том, чтобы взять ее с собой, и речи не было. Потом, через несколько недель съемки будут окончены. Ей больно будет расставаться с ним: он глубоко проник ей в душу, заняв место, которое раньше безраздельно принадлежало Валентину. Дэнни был первым, кто вправду хотел знать о ее жизни все, хотел знать и понять ее. Может, она и дура, но, кажется, она влюбилась.
Потому она с таким жаром и взялась за кисти, что ей хотелось сегодня отделаться от этих дум. И, наконец, она втянулась в работу. В это время пришла Магда с двумя большими сумками, наполненными всякой всячиной. Люба сделала вид, что не слышит, — очень уж не хотелось выныривать из того блаженства, которое дарила ей живопись.
— Люба, ты не могла бы оторваться на минутку?
— В чем дело?
— Дело в том, что денег нет. Масло пришлось оставить в магазине. Ты мало даешь мне на расходы.
— Даю, сколько есть.
— Этого мало.
— Я заплатила за квартиру, и пока не позвонит Дороти из агентства, больше мне взять негде.
— Она уже дважды звонила, а ты и не подумала связаться с ней.
Люба резко обернулась к матери — чашечка со скипидаром, в котором она отмывала кисти, перевернулась.
— Ай, Люба!.. Что ты наделала!
— Я вижу!
Магда схватила тряпку и, став на колени, принялась оттирать пятно.
— Это никогда не отойдет! Такой чудный ковер… Это все твое рисование!..
— А я хочу рисовать!
— Но не в гостиной же!
— Раньше у меня была мастерская, но теперь там живешь ты.
Магда бросила тряпку и подняла на дочь расширенные от страдания глаза.
— Извини, — дрожащим голосом произнесла она.
Вся злость Любы мгновенно улетучилась. Она обняла мать.
— Это ты меня прости. Магда, Магда, не плачь… У меня эти дни нервы шалят. И за тебя мне тревожно: ты ничего не хочешь делать, боишься выйти из дому, сегодня я тебя чуть не силой погнала за продуктами. Тебе надо устроиться на работу — хоть на неполный день…
— Не могу.
— В ресторанах постоянно требуются люди…
— Не могу, не могу… — и она разрыдалась на плече дочери.
— Но ведь у тебя так вкусно все получается…
— Не надо говорить об этом, Люба… Я не могу!
Люба замолчала. Разговор этот слово в слово повторялся уже несколько раз с тех пор, как мать приехала из Брайтона. Что там случилось, Магда не рассказывала, а Люба не решалась расспросить. И сейчас она лишь крепче прижала ее к себе, чуть покачивая из стороны в сторону, словно убаюкивала дочь.
* * *
Накануне отлета в Португалию Дэнни не выдержал и позвонил Любе. Он пригласил ее поужинать в китайском ресторане — что еще он мог сделать? Любе понравилась китайская кухня, она довольно ловко справлялась с палочками (Дэнни ел вилкой) и отважно пробовала самые экзотические кушанья — утку по-пекински и черную сычуаньскую фасоль, тогда как Дэнни ограничился жареным рисом, супом из акульих плавников и свининой.
За обедом Дэнни вопреки своему обыкновению был молчалив и ни о чем ее не расспрашивал.
— Как прошел день? — наконец спросила Люба, но Дэнни усердно жевал. — Хорошо, что ты спросила, — заговорила она, подражая его густому баритону. — День просто великолепный. Брюс Райан преподнес мне букет цветов.
— Что?
— Ну, ты же молчишь, вот я и ответила вместо тебя.
— Извини. День был чудовищный.
— Расскажи.
— Неохота.
— Хорошо, тогда я расскажу тебе очередную историю.
— Сейчас не надо: у меня от собственных историй голова кругом, — он поднялся и пошел к кассе, понимая, что слова его звучат грубо, но слишком трудно было ему прощаться с нею.
А Любу потрясла его раздражительная отчужденность. Что случилось? Обычно он с таким жадным любопытством расспрашивал о ее жизни.
— Давай погуляем немного, — предложила она, когда они вышли из ресторана: ей не хотелось, чтобы вечер кончался так.
Едва увернувшись от большого туристского автобуса, они перебежали на другую сторону.
Люба засмеялась.
— Наверно, Стах за рулем.
— Кто?
— Гид из краковского турбюро. Один из тех, кого мы с Магдой делили поровну.
— Что?
— Разве я тебе не рассказывала?
— Нет. Ну-ка, ну-ка.
Наконец-то ей удалось пробудить в нем хоть искру интереса. Пока они гуляли в парке, Люба рассказывала ему эту историю. Вдруг Дэнни остановил ее, сел на скамейку и усадил Любу рядом.
— Но как же это вышло в первый раз?
— Ну, как? Я просто прыгнула к ним в постель.
— Да неужели?
— Да. Магда рассердилась, стала говорить, чтобы я ушла, а не то она уйдет… В общем, сопротивлялась, но потом сдалась. И — ничего. Можешь мне поверить, Стах давно мечтал об этом, вот его мечта и сбылись. Это было прекрасно. — Она сжала его руку. — А ты бы не хотел попробовать?
— Что попробовать?
— Чтобы у стеночки Магда, с краешка — я, а ты посерединке?
— Да ты просто извращенка! — воскликнул Дэнни, почувствовав холодок под ложечкой.
Люба снова рассмеялась: она отлично видела, что ее слова возбуждают его.
Он резко встал, пряча за этой резкостью смущение:
— Пойдем! — он надеялся, что в полумраке Люба не видит его лица.
Выйдя из парка, они пошли по улице, такой оживленной днем, а сейчас безлюдной.
— Ой, смотри, какая прелесть! — вдруг закричала Люба. Она прижалась лбом к витрине магазина и разглядывала выставленного там карликового пуделя. — Шерстка как шелковая.
— Я тебе куплю его.
— Ну, что ты, они страшно дорогие: чем собачка меньше, тем больше стоит.
— Ничего, мой бюджет выдержит.
— Не надо.
— Но он же тебе нравится.
— Все равно не хочу.
— Возьми на память обо мне — может, тогда не так скоро забудешь.
Она ничего не ответила.
Глава X
1987.
ЛОНДОН.
Люба уже привыкла к постоянно моросящему дождику. Но в этот вечер за окном бушевала настоящая буря: с черного неба, разрываемого ослепительными сполохами молний, низвергались потоки воды. Чтобы добраться до дома, пришлось взять такси, хоть это стало ей теперь совсем не по карману. Роль ей опять не дали — второй отказ за два дня. Да ей и самой не хотелось ни сниматься, ни играть — гораздо лучше сидеть дома перед мольбертом. Денег хватило только-только, и она поспешно выскочила из машины, стараясь не видеть мрачного лица водителя, — на чай он получил пять пенсов. Подъезд оказался заперт — кто это, интересно знать, додумался? Она стояла под проливным дождем, роясь в сумке в поисках ключа, и злилась все сильней — в туфлях хлюпала вода, одежда вымокла насквозь. Люба сердито нажала кнопку звонка.
Ей показалось, что прошла целая вечность, прежде чем из «интеркома» не прозвучал голос Магды:
— Кто там?
— Да я, я! Открывай, черт побери!
Щелкнул замок, и она взбежала по ступенькам, на ходу сдирая с себя мокрый жакетик. В прихожей сбросила с ног туфли.
— Умоляю — чашку горячего чаю!
— Законное желание, — ответил низкий мужской голос. — Милости просим.
Люба шагнула в гостиную и оцепенела.
Происходило очень странное чаепитие. За столом сидели Магда и двое мужчин. Тот, что был постарше, с густыми висячими усами, по всей видимости, давным-давно перестал заботиться о своей талии. Его спутник был молод, высок и строен, и усики у него были соответственно тоненькие и изящные. Он поднялся с места, когда появилась Люба, и сказал:
— Мы с вами всегда встречаемся в дождь, — лицо его показалось ей знакомым. Да ведь это тот самый полицейский из Брайтона, предлагавший ей выпить чая, когда она прибежала в участок звать на помощь!
— Ты мокрая, — с трудом выговаривая английские слова, произнесла Магда.
— Да, вы совсем вымокли, и вам в самый раз будет выпить горячего крепкого чая, — когда полицейский улыбался, верхняя губа у него задиралась, показывая десны.
Второй гость, без остатка заполнивший собой самое большое кресло, молча кивнул Любе. Оба полицейских были в штатском, но профессия их угадывалась с первого взгляда. Господи, до чего ж похожи на польских милиционеров из Бродков — даже усы такие же! Магда поставила перед Любой чашку, поцеловала дочь в щеку и ровным голосом, тщательно выговаривая каждое слово, сказала:
— Они думают, что кто-то убил полковника Джонсона.
«Упал с лестницы… ударился головой», — замелькали мысли. Очевидно, мать сказала ей не все.
— О, нет-нет, — возразил толстяк. — Мы ничего не думаем, мы просто хотели бы задать вам несколько вопросов, не более того. Позвольте представиться. Капитан Фергюсон, брайтонская полиция. Сержант Суинни.
— Я уже имел честь познакомиться с юной леди, — слегка поклонился сержант.
— Что все это значит? — Люба переводила взгляд с одного на другого.
Капитан прокашлялся.
— Мы расследуем обстоятельства, при которых скончался ваш отец…
— Отчим.
— Да-да, конечно. Не скажете ли, где вы находились в момент смерти вашего отчи… э-э… полковника Джонсона?
— Здесь, в Лондоне.
Сержант чуть подался вперед:
— Вы помните тот вечер, когда пришли к нам в участок?
— Помню… — ответила она и добавила, стараясь, чтобы это прозвучало светски: — Вы еще предложили мне чая.
— Верно, — сказал сержант, заглядывая в раскрытый на коленях блокнот. — И, если мне не изменяет память, сказали буквально следующее: «Он убивает ее». — Сержант положил ногу на ногу, чуть сощурился. — Речь шла о вашем отчиме и вашей матери?
— Да.
— Люба — хорошая, — с принужденным смехом заговорила Магда. — Она всегда заботится о маме. Мы с мужем немного повздорили тогда. Семья — сами понимаете. Всякое бывает. Иногда и голос повысишь. Дочь испугалась.
— То есть, иными словами, он не покушался на вашу жизнь?
— Нет-нет, что вы? Ха-ха-ха! Он был так добр. Он просто переживал… как это сказать?.. за отель. Новый бизнес. Хотел, чтобы все шло хорошо.
— И все-таки я не совсем понимаю, — сказала Люба, чувствуя, как нарастает в душе тревога, — зачем вы пришли?
— Мы обязаны допросить вас перед тем, как сдать дело в архив, — сказал капитан. — А в деле этом есть… ну, неясности, что ли. Мы уже сообщили вашей матери, что травма, оказавшаяся причиной смерти, слишком серьезна для простого падения с лестницы. Таково мнение прокурора.
Люба уставилась на две крошечные капельки воды, поблескивавшие на носках его башмаков.
— А наша экспертиза установила, что голова погибшего ударилась о ступеньку посередине лестницы. — Он сделал паузу, как бы подчеркивая важность этих сведений.
— Ну, и что это значит? — спросила Люба.
Капитан поставил чашку на стол.
— Мы восстановили траекторию падения тела и пришли к выводу, что полковник Джонсон мог упасть в результате сильного толчка.
— И кто же это мог его толкнуть? — Люба чувствовала, что ей нечем дышать.
В наступившей тишине нестерпимо громко зашелестели страницы сержантского блокнота. Капитан спросил, обращаясь к Магде:
— Миссис Джонсон, вы видели, как ударился головой ваш покойный муж?
— Нет, я не была там, я не вижу… не видела. Я сказала все: мой муж погиб, я очень опечалена.
— Когда вы в последний раз видели полковника Джонсона живым?
— Я сказала: несла ящик на чердак. Он взял его у меня. Хотел мне помогать, то есть, помочь.
Люба держала чашку и слушала гулкие удары сердца. Капитан закашлялся и кивнул сержанту — продолжай, мол.
— И что было потом?
— Я сказала уже: я пошла за другим ящиком. Переносила его наверх и увидела его — полковника Джонсона.
— Вашего мужа?
— Да, своего мужа. Он лежал. Он был мертвый.
— Откуда вы знаете, что он был мертв?
— Я не была уверенная, я дотронулась, он не шевелился. Я испугалась, я зову… звала на помощь.
— Кто-нибудь еще был в гостинице?
— Да, в тот день приезжали новые постояльцы.
— Кто-нибудь видел, как вы поднимались по лестнице?
— Да, да! Миссис Генри видела. Она спрашивала меня, не очень ли тяжелый ящик? Я отвечала: нет-нет, я имею привычку.
Сержант опять полистал свой блокнот.
— Это совпадает с показаниями миссис Генри, — он повернул блокнот к Фергюсону, но тот не сводил глаз с Магды.
— После похорон вы довольно быстро покинули Брайтон? К чему такая спешка?
— Мой муж мертв. Отель взял банк. Я печальная, очень печальная. Поехала к дочери. Зачем вы спросили?
Капитан улыбнулся:
— Ну-ну, миссис Джонсон, не волнуйтесь. Вопросы задаем мы. А от вас требуется только правдиво на них отвечать.
— Но вы спросили опять и опять одно и то же. Я отвечала, я все отвечала!
— Мы отлично понимаем ваше состояние, миссис Джонсон, поверьте, понимаем, как тягостна для вас эта процедура. Но такая уж у нас работа. Еще несколько вопросов — и все.
Люба отпила остывшего чая и пытливо уставилась на мать.
Полицейские переглянулись, и капитан осведомился:
— Скажите, миссис Джонсон, вы были счастливы в браке?
— Да. Мы иногда поссоривались, как все другие люди. Это тяжелый бизнес — отель. Но мистер Джонсон был заботливый ко мне и Любе…
— Тем не менее ваша дочь уехала от вас? Почему?
Люба поспешила прийти на помощь:
— Наши отношения с полковником сложились не самым лучшим образом. Мы не ладили. Мне казалось, что я ему в тягость и что, если я уеду, и ему, и моей матери будет легче.
— Так и произошло?
— Да, — сказала Магда. — Мой муж никогда не имел детей и не мог понимать молодую девушку. Мы решали… нет, решили: Любе будет лучше в Лондоне.
Сержант, продолжавший листать блокнот, дошел до последней страницы, и Люба с облегчением перевела дух. Вдруг он вскинул на нее глаза:
— Еще один вопрос. В ту ночь, когда вы прибежали к нам в участок… Вы думали, что вашу мать убивают? — последнее слово он произнес с нажимом.
— Да. Я была просто в смятении — они никогда еще не ссорились так сильно… Я испугалась.
— Так, значит, это была ссора — не более того?
— Не более.
— Без… гм… физического воздействия?
— Разумеется, без!
Магда сидела молча. Дождь за окном зарядил, как видно, всерьез, и небо время от времени полосовали молнии. Потом слышался удар грома. Кот подошел к Любе, потерся о ее ноги, замяукал — время кормежки давно прошло, а ему так ничего и не дали. Молчание нарушил капитан:
— Много ли денег он вам оставил?
— Нет. Ничего не оставил. Все забрал банк, — слезы навернулись ей на глаза. — Зачем вы спрашиваете нас эти вопросы? Я в этой стране не очень долго. И замужем я не очень долго. Я любила моего мужа. Он хороший человек. Несчастный случай разрушил всю мою жизнь. Потом вы приходили сюда и спрашивали про то, как я убивала того, кого любила. — Она тихо заплакала.
Люба глядела на нее с тайным восхищением. Какая артистка пропадает! Ей бы в кино сниматься… Она и меня убедила.
Капитан выпростал из кресла свое громоздкое тело, перегнулся через стол к Магде и произнес:
— Благодарю вас и прошу прощения за беспокойство. Думаю, на этом наше расследование окончено.
Розовощекий сержант Суинни с улыбкой подошел к Любе:
— Было очень приятно встретиться с вами снова. Будете в Брайтоне — заходите, выпьем чая и поболтаем.
Люба промолчала.
— Надеюсь, у вас обеих все будет хорошо, — добавил он.
— Спасибо, — глядя в сторону, сказала Люба.
Как только за полицейскими захлопнулась дверь, она взяла на кухне тряпку, вернулась в гостиную — кот шел за нею по пятам — и тщательно вытерла пол, где остались влажные следы их башмаков. Потом накормила кота и только после этого села рядом с Магдой. Та не шевельнулась, не подняла головы, продолжая беззвучно плакать.
— Как это было на самом деле? — спросила Люба по-польски.
Магда закрыла лицо руками. Люба ждала. Магда с закрытыми глазами привалилась к спинке дивана, глубоко вздохнула и лишь потом заговорила очень тихо и медленно:
— Я больше не могла выносить все это… Еще немного, Люба, и я бы покончила с собой. Знаешь, он стоял на лестнице, на одной ноге, как тот черный злобный журавль, который напал на меня однажды в Бродках. Я поняла, что еще одной ночи с ним просто не переживу. — Она открыла глаза и посмотрела в потолок. — Люба… Люба, что я натворила… Бог меня накажет.
Ее плечи затряслись, по щекам покатились слезы. Люба опустилась перед нею на колени.
— Не плачь, мама, я бы должна была сделать это сама… Не плачь. Кроме нас, никто ничего не знает. Мы вместе, и это самое главное.
От звонка в дверь обе подскочили на месте, потом переглянулись.
— Они вернулись. Они пришли за мной, — прошептала Магда побелевшими губами.
— Не бойся, я их выставлю, — Люба похлопала ее по руке.
Но за дверью стоял промокший до нитки мальчик-посыльный с корзиной в руках.
— Мисс Джонсон? Это вам.
Из корзины слышалось какое-то попискиванье. На карточке было написано:
Люба, это чтобы ты меня не забыла. Д.
Она открыла корзину и увидела внутри комочек белой шерсти. Сунула карточку в карман и вошла в гостиную.
— Магда, тебе подарок.
Она поставила корзинку ей на колени, открыла крышку. Крошечный пуделек выскочил наружу и сразу же принялся лизать Магду в щеки.
ЛИССАБОН, ПОРТУГАЛИЯ.
Слим заранее представил в таможню сопроводительные документы, а потому когда съемочная группа «Лондон-рок» чартерным рейсом прибыла в аэропорт Лиссабона, формальности должны были занять очень мало времени, а группа почти сразу могла отправиться на «натуру». Дэнни всегда любил этот этап съемок: даже боль, возникавшая при каждой мысли о Патриции, казалась не такой острой. Где-то позади, в клочьях лондонского тумана остались Стефани, и Джи-Эл, и Люба. Он знал, что решив провести в Лиссабоне восемь дней без Любы, поступил правильно. Она становилась для него наваждением — нужно было убежать, улететь, скрыться от нее.
Дэнни ждал своей очереди на проход через пограничный и таможенный контроль, как вдруг с удивлением увидел вывернувшегося у него из-за спины Брюса, который вразвалку, как ковбой — в дверь салуна, прошел через металлическую раму детектора. За ним по очереди шагнули оба его прихлебателя, и в ту же минуту сработала сигнализация. Брюс обернулся и оцепенел. Пограничники, выразительно жестикулируя, уже скрутили обоих парней и оттащили их в сторону.
К старшему таможеннику подскочил Слим. После краткой беседы он отошел, растерянно почесывая лысую макушку, отвел Дэнни в угол.
— Брюсовы мальчики пытались провести кокаин, завернутый в фольгу. Что делать, босс? Их арестовали.
Ну, конечно, детектор среагировал на металлическую фольгу.
— Я свяжусь с нашим послом. Посмотрим, что можно будет предпринять, чтобы вытащить этих остолопов, — сказал Дэнни. — А ты глаз не спускай с Брюса. — Он показал на свою «звезду», стоявшую в одиночестве и растерянности. — Отвези его в отель, пока и его не обыскали. Если Брюса задержат, на картине можно поставить крест.
* * *
С помощью посла Дэнни удалось воздействовать на португальские власти: «мальчиков» Брюса освободят и отправят назад в Лондон, как только «ЭЙС-ФИЛМЗ» заплатит тридцать тысяч долларов штрафа. Арт Ганн, страшно матерясь по телефону, пообещал перевести деньги немедленно.
Когда инцидент был исчерпан, Дэнни в полном изнеможении откинулся на сиденьи лимузина, мчавшего его по широким, обсаженным деревьями проспектам португальской столицы мимо роскошных дворцов и особняков. Водитель показал на дом всемирно известного художника Нуно Адолфо, возведенный на одном из семи Лиссабонских холмов, и как ни утомлен был Дэнни, он не мог не восхититься этим дворцом в мавританском стиле, который придавал всему городу атмосферу «Тысячи и одной ночи». По узкой, замощенной булыжником улочке они въехали на площадь Террейро-до-пасо, знаменитую Площадь черного коня, где Слим снял для Дэнни очаровательный домик — его каменные ступени вели прямо на берег Тэжу. «Отличное место», — думал Дэнни, предвкушая, как выспится здесь.
Он вылез из автомобиля и увидел перед собой Брюса Райана.
— Марафет! — сказал он.
— О чем ты, Брюс?
— Марафет мой верните, чтоб вы все сдохли! Ну, кокаин, кокаин! Иначе не буду работать.
Потрясенный Дэнни невольно оглянулся, боясь, как бы этот разговор не услышали прохожие.
— Брюс, ты что — спятил? Как я его тебе достану?
— Как хочешь.
— Скажи спасибо, что выпутался…
— В задницу засунь свое «спасибо»! Короче, так: если к утру не будет — я отсюда уматываю.
— Ну ладно, сейчас позвоню на таможню, скажу, что обнаруженный кокаин принадлежит тебе и ты требуешь его вернуть.
По глазам Брюса он понял, что тот испугался.
— Кончай, Дэнни, мне не до шуток…
— Но что же я-то могу сделать?
— Ну, помоги мне, Дэнни, — робким, умоляющим тоном проговорил Брюс. — Я не могу без него, я пропаду, загнусь…
Понуро сгорбившись, он зашагал к своей машине. Он так и остался мальчуганом из пенсильванского захолустья. Бедняга. Дэнни было жаль его. Но неужели он будет заниматься добыванием наркотиков для Брюса?! Погоди-ка, а ведь все знают, что Нуно Адолфо экспериментировал с какими-то дьявольскими стимуляторами творческой активности… Вдруг он поможет? Господи, идти к художнику из первой десятки и клянчить у него эту пакость? Да мыслимо ли это? Мыслимо, раз другого выхода нет.
* * *
Особняк Адолфо — розовое здание причудливой архитектуры — был огорожен высокой каменной стеной и помещался на разных уровнях. Дворецкий встретил Дэнни и попросил его подождать у входа, откуда лестницы вели на крытые галереи, увитые какими-то диковинными алыми цветами.
Адолфо появился на ступенях, раскинув руки для объятия так, что широкие рукава его шелкового длиннополого одеяния мелькнули в воздухе, словно крылья большой птицы. Это был приземистый крепенький толстячок с гладким и румяным, как яблочко, херувимским личиком. Белоснежные волосы спадали на плечи.
— Дорогой сосед! — воскликнул он. — Как я рад, что вы меня навестили!
— Не хотелось отрывать вас от работы, маэстро, но я пришел засвидетельствовать вам свое почтение.
— Вы меня вовсе не оторвали, входите же, мой дом — ваш дом!
— Благодарю. Надеюсь, вы сумеете выкроить немного времени и побываете у нас на съемках.
— Непременно, мистер Деннисон, но с одним условием: все актеры после этого будут моими гостями.
При всей любезности Адолфо Дэнни долго не мог решиться заговорить о цели своего прихода. А когда все же отважился изложить дело, встретил полное понимание хозяина.
— У кого же одолжить ложечку сахарного песку как не у соседа?! — с непритворной сердечностью воскликнул он.
* * *
«Мне удалось выпутаться из очень больших неприятностей», — такова была первая мысль Дэнни, когда он проснулся в похожей на огромный челн кровати.
Ослепительное солнце заглядывало в окно. Дэнни улыбнулся, чувствуя себя полным энергии и сил, готовым свернуть горы.
Откуда-то снизу в спальню проникал аромат свежесваренного кофе. Дэнни соскочил с кровати, пружинисто сошел по лестнице.
На первом этаже помещалась огромная гостиная с примыкавшей к ней кухней. Именно там, у краснокирпичного очага, он увидел Слима с чашкой дымящегося кофе.
Вторую он протянул ему.
— За твой вчерашний подвиг, босс, я решил дать тебе выспаться.
— Ну что, все готово?
— Все готово. Увидишь эту арену — ахнешь. Это что-то вроде Колизея, только в мавританском стиле. Просто фантастика.
— А чем мы его заполним? Массовки хватит?
— О чем ты говоришь? Пол-Лиссабона уже стоит в очереди. Не так часто выпадает шанс увидеть, как снимают кино.
— А как Брюс?
— Брюс в кайфе. Можешь мне не рассказывать, как ты добыл кокаин, но если хватит на неделю, мы все отснимем.
— Хватит, не беспокойся, — никогда еще кофе не казался ему таким ароматным и вкусным.
— Ну и хорошо. Встречаемся через час на арене, — Слим поднялся, пошел к двери и уже на пороге вытащил из кармана конверт. — Чуть не забыл. Это тебе. Утром доставили.
Дэнни рассеянно вскрыл телеграмму:
Спасибо за песика. Он прелестен. Скучаю по тебе.
Позвони. Есть еще что рассказать.
Магда шлет тебе привет.
ЛюбаДэнни почувствовал, как по спине пробежали мурашки предвкушения, и сам рассмеялся над своей чувствительностью. А почему бы не вызвать Любу сюда? Так или иначе, но через две недели он вернется в Калифорнию, и Люба навсегда уйдет из его жизни. «Скучаю по тебе», — написала она. Что ж, и ему ее недостает. Надо признать, что это существо единственное в своем роде — других таких нет. И в постели ей нет равных: настоящий виртуоз, она медленно и постепенно вводила его в мир утонченного секса, всякий раз припасая что-нибудь новое и небывалое и поднимая его на новую ступень. Дэнни не знал за собой таких дарований… Он хочет ее видеть! Интересно, а как выглядит Магда? Он столько слышал про нее от Любы, что как будто был с нею знаком. Повинуясь мгновенному и безотчетному побуждению, заглушившему робкий голос разума, Дэнни заказал два билета на ближайший рейс «Лондон — Лиссабон».
…Когда на следующий день он вернулся домой со съемки — все прошло как нельзя лучше, и даже Брюс вышел из своего кокаинового ступора — ноздри его сразу уловили струящийся из кухни аромат. Он шагнул в дверь и замер.
У плиты хлопотала, засыпая что-то из маленьких баночек в большую кастрюлю и одновременно помешивая в ней деревянной ложкой, женщина. Она была такого же роста, как Люба, и статная пышная фигура показывала, каким станет тело дочери, когда достигнет полного расцвета. Многообещающе… Густые темные волосы были заплетены в косу. Внезапно она почувствовала его взгляд и с улыбкой оглянулась.
— Вы — Дэнни, — не спросила, а утвердительно произнесла она.
— Именно. Добро пожаловать, Магда, — он протянул ей руку.
Не переставая помешивать в кастрюле, она переложила ложку в левую руку, а правой, обтерев ее о передник, ответила на рукопожатие.
— Люба мне много рассказала о вас.
— Надеюсь, хорошего? — улыбнулся Дэнни.
Дэнни следил за ее проворными движениями. Сколько ей лет? Сорок? Сорок пять? Очень привлекательна.
Из столовой, неся мартини и водку, появилась Люба.
— Ну, вот вы и встретились.
— Да, наконец-то, — Дэнни взял стакан, поцеловал Любу в лоб. Волосы ее были заплетены в две косички. — Вы больше похожи на сестер, чем на маму с дочкой.
— Сегодня вечером я вас буду угостить голубцами — наша вкусная польская еда, — просияв, Магда ловко подцепила ложкой из кастрюли что-то, завернутое в капустный лист, и с гордостью продемонстрировала им.
Это блюдо и вправду оказалось восхитительно на вкус, и обрадованная Магда в течение всего обеда без умолку говорила на своем ломаном английском, как ей нравится в Португалии, как приятно погреться наконец на солнце после промозглой лондонской сырости.
— Но я уже соскучивалась по своему маленькому пуделю!
— Да? — Дэнни с набитым ртом взглянул на Любу.
Она толкнула его под столом ногой.
— Магде очень понравился твой подарок.
— Что ж, я рад.
— Спасибо вам, Дэнни, большое спасибо, а без него мне очень одиноко.
— И что же, вы только прилетели — и намерены сразу вернуться?
— Нет-нет, но ведь он еще щенок, и он, наверно, грустный, если один все время.
— Не волнуйся, — сказала Люба, — миссис Маккивер за ним присмотрит.
— Как вы его назвали? — спросил Дэнни.
Магда вспыхнула и смущенно взглянула на дочь.
— Дэнни, — сказала та.
Все трое рассмеялись.
После обеда Магда сразу ушла, а Люба и Дэнни еще долго пили кофе.
— Я так рада, что ты ее пригласил. С тех пор, как умер ее муж, она сама не своя. Потому я и сказала, что собачка подарок ей. Надо было ее как-то развеселить.
— Думаешь, ей здесь хорошо?
— Думаю, да… Но лучше бы тебе спросить это у нее самой.
Дэнни почудился скрытый смысл в этих словах, однако Люба продолжала с безмятежным видом потягивать кофе. Он поднялся по лестнице и, чуть поколебавшись, постучал в дверь Магды.
Она была уже в ночной рубашке и слегка смутилась, увидев его перед собой.
— Вам удобно здесь? Все в порядке?
— Да! Все очень хорошо. И спасибо вам, что я приехала с Любой.
— Я рад, что вам тут нравится. — Дэнни не знал, о чем говорить с ней. — И что Дэнни вам пришелся по душе. Вы его любите?
Магда, широко раскрыв глаза, отступила на шаг. Дэнни понял, что она превратно истолковала его слова.
— Да нет, я про пуделя!
— Конечно, я очень ему люблю! Он мой настоящий дружок.
Сквозь тонкую ткань ночной сорочки Дэнни отчетливо видел очертания ее пышного тела. Именно такой он представлял себе эту женщину по рассказам Любы — женщину, которая в Кракове выходила на панель, женщину, которую вожделел каждый и мог получить любой. Под его взглядом Магда невольно прикрыла полуобнаженную грудь.
— Доброй ночи, — сказал он.
Потом, лежа в постели и слушая звуки «фадо», доносившиеся из кафе по соседству, Дэнни поймал себя на том, что представляет рядом с собой обеих — мать и дочь, Магду и Любу. Эта мысль одновременно и смутила, и возбудила его. Чтобы отогнать ее, он попросил Любу:
— Расскажи мне что-нибудь…
— «Расскажи мне что-нибудь…» — передразнила она. — Нашему мальчику нужна сказка на ночь, только не про Красную Шапочку, а про то, как и кто с кем спит.
— Взрослые мальчики обычно предпочитают сказочки такого рода.
— Иногда и не взрослые тоже.
— Кого ты имеешь в виду?
— Каждое воскресенье, — замурлыкала Люба, — ко мне приходит паренек из газеты, получить деньги за доставку… Он еще маленький, лет четырнадцать, не больше… Обычно это происходит утром, я в халате…
— Ну?
— И этот халат немного распахивается…
— И он смотрит?
— Еще как! И краснеет, как пион. И брючки — вот здесь — у него чуть не лопаются…
— И ты никогда не…
— Все тебе расскажи… — поддразнила она его.
— Как же это происходит?
Люба подняла голову с подушки:
— Вы задаете слишком много вопросов, сэр! Позвольте для разнообразия я вас кое о чем спрошу, Дэнни!
— Ну что?
— А ты никогда не пробовал… с мужчиной? Пососать ему член?
— Да ты что?! — воскликнул Дэнни с негодованием. — Как ты могла подумать?
— А что тут такого? Ты думаешь, твоей мужественности это повредило бы?
— Ты это всерьез?
Она опять откинулась на подушку.
— Мужчины очень упрощенно понимают секс и вечно строят из себя то, что испанцы называют «macho» — грубого самца. А вот некоторые надевают женское платье и парик, красятся и вовсе не перестают от этого быть мужчинами. А древние греки вообще считали, что женщины годятся лишь для того, чтобы рожать им детей, настоящая же любовь существует только между мужчинами.
Дэнни не мог с этим не согласиться.
— Дэнни…
— Что?
— Тебе обязательно надо попробовать с мальчиком… Хорошеньким, свеженьким, маленьким члеником.
— Люба, спи, пожалуйста.
* * *
Когда Дэнни уезжал на съемки, Магда с Любой бродили по городу, осматривали достопримечательности, которых в Лиссабоне было так много, или загорали на берегу Тэжу, протекавшей у самого дома. Лиссабон пошел на пользу Магде — она посвежела и порозовела, да и весь мир теперь тоже воспринимала в розовом свете. Люба больше не тревожилась за нее — зато Магда начала тревожиться о судьбе дочери.
— Скажи мне, ты что — любишь его? — напрямик спросила она ее однажды, когда они сидели на берегу, свесив ноги в воду.
— Да нет, просто мне с ним хорошо.
— Я ведь не первый день тебя знаю, Люба. Так у тебя было с Валентином. Теперь тебе ни до кого, кроме Дэнни, нет дела.
— А он тебе не нравится?
— Да не в том дело «нравится — не нравится»! Он через неделю возвращается в Америку, а ты остаешься. Смотри, чтоб не вышло как тогда, с Валентином… Помнишь, как ты горевала?
— А, может, он возьмет меня с собой в Америку!
— Люба, это фантазии!
Люба смотрела, как под ее ногой в воде вздуваются и лопаются пузыри.
— Помнишь нашу пословицу: жизнь без фантазий — что пруд без рыбы?
— Я с тобой серьезно, а ты мне в ответ какую-то чушь несешь. Ой, смотри, Люба, ой, смотри, не обожгись еще раз!
* * *
В воскресенье Адолфо пригласил всю съемочную группу к себе на коктейль. Дэнни настойчиво звал с собой и Магду, но она сказала, что стесняется многолюдных сборищ, а потому осталась дома.
Нуно Адолфо радушно пригласил своих гостей к «Ьоа mesa», шведскому столу на португальский манер, где стояли бесчисленные блюда португальской кухни, а доминировало излюбленное национальное кушанье — запеченная треска. Киношники не заставили себя упрашивать и набросились на еду так, словно несколько дней голодали.
Дэнни хозяин обрядил в какую-то пурпурную хламиду, которую называл «кафтан», встав на цыпочки, расцеловал в обе щеки и шепнул на ухо:
— Любезный сосед, сахарку не угодно ли?
Дэнни засмеялся, бросив взгляд на слонявшегося из угла в угол Брюса Райана. Томясь без своих подлипал, он явно искал им замену. Дэнни собирался было подойти к нему, но тут актер подобрался к Любе и плотоядно похлопал ее по заду.
— Славная у тебя попочка, — услышал Дэнни. «Спятил он, что ли?» — подумал он, и тотчас до него донесся ответ:
— И у тебя недурна.
Дэнни отошел и вскоре оказался в той части дома, где по выбеленным стенам были развешаны необыкновенно яркие, странные и выразительные картины хозяина — слоны на тонких длинных ногах, морские пейзажи со смутными очертаниями человеческих фигур.
Дэнни так увлекся ими, что позабыл о времени и очнулся, лишь услышав за спиной голос Любы:
— Невероятно, а? Невозможно поверить, что все эти чудеса создал этот кругленький смешной человечек. Он — гений. Посмотри, — и, взяв его за руку, она подвела его к полотну, где были изображены ягнята и львы, причем первые были вдвое крупнее. — Какое у него бешеное воображение… Какое буйство цвета! А посмотри на это! — она потянула его к другой картине.
Люба ни за что не хотела уходить, пока вечеринка не кончилась, и сразу после этого вдруг как-то угасла и поникла, словно игрушка, у которой кончился завод.
Домой они возвращались молча — каждый думал о своем. Во тьме мерцал красный огонек любиной сигареты, становясь ярче при каждой затяжке и опять тускнея. Где-то вдалеке выл на полную луну пес. Люба прислушалась, остановилась.
— Что такое? — спросил Дэнни.
— Да нет, вдруг почудилось, что это Блю-Бой.
— Кто это?
— Блю-Бой, моя собака… Нам пришлось бросить его в Милане. Хотела взять с собой, да не вышло. У меня до сих пор стоит перед глазами, как он бился о борт автобуса и выл, выл, выл… Потом автобус тронулся. Это была моя ошибка и мне урок: расставаться с тем, к кому привязался, — слишком больно, так что лучше уж ни к кому не привязываться…
— Ты поэтому отдала Магде пуделька?
Она кивнула. Он обнял ее.
— Вот ты вспомнила Милан, а заговорила о собаке. Что же, друзей из двуногих у тебя там не осталось?
— Почему же, осталось. Только у них был шанс, а Блю-Боя я обрекла.
— Вижу, ты любишь собак.
— Да. А теперь и Магда полюбила. Как она сердилась, когда я приручила Блю-Боя, а вот пришло время — и поняла меня. Твой подарок помог ей. — Люба жадно затянулась сигаретой. — А там, дома, в Калифорнии, у тебя есть собака?
— Нет.
— Заведи себе собачку, Дэнни. Они такие чудные. Всю свою жизнь они ждут, ждут, ждут тех, кого любят. Ждут, когда их выведут, ждут, когда впустят в дом, ждут, когда накормят, Ждут, когда погладят и приласкают. И как они умеют быть благодарными за все! И воздают за добро сторицей. И хотят они только, чтобы им разрешили любить. Ты их бьешь, а они все равно тебя любят.
В доме было темно. Магда уже спала. Они легли и некоторое время лежали неподвижно. Молчание нарушил Дэнни.
— Спишь?
— Нет.
— Знаешь… Мне нравится, когда ты размышляешь, и нравятся твои мысли.
— Правда? — она прижалась к нему теснее.
— Отличные мысли — о собаках, о сексе, о жизни…
Она хихикнула.
— Ничего смешного. Я очень многому научился у тебя, особенно в смысле секса. Каждый раз, когда я с тобой, — все, словно впервые.
— А ты помнишь, как это было впервые?
Он не отвечал.
— Ну, расскажи, расскажи мне…
— Уже поздно, Люба. Давай спать.
— Так нечестно, я же тебе рассказала! Ну, Дэнни-и!.. Может, ты тоже всего лишь играл с большим пальцем?
— Да нет, — засмеялся он, — просто я боюсь, тебя шокирует то, что я тебе расскажу.
— Ты еще не усвоил, что меня шокировать невозможно?
— Ну, ладно. Моей первой женщиной была моя мать.
Ошеломленная Люба подняла голову:
— Не верю. Быть этого не может.
— Ну, я же говорил тебе, ты будешь шокирована. Только она была мне не родная мать, а приемная. Она усыновила меня после гибели моих родителей. Это было чудесно… чудесное знакомство с тем, что такое женщина… — Он отвернулся. — Никогда и никому я не рассказывал этого.
Люба крепче прильнула к нему.
— Дэнни… То, что ты сейчас сказал, очень важно для меня. Ты мне доверяешь. Я верю, что ты никогда и никому не говорил этого. А то, что ты узнал от меня, знаешь ты один.
ТРОЯ, ПОРТУГАЛИЯ.
Когда до конца съемок осталось два дня и группа отправилась в Трою, Магда решила вернуться домой. Ей тут очень нравится, и она сказала, что поездка была незабываемой, но она волнуется о собачке.
Вечером, после обеда, который им подали на веранду их номера, Люба рассказала Дэнни, как она соблазнила Хаима на берегу реки.
— Похоже? — Дэнни показал туда, где текла река Садо, торопясь встретиться с водами Атлантики.
— Дэнни, для объятых страстью все берега всех рек неотличимы друг от друга. Но мы можем проверить, — рассмеялась Люба.
Она сбросила туфли и сбежала по каменным ступеням к реке. Дэнни следовал за ней с бокалом портвейна — лучшего в мире, по словам хозяина отеля.
— И что же предприняла Магда, когда накрыла вас на месте преступления? — спросил он, босиком бредя за нею по прибрежному песку.
— Ничего. Мы два дня не разговаривали, но никаких объяснений Хаима она слушать не стала.
Дэнни засмеялся, пригубил портвейн.
— Да что он мог ей объяснить? Все мужчины в таких случаях лепечут одно и то же: «Прости меня, я виноват, я не хотел; так вышло, она мне напоминала тебя». — Гораздо больше она злилась на меня. И правильно делала. Я же это сделала, чтобы причинить ей боль, а потом мне сразу стало ее жалко.
— И больше она с Хаимом… нет?
— Отчего же? Мы делали это втроем.
— О, Боже! Запущу-ка я первый в жизни порносериал на эту тему! Когда же это вы успели?
— Через неделю или чуть позже.
— И, конечно, по твоей инициативе?
— Пришлось взять все на себя — Хаим робел и стеснялся.
— Робел? — Дэнни швырнул пустой бокал в реку. — Ну да, конечно… Он же просто завел шашни с мамашей, а потом оказалось, что трахнуть надо и дочку.
— Ты будешь слушать, что было дальше?
— Буду, буду, извини, — сдерживая смех, сказал он. — Слушаю тебя в оба уха.
— Он хотел устроить обед по случаю нашей новой жизни…
— Тоже твоя затея?
— А вот и нет! Хаим хотел устроить обед, а я настояла, чтобы происходил он в нашей комнате.
— Нет, ты меня просто пугаешь. От тебя надо держаться подальше, — Дэнни отбежал за песчаную дюну.
Люба настигла его и нежно поцеловала:
— Нет, не надо!
Они сели рядом, на траву. Дэнни незаметно переводил дух — он запыхался.
— И что же Магда?
— Магда отказалась наотрез. Она все еще чувствовала себя оскорбленной. Но я сказала: «Мы уезжаем, Хаим любил тебя и хочет увидеть в последний раз».
— И она сдалась?
— Сдалась.
— И приготовила обед?
— Конечно. Но Хаим принес…
— Молчи! Я уже догадался — рыбу!
— Ну, разумеется, рыбу. Огромного окуня.
Дэнни вскочил на ноги и принялся с жаром импровизировать:
— Я так ясно все это вижу! Хаим пошел рыбачить на вечерней зорьке, на этот раз — один. Солнце садится. Хаим чувствует свою вину, корит себя: «Что же я за сволочь такая? Извращенец! Как я мог! Дочь той, которую я люблю! Это никогда не повторится…»
— Ты будешь слушать или нет?
— Буду, но с того момента, когда вы доели окуня. Итак, вторая серия!
— Тогда не перебивай! И вот, когда вино было допито…
— А Магда слегка охмелела… — Дэнни стал расхаживать по берегу взад-вперед. — Эх, если бы я мог завтра же приступить к съемкам!.. Ну все, молчу-молчу! Как же ты осуществила свой коварный план?
— Очень просто. Подошла и поцеловала Магду в губы.
— Отчего Хаим чуть не упал со стула?
— Кто-то, кажется, обещал заткнуться?
— Но неужели ты и впрямь поцеловала ее? По-настоящему?
— Да!
— А она?
— Она попыталась оттолкнуть меня.
— Но не слишком сильно.
— Да, она же выпила, и ей это нравилось.
— А Хаим смотрел?
— «Смотрел» — не то слово. Он не сводил с нас глаз.
Дэнни с размаху опустился на траву рядом с ней.
— А потом?
— Потом я его позвала.
— Нет, от тебя точно надо бежать! Тебе же было четырнадцать лет!
— Почти пятнадцать.
— И тебе нравилось, что все крутится по твоей воле. «Иди сюда», — передразнил он.
Люба усмехнулась.
— Этого я не говорила. Я просто смотрела на него.
— О, черт! Ты же прирожденная сценаристка! Этот сериал — лет на пять! Магду сыграет София Лорен. На роль Любы объявим всеамериканский конкурс! Перепробую сотни девчонок.
— Не сомневаюсь.
— Это же блестящая находка! «Хаим, иди сюда, поцелуй Магду…» Для тебя люди, как марионетки, да? Ты дергаешь за ниточки, и они пляшут, верно?
— А покуда они целовались, я сбросила туфли, стянула с него штаны — и готово дело!
— Какую же удочку надо иметь, чтоб вытянуть такой улов? Не удочку, а целый уд!
Люба поморщилась на эту сомнительную остроту и продолжала:
— Он вошел в раж и только не знал, как и с кого начать. Тут Магда легла в постель.
— Вы ее соблазнили вдвоем!
— Так и было задумано.
— Ну, и как вела себя Магда?
— По крайней мере, не чувствовала, что ей изменили.
— О, Хаим! О, как я завидую тебе! У тебя в жизни не было такой ночи! И у меня, кстати, тоже.
— Это был просто прощальный подарок.
— Может, ты и со мной попрощаешься?
— Пожалуйста! Прощай, Дэнни, — она звонко расхохоталась.
— Ты же понимаешь, о чем я. Давайте представим, что мы трое — в Кракове, в Милане, где угодно!
— Ты, по-моему, сказал, что это пахнет извращением.
— Я сказал? Отрекаюсь от своих слов.
— Хорошо. Я обещаю тебе это. Когда-нибудь, — не сводя с Дэнни глаз, она стала расстегивать на нем рубашку. — Но сегодня я тебя ни с кем не собираюсь делить. — Она положила его на спину и стянула с него брюки.
Потом поднялась, сняла с себя платье, под которым ничего не было. Точеный, как эбеновая статуэтка, силуэт с серпиком новорожденного месяца за правым плечом четко вырисовывался на фоне звездного неба.
Она опустилась на колени, провела кончиками пальцев по мускулам у него на груди, потом медленно скользнула вдоль его тела, ощутила его напряженную плоть, взяла ее в рот, нежно прикоснулась языком. Когда он начал пульсировать, вытащила и медленно ввела в себя, оседлав Дэнни.
— Так хорошо, милый? — шепнула она.
В ответ Дэнни удовлетворенно простонал и начал двигаться под нею.
— Не шевелись! — хрипловато приказала она, поднимаясь и опускаясь в заданном Дэнни ритме. — Не шевелись… лежи смирно… смотри на небо… считай звезды. Только медленно, и не успеешь досчитать до десяти — увидишь, как небосклон пересечет комета, — она тихо засмеялась.
* * *
Потом, когда они вернулись в отель, опустошенный Дэнни растянулся рядом с нею на кровати, глубоко вздохнул и на мгновение задержал дыхание.
— Тебе хорошо? — спросил он.
— Очень, — ответила она.
В темноте Дэнни не видел ее довольного лица: она нашла новый способ доставить ему наслаждение. Он обнял ее, крепко прижал к себе.
— М-м, как приятно… Я чувствую себя в полной безопасности… как тогда, на проволоке, когда я сорвалась, и Йозеф подхватил меня.
— Я тебя понимаю. В детстве я тоже упал — с крыши хлева… Но меня вот никто не подхватил. Сестра подняла меня, привела домой, уложила. Как хорошо, когда о тебе заботятся…
— Говори, говори… — сонно прошептала Люба.
Он поцеловал ее волосы. Она придвинулась еще ближе, обняла его и уснула.
А Дэнни не спалось. Он хотел рассказать ей — рассказать, что она вселяет в него уверенность, вызывающую в памяти события и лица, сорок лет пролежавшие под спудом запрета. Как много хорошего было в его жизни — почему же он сам себя лишил этого? Это она, Люба, заставила его захотеть вспоминать. Почему ей это удалось? Потому что она похожа на Рахиль?
Какая странная, ни на кого не похожая, окутанная тайной женщина! Она то шокировала его откровенностью, то трогала своей ранимостью и душевной тонкостью. Она всегда была честна и неизменно говорила то, что чувствовала и то, что думала. Слова «стыдно» в ее словаре не существовало. А он с этим словом ложился и вставал…
Глава XI
1987.
ЛОНДОН.
Лиссабонское очарование померкло и растворилось в грохоте турбин. «Боинг» английской авиакомпании взял курс на Лондон. Финальные сцены должны были доснимать в Пайнвуде: еще неделя — и все.
Дэнни опустил на колени переплетенную тетрадь сценария, откинул спинку кресла, закрыл глаза, притворяясь спящим. Однако всем своим существом он ощущал рядом присутствие Любы.
Чувство, которое он испытывал к ней, оказалось более глубоким и сильным, чем думал Дэнни, и он не мог с ним совладать. Люба внушала ему страх. Каким-то образом она сумела нащупать брешь в возведенной им стене, усыпить его бдительность и снять часовых — слишком хорошо и легко ему было с ней. Само собой вышло, что он рассказал ей и про миссис Деннисон и про то, как свалился с крыши хлева… Он готов был рассказать ей все.
Начиналось это по-другому: говорила она, а он слушал. Что ж, он сам изменил правила игры. И теперь Люба знала то, что в целом мире не знал ни один человек, и собиралась выведать еще больше.
Он открыл глаза и заметил, что Брюс Райан, сидевший через проход от них, оценивающе рассматривает Любу. Перехватив взгляд Дэнни, он подмигнул. Люба подмигнула в ответ, потом повернула голову к Дэнни, который опять углубился в сценарий.
— Не обращай на него внимания, — сказал Брюс. — Кроме работы, его ничего не интересует. Вообще подозреваю, что он не знает, куда вставляют…
Дэнни пропустил эту подначку мимо ушей, досадуя, что Люба вступила в разговор с Брюсом.
— А ты-то знаешь? — продолжал тот.
— Я-то знаю, — ответила Люба.
— Да, пожалуй, ты-то знаешь.
Дэнни краем глаза наблюдал за ними, вспоминая заигрыванья Брюса на вечеринке у Адолфо. Но в эту минуту хорошенькая стюардесса принесла актеру выпить, и он переключился на нее.
— У тебя еще много работы, Дэнни? — спросила Люба.
— Не очень, — отозвался он, не поднимая головы.
Она внимательно поглядела на него. Казалось, он углублен в чтение, и лишь пульсирующая на виске жилка показывала, как он напряжен. Что-то опять мучило и угнетало его. Как будто и не с ним лежала она прошлой ночью на берегу.
С того дня, как начался их роман, она так много рассказала ему, хоть и старалась поначалу сдерживаться. Но он был ненасытен и настойчив и хотел знать все. И чем больше она рассказывала, тем сильнее увлекала ее возможность раскрыть ему тайны, о которых знали только они с Магдой. У нее возникла потребность в этих откровениях. А под конец и он стал изливать ей душу.
* * *
Из Хитроу Дэнни отвез Любу к ней домой. Пока шофер вынимал из багажника чемоданы, он осторожно провел губами по ее щеке:
— Не забудь поцеловать за меня Магду.
— Не забуду, — кивнула она и, опершись о крыло лимузина, подняла к Дэнни лицо, загоревшее и посвежевшее под португальским солнцем. Ветер трепал ее волосы, лукавые искорки мелькали в глазах. «Боже, — подумал Дэнни, — она ко всему еще и красива».
Он достал из кармана конверт.
— Что это? — ее улыбка исчезла.
— Немного денег, я же знаю — тебе сейчас нужно…
— Дэнни. С тобой я сплю не за деньги. Я люблю тебя.
Дэнни прикусил губу, едва удержавшись, чтобы не сказать «И я тебя». Эти слова так просто и естественно готовы были сорваться с языка.
— Разве ты не понимаешь? — она заглянула ему в глаза. — Я люблю тебя.
Он бережно прикоснулся губами к ее губам:
— Считай, что я их тебе одолжил.
Она стиснула его руку и сейчас же разжала пальцы.
— Я скажу, когда мне понадобятся деньги.
Она ушла, а Дэнни так и остался стоять с конвертом в руке.
* * *
Портье, сообщив, что за последние три дня из Рено четырежды звонила Стефания, вручил ему письма, среди которых был и большой конверт с почтовым штемпелем Лонг-Айленда и столбиком фамилий в углу — из адвокатской конторы. Дэнни почувствовал озноб, сунул письмо в карман и шагнул в лифт, не слыша даже приветствия лифтера. До своего номера он добрался весь в поту, и когда достал письмо, на конверте остались темные следы его влажных пальцев.
Вскрыл его — несколько страниц юридических документов, заполненных витиевато-невразумительными словесами, которыми любят изъясняться дорогие адвокаты. Документы об удочерении. Все места, где должна стоять его подпись, аккуратно помечены синим крестиком, а эти страницы переложены закладками. Тут же красовались угловатые росчерки Джи-Эл. Заметил Дэнни и каллиграфически выведенную фамилию дочери — такой почерк вырабатывают в закрытых частных школах.
Он прилег на диван. Какая сволочь! Здесь чувствовалась привычная хватка опытного дельца, умеющего манипулировать средствами, добиваться выгодной сделки и давить конкурентов. Для него Патриция товар, который надо перехватить, проведя эффектную комбинацию, а кого в этой игре раздавят, тоже вполне понятно.
У него засосало под ложечкой, когда он увидел четко напечатанное «ПАТРИЦИЯ Д. СТОУНХЭМ». Но все-таки — «Д.»! Эти крохи ему решили сохранить. Если он подпишет, то своими руками отдаст Джи-Эл все права на Патрицию, откажется, отречется от нее! Зачем это нужно Стефани? Как уговорил их обеих Стоунхэм, чем улестил?
Чувствуя, как голова идет кругом, он снова взял стопку бумаг и заметил среди них пустой конверт с заранее надписанным адресом конторы. Вот молодцы! Предусмотрели каждую мелочь! Джи-Эл ничего не оставляет на волю случая. Ему нужно только, чтобы вслед за синим крестиком стояла подпись бывшего зятя.
Нет, черта с два! Не дождетесь! Это вам не на бирже играть!
Он скомкал документы, швырнул их в мусорную корзину. Было нечем дышать. Он открыл окно, набрал полную грудь воздуха. Через дорогу, в Гайд-парке стайка девочек собиралась бежать наперегонки, родители со смехом подбадривали их. Дэнни не в силах был смотреть на их счастливые лица.
Он снова бросился на диван, зарылся головой в подушки. Интересно, что сейчас делает Патриция — сидит на уроке, катается на лошади? Или, может быть, пошла гулять? Он представил ее среди этих готовящихся к старту девочек, а себя — среди родителей, за финишной ленточкой. Вот она вырывается вперед, и он кричит, поддерживая ее. Девочки скрылись из виду, а когда появились, Патриции среди них уже не было. В стороне он увидел черный лимузин Джи-Эл, вот он тронулся с места, и в окошке показалась рука. Патриция машет ему на прощанье или зовет за собой? Другие девочки уже у самого финиша, и среди них — улыбающаяся Люба. Раскинув руки, она бежит прямо к нему…
Зазвонил телефон.
Звонок был длительный, резкий, настойчивый, требовательный.
— Мистер Деннисон, это ваша жена из Рено, штат Невада, — услышал он в трубке голос телефонистки.
Он взглянул на часы: в Неваде сейчас пять утра. Должно быть, у Стефани лопнуло терпение.
— Соедините.
— Дэнни?
— Да, Стефани, это я.
— Я несколько дней не могу до тебя дозвониться, — по голосу он понял, что она пьяна.
— Я был в Португалии на съемках.
— А в Португалии, что ли, телефонов нет? — И без перехода: — Я просидела в этом дерьмовом городке полтора месяца, и мне здесь ост… осточертело.
— Кто тебя держит? Уезжай. Мне развод не нужен. Достаточно нашего соглашения жить врозь — оно же оформлено юридически?
— А папа говорит, что если я не расторгну брак, он не даст ни цента.
— Ты сама решила жить с таким папой.
— И чего он постоянно пристает ко мне?
— Спроси его.
— Он со мной не разговаривает.
— А ты не пробовала позвонить ему в трезвом виде?
— Я и сейчас трезвая! — завопила она.
Дэнни знал, что спорить бесполезно. В трубке послышались всхлипывания.
— И Патриция тоже не желает со мной разговаривать… Он ее настроил против меня. Он ее возит по всему свету, заваливает барахлом. Испортит окончательно…
— Стефани! — рявкнул он, и жена замолчала. — Если бы ты не напилась в стельку, то помнила бы, кто подписал бумагу об удочерении!
— Он… он угрожал мне, Дэнни… Обещал отдать меня в клинику… в психушку. Говорил, что я не мать. Я совсем запуталась, Дэнни… Приезжай сюда… Вытащи меня из этого дерьма. Дэнни… Прошу тебя.
Раскаиваясь, что повысил голос, он попытался успокоить ее:
— Стефани, еще очень рано, поспи немного, будет лучше.
— Не желаю я спать!
— Ночью люди спят.
— И видеть не могу эту гестаповку, которую он мне навязал в компаньонки!..
— Ложись, ложись, Стефани.
— Она мне шагу не дает ступить!
— Позови доктора, Стефани.
— Не нужен мне никакой доктор!
Дэнни повесил трубку.
СИРАКУЗЫ, НЬЮ-ЙОРК.
Плотный мужчина в клетчатом костюме вошел в сиротский приют Св. Иоанна, пересек вестибюль и снял шляпу, прежде чем постучать в дверь директрисы.
Высунулась молоденькая монахиня.
— Чем могу служить?
— Мне нужно поговорить с матерью-директрисой.
— Как о вас доложить?
— Мистер Маккрейчен, — он достал из кармана большой белый конверт. — Я представляю интересы Стоунхэмовского фонда.
ЛОНДОН.
В понедельник утром в павильоне царила атмосфера всеобщего благодушия, как будто от этого группа могла скорее оказаться дома, под калифорнийским солнцем.
Даже на лице Брюса Райана играла улыбка. В руках он вертел номер «Голливуд-репортер» и всем показывал статью о новом бестселлере Сидни Шелдон.
— Читал? — спросил он Дэнни. — Я приобрел права на эту вещь.
— Читал. Чудовищно.
— У тебя получился бы из этого хороший фильм.
Фильм действительно мог бы выйти очень недурной, однако Дэнни не был уверен, что выдержит еще одну совместную с Брюсом работу. Надо было отделаться, не нахамив.
— Роль там, конечно, прямо для тебя. Ладно, вернемся домой — обсудим.
— А где эта девица, что так отчаянно клеилась ко мне в самолете? — спросил Брюс по дороге на площадку.
«А ведь Люба и вправду „клеилась“ к нему, — подумал Дэнни. — Да ведь она профессиональная потаскуха», — напомнил он себе и в следующее мгновение понял, что ему надо делать. Взглянув Брюсу прямо в глаза, он спокойно спросил:
— Понравилась?
— Понравилась, — заржал Брюс.
— Получишь.
Брюс схватил Дэнни за руку:
— Что значит «получишь»?
— То и значит. Часов в десять будь у себя в номере. Дверь не запирай. Ложись в постель. Она придет.
— Ты что? Ты это всерьез?
— Боишься дверь оставить открытой?
Оба засмеялись.
Съемки шли необыкновенно гладко, а после обеда Дэнни позвонил Любе.
— Что случилось? Я тебя никак не могла разыскать вчера… Ты что, сердишься на меня за что-нибудь?
— Вовсе нет. Так, возникли кое-какие неполадки. Ты вечером свободна?
— Для тебя я всегда свободна.
— Я пришлю за тобой машину. В девять вечера. Поднимешься в мой номер. Ну, прости, меня ждут. Пока.
* * *
Официант поставил кофейник и чашки на столик у камина и вышел. Дэнни, не умолкая ни на минуту, налил Любе кофе, но она отпила глоток водки. Все это время она молча слушала, что от нее требовалось.
— Дверь будет незаперта. Войдешь, закроешь за собой дверь, станешь в ногах кровати, поглядишь на него и при этом — ни слова.
— Даже поздороваться нельзя?
— Не смеши меня.
Она вздохнула и поднялась.
— У тебя в самом деле много хлопот с ним?
— Он справлялся о тебе, Люба.
Она глотнула прямо из горлышка.
— Поняла? Подходишь и становишься в ногах…
— Дэнни, тебе за целый день не надоело разводить мизансцены?
— Но это важно.
— Ладно-ладно, я слушаю.
— И, не сводя с него глаз, все с себя снимаешь, потом медленно стягиваешь с него простыню и ложишься сверху.
Она поглядела на него с любопытством:
— Ты правда хочешь, чтобы я это сделала?
— Да.
— Только я никак не пойму, зачем тебе это надо.
— Действуй, Люба, все зависит от тебя.
Она сделала еще глоток:
— Номер 8–35?
Он испытующе оглядел ее:
— Верно.
Люба посмотрела на часы:
— Ну, в таком случае — пора. Невежливо опаздывать, — обернувшись на пороге, она послала ему странную полуулыбку и вышла.
Дэнни, услышав стук захлопнувшейся двери, готов был броситься за Любой и вернуть ее. Зачем он это сделал? Чтобы показать Брюсу Райану: эта очаровательная девушка сделает все, что я захочу? Рука его сжала телефонную трубку. Еще не поздно позвонить наверх и все изменить. Но Дэнни не стал звонить. Он должен пройти через это. Чтобы спасти самого себя, он должен применить сильнодействующее средство. Он не может позволить себе полюбить проститутку.
Сняв халат, он растянулся на диване. Закрыл глаза и попытался вызвать в памяти что-нибудь приятное — что угодно, лишь бы забыть о том, что происходит сию минуту.
…Ему было четырнадцать, он играл у полотна железной дороги, проходящей неподалеку от приюта. Плотно обхватив ногами холодное железо высокого столба, он полез по нему наверх, на насыпь, и когда добрался до верху, все тело, точно теплой волной, обволокло неведанным раньше блаженством. Он еще крепче прижался пахом к столбу, закинул голову к синему небу и задергался в сладких судорогах.
— Я чуть не умер, — прошептали его губы.
Он удержался на столбе, медленно сполз вниз, на землю. Руки и ноги не слушались.
Потом он часто прибегал к этому способу самоудовлетворения, и сейчас, лежа в темноте, медленно растирал свой член полотенцем и видел Магду, Любу и себя самого.
* * *
Сколько времени стояла над ним Люба, давно ли она вошла в комнату? Он не слышал ее шагов. Дэнни поспешно натянул на себя простыню.
Щелкнул выключатель, свет из ванной комнаты проникал и в спальню.
— Ну, ты рад? Я сделала все, как ты хотел, — Люба налила себе из стоящей на столике бутылки. — Разыграла сцену по вашим указаниям, маэстро. Сначала стащила с него простыню.
— Он был голый?
— Нет, в ночной рубашке, — Люба бросила в стакан кубик льда.
— В пижаме, что ли?
— Да нет же, — Люба повернулась к нему. — В черном шелковом неглиже.
— Женском?
— Бывают мужские неглиже? — сухо осведомилась она.
Дэнни на миг лишился дара речи. Супермен Брюс Райан — в женском белье?
— Он что — педераст?
— Может быть и не совсем, но с несомненными причудами в этом смысле.
— Ну, понравилось ему?
— Понятия не имею. Он болтал без умолку. — Люба сделала большой глоток.
— И что же он говорил?
— Да он не со мной говорил, а по телефону.
— Да ну?
— Болтал беспрерывно, если не считать тех секунд, когда кончил. Кончил и опять стал молоть языком.
— С кем же это?
— Не знаю, с мужчиной каким-то.
— Не может быть! Наверно, это была девица.
— Тебе, конечно, видней, но звали эту девицу Джим.
— Ты врешь, Люба.
— Не сойти мне с этого места. А почему ты так удивляешься? Я же тебе говорила: самые крутые на вид мужики на поверку оказываются гомиками. Я другого не понимаю, Дэнни… Зачем тебе это было надо?
Дэнни откинул голову на подушку и очень тихо сказал:
— Хотел посмотреть, сделаешь ли ты это.
— Я сделаю все, что ты мне скажешь.
— Ты пошла к Брюсу, потому что ты — блядь!
— И ты только сейчас это понял? — не повышая голоса, спросила она.
— Так ты говоришь, что сделаешь все?…
— Все, что ты скажешь, — пристально глядя на него, сказала Люба.
— Это потому, что ты — курва, так, кажется, называли тебя в Кракове? Вот потому ты делаешь все, что угодно! Вспомни своего мальчика из газеты! — Она молчала. — А разве я не видел, как стоило мне отвернуться, ты завела шашни с Брюсом?!
Люба налила себе еще.
— Ты бесишься, потому что я сделала все, как ты хотел.
Дэнни привскочил на кровати:
— И не спорила, и не возражала, повернулась и пошла к. Брюсу!
— Дэнни, ей-Богу, это глупо.
Действительно, глупо. Он чувствовал это.
— Уходи, — сказал он, пытаясь сохранить достоинство, что было непросто сделать без штанов — он сидел перед ней в одной пижамной куртке.
— Дэнни, что с тобой? — она подошла к кровати. — Не хочу я никуда уходить.
— Убирайся! — крикнул он, чтобы остановить ее.
— Да в чем дело? — она замерла, пораженная его тоном.
Дэнни глядел на нее, словно надеялся остановить взглядом.
— Ты не должна была ходить к нему!
— Дэнни, ты несешь какую-то чушь.
— Ты — блядь! — сквозь зубы бросил ей он.
— А ты кто? Ну-ка, ответь! Я делаю то, что ты хочешь, а ты бесишься! Хочешь, скажу, кто ты такой? — крикнула она, глядя ему прямо в глаза. — Ничтожество!
Дэнни, спрыгнув с кровати, схватил с ночного столика две стофунтовые бумажки и швырнул ей.
— Убирайся отсюда!
Она постояла минутку, глядя на нелепого, голого ниже пояса Дэнни. Он и сам понял, что смешон, и торопливо улегся в постель, натянув простыню до подбородка. Люба подняла стакан:
— Спокойной ночи, полковник Джонсон! — и с достоинством вышла из номера.
Почему «полковник Джонсон»? Что она хотела этим сказать? И тут Дэнни вспомнил ее рассказ про второго мужа Магды.
— Сука! — пробормотал он.
Потом вылез из кровати, нагнулся за своими пижамными штанами и замер. На полу, куда едва доходил по-прежнему горевший в ванной свет, лежали две бумажки по сто фунтов каждая.
Глава XII
1987.
ЛОС-АНДЖЕЛЕС.
Дэнни не звонил Любе до своего отлета. Эта часть его жизни прожита и осталась позади. Больше они не увидятся. Слава Богу, он уносится от нее со скоростью 900 километров в час.
Ноги слегка затекли — слишком долго он сидел неподвижно, потягивая третий «мартини» за это время, глядя сквозь стекло иллюминатора на пухлую мякоть облаков. Потом, почувствовав, что его клонит в сон, очаровал стюардессу, и она, подняв ручки четырех кресел в среднем, полупустом салоне, застелила их одеялами. Пошатываясь, он прошел туда и лег на это импровизированное ложе. Прикрыл глаза рукой — от света и от действительности, надеясь, что крепко уснет и снов видеть не будет. Не тут-то было. Мысли проносились в голове стремительней самолета, резавшего синюю гладь стратосферы. Люба разбередила и всколыхнула то, что лежало на самом дне души. «Всю жизнь я лгал. Но когда же, когда прошел я тот перекресток, после которого невозможно стало повернуть назад?»
Зачем всю жизнь он так упорно цеплялся за эту детскую ложь?
Маленький Мойше придумал ее давным-давно, чтобы с ее помощью не захлебнуться в кровавой реке памяти. В помраченном алкоголем мозгу мелькнула эта картина — он увидел, как барахтается в кровавом водовороте, и вдруг все стало черным, и где-то далеко вспыхнул серебристый свет. Свет приближался, становясь все ярче, и Дэнни понял, что исходит он от распятия, сделанного отцом. Лица распятого он различить не мог — его закрывала пухлая мякоть облаков, таких мягких и приятных на глаз и на ощупь. Но вот они налились чернотой, сверкнула молния, и облака стали похожи на клубы дыма, валившего из высоких труб Зальцбурга. Во тьме послышались крики: «Человек! Просто Человек!» Дэнни, задыхаясь, обливаясь потом, бежал по крышам и вдруг столкнулся с Любой — она была голая, она хохотала и кричала ему: «Ничтожество!»
Он занес руку для удара, но она легко уклонилась, бросилась бежать по карнизу. «Курва! Блядь!» — Дэнни кинулся вдогонку и в ту минуту, когда уже почти настиг, она юркнула за трубу, а он сорвался и полетел вниз.
Он летел и видел гигантское зеркало, разбившееся на мириады осколков, а осколки вдруг стали искрами от отцовской паяльной лампы… Искры собрались воедино, слились в пламя, которое осветило Рахиль, — голая, она лежала на штабеле человеческих скелетов, комендант лагеря в мундире и фуражке стоял над нею. Сияющий черным глянцем остроносый сапог пнул один из черепов, и этот удар гулко отозвался в голове Дэнни… Мягкий толчок — и колеса самолета покатились по взлетной полосе международного аэропорта Лос-Анджелеса.
Он был весь в поту и с благодарностью обтер лицо влажной салфеткой, которую подала ему стюардесса, прежде чем еще несколько мгновений полежал неподвижно. Потом с усилием выпростал из кресел одеревеневшее тело и посмотрел в иллюминатор, но не увидел ничего, кроме густой пелены тумана. Что ждет его там, во мраке?
* * *
Студийный лимузин вырулил на Сепульведа-булевард и помчался в сторону «Беверли Хиллз». Дэнни забился в угол.
— Тауэр-роуд — это за Колдуотер? — спросил водитель.
— Нет, не доезжая Бенедикт-Кэньон, возле отеля «Беверли Хиллз».
— Понял, спасибо, — вежливо сказал водитель. Он был молод и хорош собой — наверняка безработный актер.
— Я актер, — сказал он, словно подслушав мысли Дэнни. — И большой поклонник вашего творчества, мистер Деннисон.
— Польщен. Давно за рулем?
— Три месяца. Но сейчас вроде засветила хорошая роль на «Парамаунт».
— Желаю вам ее получить, — сказал Дэнни и поднял стекло.
Его всегда угнетали разговоры с молодыми актерами — все они были так полны ожиданий и наивной восторженной веры, которая мало-помалу уступает место безнадежности и отчаянию.
Женщины еще хуже, потому что назойливей. Сколько раз, туго затянувшись, расстегнув несколько лишних пуговок на блузке, чтобы взгляд режиссера мог проникнуть несколько дальше, чем позволяли приличия, и оценить нацеленные на него груди, врывались они в его кабинет на студии?!
А те, которые получали роль, тоже не обретали уверенности в себе, как, например, роскошная Сильвия Кох, сыгравшая главную роль в «Земле буйволов». Перед каждым дублем она обращала к камере молящий взор: «Сделай меня красивой». И камера воздавала ей по ее молитве.
Те, кто не мог преуспеть, а их было большинство, взывали к агентам и продюсерам, которые охотно обещали дать роль, но требовали за это любви. Самое печальное впечатление производили стареющие актрисы — с тщательно закрашенными и запудренными морщинами, с ясно видными рубцами от плохо сделанных косметических «подтяжек». Они принимали маленькие подарки — духи, шарфики, платья, — а потом в ход шли деньги.
Они становились шлюхами и сами того не замечали. Люба, по крайней мере, знала, кто она, и ни на что другое не претендовала. Она была честна, и это давало ей силу — силу, которой так отчаянно не хватало ему, Дэнни Деннисону. Почему его мысли постоянно обращаются к ней? Ее надо забыть, забыть — твердил он себе.
Да ведь мы все потаскухи, все продаемся! Ну а вот он больше продаваться не желает, и разменивать свой талант не станет, и за Брюсом Райаном ходить, как нянька, — тоже. Все свои силы он бросит на одно — он создаст фильм, которым будет гордиться.
Лимузин миновал отель «Беверли Хиллз». Дэнни взглянул на часы — половина шестого. Именно в эти минуты собираются киномагнаты и продюсеры, обсуждая и гадая, на кого пойдет публика, чем и кем можно будет ее заманить. Да что тут гадать, если есть три верных и выигрышных карты — секс, насилие, ужас. Вряд ли он заинтересует кого-либо своим «Человеком».
Лимузин уже подъезжал к его дому. На площадке Дэнни увидел незнакомый серебристый «феррари», припаркованный рядом с обшарпанным «фордом-мустангом», за задним стеклом лежали теннисные ракетки и мячи. Это машина Боба, тренера по теннису. Он сам предложил ему пользоваться кортом, пока будет в отъезде. «Я становлюсь чересчур подозрительным», — подумал он, а водителю сказал:
— Чемоданы просто поставьте у дверей, — и вылез из машины.
— Хорошо, сэр, — водитель, обежав лимузин, помог ему.
Дэнни протянул ему двадцать долларов:
— Желаю вам получить роль.
Тот почтительно поблагодарил.
Дэнни, сбоку обойдя дом, заглянул с террасы на корт. Боба там не было, валялось лишь несколько желтых теннисных мячей.
Когда он вернулся к двери, лимузин уже уехал. У подъезда стояли два чемодана и сумка-чехол для костюмов. Он внес их в дом, поставил на пол, направился в гостиную и, проходя мимо аквариума, заметил, что две тропические рыбки плавают брюхом кверху. Это огорчило его: он по нескольку часов кряду мог завороженно рассматривать их яркую раскраску и стремительно-плавные движения. Надо было, уезжая, попросить кого-нибудь кормить их… Черт, кого это, интересно, он мог об этом попросить?!
Он поднялся по лестнице в спальню и тут почувствовал сильный и едкий запах — марихуана! Шторы были задернуты, комната погружена во тьму. Ощупью он добрался до окна, раздвинул шторы, толкнул створки. И увидел их. Стефани и Боб крепко спали. Сползшая простыня открывала ее грудь.
Дэнни молча и довольно долго разглядывал их. Должно быть, партия была утомительная. Потом он пнул кровать ногой, и Боб сразу же широко раскрыл глаза. Стефани что-то проговорила со сна, но не проснулась. Глаза Боба полезли на лоб, когда он узнал Дэнни: он вскочил с кровати, сгреб в охапку влажные от пота теннисные доспехи и, невнятно бормоча какие-то извинения, выбрался из спальни.
Дэнни не сводил глаз со Стефани. Во сне она перевернулась на живот, открыв ягодицы. Дэнни слышал, как внизу Боб споткнулся о чемоданы и чуть не упал. Стефани не просыпалась, и Дэнни с размаху хлопнул ее по заду. Только тогда она подняла голову и уставилась на бывшего мужа.
— Ты что тут делаешь? — хриплым спросонья голосом спросила она.
— Я тут живу. Ты забыла?
— Я тоже тут живу.
— Нет, дорогая, ты тут не живешь. Припомни — мы с тобой в разводе.
Стефани, протирая глаза, ничего не сказала.
— В теннис можешь играть сколько вздумается, а теннисистов потрудись водить куда-нибудь еще. Слава Богу, есть куда.
— Ага. И Патриция за стенкой.
— Я думал, она в школе.
— Мы остановились в «Беверли Уилшир».
— Одевайся, — отрывисто бросил Дэнни и вышел.
Он спустился в гостиную, постоял у той стены, где висели в рамочках фотографии Патриции — иллюстрированная история ее жизни. Вот она в розовых ползунках делает первые шаги по лужайке, вот плещется в бассейне, а он, Дэнни, поддерживает ее за животик, вот она сидит на пони, которого держит под уздцы берейтор. Вот они втроем — папа, мама и дочка — на пляже в Малибу. Они праздновали там день ее рождения — десять лет.
«Какие счастливые лица. А были ли мы на самом деле когда-нибудь счастливы?» — думал Дэнни.
У него на письменном столе стояла другая карточка Патриции, снятая, когда ей исполнилось пятнадцать. На ней она была в шортах, открывавших длинные стройные, как у Стефани, ноги. И краски те же, что и у матери — сливочно-белая кожа, золотые волосы, молоко и мед. Да, красивая девочка. Дэнни не видел ее уже несколько месяцев… Как бы ему хотелось поговорить с ней. Интересно, она все еще хочет делать кино? Есть ли у нее мальчик? Он же ничего не знает о своей родной дочери.
Дэнни кругами ходил у телефона, не зная, как и о чем говорить с Патрицией. Взгляд его случайно остановился на книжной полке, где в ряд стояли четырнадцать переплетенных в черную кожу тетрадей — его сценарии. Можно не пересчитывать, он и так помнит. Четырнадцать фильмов. А завтра он начинает монтировать пятнадцатый. Ни один из них не наполняет его сердце гордостью. Поделки. Цепь компромиссов. Уступки всем и каждому.
Он присел к телефону и стал перелистывать календарь. Монтаж займет месяц. Сегодня третье октября. Он вдруг замер.
Сегодня «Йом-Кипур» — самый священный из всех священных дней. Судный День. День, когда раскрывается Книга Жизни, где написано, кто будет жить, а кто умрет, и где найдет смерть — в воде или в огне. Он вспомнил, как в этот день вся семья постилась до первой звезды. Ему так хотелось есть, что он, прокравшись в курятник, вытащил из-под закудахтавшей курицы только что снесенное яйцо, проделал в скорлупе дырочку и уже поднес было к губам, как вдруг заметил, что в дверях стоит и смотрит на него отец. Якоб не стал бранить его — взял за руку, вывел из птичника наружу и объяснил, что в этот день надо поститься и думать о прожитой жизни, прося Бога простить все совершенные грехи. Мойше испугался: неужели Бог видел, как он вместо того, чтобы молиться, собирался выпить яйцо? Страх прогнал голод. А вот теперь Мойше, выросший и ставший Дэнни, испытывал этот страх снова. Только грехи его теперь не в пример тяжелее. Как давно он не молился! «Господи, — зашептал он, — прости меня, помоги мне спасти мою дочь!..»
Дэнни снял трубку, позвонил в «Беверли Уилшир», попросил к телефону мисс Патрицию Деннисон, но ему ответили, что под этим именем постояльцев не зарегистрировано. Тут он сообразил и попросил соединить с номером Патриции Стоунхэм. Раздалось два гудка, а потом он услышал голос дочери.
— Патриция!
— Да, — пауза.
— Это твой отец.
— О, папа, ты уже вернулся?!
— Сию минуту вошел.
— Ну, как съемки?
— С твоей помощью дело шло бы лучше.
— Папа… — ему показалось, что она собирается заплакать. — Мне ужасно, ужасно, больше всего на свете хотелось поехать с тобой…
— Знаю. И жалею, что ничего из нашей затеи не вышло.
— Понимаешь, этот Джи-Эл…
— Не надо, я все понимаю.
Послышался приглушенный звонок.
— Папа, можешь минутку подождать? Я только открою… Ах, прости, это мистер Маккрейчен приехал за мной. Джи-Эл ждет в машине. Он всегда так злится, когда я опаздываю.
— Я понимаю. Патриция… Может, мы с тобой пообедаем завтра?
— Да я бы с удовольствием, папочка, но мы же сейчас улетаем в Сан-Франциско. Но я скоро вернусь, через неделю, — добавила она торопливо.
Дэнни, стараясь не выдавать своего разочарования, сказал:
— Ладно. Тогда без помех займусь монтажем. Как насчет следующей среды?
— Когда угодно.
— Я заеду за тобой, и мы отправимся к «Эль-Падрино».
— Чудно!
— В час дня, хорошо? Я так хочу тебя видеть, Патриция!
— И я — тебя. Знаешь, мне так тебя не хватало!
Прежде чем он успел попрощаться, раздался щелчок. Отбой. Он понял, почему такая спешка — Джи-Эл нельзя заставлять ждать. «И все-таки она мне обрадовалась», — убеждал он себя, направляясь в гостиную, чтобы разобрать свой багаж.
Он перетащил вещи в спальню, бросил их на уже застеленную кровать. Стефани, полностью одетая, сидела перед туалетным столиком, крася губы своей обычной, кораллового оттенка помадой.
Эта женщина девятнадцать лет была его женой. Грудь ее до сих пор упруга, живота нет, а длинные ноги — мускулисты и стройны. Как ей удается столько пить и при этом так хорошо выглядеть?
— Отлично меня встретили в родном доме, — сказал Дэнни.
— На какую встречу ты рассчитывал, хотелось бы знать? — Она смотрела на его отражение в зеркале. — Мы с тобой не женаты больше.
— Да я вовсе не против: спи, с кем хочешь, но почему в моей постели?
Стефани обернулась:
— Ты даже не ревнуешь?
— Нет, не ревную.
— А вот скажи честно: какого дьявола ты на мне женился? Разве ты меня любил когда-нибудь? — Голос ее был еле слышен.
— Ох, Стефани… Давай обсудим это, когда будешь трезвой.
— Я и сейчас не пьяна.
Дэнни расстегнул молнию на чемодане, раздумывая над ее вопросом. Любил ли он ее когда-нибудь? Или просто использовал, чтобы укрепить возведенный им дом?
Стефани поднялась.
— Как бы мне хотелось хоть раз в жизни услышать это от тебя…
— Что услышать? — Он вскинул голову и удивился печальному выражению ее лица.
— Скажи «Я тебя люблю», даже если это неправда.
Дэнни, казалось, не интересовало ничего, кроме вещей, которые он вынимал из чемодана и раскладывал на кровати.
— Наверно, мы с тобой оба ошиблись, — пробормотал он наконец.
Стефани молчала, а он не решался взглянуть на нее.
— Я боюсь, — услышал он ее тихий голос.
— Чего ты боишься?
— Отца.
— Стефани, это глупо, ты взрослая женщина.
— Нет, и ты это прекрасно знаешь. Джи-Эл не дал мне вырасти, да и ты не помог.
— Ах, значит, это я виноват?
— Мы оба виноваты, — грустно сказала она.
Она была так тиха и печальна, что Дэнни решительно не знал, как с ней говорить. Обычно, когда они выясняли отношения, она впадала в истерику или в пьяную ярость, и тогда уж все доводы и логические аргументы оказывались бессмысленны. «Проспись сначала», — так это всегда кончалось.
— И все же я тебе благодарна, — продолжала она все тем же ровным и грустным тоном. — Если и были в моей жизни счастливые минуты, то дал мне их ты. Просто я хотела невозможного — я думала, у тебя хватит сил спасти меня от Джи-Эл. — В глазах ее появилось какое-то отстраненное выражение. — Знаешь, каким я тебя больше всего любила?
Дэнни присел на кровать.
— Когда ты проявлял слабость. — Впервые за все это время Стефани улыбнулась. — Когда ты не знал, что делать, сбивался с пути, был недоволен своей работой… Когда мечтал, как бы ты поставил фильм по этой книге… как ее?
— «Всякий человек».
— Да-да! Ты еще не отказался от этой идеи?
— Наоборот, теперь я нашел к ней подход.
— Расскажи… Я люблю тебя слушать.
— Стефани, я устал, у меня язык не ворочается.
Солнце уже наполовину скрылось за деревьями, окружавшими теннисный корт, и в комнате было темно.
Стефани присела с ним рядом.
— Дэнни, позволь, я тебе помогу.
— Чем же ты мне поможешь? — он был искренне удивлен ее словами.
— Ну, как в той песенке поется: «Давай попробуем сначала»… Я из тех, кто пропадет без опоры, отец мне все время это твердит. Но если бы я могла помочь тебе — ну хоть капельку — я бы себя уважала больше.
Дэнни поднялся, отошел к окну, за которым сгущались сумерки.
— Помоги лучше себе.
Она долго рассматривала его, склонив голову набок.
— Ладно. Постараюсь, — и, забрав свой свитер и сумочку, вышла из комнаты.
Дэнни слышал, как постукивают ее каблуки по дубовому полу. Вот она остановилась. Раздался скрип — она заводила часы в гостиной.
— Спасибо, что дал выговориться! — крикнула она уже снизу, из-за дверей.
Звук захлопнувшейся двери гулко отозвался во всем теле: дверь закрылась за его жизнью со Стефани. Вот и этот пласт отвалился. Много ли еще осталось открытых дверей?
«Феррари», мягко рыча, отъехал от дома. Шум мотора вскоре смолк, и стало тихо. Очень тихо.
А за окном сияющий закат из последних сил сопротивлялся подступающей тьме. Вершина холма по ту сторону теннисного корта четко выделялась на фоне оранжевого неба. На листьях, чуть шевелившихся под легким ветерком, лежал отсвет последних лучей.
Дэнни с необыкновенной остротой почувствовал свое одиночество. Завтра утром принесут «Голливуд репортер» и «Вэрайети». Прежде всего он проглядит страницу траурных объявлений, узнает, кто умер из людей, которые моложе его. Когда умирали старики, он всегда думал, что у него в запасе есть еще время, чтобы сделать что-нибудь настоящее. Ему всего пятьдесят пять. Он еще полон сил. Он снова обретет форму, сядет на диету, будет играть в теннис. Черт, теннис… Боб… Надо искать нового тренера.
Он подошел к туалетному столику, за которым совсем недавно сидела Стефани, зажег свет по бокам зеркала. Морщины на лбу стали глубже, прибавилось седины на висках. Он внимательно разглядывал «гусиные лапки» у глаз.
С Любой он не чувствовал себя старым, словно ее юная сила проникала в него. С ней он опять обретет молодость.
«Бим-бом! Бим-бом!» — раздались гулкие сдвоенные удары, от которых его одиночество стало совсем невыносимым. Дэнни больше не мог выдержать и набрал номер своего единственного друга.
* * *
Милт Шульц примчался довольно быстро. Он ворвался в дом, подняв руки вверх, словно сдавался в плен:
— Я сделал это! Я добился! Я устроил-таки тебе встречу с Артом Ганном. Во вторник, в два часа он тебя ждет. И больше, ради Бога, я тебя умоляю — ни слова о «Человеке»!
— Спасибо! — Дэнни стиснул его в объятиях.
— Совершенно не за что, я — твой агент, это моя работа, — Милт открыл холодильник: там не было ничего, кроме банки консервированных бобов.
— Спасибо, что приехал.
— Милый Дэнни, — сказал Милт, орудуя консервным ножом. — Это я тебя должен благодарить. Ты меня спас от голодной смерти в Судный День — пусть Сара постится!
— Он залез в банку вилкой. — Мы уже собрались в синагогу, когда ты позвонил. И я сказал ей, что у тебя ко мне очень спешное дело. Грандиозно! — воскликнул он с уже набитым ртом. — Я умирал с голоду! Одно плохо — жрать нечего! Беда с этими белыми англосаксами: никогда еды дома не держите!
— Извини. Я же только что прилетел.
— Ничего-ничего! Это было великолепно! Жаль только, что я ненавижу бобы!
Дэнни невольно засмеялся.
— Ну вот, ты и смеешься — уже хорошо, а то по телефону голос был, как у покойника. Стряслось что-нибудь?
— И да, и нет.
— Понятно. Совершенно исчерпывающая информация.
Они прошли в гостиную. Дэнни прислонился к камину, Милт разлегся на диване. «Он всегда прибегает по первому зову, — думал Дэнни, — и никогда не спрашивает, зачем он мне понадобился. Это единственный человек в Голливуде, на которого я могу рассчитывать. Забавно, что мой лучший, мой единственный друг оказался евреем».
— Как у нас по линии дам? — спросил он, зная, что это — любимая тема Милта. — Как зовут нынешнюю нашу избранницу? Иветта? — Упомнить все привязанности переменчивого агента было невозможно.
— Ах, брось…
— Что такое? Вы поссорились?
— Мы расстались.
— Почему?
Милт поправил очки, выбрал несколько фасолин, застрявших в бороде:
— Она сделалась порнозвездой.
— Да ну? Зачем же это она? Ты же просунул некоторые части ее тела в несколько недурных фильмов.
— Именно что «некоторые части», а ей нужно сразу стать звездой. И ждать она не могла. Вот и снялась в порнухе.
— Ты уверен?
— Да я своими глазами видел этот ролик. Называется «Вокруг света за пятнадцать минут». Она там вытворяет такое… Меня она подобными штуками не удостаивала.
Дэнни с трудом сдерживал смех.
— Ну и черт с ней, Милт! Забудь ее! В конце концов, сколько-то приятных ощущений ты от нее получил.
Милт устремил задумчивый взгляд в пространство.
— Да, — сказал он после мечтательной паузы. — Получил. Ладно, забуду. Слыхал анекдот? «Городок был такой маленький, что единственная проститутка оставалась девственницей», — и он захохотал.
— Бедный Милт. — Покачал головой Дэнни. — Как долго затягиваются его сердечные раны — не меньше получаса.
— Дэнни, я встретил потрясающую девочку!..
— Так. Сцена шестая, дубль триста сорок пять.
— Не смейся, это — серьезно, тут все по-другому.
— Я весь внимание.
Милт вздохнул:
— Это величайшее событие в моей жизни, это — этап! Она в Тасконе, на натурных съемках. Зовут Мэрилин. А что Саре соврать насчет моей поездки в Таскон, не знаю, — он с надеждой посмотрел на Дэнни.
— Скажу тебе, Милт, прямо и честно: в ближайшие сто лет у меня не будет поводов лететь в Таскон. Не надейся.
— Да повод-то мы найдем!..
— Не сомневаюсь.
— Дэнни, таких птичек у меня еще не было, клянусь. Красавица, из богатой семьи — отец глава брокерской фирмы…
— …и в число клиентов входит Джи-Эл, — как бы про себя проговорил Дэнни.
— Что?
— Не обращай внимания. Это я так.
— Она запала на меня, клянусь, она на меня, а не я на нее! Я-то как раз пытался избегать ее… Но у нее не шла роль, и она попросила помочь… вечером.
— И ты, разумеется, помог?
— Нечего издеваться. Это была настоящая страсть, понял? Я сам не мог поверить, что меня, еврейского парня из Бронкса, полюбила такая женщина. А ей надоела светская жизнь и все эти университетские мальчики из хороших семей.
— У нее дом на Лонг-Айленде?
— Нет, — ответил Милт, несколько озадаченный таким неожиданным вопросом. — Ей нужен был такой, как я — честный, талантливый и стоящий на земле обеими ногами. Только я мог спасти ее!
Дэнни из-под полуопущенных век быстро взглянул на друга. Милт был непривычно серьезен.
— Я ей сразу сказал, что стар для нее, а она и слушать не захотела. Она такая прелесть — ну, вылитая Дина Меррил в юности. Ну что было делать? Закрутилось… Дэнни, когда я ложусь с ней в постель, я чувствую себя почти гоем.
— Это ужасно.
— И она жутко ревнивая, — с гордостью сообщил Милт. — Чуть не убила меня однажды, когда Саре вздумалось позвонить. Хочет, чтоб я принадлежал ей безраздельно. — Он вздохнул. — Как я тебе завидую! Ты в разводе, ты свободен, а Сара вцепилась в меня когтями, как все равно альбатрос какой-то…
Дэнни надул щеки и шумно выдохнул:
— Не завидуй, Милт. У каждого — свой альбатрос.
— У тебя что — неприятности?
— Именно.
— Какого же черта ты заставил меня распространяться о моих победах?
Дэнни ничего не ответил.
— Ну, рассказывай, рассказывай, поделись со старым Милти!
— Неприятности носят имя «Люба».
— Это та девочка из Лондона, о которой ты мне говорил как-то?
— Да.
— Я-то думал, Дэнни, ты с нею порвал.
— Я попытался порвать. Язык не поворачивается сказать тебе, что я предпринял, чтобы порвать с нею. Все оказалось впустую. Забыть ее не могу… И, кажется, я ее люблю.
— Ты серьезно?! Дэнни, я тебе тогда еще, по телефону, сказал, что наплачешься ты с ней. Она же потаскушка!
— Замолчи, Милт! — оборвал он его.
— Дэнни, Дэнни… — растерянно залепетал тот. — Но ты же сам так говорил… Может быть, в эту самую минуту она лежит под кем-нибудь.
Глава XIII
1987.
ЛОНДОН.
Иссиня-черное тело Бобби Томаса блестело от пота. Он со стоном перекатился на спину, задев Любу ногами.
— Полегче, полегче, — сказала она, но Бобби уже не слышал.
Его жена Элис укрыла его простыней, поманила Любу за собой и, прихватив несколько разбитых ампул с клочьями ваты, вышла из комнаты.
В туалете она спустила их в унитаз.
— Боже, откуда такая бешеная прыть? — вздохнула Люба.
— Зато сейчас лежит трупом, — Элис уселась на биде.
В этот вечер после выступления Томаса в переполненном «Палладиуме» они еще завернули в бар и крепко выпили, а потом приехали в номер отеля «Савой». Ночь была бурная, еще более бурная, чем обычно. Бобби был неутомим, чередуя Элис с Любой, Любу с Элис, а под конец взял обеих одновременно.
Люба, неторопливо одевшись, повернулась к Элис, расчесывавшей волосы перед зеркалом.
— Знаешь, у меня совсем мелких нет… Ты мне не подкинешь — на такси?
— Зачем такси, когда машина у подъезда? — презрительно улыбнулась Элис, продолжая причесываться.
Люба стиснула зубы, понимая — Элис хочет, чтобы она попросила как следует.
— Ладно. Дай, сколько не жалко.
Элис все с той же улыбкой на губах взяла свою сумочку, лежавшую на мраморной доске умывальника, вытащила две смятых сотенных бумажки, протянула их Любе.
— Спокойной ночи Бобби можешь не желать, — она послала ей воздушный поцелуй и скрылась в спальне.
Люба еще минуту постояла в полумраке роскошного туалета, посреди которого стояла низкая, вровень с полом, ванна. На столике громоздились нарядные флаконы от Тиффани и Картье. Трудно было побороть искушение.
Тяжело вздохнув, она привычной дорогой выбралась из многокомнатного номера в пустынный коридор.
— Добрый вечер, мадам, — вежливо, слишком вежливо поздоровался с ней лифтер.
Прохаживавшийся у подъезда швейцар снял фуражку, открывая перед Любой дверцу длинного автомобиля. Она взглянула на часы — четверть пятого. Как только она села, шофер молча рванул с места. Он явно злился.
«Ну и черт с тобой, — подумала Люба. — Сама с собой поговорю, и то интересней».
Она устала от Бобби и Элис. Все бы ничего, не будь они такие жмоты. Эти знаменитости, кажется, считают, что за любовь им должны платить, а не они. Вот Дэнни был щедр, но с него она денег не брала. Ей вдруг стало грустно: не верится, что она его больше никогда не увидит.
Лимузин, взвизгнув тормозами, остановился у дверей ее дома.
— Спокойной ночи, Джо, — попрощалась она, но водитель в ответ пробурчал что-то невразумительное и, чуть только она захлопнула дверцу, отъехал.
Люба нашла в кармане ключи и медленно стала подниматься по лестнице. Трудный день, трудный вечер, трудная ночь — все по полной программе, без дураков. А сейчас уже почти утро. Она зажгла свет и вздрогнула от пронзительного лая испугавшегося пуделя.
В дверях спальни появилась заспанная Магда.
— Сто раз тебе говорила — бери собаку на ночь к себе: эти пудели — жуткие невропаты.
— Он еще маленький, он поумнеет и исправится, — Магда взяла пуделька на руки, прижала к себе и чмокнула в нос.
Дэнни в последнее время заменил для нее весь мир, и больше она ни в ком не нуждалась, почти не выходя из дому и сутками сидя взаперти. Любу раздражало постоянное присутствие рядом другого человека: живописью она любила заниматься в одиночестве.
Она прошла в ванную, разделась, взглянула на себя в зеркало и увидела, что прядь волос вдоль щеки склеилась от пота и спермы.
— И черт с ним! Не буду мыться, сил нет, — она вытерла лицо и волосы полотенцем и, как была голая, вышла в коридор.
Не обращая внимания на Магду, стоявшую в прежней позе на прежнем месте, она пошла к себе. Слава Богу, хоть комната у каждой своя.
— Люба, — проговорила вслед мать. — Опять миссис Маккивер приходила за деньгами.
— Возьми в сумке в ванной, — не оборачиваясь, произнесла Люба.
Закрыв за собой дверь, она рухнула на кровать. В первые дни по приезде в Лондон ей было совестно, что она бросила Магду в Брайтоне. Однако очень скоро ей понравилось жить одной, превратив вторую спальню в мастерскую. Слишком долго они с матерью были неразлучны. И вот теперь опять жили бок о бок, только деньги теперь зарабатывала она. Из Брайтона Магда привезла 300 фунтов — 300 фунтов за два года каторги.
Где остальное? Куда запрятал полковник Джонсон деньги — и деньги немалые: отель ломился от постояльцев, а прислугу он себе нашел даровую.
Дверь скрипнула. Люба продолжала лежать с закрытыми глазами, надеясь, что мать уйдет.
— Люба…
Она приподнялась, села в кровати, взглянула на Магду:
— Что ты хочешь? Уже поздно. Я очень устала.
Магда робко шагнула вперед, держа в руке скомканные купюры.
— Двести фунтов — этого мало за квартиру…
— Что я могу сделать?
— Мы и так за месяц задолжали…
— Больше у меня нет.
— Надо где-то достать, — не отставала Магда.
— Интересно — где? Что ты предлагаешь?
— Может быть, продать картину? — робко спросила Магда. — Миссис Маккивер приглянулась одна… Зачтет в счет долга…
— Нет.
— Но их там так много.
— Нет! Ты слышала, что я сказала? Это мое!
— Но где же мы возьмем денег?
— Не «мы», а ты! — завизжала Люба, срываясь с кровати. — Выйди на улицу, постой на углу, может, подцепишь клиента, заработаешь больше, чем я! Ты же моя наставница! — Она грохотала ящиками, хлопала дверцами шкафа в поисках сигареты. — Куда мне до тебя?! Я мало приношу?! Попробуй, оторви задницу, пошевелись — может, тебе щедрей заплатят?!
Магда беспомощно смотрела на нее. Люба, отвернувшись, прикурила и жадно затянулась, но ярость продолжала клокотать в ней.
— Какого дьявола ты сюда приперлась? Каждый раз что-нибудь новенькое, а отдуваюсь и плачу за все я! К чертовой матери все! Не могу больше! Сил моих нет!
Она не слышала, как мать вышла из комнаты, а когда обернулась, той уже не было. Люба с размаху ткнула окурок в пепельницу и снова упала на кровать. Она пыталась заснуть, но сон не приходил. Как легко ранить того, кого любишь.
Магда была ей хорошей матерью. Она уехала из Бродков в Краков, чтобы начать вместе с нею новую жизнь. Она была сильная, стойкая, а когда они вырвались наконец из Польши, возлагала столько надежд на брак с полковником Джонсоном. Она считала этот брак спасением, он оказался ее погибелью. Тут-то ее дух и надломился.
Люба ясно представляла себе, как Магда сбегает вниз по ступенькам, как склоняется над распростертым телом мертвого мужа, как достает ключ из аккуратно застегнутого карманчика. «И это было сделано для меня», — думала она. Как страшно, наверно, ей было… Магда внушала ей восхищение своим умением выжить и победить в любых обстоятельствах. Никто не знает, как много связывает их, сколько всего они испытали вместе — никто, даже Дэнни.
Чувствуя себя безмерно виноватой, она затаила дыхание, прислушалась. В квартире стояла тишина.
Тогда она поднялась и, бесшумно ступая, пошла в комнату Магды. Там было темно. Люба прилегла на кровать к Магде, обняла ее.
— Мама… Прости меня… Это я сгоряча… Наговорила сама не помню чего… Я ведь так не думаю. — Магда была неподвижна. Люба слегка потрясла ее за плечо. — Ну-ну, просыпайся. Сейчас я тебя разбужу, — со смешком добавила она.
Она перевалила мать на спину — та не сопротивлялась. Любу вдруг стала бить дрожь. Она поспешно включила свет и увидела пустой флакон из-под таблеток. Глаза Магды блуждали, рот был полуоткрыт. Люба на мгновенье замерла, но быстро справилась с собой.
— Магда! — крикнула она и стала бить ее ладонью по щекам.
Изо рта матери вырвался странный горловой стон.
Люба продолжала бить. Дыхание Магды было едва уловимым.
ГОЛЛИВУД.
Дэнни не помнил, когда он в последний раз испытывал такой трепет, входя в кабинет Арта Ганна. Уже на протяжении многих лет, стоило лишь ему задумать новый фильм, Милт устраивал ему встречу, а Ганн, выслушав несколько фраз, прерывал его неизменным: «Пойдет! С Богом!» Однако сейчас он собирался предложить нечто необычное и не был уверен в успехе предприятия.
— Садитесь, — сказал Арт Ганн, не вставая из-за своего массивного стола. — Ну, что у нас на очереди — «Париж — рок», «Рим-рок»?
Подбородок Дэнни дрогнул, он повернулся к Милту за поддержкой.
— Не валяй дурака, Арти, — сказал тот. — Мы пришли обсудить фильм, который хочет сделать Дэнни, — «Всякий человек». И ты это отлично знаешь.
Арт так сильно раскурил сигару, что на галстук посыпались искры.
— Слушаю, — сказал он и взглянул на часы. — Только покороче.
Сквозь плотное облако сигарного дыма Дэнни неясно различал лицо Ганна. За годы их знакомства он набрал несколько лишних килограммов, лишился большей части волос и сохранил прежнюю манеру общения — отрывистую и жесткую.
Дэнни заговорил обычным тоном:
— Я давно вынашивал эту идею.
— Весьма драматическое начало.
— Дослушай, потом будешь шпильки пускать, — вмешался Милт.
— Верно. Изложите свою идею в трех фразах.
Дэнни вдруг растерялся. Он не знал, с чего начать. Когда он дома обдумывал «Человека», то видел каждый эпизод будущего фильма, а сейчас в голове было совершенно пусто.
— Я снял для «ЭЙС-ФИЛМЗ» пятнадцать картин… — поднявшись, нерешительно заговорил он.
— …принесших недурную прибыль, — не выпуская изо рта сигару, сказал Ганн.
— Вы никогда не читали мои сценарии…
— Незачем. Я нутром чую удачу.
— Потому что доверяли мне.
— Доверял.
Дэнни всем телом подался вперед:
— И сейчас доверяете?
Арт сидел не шевелясь, только переводил глаза с Дэнни на Милта и обратно. На узле его галстука наросла порядочная горка пепла.
— Начинает попахивать шантажом. С чего бы это?
— Вы доверяете мне? — стоял на своем Дэнни.
— Доверяю, — после секундного замешательства ответил Ганн. — Но фильм должен принести прибыль. — Пепел скатился с галстука и исчез за крышкой стола. — Ну, излагайте идею!
— Этот фильм будет обращен ко всем и к каждому… Он о том, что любой из нас обязан давать отчет в своих поступках, подводить итог…
— Отчет? Итог? Подождите, я вызову нашего бухгалтера.
— Арти, я же просил! — вскинулся Милт.
— Ладно-ладно, молчу. Продолжайте.
Дэнни откашлялся.
— Я уложусь в три фразы, как вы просили. В прологе мы видим героя фильма — он художник — на смертном одре. Далее он вспоминает свою жизнь, подводит ей итог, и мы вместе с ним видим, как он загубил свой талант. Поправить уже ничего нельзя — слишком поздно, — он замолчал и сел.
Арт Ганн сычом смотрел на него и на Милта.
— Такое, значит, кино будет?
— Да.
— Что-то не верится мне, что его будут смотреть.
— Это вечная и всеобщая тема, — Дэнни пытался скрыть тревогу.
— И вы ее вынашивали годами?
— Да.
— Лучше было бы сделать аборт.
— Черт тебя подери! — снова, как чертик из табакерки, взвился Милт. — Я не позволю оскорблять клиента!
— Милт, не кипятись.
— Позволь тебе напомнить, Арти, — Милт потряс указательным пальцем перед сигарой, — как этот человек много лет назад сидел на этом самом стуле и предлагал тебе переделку «Принца и нищего». Тебе и тогда не нравилась эта идея — до тех пор, пока не потекли денежки. Сколько миллионов ты сделал с тех пор на подростковых фильмах?
— Милт, — зажав сигару в зубах, Ганн воздел пухлые руки, пытаясь успокоить агента. — То было тогда. Теперь — это теперь. Дэнни, продолжайте.
Тот хранил молчание.
— Дэнни, я жду. Вы что, с ума сошли?
— По всей видимости. — Он встал и подошел к письменному столу. — Мы с вами в расчете. Я не собираюсь вымаливать у вас постановку. Я ухожу.
— Что? — Ганн выронил изо рта окурок сигары.
— Дел с «ЭЙС-ФИЛМЗ» больше не имею.
Он повернулся на каблуках и направился к двери. Милт, выпрыгнув из кресла, загородил ему дорогу.
— Дэнни, Дэнни, успокойся.
Арт Ганн вышел из-за стола.
— Уйти вы не можете — у нас контракт.
— Да плевал я на ваш контракт! Я найду студию, где мне дадут снята мою картину!
Ганн обеими ручищами ухватил Дэнни за плечи.
— Ладно, хватит. Найдете. Уже нашли. Называется «ЭЙС-ФИЛМЗ». — Он потащил его к дивану. Дэнни не сопротивлялся. Ганн уселся и усадил его рядом. — Рискну. Но денег дам мало. Смету урежу до предела. И попробуйте только выйти за нее! — Он обнял Дэнни за плечи.
У Дэнни словно разжалась внутри какая-то пружина. Забавный субъект этот Арт Ганн — вызовет к себе лютую ненависть и вдруг станет симпатичен.
Милт вместе со стулом придвинулся к дивану:
— Бумаги я подготовлю.
— Не торопись. — Арт повернул к нему голову. — Этот ваш фильм пойдет в связке с двумя другими — с «Лондон-рок» и… — достав из нагрудного кармана сигару, он откусил кончик, выплюнул его и договорил: — …и с «Рим-рок».
— Какой еще «Рим-рок»? — завопил Милт. — Что за чушь?! Так не пойдет!
— Пойдет, пойдет, — заверил его Ганн, раскуривая сигару. — «Рим-рок» мы с итальянцами накрутим в два счета. Я своему слову хозяин.
Дэнни не слушал: он был на седьмом небе от счастья. Он мог начинать съемки «Человека». Он знал, что создаст шедевр.
* * *
— Ну, брат, я и не подозревал, что ты такой бешеный, — сказал Милт, когда они вышли из кабинета.
— Я дрался за свою жизнь.
— Ты меня просто потряс. И что же, ты в самом деле собирался уйти со студии?
— Разумеется.
— Ну, значит, ты и впрямь полоумный. Если «ЭЙС-ФИЛМЗ» похоронила идею, кто ее воскресит?
— Да хоть «КОЛАМБИА ПИКЧЕРЗ».
— Сказал тоже! «Коламбиа»! Там директоры меняются чаще, чем мужья у Зазы Габор! Сколько их там было за последнее время — Бегелман, Прайс, Макэлвин, Даун… не помню, как ее там. Начнешь излагать идею одному, глядь — в кресле уже другой. И еще, говорят, японцы собираются ее купить.
— Японцы — это хорошо. Может, они введут новое правило: провалил картину — делай харакири.
Милт раскатисто хохотал до тех пор, пока служитель не подал со стоянки его «мерседес».
В машине он бормотал:
— Я смутно помню содержание, давно не перечитывал, но то, что ты рассказал Арти… Отчет, итог, смерть, Страшный Суд…
— Короче говоря, тебе не нравится.
— Да нет, не то что не нравится, но просто… понимаешь ли… В общем, Кафку напоминает. Ну, помнишь, я тебе рассказывал про фильм Джо Эпстайна?
— Помню. Один из твоих самых первых клиентов. Ну, и о чем оно?
— Да ни о чем. Стоит еврей перед дверью судьи и пытается понять, в чем его преступление.
— И что?
— Да ничего. Весь фильм об этом.
— Но это же глупо.
— Дэнни, ты — гой, а чтобы понять это, надо быть евреем. А Джо — даже слишком еврей.
— Но «Человек» — это совсем другое дело: там есть и сюжет, и…
— Дэнни, ты знаешь, как я тебя люблю, но, ей-Богу, это все слишком глубокомысленно. Это для интеллектуалов. Подожди, не перебивай. Это не мое дело. Я получаю комиссионные, ты снимаешь кино. Главное — то, что Арти дал зеленый свет. Так что — полный вперед!
БЕВЕРЛИ ХИЛЛЗ.
Дэнни в своем любимом твидовом пиджаке и в рубашке с открытым воротом, волнуясь, ехал на встречу с дочерью. На Родео-драйв он заметил в витрине фешенебельного магазина подарков огромного, чуть ли не в натуральную величину, плюшевого медведя и притормозил. Потом в безотчетном побуждении зашел в магазин.
Никого из продавцов там не оказалось. Дэнни нетерпеливо переминался с ноги на ногу, пока не привлек внимания высокомерного клерка, который надолго скрылся в служебном помещении, потом появился с известием, что «мишки» раскуплены, но он получил разрешение продать того, что был выставлен в витрине.
Дэнни, то и дело поглядывая на часы, торопливо расплатился и, не дожидаясь, пока медведя завернут, поспешил к выходу.
Вбежав в зал ресторана «Эль-Падрино», он стал озираться, ища Патрицию.
— Дэнни! — окликнули его.
Он обернулся и увидел Брюса Райана, сидевшего за столиком в обществе обоих прихлебателей и совсем юной хорошенькой девушки, не сводивших с него восторженных глаз.
— Рад познакомиться, — Брюс под смешки своих дружков пожал медведю лапу.
Дэнни попытался представить себе, как выглядит этот красавец в черной шелковой дамской рубашке. Он поздоровался и собирался пройти дальше, однако Брюс протянул руку и задержал его.
— Мне жаль, что не ты будешь снимать меня с Сидни Шелдон в новой ленте. Я требовал, чтобы ставил ты, но кто-то захотел, чтобы это был Джефф Кэнью.
— Он отличный режиссер, а я все равно занят, — Дэнни хотел двинуться дальше, но Брюс не пускал:
— Это чем же?
Дэнни совсем не хотелось делиться с ним творческими планами. Его выручил старший официант Тони:
— Ваш столик накрыт, мистер Деннисон.
С бьющимся сердцем он через заполненный посетителями зал ресторана прошел в заказанный кабинет — и замер, наткнувшись на стальной взгляд краснолицего человека за столом. Это был Джи-Эл Стоунхэм.
— Где Патриция?
— Сядьте, — сказал краснолицый человек. — Это — мистер Маккрейчен, — представил он сидевшего рядом тучного мужчину, в клетчатом костюме, на который пошло слишком мало материала, чтобы прикрыть такое брюхо. Крахмальный воротник белой сорочки врезался в толстую шею.
Дэнни, чувствуя знакомую пустоту под ложечкой, обвел комнату взглядом, сел и на свободный стул посадил медведя.
— Что будете пить?
— Ничего, благодарю вас. Я жду Патрицию.
— Она не придет.
— Что, простите?
Стоунхэм невозмутимо поднял стакан, сделал большой глоток мартини, облизнул языком губы, поставил стакан на стол. Его спутник сидел молча и неподвижно, пил только воду.
— Мы договорились с ней пообедать здесь, — нарушил тягостное молчание Дэнни.
На красном лице не дрогнул ни один мускул, лишь едва заметно разжались тонкие губы:
— Она не желает вас видеть.
Дэнни почувствовал, как застучала кровь в висках, на миг поднялась волна дурноты, но он справился с ней и сказал:
— Мистер Стоунхэм, я вам не верю.
Красное лицо перекосилось издевательской усмешкой:
— Не верите — не надо. Ждите, если угодно, хоть до второго пришествия.
Тошнота усилилась. Стоунхэм допил свой мартини, бросил взгляд на своего спутника. Широкая толстая рука положила на стол купюру. Оба стали подниматься, и в эту минуту Дэнни выкрикнул:
— Я — ее отец!
Джи-Эл, набычившись, кольнул его стальными глазами:
— Эту ошибку мы исправим.
Дэнни схватил его за горло:
— Ты, подонок…
Он даже не успел заметить движения клетчатого мистера Маккрейчена, но рука его словно попала в тиски и в следующее мгновение была уже намертво прижата к столу. Стоунхэм, не обращая внимания на то, что на них уже оборачивались с других столов, поправил галстук и понизил голос до шепота:
— Веди себя прилично, прощелыга. И помни — ты разведен.
— Я разведен с твоей дочерью, а не с моей. Я ничего не подписывал.
— Стефани подписала. Проконсультируйся с адвокатом. Я назначен опекуном девочки.
Дэнни показалось, что он сейчас потеряет сознание. Тиски разжались. Простучали удаляющиеся шаги. Он сидел, не поднимая головы.
Подошел официант, взял со стола пустой стакан из-под мартини и двадцать долларов.
— Угодно посмотреть меню, сэр?
— Принесите двойную водку со льдом, — все так же уставившись в пол, ответил он.
Лишь после второй порции он совладал с тошнотой, но зато почувствовал, как ломит предплечье.
Он взглянул на безразличную ко всему плюшевую морду и, когда официант поставил перед ним третий стакан, потребовал лист бумаги и конверт.
Потягивая ледяную водку, он придумывал, что написать.
Наконец его осенило:
Милой дочке Четыре строчки Ныне и присно и в час любой Помни, Патриция — я с тобой!Потом выложил на стол деньги, поднялся, сгреб медведя и на нетвердых ногах двинулся к выходу. Он вдруг как-то очень быстро опьянел, его шатало.
Так он добрел до стойки портье и водрузил на нее медведя.
— Передайте это мисс Патриции Деннисон… — стараясь не запинаться, проговорил он. — И записку тоже.
Портье взял конверт, удивленно посмотрел на покачивающуюся перед ним пьяную фигуру.
— Минутку, сэр.
Дэнни обеими руками оперся о стойку, чтобы сохранить равновесие. Медведь глядел на него равнодушными пуговичными глазками.
Портье, вернувшись, чуть громче, чем следовало бы, сообщил, что среди проживающих в отеле мисс Деннисон не значится.
— Этого не может быть! — взревел Дэнни.
— Сожалею, сэр.
Дэнни усилием воли собрал разбредающиеся мысли.
— А-а! А Патриция Стоунхэм — значится?
— Да, сэр, — быстро ответил тот, — Мисс Патриция Стоунхэм зарегистрирована. — Взяв ручку, он зачеркнул «Деннисон» и сверху написал «Стоунхэм».
Дэнни смотрел, как движется его рука, и почти ничего не видел из-за навернувшихся на глаза слез.
* * *
Когда такси доставило его домой, он, спотыкаясь, побрел по ступеням террасы на теннисный корт, заполнил машину старыми мячами и включил ее. Механическая рука начала подавать. Дэнни схватил ракетку. Каждый раз, когда он изо всех сил отбивал мяч, уносившийся то за ограду, то в дальний угол, перед ним возникало красное лицо Стоунхэма.
Наконец мячи кончились, а Джи-Эл и его клетчатый спутник были уничтожены. Дэнни с победным воплем швырнул ракетку в воздух, побежал к сетке, запутался в ней и повалился на другую половину площадки.
Он пришел в себя оттого, что кто-то громко звал его по имени:
— Дэнни! Дэнни! Прости, старина, я опоздал!
Со стороны дома приближался Милт в костюме для тенниса. Увидев ползающего по корту Дэнни, он обомлел.
— Что ты тут делаешь? Я думал, мы сыграем сет-другой…
Дэнни осоловело глядел на него.
— Ты что — пьяный, что ли?
Ответ был очевиден.
Поднявшись, Дэнни побрел к дому. Милт подобрал с земли его пиджак, выключил машину и побежал следом.
У дверей он догнал его. Дэнни рылся в карманах — искал и никак не мог найти ключ. Потеряв терпение, он саданул кулаком в стекло, разбил его и, запустив руку в образовавшуюся дыру, открыл дверь изнутри.
Милт никогда еще не видел друга в таком состоянии. Чуть поколебавшись, он осторожно прошел по осколкам в дом. Дэнни был на кухне. До отказа раскрутив кран, он сунул голову под струю холодной воды, потом вытерся краем рубашки.
— Что-то рановато для возлияний, — заметил Милт. — Ты что — обедал?
— Да уж, накормили досыта.
Дэнни, все еще чувствуя головокружение, побрел в гостиную, рухнул на диван и уставился на аквариум.
— Вот и я теперь вроде нее…
— Вроде кого?
— Вон — плавает брюхом кверху, — он показал на еще одну дохлую рыбу.
Милт снял очки и протер стекла.
— Дэнни, что стряслось?
— Это неинтересно, Милт. Тебе — слушать, а мне — рассказывать.
— Ну-ну-ну, перестань. Друг я тебе или нет? Выкладывай, что случилось.
Дэнни с глубоким вздохом начал было излагать все, что произошло в «Эль-Падрино», потом вдруг замолчал, закрыл глаза.
— Знаешь, твой тесть дал тебе дельный совет. Почему бы тебе и вправду не обратиться к юристу? По крайней мере, все хоть станет на свои места. Я уверен, Стив Гордон поможет, найдет какую-нибудь лазейку. Позвони-ка ему.
Дэнни слабо улыбнулся.
— Ты — настоящий друг, Милт. Мне вроде стало чуть полегче.
— А кроме консультации, тебе надо и съесть чего-нибудь. Сиди тут, смотри телевизор, — он всунул Дэнни в руку пульт дистанционного управления, — а я смастерю сандвич, если, конечно, в гойском доме найдется из чего.
Дэнни защелкал переключателем, невольно улыбаясь тому, сколько шума производил Милт, шаря в поисках съестного на кухне. Он уже собрался было идти ему на подмогу, но голос из телевизора привлек его внимание к экрану.
— Жадность — это нормально. Жадность — это здоровое чувство. Жадность не мешает самоуважению, — во весь экран появилась победная улыбка Айвана Боэски, затем послышался голос комментатора: — Мы видим мистера Боэски, которому суд только что вынес приговор по делу о незаконных торговых операциях…
— Вот, Дэнни, это называется «у человека неприятности», — сказал Милт, появляясь в дверях с нарезанным ржаным хлебом и открытой банкой сардин.
— Чего его дернуло на это дело? Он со своими партнерами вполне законно зашибал миллионы в год.
— Человеку всегда мало.
— Тут ты прав, Милт: человеку всегда мало.
— Кстати, — Милт взглянул на часы, — у меня свидание с Мэрилин. Сам же говоришь, что человеку всегда мало, а потому придется тебе поесть в одиночестве. — Он ринулся к двери, на пороге обернулся: — У тебя есть ее телефон?
— Есть. Если позвонит Сара, я скажу, что ты только что от меня выкатился, а потом сыграю боевую тревогу.
— Ты — настоящий друг.
— И как наши дела с Мэрилин?
Милт со смехом похлопал себя по ширинке брюк:
— Грандиозно.
Вслушиваясь в рев удаляющегося автомобиля, Дэнни медленно поднялся, двумя пальцами взял с тарелки сардину, Но она показалась ему похожей на дохлую тропическую рыбку, и он положил ее обратно. Потом подошел к аквариуму, вытащил плававшую брюхом кверху рыбу, а четырем оставшимся подсыпал корму, на который они жадно набросились.
— …мистер Тэд Роузмонт, — вдруг услышал он голос комментатора, — бывший президент лос-анджелесского «Секьюрити-бэнк», признанный судом виновным в расхищении пяти миллионов долларов, сегодня начал отбывать свой приговор в федеральной тюрьме Ломпок… — Дэнни взглянул на экран. — О-о, старый знакомый! Тот самый, закадычный друг Стоунхэма! Его лучезарная американская улыбка потускнела, когда он в наручниках входил в ворота тюрьмы, — где проведет два года.
Дэнни выключил телевизор. Боэски, Роузмонт — мелочь по сравнению с Джи-Эл, а тот смышлен. Он знает, как вести дела, чтобы не вляпаться. Его так просто не ухватишь.
Он пошел на кухню, выбросил сардины в мусоросборник. Перед глазами стояло красное лицо Стоунхэма, острый язык, слизывающий мартини с мокрых тонких малиновых губ.
Что ж, найдется управа и на него. И ему придется когда-нибудь давать отчет в том, как он распорядился своей жизнью, и тогда никакие богатства не помогут и не спасут.
Дэнни задумчиво вытирал руки кухонным полотенцем. Черт побери! Как же это он раньше не додумался! Он даже стукнул кулаком по краю раковины. «Человек» — ведь это пьеса о стяжательстве, прямая параллель! Это вовсе не о художнике! Его собственная неизбывная вина сбила его с толку.
Действие фильма будет разворачиваться на Уолл-стрит.
* * *
Приехав на авеню Звезд, Дэнни на подземной многоярусной стоянке с трудом нашел своему «ягуару» место и, твердя про себя его номер, 4–2В, поднялся в лифте на восемнадцатый этаж. Чем ближе был он к цели, тем сильнее волновался. Он вошел в приемную юридической фирмы, владельцев у которой было не меньше, чем у конторы, представлявшей интересы Стоунхэма, и его почти сразу же проводили в кабинет Стива Гордона.
Этот фешенебельный и неброско отделанный кабинет, от пола до потолка заставленный солидными томами в кожаных переплетах, произвел на него гнетущее впечатление. Дэнни, не садясь, а расхаживая по ковру вдоль высоких окон, выходящих на океан, который в этот прозрачный день не был скрыт туманной дымкой, изложил суть дела.
— Могу ли я вернуть свою дочь?
Стив подошел к нему, притронулся к его плечу:
— Прежде всего сядьте.
Дэнни не тронулся с места.
— Стив, только я вас очень прошу ответить мне коротко и ясно, без этой вашей юридической абракадабры и по возможности без латыни.
— На этот счет можете быть спокойны, — улыбнулся одними глазами тот. — Я ведь тоже отец и понимаю ваши чувства. Так сколько лет Патриции?
— Семнадцать.
— И все-таки, Дэнни, сделайте милость — сядьте, — он подвел его к дивану и усадил. — Ну что мне вам ответить? Пожалуй, что нет.
— То есть у меня нет никаких законных прав на нее? — вскинулся Дэнни. — Выходит, что Стефани подписалась как бы за нас обоих?!
— Дэнни, что там Стефани наподписывала — это дело десятое…
— Так почему же мы не можем притянуть этого мерзавца к суду? Я готов биться до последнего — сколько бы это ни стоило! Я последнюю рубашку заложу!
— Ну, во-первых, на такой процесс никаких рубашек не хватит, а, во-вторых, там без столь ненавистной вам абракадабры не обойтись. И все равно — дочку вам это не вернет, — Стив говорил тихо и монотонно. — Ладно. Представим себе, что мы подаем в суд. Патриции уже семнадцать. Ее придется выводить на процесс, Дэнни, и любой судья непременно спросит ее, с кем она хочет быть. Неужели вы хотите, чтобы она прошла через это? — Дэнни сцепил челюсти так, что на щеках заиграли желваки. — Говорю вам как друг, а не только как юрист: откажитесь от этой идеи, нельзя загонять девочку в угол.
— Так что же мне делать, Стив?
— Запастись терпением. Постараться наладить отношения с Патрицией. Показывать, что вы любите ее, невзирая ни на что. В конце концов, выбор действительно за нею.
— Стоунхэм держит ее чуть ли не взаперти и не дает ей видеться со мной. Я не могу поговорить с ней даже по телефону.
Стив обнял его за плечи.
— Надо найти способ, Дэнни, завоевать ее любовь и доверие, и я уверен — вы его найдете. Странно это прозвучит из уст юриста, но отцовская любовь горы может свернуть.
* * *
Выйдя от Гордона, Дэнни вспомнил, что в том же доме, но двумя этажами ниже, находится теперь агентство мистера Милтона Шульца — несколько компьютеризированных кабинетов. Дэнни еще не бывал здесь и в очередной раз поразился прихотливому вкусу миссис Сары Шульц. Милт сидел за столом в виде корявой грубо обтесанной коряги на тоненьких кривых ножках — в моде был этот стиль.
— Я пошел королевской пешкой… — говорил он в трубку и, увидев Дэнни, приглашающе взмахнул рукой. — Что? Ну да, сицилианская… Конечно, сицилианская, какая же еще? — Он показал на стул. — Да? Ферзевой гамбит? А что это такое? Ну ладно, ко мне тут пришли, за обедом поговорим. Да, я же обещал, значит, буду у тебя. — Он повесил трубку. — Вот они, детки-то. — Милт глядел на Дэнни из-за настольной лампы, сделанной из куска окаменевшего дерева. — Ведь это я выучил засранца играть в шахматы, а он теперь разговаривает со мной, как со слабоумным кретином. Да, кстати, о детях! Как со Стивом?
— Ты был прав. Мне стало легче. Спасибо.
— De nada[3], — почему-то по-испански ответил Милт. — Чем бы еще тебе помочь, старина?
— Чем? Удели исключительно мне одному пять минут твоего драгоценного времени.
Милт ткнул в кнопку селектора:
— Ни с кем не соединять! — И откинулся на спинку кресла. — Я весь — внимание!
— Милт, я решил все перекроить в «Человеке». Фильм будет начинаться с заседания правления некой корпорации, которое ведет крупный и нечистоплотный маклер с Уолл-стрит.
— Позволь, такое кино, кажется, уже есть?
— Какое кино?
— «Уолл-стрит».
— Да ты не понял! В нашем фильме только начало и финал происходят на Уолл-стрит.
— А впечатление такое, будто я это уже видел…
— Ты дослушай! На титрах идет душераздирающий вой сирены — «скорая помощь». У председателя правления какой-то фирмы, некоего Эдварда Эвримена, сердечный приступ. Носилки, карета, больничная палата. И вот отсюда начнется «флэшбэками» история его жизни. Лежа на смертном одре, он вспоминает ее.
— Боже, вот тоска-то! Секс хоть будет?
— Специально для тебя вставлю нескольких голых баб, — выдавил из себя Дэнни.
— И это будут лучшие сцены! Ну, дальше что?
— Дальше? Дальше будет его жизнь. Люди, ставшие нищими, потому что он закрыл фабрику… И прочее. Я еще не дописал. А в конце он понимает, сколько зла он причинил всем своей алчностью. Понимает, но уже поздно. Финал я дам такой: в предсмертном бреду он снова видит себя молодым, посреди Уолл-стрит, где падает и умирает. Ну, что скажешь?
— По крайней мере, это ко времени. Телевидение каждый божий день…
— Вот именно, Милт! Это — про сегодня!
Дэнни, обрадовавшись, что до Милта дошло, поднялся и двинулся к выходу. На пороге его догнал кудахтающий смех Милта:
— Знаешь, Дэнни, эта картина сильно сблизит тебя с твоим бывшим тестем.
* * *
Еще отпирая дверь, он услышал трель телефона. Вдруг это Патриция? Получила его записку и позвонила. Он рванул дверь и бросился к телефону, задыхаясь, схватил трубку:
— Патриция?
— Нет, Дэнни, это Стефани, — она говорила очень спокойно и негромко.
— А где Патриция?
— Джи-Эл, как всегда, повез ее куда-то.
Дэнни почувствовал привычную тупую боль под ложечкой.
— Она получила медведя?
— Да.
— Он ей понравился?
— Очень.
Боль начала утихать.
— Дэнни… Я вот зачем позвонила тебе… Давай пообедаем и поговорим. Хочешь, я приеду, приготовлю что-нибудь. Ты всегда говорил, что мне нет равных…
— Стефани, — перебил он. Да, она потрясающе готовит, и он с удовольствием съел бы что-нибудь. Но словно со стороны он услышал собственный голос: — Я не голоден.
— Ты прости меня, но… Я подумала: хорошо бы нам увидеться перед тем, как я уеду.
— Куда это ты едешь?
— В Индию.
— Зачем?
— Папа спустил на меня целую свору психиатров, хочу убраться от них подальше.
— А вдруг они тебе помогут?
— Меня всю жизнь лечат самые лучшие врачи — и все без толку. Надо попробовать что-нибудь другое. Я прочла, что там, на вершине горы стоит буддийский монастырь. Может, там я получу ответ…
— Не слишком ли далеко ты собралась, Стефани?
— Я должна, Дэнни… Мне нужно разобраться в моей жизни, обрести мир в душе.
«Опять пьяна, что ли?» — подумал он, а вслух сказал:
— Честное слово, не вижу я проку в буддийских монастырях…
— Ты никогда не видел проку в религии.
— То есть?
— Ты не был в церкви с того дня, когда окрестили Патрицию.
Раздражение его стало расти.
— А ты просто смываешься. А зря. Ты нужна Патриции.
— Я ей не нужна — слишком поздно. И слишком глубоко запустил в нее свои когти Джи-Эл.
— Но ведь это наша с тобой дочь!
— Наша ли? — голос изменил ей, и она дала отбой.
Дэнни долго сидел, глядя на телефон. Не слишком ли жестко он с ней говорил? Да, она старается выскочить… Но ехать в Индию — это такой отчаянный шаг… Он был уже готов позвонить ей, но вместо этого набрал номер цветочного магазина и попросил послать в номер Стефани букет белых роз. Она любила белые розы. «Нет, записки никакой не будет».
* * *
На следующее утро он снова поехал в «Беверли Уилшир», надеясь все-таки увидеться с дочерью, прежде чем Стоунхэм на своем самолете увезет ее на Лонг-Айленд.
Он долго стоял у входа в «Эль-Падрино», заглядывая через вертящиеся двери внутрь. И вдруг увидел его. В сопровождении своего мясистого телохранителя он шел, держа за руку Стефани. Она дважды пыталась высвободиться, но, видимо, он слишком крепко и больно сжимал ее руку, почти тащил к поджидавшему их лимузину. Бедная Стефани! Взрослая женщина, а обращаются с ней, как с непослушной девчонкой. Не такая ли судьба ждет и Патрицию? Когда автомобиль отъехал, Дэнни кинулся к лифту, который поднял его прямо к апартаментам Джи-Эл.
Он постучал, дверь открылась, и бледное лицо Патриции, бросившейся к нему на шею, осветилось радостной улыбкой.
— Папа! Папа! Какой чудный медведь! Он мне так нравится! Совсем такой же был у меня, когда я была маленькая.
— Я так и думал, что ты его не забыла, — он поглядел на нее: взрослая, красивая, похожа на Стефани, и вместе с тем совсем по-детски прижимает к груди своего мишку.
— Как мне жалко, что не удалось пообедать вместе. Джи-Эл передал мне твою записку. Но я понимаю — у тебя столько дел.
Дэнни, на миг оцепеневшему, хотелось завопить «Это подлая, наглая ложь», но он не промолвил ни слова. Незачем вносить в душу этого хрупкого существа новую смуту.
Она прислонила медведя к вазе, где стояли белые розы, посланные им накануне Стефани.
— Мишка любит гулять в саду!
— Отличный сад. Какие красивые розы.
— Маме кто-то прислал, а кто — неизвестно: ни карточки, ни записки. Но она ужасно обрадовалась.
Дэнни сел рядом с дочерью на диван:
— А где она?
— Джи-Эл повез ее к доктору. Она не хотела ехать. — Патриция вытащила из вазы цветок и стала нервно вертеть его в руках. — Она такая несчастная, грустная… И они с Джи-Эл все время ссорятся. Странно: он такой добрый и просто хочет ей помочь.
— Знаешь, девочка моя, иногда все гораздо сложней, чем кажется на первый взгляд.
Лепестки розы медленно опускались на пол. Патриция провожала их взглядом.
— Папа, я все понимаю, вы развелись, Джи-Эл мне объяснил, но мы с тобой будем снимать кино? — она смотрела на него печально.
— Конечно, будем.
— Джи-Эл не любит кино… Ты бы рассказал ему, как снимают фильмы… Может, он просто не понимает… Поговори с ним, папа. — Она взглянула на часы. — Он вот-вот вернется.
— В другой раз. Мне пора на студию. — Он крепко обнял ее. Потом повисло неловкое молчание, и Дэнни сказал: — Не забудь мишку покормить — он мед любит.
— Не забуду.
— И еще не забудь: я очень тебя люблю и всегда буду любить, что бы ни случилось.
— И я тебя люблю, папа.
— И ты всегда будешь моя маленькая Пат?
— Всегда.
— Всегда?
— Всегда.
В лифте Дэнни вытер слезы. Слава Богу, он еще не потерял ее. Может быть, и вправду они станут близки, как когда-то?
Двери лифта раскрылись. Прямо перед ним стоял Стоунхэм. Мгновение они молча смотрели друг другу в глаза.
Первым заговорил Джи-Эл:
— Я ведь слов не ветер не бросаю. Я вас уничтожу.
Глава XIV
1987.
СЕВЕРНАЯ ФИЛАДЕЛЬФИЯ, ПЕНСИЛЬВАНИЯ.
— Дедушка! Дедушка! — маленькая чернокожая девочка спрыгнула с велосипеда, взбежала по выщербленным ступеням крыльца.
— Ну что еще? — рослый мужчина вытер пот с эбенового лба и снова взялся за рубанок.
— К тебе какой-то важный джентльмен…
Тучный человек в клетчатом тесноватом костюме приближался к ним мимо гераней, высаженных в старых автомобильных покрышках, вместо горшков.
— Почем ты знаешь, что это джентльмен? — осведомился старик, положив огромную руку на голову внучки.
Подойдя, клетчатый представился:
— Здравствуйте. Меня зовут Маккрейчен, я ищу мистера Тайрона Луиса.
— Считайте, что нашли.
— Скажите, мистер Луис, во время мировой войны вы служили в 44-м парашютно-десантном батальоне?
— Не отпираюсь.
— В таком случае, вы позволите задать вам несколько вопросов, касающихся вашего боевого прошлого?
— Позволю. Присаживайтесь.
БЕВЕРЛИ ХИЛЛЗ.
После двух сетов с новым тренером и двенадцати заплывов в бассейне Дэнни словно воскрес душой и телом. Он с удивлением заметил, что насвистывает, направляясь в свой кабинет, который с тех пор, как он своими руками пристроил его к спальне на втором этаже, сделался его любимым местом. Ему работалось там лучше, чем на студии. Ему нравилось, что в любую минуту можно откатить дверь и посмотреть на деревья, выйти и окунуться в бассейн или размяться на корте, сняв усталость и недовольство собой.
Лили Кэйн, его помощница, которую устроил ему недавно Милт, уже включила компьютер, готовясь к работе. Дэнни нравилась эта интеллигентная молодая женщина, недавняя выпускница той самой киношколы при Университете Южной Калифорнии, где учился когда-то и он сам. Она была привлекательна — розовощекая, темно-русая, с мерцающими синими глазами и крепким статным телом крестьянской девушки с полотна кого-нибудь из старых французских мастеров.
— Я вижу, у вас сегодня хорошее настроение, мистер Деннисон.
— Да. И надо попытаться сохранить его.
— Приложу все усилия, — рассмеялась она.
Дэнни начал диктовать.
— Общее собрание акционеров. Один из них — металлург — обращается к председателю правления Эдварду Эвримену: «Вы хотите нарушить все десять заповедей и поклоняться золотому тельцу…»
— Простите, мистер Деннисон, — прервала его Лили. — Мне кажется, что для металлурга он выражается слишком пышно, а?
Дэнни холодно поглядел на нее.
— Ой, только не меняйте настроение, — она подмигнула.
Дэнни усмехнулся.
— Ладно, давайте попробуем что-нибудь другое. Только бросьте вы, ради Бога, «мистера Деннисона». Зовите меня просто Дэнни.
— Есть, сэр! Есть звать «просто Дэнни»!
— Вот-вот. Пишите: «Вы, кучка богачей, наживаетесь за наш счет! Чем больше денег у вас, тем меньше их у нас, вы богатеете, мы разоряемся…»
— Это гораздо лучше.
Она набирала текст, а Дэнни незаметно разглядывал ее. Она почти не пользовалась косметикой — лишь чуть заметно подведены глаза, иногда становившиеся зелеными и по-детски невинными, что не противоречило сверкавшему в них уму. Все ее вопросы и замечания были уместны и разумны и заставляли Дэнни точнее подбирать слова, вложенные в уста его героев.
Она набирала, а он расхаживал взад-вперед по кабинету, диктуя:
— Председатель правления: «Вы, должно быть, не понимаете, что у меня есть обязательства перед держателями акций». Ему отвечает металлург: «Но больше всего акций у вас, и обязательства у вас перед вашей жирной задницей!» Тогда председатель в бешенстве вскакивает и кричит: «Это и есть капитализм! А вам бы хотелось коммунизма?»
— Мистер Ден… Дэнни, но разве он не прав? — спросила Лили.
— Понимаете, я хочу показать людей, которые сколачивают состояния, продавая и покупая разноцветные бумажки — акции. Что они производят? Что делают полезного для общества?
— Они производят деньги, на которые режиссеры — и вы в том числе — делают фильмы.
— Ох, уж эти университетские умницы!..
Нисколько не обидевшись, она ждала продолжения. Дэнни сел рядом с ней:
— Послушайте, Лили, я говорю о тех, кто не создает, а разрушает — о темных биржевых спекулянтах! Они не основывают новые компании, не проводят исследования, не создают новых видов продукции и не совершенствуют старые. Они только играют на разнице котировки и получают невероятную прибыль. Мне ли этого не знать? Мой тесть — мастер этой игры.
Лили пристально смотрела на него, явно осмысливая услышанное.
— Но как же их остановить?
— Не знаю. Но в этой ленте я хочу заострить внимание общества на этой проблеме. Рано или поздно придется подводить итог тому, что ты сделал в этой жизни — что делал, куда шел, чего хотел добиться? Я хочу, чтобы зритель задавал себе эти вопросы. Я устал от халтуры вроде «Лондон-рок».
— Я была на просмотре. Мне понравилось.
— Ну да?
— Да. Легкое, непритязательное, живое кино… Захватывает и увлекает.
— Но тогда эта работа должна стать у вас поперек горла.
— Нет-нет, что вы! Такого я вообще еще не представляла себе! Это будет классика нашего века! — Она смотрела на него расширенными от восхищения глазами.
Дэнни почувствовал, что краснеет. Хорошо, что Лили повернулась к дисплею и ничего не заметила. Он смотрел, как порхают по клавишам ее длинные изящные пальчики.
Вдруг она вскинула голову:
— Что-нибудь не так?
— Все так, — улыбнулся Дэнни. — Просто я вспомнил Роберта Браунинга: «Господь в небесах — на земле все спокойно…»
* * *
— А я говорю — ты поедешь! — кричал Стоунхэм. — Шофер заедет за тобой сюда, в отель, а ты к этому времени изволь быть готова!
Спор продолжался уже полчаса и был, как всегда, вызван тем, что Стефани наотрез отказалась ехать на очередной прием к психиатру. Все это повторялось далеко не в первый раз.
— Но, папа, пойми, я не хочу ехать! Мне незачем туда ехать! Ну, па-а-а-па! Они хотят только запереть меня в сумасшедшем доме! Ну, дай ты мне, ради Бога, жить, как я хочу!
— Чтоб я больше не слышал про Индию. Я знаю, что пойдет тебе на пользу.
— Всю жизнь меня смотрят психиатры, — голос Стефани истерически зазвенел. — В скольких клиниках я перебывала?! И все равно никто не смог сделать из меня то, что тебе надо.
Стоунхэм пошел к выходу и в дверях сказал:
— Хватит, мне надоело. Боже, как ты похожа на свою мать!
— Вспомни, что с ней случилось.
Стоунхэм со свистом втянул воздух сквозь сжатые зубы и с презрительной жалостью оглянулся на Стефани.
— Папа, папа, — заплакала она. — Почему ты не можешь принимать меня такой, какая есть. Я же взрослая женщина…
— Это тебе кажется: ты — ребенок, который пропадет без поддержки и помощи.
Стефани подбежала к нему, вцепилась в его руку, пытаясь остановить.
— Я не хочу, не хочу! — в отчаянии выкрикивала она. — У меня есть семья, есть дочь и муж!.. Дэнни поможет мне!
Легкая усмешка искривила губы Стоунхэма:
— Милая Стефани, ты совсем оторвалась от действительности. У тебя нет мужа. И нет дочери, — он высвободился и шагнул к двери. Стефани бессильно опустилась на пол. — Днем мы с Патрицией улетаем на Лонг-Айленд, а ты останешься здесь до тех пор, пока не придешь… пока тебя не приведут в нормальное состояние.
Дверь захлопнулась.
НЬЮ-ЙОРК.
Дэнни с телефонной трубкой возле уха расхаживал по своему номеру в «Уолдорф-Астории», время от времени поглядывая вниз, на Парк-авеню, где у машины ждал его Слим.
Они опаздывали на обед с художником, но Дэнни решил во что бы то ни стало дозвониться до колледжа в Вирджинии, где училась Патриция. Трубку не брали. Наконец кто-то ответил, что мисс Стоунхэм на рождественские каникулы уехала кататься на лыжах в Гстаад. Дэнни был разочарован — он надеялся поговорить с дочкой так же тепло, как накануне ее отъезда, и, может быть, даже пригласить ее провести с ним уик-энд.
Когда он появился наконец в подъезде отеля, Слим с укоризненной многозначительностью взглянул на часы, но Дэнни молча забрался в лимузин, на заднее сиденье. Водитель, привыкший катать по городу деловых людей, положил рядом с ним свежий номер «Уолл-стрит джорнэл».
Художник должен был заранее побывать на бирже и получить разрешение на съемку в воскресенье, когда операции не производятся. Теперь им со Слимом предстояло договориться окончательно и выбрать «натуру». Поглядывая через тонированное стекло, Дэнни представлял, как готические шпили зальцбургских соборов превратятся в небоскребы Международного торгового центра…
— Понимаешь, Слим, это будет ключевой образ… Эй, я к вам обращаюсь, сэр! — он толкнул его локтем в бок.
Но Слим не отвечал, уставясь на заголовок газетной статьи на первой странице. Дэнни проследил его взгляд и прочел:
СТОУНХЭМ СКУПАЕТ АКЦИИ «ЭЙС-ФИЛМЗ».
НОВЫЙ ВЛАДЕЛЕЦ КИНОСТУДИИ?
Дэнни вырвал у Слима газету и стал читать. В сообщении говорилось, что Д. Л. Стоунхэм начал скупать акции киноконцерна, отчего они поднялись на двенадцать пунктов. Это явно свидетельствовало о его намерении в недалеком будущем приобрести студию.
Дэнни прямо из машины позвонил Милту в Лос-Анджелес.
— Не знаю, старина, не знаю, говорят тебе, я еще не читал.
— Но ты понимаешь, черт возьми, что это будет означать для меня?
— Дэнни, не волнуйся, остынь! Может быть, это всего лишь слухи… Дай мне поговорить с Ганном. Не думаю, что он будет сидеть сложа руки.
— Всему своя цена.
— Но, Дэнни, киностудия все равно будет выпускать фильмы, а не танки.
— Милт, Стоунхэм хочет купить «ЭЙС-ФИЛМЗ», чтобы раздавить меня.
— Да перестань, Дэнни! Это он мог бы сделать с меньшими затратами. Необязательно тратить полмиллиарда долларов.
— Ты не знаешь этого человека.
— Ладно-ладно, в любом случае у тебя контракт.
Пока завтракали, Дэнни едва смог выдавить из себя две мало-мальски связных фразы, и все разговоры с художником вел Слим.
На обратном пути он обнял его за плечи.
— Босс, не переживай так, уладится.
— Спасибо, Слим. Понимаешь, я двадцать лет думал об этом фильме, искал к нему подходы. Теперь, когда каждый кадр у меня перед глазами и даже деньги отпущены, вмешивается эта сволочь, мой тесть.
Слим утешающе хлопал его по спине, приговаривая:
— Босс, раньше смерти не умирай.
Дэнни прошел по длинному коридору «Уолдорф-Астории», открыл дверь своего номера и замер на пороге.
На диване сидел плотный человек в клетчатом костюме.
— Что вы делаете в моем номере?
— Отель принадлежит мистеру Стоунхэму. — Здоровяк поднялся, вытащил из внутреннего кармана несколько листков. — Мне поручено передать вам кое-что.
— Передавайте и убирайтесь вон!
— В том случае, если вы подпишете это, мистер Стоунхэм не будет предпринимать шаги по приобретению «ЭЙС-ФИЛМЗ».
— Скажите мистеру Стоунхэму, что я, в свою очередь, предлагаю ему пойти к…!
— Хорошо, — клетчатый сложил бумаги, аккуратно спрятал их в карман и, слегка задев стоящего у него на дороге Дэнни, вышел из номера.
* * *
В эту ночь он не мог заснуть, задыхаясь от ненависти к Джи-Эл, от сознания своего бессилия, от горького одиночества. Ему надо было с кем-то поговорить. Он снял трубку.
Когда раздался голос Любы, он, не сразу справившись с волнением, произнес наконец:
— Это я. — Она молчала, и Дэнни показалось, что трубка сейчас будет брошена. — Алло! Ты здесь?
— Да.
— Люба, прости, что делаю это с таким опозданием, но…
— Что ты делаешь с опозданием?
— Я… я приношу тебе свои извинения за тот случай…
— Забудем об этом.
Возникло неловкое молчание.
— Я скучаю по тебе, Люба, — вдруг прорвало его.
— Я тоже, хоть и понимаю, что зря.
Он опять на миг лишился дара речи.
— Знаешь, я вот о чем подумал… Я сейчас на несколько дней в Нью-Йорке…
— Рукой подать.
— Три часа лету на «конкорде».
Снова повисла пауза.
— Прилети ко мне, Дэнни. Я хочу видеть тебя.
— Но я смогу выбраться не раньше уик-энда.
— Но уж и не позже.
ЛОНДОН.
Люба на самом деле обрадовалась ему. Она развесила его вещи, достала из чемодана пижаму и умывальные принадлежности.
— А где Магда?
— Магда была одной ногой на том свете. Еле выкарабкалась.
— Что ты говоришь?..
— Но сейчас ей гораздо лучше. Она в Уэймаусе, с нашими друзьями.
— Жаль, что мы не увидимся.
— Она тоже будет жалеть… В Португалии она сильно увлеклась тобой.
— Неужели? — Дэнни всматривался в ее лицо, но оно было непроницаемо.
— Ну, умойся с дороги, я приготовлю тебе поесть. Я, конечно, не такая искусница, как Магда, но все же…
— Прекрасно. Помочь тебе на кухне?
— Я очень надеюсь, что ты мне поможешь в спальне, — засмеялась она. — Давай, Дэнни, освежись и налей себе чего-нибудь.
Дэнни оглядывался по сторонам — в прошлый раз он ничего не успел рассмотреть, да и было темно. Ему нравилось здесь, в этих маленьких опрятных комнатках с геранями на окнах. На столе стояли фотографии Любы и Магды — одна старалась выглядеть старше своих лет, другая — моложе, но обе были очень хороши. Должно быть, в Кракове они пользовались большим успехом. Он наполнил свой стакан и прилег на ковер.
Люба внесла две зажженные свечи, поставила их на стол, а верхний свет выключила.
— Я рада, что ты здесь, Дэнни.
— И я рад. — Он растянулся на ковре, поставив стакан на пол. — Ну, давай сказку.
Люба расхохоталась так, что на глазах у нее выступили слезы.
— Лететь за три тысячи миль, чтобы послушать сказку?
— Ты мне зубы не заговаривай. Я жду сказку. Или быль.
Люба вытерла глаза и покачала головой:
— Ты совсем не изменился.
На кухне загудел таймер духовки.
— Что ж, тебя спас петушиный крик, но история за тобой.
Пока она возилась на кухне, Дэнни продолжал осматривать комнату. В углу он заметал несколько холстов, повернутых к стене. Он вытащил один и не смог удержаться от восклицания.
Люба высунулась из кухни.
— Боже мой, Португалия! — он глядел на картину: два силуэта — мужской и женский, позади — темно-красное небо в блестках бесчисленных звезд, отражающихся в морских волнах. Дэнни рассмеялся.
— Что тут смешного? — обиделась Люба.
— Да нет, это не смешно, это потрясающе, Люба! Ведь это же мы с тобой! Но где же комета?
— Поставь, пожалуйста, на место, — она вернулась на кухню. Дэнни видел из комнаты, как она, стоя у стола, принялась нарезать хлеб.
— Это очень здорово, — сказал он, подойдя. — Ты-то хоть понимаешь, какой у тебя талант?!
Люба не привыкла к похвалам, тем более что никому, кроме матери, не показывала свои работы. Она растерянно стояла посреди кухни с ножом в руке и не знала, что сказать. Дэнни осторожно взял ее за подбородок и поднял ей голову. Она залилась краской.
— Люба, на моей памяти ты первый раз краснеешь, — воскликнул он в изумлении.
— Просто их никто пока не видел…
— Я потрясен: ты, можешь, не моргнув глазом, разгуливать голой перед кем угодно, а стоит похвалить твои картины — краснеешь.
— Ты не понимаешь… Это — очень личное, — она отвернулась. — Иди в комнату, ты мне мешаешь.
Дэнни, вернувшись в гостиную, принялся вытаскивать и расставлять вдоль стен холсты. Они восхищали его все больше и больше — в каждом чувствовался яркий и необычный талант. Вдруг он замер, глядя на скачущего в высокой траве серого в яблоках жеребца с человеческой головой.
Вошла Люба, неся две тарелки супа.
— Дэнни, я прошу тебя, оставь это. Давай поедим.
— Но это же я! Ты сделала из меня сатира? Или кентавра?
— Я не знаю, кто это, — она избегала его взгляда, делая вид, что раскладывает салфетки.
— В греческой мифологии — это нечто вроде божества. Половина тела у него — человеческая, половина — звериная. Это символ сексуальной необузданности.
— Я об этом не думала. Ешь — остынет.
Дэнни поднес ко рту ложку, не сводя глаз с полотна.
— Знаешь, кого он мне напоминает? У нас на ферме был такой конь. И я до сих пор помню, как он покрывал кобылу… Я тогда в первый раз увидел это и даже не сразу понял, что происходит. Мы с сестрой смотрели как завороженные, покуда мать не… — он вдруг замолчал.
— Ну, продолжай! Что с тобой?
— Нет, я что-то разболтался — суп стынет.
— А где это было?
— Что было?
— Ну, где была ваша ферма?
— Э-э… в Сиракузах.
— Большая?
— Нет, не очень.
— А лошадей держали много?
— Да что ты меня допрашиваешь?! Дай поесть.
Но есть ему не хотелось, и через минуту он отложил ложку. Он опять зашел слишком далеко. И как это каждый раз удается ей выведывать у него самое сокровенное?
Любу эта быстрая смена настроений расстроила. Что-то его явно угнетало, и суп ему не понравился. Она из кожи вон вылезет, но узнает, что с ним.
* * *
Сквозь сон Дэнни услышал звонок в дверь, открыл глаза и увидел рядом с собой Любу. Поджав ноги по-турецки, она в чем мать родила сидела на кровати и пила кофе.
Звонок повторился.
— Кто это?
Люба сделала еще глоток.
— Рик.
— Какой еще Рик?
— Мальчик из газеты, помнишь — я тебе о нем говорила. Сегодня воскресенье, он пришел за абонементной платой.
Звонок стал непрерывным.
— Какой настойчивый юноша, — сказал Дэнни.
— Да, это есть. Лучше я его впущу.
Люба, даже не подумав надеть валявшийся на полу халат, пошла к дверям. Дэнни слышал, как она спросила в «интерком»: «Ты, Рик? Заходи». И щелчок.
Он тоже сел в постели и глотнул кофе. Может быть, надо одеться? Или хотя бы натянуть пижаму? Он прислушивался к доносившемуся из передней разговору и чувствовал себя крайне неловко.
— Рик, — весело говорила Люба, — как хорошо, что ты пришел.
Слов Рика он не разобрал.
— Ты меня разбудил. Я прямо из постели, видишь — встречаю тебя в чем была, даже халат не успела надеть. Хочешь кофе?
— Не, спасибо, — ответил высокий юношеский голос с простонародным выговором.
«До чего же глупо, — подумал Дэнни, — сижу голый и подслушиваю». Впрочем, голоса смолкли. Потом раздался горловой смешок Любы и ее голос: «У меня в гостях мистер Деннисон».
— Чего?
— Ты же хотел с ним познакомиться. Давай заходи.
— Не…
В дверях спальни появилась Люба, ведя за руку высокого тонкого подростка. Дэнни не поверил своим глазам — он тоже был совершенно голый. «Боже, — подумал он, — откуда у этой женщины такая власть над людьми?»
— Дэнни, познакомься, это Рик. Он мечтает стать актером. Как ты считаешь, у него есть данные? — Люба говорила таким тоном, словно все трое были одеты и беседа происходила на званом обеде.
— Привет, Рик, — сказал Дэнни, стараясь вести себя непринужденно.
— Здрасьте, мистер Деннисон, — пробормотал мальчик, стараясь прикрыть свою наготу.
— Он поддерживает форму, бегая по подписчикам и выбивая из них деньги, — продолжала Люба. — Хорошо сложен, правда?
Дэнни открыл рот, но ничего не сказал, а с губ Рика сорвалось что-то нечленораздельное…
А ведь он еще маленький, он подрастет… — она двусмысленно улыбнулась и кончиком языка провела по губам. — Мы с ним большие приятели, правда, Рик?
Он выдавил из себя что-то похожее на «да», а она обернулась к Дэнни:
— Пожалуйста, Дэнни, помоги ему. — И снова повернулась к Рику. — Он очень милый и мне нравится.
Воцарилось молчание.
— А знаешь, что ему нравится? — она взяла с ночного столика ампулу с амилнитратом, мгновенно вскрыв, смочила им вату и сунула ее под нос Рику. Тот глубоко вдохнул. — Вот это. Мне тоже. — Она потянула мальчика на кровать, и он оказался между ними. — А ты не хочешь попробовать? — Люба протянула ампулу Дэнни.
Он почувствовал, как покалывающая, словно иголочками, теплая волна стала разливаться от головы по всему телу. Рик лежал рядом, глубоко дыша, напряженный член торчал вертикально.
— Красиво, правда? — прошептала Люба, нежно дотрагиваясь до него.
Потом она взяла руку Дэнни, вложила в нее твердый, подрагивающий член мальчика, и прикосновение это было неожиданно приятным. В затуманенном сознании мелькнуло ощущение, будто он ласкает себя самого.
— Я знаю, Рик, чего ты хочешь, — с почти материнской интонацией сказала Люба и придвинулась к мальчику так, что сосок ее груди оказался у него во рту. Она достала вторую ампулу. Дэнни глядел, как губы Рика впиваются в ее грудь.
— Хорошенький, да? — Дэнни и Люба вдохнули одновременно, ее язык скользнул между его губ, а потом она мягко потянула его голову вниз, к упругому юношескому члену Рика, и он оказался во рту Дэнни. Рик тихо простонал. «Что я делаю?» — подумал Дэнни, но не остановился. Люба поднесла ему под нос ампулу, он снова вдохнул, испытав необычайное возбуждение, и, встретив взгляд темных глаз, сказал:
— Я хочу видеть… как ты… с ним.
— Да… — она перевернула Рика, потянула его на себя, одновременно обхватив губами член Дэнни.
Точно электрический разряд пробил все три соединенных тела. Дэнни, откинувшись к спинке кровати, смотрел, как ритмично двигаются округлые ягодицы Рика между раскинутых ног Любы.
Когда все было кончено, прозвучал ее негромкий удовлетворенный голосок:
— Ри-и-ик, ты опоздаешь и не застанешь своих подписчиков…
Он молча поднялся с кровати и пошел в другую комнату. Вслед ему она так же разнежено произнесла:
— А я тебе заплачу на следующей неделе.
Потом стукнула дверь.
Люба с обожанием смотрела на Дэнни. Он лежал неподвижно, закрыв глаза сгибом локтя.
— О Боже, что я сделал?
— О чем ты? — Люба поцеловала его и стала перебирать его волосы.
— Я чувствую себя педерастом.
— Ну-ка, ну-ка, расскажи, это интересно, — рассмеялась она.
Но Дэнни замолчал.
Она снова расхохоталась:
— Пойду сварю кофе, — и вышла из комнаты.
Дэнни спрыгнул с кровати и принялся лихорадочно запихивать свои вещи в чемодан.
— Вот, — сказала Люба, — вот это кофе — горячий и крепкий, — и осеклась. — Что это ты делаешь?
— Уезжаю, — пряча глаза, ответил он и стал одеваться.
— А что случилось?
Он не отвечал.
— Дэнни, ты что… из-за этого мальчика?
Он молчал.
— Но я думала, тебе хотелось новых, непривычных ощущений. Выпей-ка лучше кофе.
Он не брал чашку.
— Дэнни, — с улыбкой произнесла она. — От одного отсоса еще никто не становился гомиком.
Он с силой ударил ее по лицу, так что чашка полетела в дальний угол комнаты. Люба взглянула на него, словно не узнавая или не веря тому, что это он. Дэнни, схватив чемодан, почти выбежал из комнаты.
Ни одного такси, как назло. Он топтался на тротуаре, мечтая как можно скорее убраться подальше от этого дома. Тысячу раз прав был Милт — ничего, кроме неприятностей, от шлюхи не жди! Но как она уверенно разыграла всю сцену и как послушно он исполнил предписанную ему роль! Вот стыд-то! Эта тварь действительно может сделать с ним все, что пожелает…
Постепенно его гнев на Любу сменился глубоким отвращением к себе. Как он мог пасть так низко?
Ему вспомнилось: отец когда-то говорил маме, что секс, важная часть человеческой жизни. Но не до такой же степени!
Он никогда прежде не то что не делал, но даже не думал о таком, и больше всего его бесило то, что он испытывал вожделение к этому мальчишке. Может быть, он и впрямь извращенец, и это только сейчас проявилось, вышло на поверхность?
Он вдруг увидел на крыше хлева аиста на одной ноге. Отец сказал ему: «Аист улетит, когда ты станешь мужчиной». Можно не сомневаться: аист до сих пор еще там.
Глава XV
1987.
ЛОС-АНДЖЕЛЕС.
Дэнни с сумкой через плечо вышел из терминала аэропорта и удивился — у присланного за ним студийного лимузина стоял Милт Шульц.
— Я хотел тебя перехватить, но ты уже умотал в Вирджинию повидаться с Пат.
— Да, но я ее не застал, — Дэнни даже лучшему другу не мог сознаться, что летал в Лондон. — А здесь ты что делаешь?
— Я привез тебе хорошие новости.
— Неужели?
— Да. Я говорил с Артом Ганном. Ты можешь быть совершенно спокоен: он на страже — Стоунхэму студии не видать, как своих ушей.
— Брось, Милт, меня утешать не надо. Я не верю.
— Ну, Дэнни, ты, в общем, прав, я немного преувеличил. Но, допустим, случилось самое скверное. Допустим. Вообразим, что студия принадлежит Стоунхэму. Но у тебя контракт. От него не отмахнешься. Ну, а когда фильм будет готов…
— Он откажется печатать тираж и прокатывать его, — перебил Дэнни.
— Да никогда в жизни! Иначе придется объяснять правлению, почему на ветер выброшены миллионы долларов, и я ему не завидую…
— Милт, ты бы перестал, а? Я же не ребенок. Если Джи-Эл выложил полмиллиарда, чтобы раздавить меня, то еще пять миллионов, чтобы загубить ленту, для него — тьфу!
Милт ответил не сразу. Некоторое время он сосредоточенно смотрел в окно, словно разглядывал мчащиеся машины.
— Ладно, Дэнни, поживем — увидим. Пока это еще не случилось, и, значит, у тебя есть время доснять фильм. Такие сделки за один вечер не совершаются. И есть еще тысячи причин для того, чтобы она не состоялась вовсе: акционеры могут встать на дыбы, уполномоченные…
— Милт, все у него состоится. Плохо мое дело.
— Ты просто устал, Дэнни, и потому тебе мерещится невесть что. Вот отдохнешь, мозги проветрятся — тогда и вернемся к этому разговору. По такому случаю я тебя приглашаю в «Спаго». Идет?
РИМ, ИТАЛИЯ.
Плотный человек в клетчатом костюме нетерпеливо ерзал на железном стульчике.
— Извините, мистер Маккрейчен, что заставил вас ждать, но пришлось порыться основательно, — сотрудник Красного Креста торопливо вошел в комнату, неся в руках тонкую папку. — Пришлось-таки покопаться.
— И вижу, кое-что вы откопали.
— Да трудно сказать — материал очень скудный. Есть только один документ об освобождении узников лагеря «Сан-Сабба». И выжило лишь шестеро детей. Да, как ни прискорбно, всего шестеро — четыре девочки, двое мальчиков, но среди них нет ни одного по имени Даниэль, Даниил, Дэниел или что-то подобное.
— Это точно?
— Точно. Конечно, списки могут быть неполными, но располагаем мы сведениями о Давиде Соломоне, семи лет, и Мойше Ноймане, двенадцати лет.
— И все?
— Все, к сожалению.
БЕВЕРЛИ ХИЛЛЗ.
Дэнни по пологому пандусу въехал на стоянку у ресторана «Спаго». Двое суток полного ничегонеделанья — он ловил рыбу, бесцельно бродил по дому, много спал — пошли ему на пользу: в будущее он смотрел теперь чуть более оптимистично. Милт был прав: его еще не выгнали. Еще есть время сделать «Человека», и если фильм получится таким, каким задумывался, никакая сила не помешает пустить его в прокат.
Въезжая на стоянку, он заметил там толпу фанатичных поклонников кинозвезд, поджидающих и фотографирующих своих кумиров в самых неожиданных местах.
Эти люди никогда не пользовались его симпатиями. Как можно тратить целые годы жизни ради мимолетной, мгновенной встречи с кинозвездой? И откуда они берут деньги, чтобы покупать книги и картины, которые подсовывают своим кумирам в надежде получить автограф? Он прекрасно помнил, как однажды к Брюсу Райану протиснулся один такой поклонник и протянул ему его собственную огромную цветную фотографию. Дэнни тогда не удержался и спросил:
— Где вы ее достали?
— Купил за шесть долларов, — ответил тот.
Шесть долларов за одну фотографию! А ведь у них пачки таких снимков! Как они позволяют себе тратить на эту чепуху такие деньги, и почему собственноручно поставленная звездой закорючка так много значит для них?
Владелец «Спаго», австриец Вольфганг Пук, провел его к дальнему столику у широкого окна, выходившему на Сансет-стрит.
— Мистер Шульц позвонил и предупредил, что немного опоздает. Он просил подать вам пиццу по-еврейски, — сказал Пук, и официант в то же мгновение поставил перед Дэнни восхитительное сооружение из теста, сливочного сыра и икры.
Дэнни заказал водки, чтобы проложить пицце дорогу, и стал поджидать Милта.
Он любил бывать в «Спаго». Здесь шумно, но зато поразительно вкусно готовят, и к тому же все это происходит на глазах клиента. Неудивительно, что народ валом валит. Он отпил глоток. Вон старлетка прижалась грудью к продюсеру в надежде, что тот оценит и одарит ролью, вон знаменитый актер — воплощение силы и мужественности — украдкой запустил руку под стол, нежничая со своим любовником, вон увядающая звезда курит сигарету в серебряном мундштуке и пытается выглядеть по-прежнему блистательной. А вон туристы ждут, когда же для них освободится столик, а мимо проходят новые и новые знаменитости.
В центре зала оживленно спорили два студийных босса, в то время как их жены скучающе ковыряли вилками поданные им блюда. Оба в прошлом агенты, не сняли своими руками ни единого кадра, однако, теперь они решают, как и какое кино надо снимать. Если они будут слишком часто ошибаться, их снимут, но без работы они будут недолго: в среде голливудских продюсеров провал часто становится ступенькой к успеху.
Неподалеку сидел Гарри Мосс, менеджер, обвиняемый в слишком вольном обращении с деньгами своих клиентов. Его ждет скамья подсудимых, а затем суд, но он не льет слезы в суп, а с наслаждением орудует ложкой.
Дэнни отпил еще водки. Ожидание не угнетало его — наоборот, можно было расслабиться и понаблюдать.
Наискосок он увидел миллиардера Джонатана Шилдса с гитлеровскими усиками под носом — гости улыбались и внимали ему в надежде, что перепадет что-нибудь посущественней едких шуточек. Держи карман шире.
Сквозь ресторанный шум пробились громкие аплодисменты и приветственные возгласы. Раскланиваясь, помахивая рукой, вошел Ларри Прессмен с женой. К нему со всех сторон устремлялись люди, желавшие пожать ему руку. Дэнни был в недоумении. Ларри, президент «Уорлд-Уайд Пикчерз», недавно был уличен в том, что подделывал подписи режиссеров и получал с их счетов деньги, однако студия желала, чтобы он по-прежнему возглавлял ее. Нашли виднейшего психиатра, который под присягой показал на суде, что Ларри страдает временными помрачениями рассудка. Милт рассказывал, что Ларри якобы возражал против этого, но ему сказали: «Либо ты псих, и тогда остаешься руководить студией, либо вор — и тогда садишься за решетку».
«Вот обо всем этом лицемерии, бесчестии, подлости и будет мой фильм, — думал Дэнни. — Все это существует не только на Уолл-стрит, это — повсюду, и „Человек“ покажет это».
Появился запыхавшийся Милт с многословными извинениями и нарушил ход его мыслей.
— Я заказал тебе водку и разделанного краба, — сказал Дэнни, глядя, как Милт уписывает последний кусок пиццы. Сегодня он был непохож на себя — аккуратная бородка торчала дыбом, в серых глазах застыла непривычная печаль. — Эй, что это с тобой? Вид твой ужасен и вызывает слезы.
— Сара выставила меня из дому.
— Что?
— Да-да, два дня назад, когда я приехал в аэропорт встретить тебя, помнишь?
— Из-за Мэрилин?
— Да. Меня разоблачили.
— Ага, значит, ты окончательно переберешься к Мэрилин?
Милт, закрыв глаза, покачал головой:
— С Мэрилин все кончено.
— Милт! Какое множество интереснейших событий происходит с тобой!
— Дэнни, не поверишь… — тут официант принес краба, и Милт на минуту замолчал, отламывая у него клешню. — Не поверишь, старина, я ничего не учуял! Она дала левака, судя по всему, сразу после премьеры… Фильм же имеет большой успех.
— Да, я слышал.
— Ну и тут она перестала мне звонить, не приходила, когда было условлено… — Милт рассеянно обсасывал клешню. — А в тот вечер, когда Сара выгнала меня, я был просто в отчаянии. Куда было идти? К ней, конечно. А ее дома нет. Я три часа ждал под окнами! Три часа! Наконец является. Но не одна?! С Джоном Вашингтоном!
— Это с чернокожим актером, что ли?
— Ну да! С черножопым!
— Не будь расистом, Милт.
— Я вовсе не расист, просто он — черножопый. Она увидела меня и вылезла из машины, а он, заметь себе, остался. «Что тебе нужно, Милт?» Хорошенькое дело, а? «Ты мне нужна, Мэрилин! Ради тебя я бросил жену!» Она смотрит на меня и говорит: «Милт, между нами все кончено». — Он поник головой. — Я не хотел, чтобы она видела мои слезы, Дэнни, и я не знал, что мне делать. Звоню Саре, а она сообщает: «Дети не будут меня уважать, если я приму тебя. Они уже взрослые, они все понимают».
Дэнни поглядел на него — тот был бледен и расстроен, но не забывал прикладываться к стакану и уничтожать краба.
— Что мне делать? — спросил он с набитым ртом.
Дэнни едва сумел удержаться от улыбки.
— Помни, Милт, все зависит от точки зрения. Правильно взглянуть на проблему — наполовину решить ее. Не звони больше Саре. Напиши ей письмо.
Милт перестал жевать.
— Что-о?
— Напиши, что вел себя как последний дурак, что места себе не находишь и навсегда прервал отношения с…
— Да она знает, что это Мэрилин меня бросила!
— Тогда напиши, что убедился теперь: тебе нужна она одна, но убедился в этом слишком поздно.
— То есть как?
— Тебе никогда больше не вернуть те чудесные мгновения, которые вы когда-то вместе пережили в Бронксе. Ты нанес ей рану и должен понимать, что после этого она не желает тебя ни в каком качестве. — Милт попытался возразить. — Подожди, дай мне договорить. Ты не смеешь взглянуть ей в глаза после всего того, что устраивал. Напиши, что ставя под угрозу ее любовь, ты совершал безумные поступки. И что посылаешь ей письмо потому, что не находишь в себе сил обратиться к ней лично, — тебе слишком стыдно. Письмо пошли по почте, а сам дней пять не звони ей.
— Пять? — слабым голосом спросил Милт.
— Да.
— Ладно, Дэнни. Надеюсь, сработает.
— Должно сработать, — сказал Дэнни, гордясь, что дал такой дельный совет.
— Спасибо… — Милт поперхнулся и закашлялся.
— Что с тобой?
— Там, там…
— Что?
— Он и Мэрилин.
Дэнни обернулся и увидел чернокожего красавца, придвигавшего Мэрилин стул. В белом шелковом платье, облегавшем ее роскошное тело, как перчатка, она выглядела очень изысканно. Оцепеневший Милт, разинув рот, смотрел на смеющуюся пару.
— Идем отсюда, — Дэнни бросил на стол несколько купюр, почти силой поднял Милта и повлек его к выходу. — Скажи спасибо, что все уже кончено.
— Да… — без особой убежденности ответил агент.
— Кончилось, Милт, кончилось! Понял?
— Понял.
— Это могло тянуться еще черт знает сколько.
Милт вздохнул.
— Может, ты и прав.
— Ну и хватит об этом. — Дэнни потряс его за плечи. — Расскажи лучше анекдот.
— Да я что-то не в настроении…
— Милт, ну, я тебя прошу… ну хоть коротенький…
— Ладно. Какая разница между первым браком и вторым? В первом браке оргазм настоящий, а брильянты поддельные, а во втором — наоборот, — он издал свой кудахтающий смешок.
— Ну, раз чувство юмора у тебя осталось, я за тебя спокоен, — сказал Дэнни, подводя его к своему автомобилю. — И где же ты теперь обитаешь?
— В отеле, — ответил Милт торжественно, как бойскаут, в первый раз отправляющийся в поход.
— Поедем ко мне.
— Нет, спасибо, я снял «пентхаус» в «Беверли Хиллз».
* * *
Дэнни ехал домой, очень довольный тем, что сумел как-то взбодрить Милта. Как это он раньше не понимал, что помогая другим, помогаешь и себе, отвлекаешься, по крайней мере, от тягостных мыслей. Может быть, это и имела в виду Стефани, когда вызывалась помочь ему с «Человеком»? Он так и не ответил на ее записку:
«Белые розы! Только ты мог прислать их! Позвони. Мне так одиноко».
Бедная Стефани. Ему бы хотелось помочь ей. Может быть, насчет Индии он был неправ. Может быть, они и впрямь могут остаться друзьями. Он вдруг вспомнил ее грудь. Как хорошо им было вместе в первые годы брака!
Он позвонил в отель и попросил номер миссис Деннисон. Ждать пришлось очень долго, в трубке звучал какой-то идиотский мотивчик. Наверно, ее нет.
— Никто не отвечает, сэр.
— Но она еще живет у вас?
— Минуту, сэр, я наведу справки…
Опять пошлая музыка. Наконец ему ответили, что миссис Деннисон не выписывалась, и Дэнни сказал, что хочет оставить сообщение для нее.
— Минуту, сэр, я переключу вас на «мессидж-сервис».
Когда в третий раз раздалась все та же мелодия, он не выдержал и бросил трубку.
* * *
Стефани слышала звонки, подняла голову со стола, на котором лежала щекой, задела пустую бутылку из-под виски. С трудом встала на ноги, покачнулась, чуть не упала. «Это в дверь», — мелькнуло в затуманенном мозгу. Она запахнула халат, поправила растрепанные волосы.
За дверью никого не оказалось, а звон продолжался. «А-а, так это телефон!» Но когда она добралась до него, звонки прекратились. Голова кружилась, все плыло перед глазами. Она оперлась на ночной столик, он накренился и перевернулся. Лампа, телефон, фотографии в рамочках, капсулы с таблетками — все полетело на пол.
— Ой, что я наделала… — она подобрала первое, что попалось под руку — маленькую фотографию.
Сквозь трещины в стекле ей улыбались Патриция, Дэнни и она сама. Это на пляже в Малибу. Она уселась на полу, вглядываясь в снимок, бормоча песенку, которую напевал когда-то Дэнни их дочке.
ЛОНДОН.
Люба вскрывала банку консервированного тунца — она ее украла сегодня в супермаркете. Это была уже не первая кража, но ничего другого ей не оставалось. Кот, учуяв запах рыбы, подошел, нетерпеливо потерся о ее ноги. Она отдала ему вылизать пустую жестянку и принялась делать салат. В комнате зашевелилась Магда, заскулил, просясь наружу, пудель. От прописанных доктором транквилизаторов Магде стало лучше, но две недели ее пребывания в больнице съели все сбережения. И именно теперь, когда Люба так отчаянно нуждалась в деньгах, ей перестали звонить из «эскорт-сервиса» — слишком часто в прошлом она отказывалась.
Она даже скрепя сердце согласилась продать хозяйке, миссис Маккивер, понравившийся той морской пейзаж, а потом недоумевала, почему так долго упрямилась. Ничего особенного — она не продавала сокровенную тайну души, а просто-напросто делилась ею с другими. И ей нравилось получать деньги за работу, хотя хватало этого лишь на половину платы за квартиру. Ей льстили похвалы Маккивер: «Сестра пришла просто в восторг от вашей картины» или «Вчера у меня был водопроводчик — он тоже увлекается живописью, — так вот он сказал, что вы поразительно владеете кистью».
Кот вылизал жестянку досуха. Люба взяла его на руки, подошла к окну. На улице Рик разносил подписчикам воскресную газету. Он взглянул вверх, на ее окно, но она успела спрятаться за штору. Это Рик был виноват в том, что Дэнни ушел — ушел из ее жизни. Да нет, не виноват, и она не виновата: она была уверена, что Дэнни оценит новые впечатления. И ведь ему в самом деле понравилась любовь втроем. Почему же он так разозлился?
Она прикоснулась кончиками пальцев к щеке, которая, казалось, до сих пор горит от его оплеухи.
Рик долго еще стоял под ее окнами, а потом медленно побрел прочь. Люба ссадила кота на пол и пошла за газетой.
На первой странице была помещена фотография взорвавшегося самолета. Еще одна трагедия, никто не спасся. Что это — рок или просто не повезло? Она перевернула страницу, увидела снимок красивой женщины, и слова заголовка запрыгали у нее перед глазами: «САМОУБИЙСТВО МИССИС ДЕННИСОН». Горничная обнаружила Стефани в номере без признаков жизни, рядом валялась порожняя бутылка из-под виски и пустая капсула из-под снотворных таблеток.
Люба ринулась наверх звонить Дэнни. На четвертом гудке сработал автоответчик, и она чуть было не бросила трубку, не зная, что сказать. Но слова произнеслись будто сами собой:
— Дэнни, это я. Позвони мне.
БЕВЕРЛИ ХИЛЛЗ.
Дэнни рано поднялся в это воскресное утро, включил телефон. На автоответчике был зафиксирован один ночной звонок: он узнал голос Любы и сразу же щелкнул тумблером, почувствовав гордость, что не поддался искушению и выключил без малейших колебаний. Люба теперь не помешает ему. Потом надел теннисные туфли и пошел на корт.
Дэнни всегда перед началом работы старался быть в форме, готовя себя к съемкам, как спортсмен — к ответственным соревнованиям. И сейчас он не жалел себя, без устали отбивая мячи, которые посылал ему автомат.
— Дэнни! — окликнули его, и утирая пот со лба, он оглянулся.
К нему приближался Милт с утренней газетой в руках.
— Что слышно, старина? — улыбнулся ему Дэнни.
Милт, не ответив на улыбку, протянул газету:
— Наверно, это случилось в тот вечер, когда мы сидели в «Спаго».
Дэнни пробежал глазами короткое сообщение, опустился на землю и закрыл глаза. Потом хрипло проговорил:
— Как ты думаешь, где она сейчас?
— В морге, надо полагать.
* * *
— Моя фамилия Деннисон, — сказал он заспанному служителю. — Ищу свою жену, Стефани Деннисон.
— А-а, — сказал тот, — хотите опознать тело? — Он сверился с регистрационной книгой. — 2–48.
Он повел Дэнни и Милта по выложенному кафелем, пахнущему дезинфекцией коридору к железной двери. Открыл ее, и оттуда ударила струя ледяного воздуха. Потом распахнул секцию 2–48.
Она была пуста.
Служитель почесал в затылке.
— Сейчас проверим, — сказал он и стал листать бумаги. — Ага, вот! Покойную четыре часа назад по просьбе Д. Л. Стоунхэма отправили на Лонг-Айленд. Хоронить ее будут там.
Дэнни медленно побрел обратно.
Милт, догнав его, обнял за плечи:
— Не переживай так, ты сделал все, что мог… Стефани была человеком с надломом…
Он усадил его в машину, повез домой. Дэнни молчал. Какая жестокая насмешка судьбы: в ту самую минуту, когда он звонил Стефани, вожделея к ней, она лежала бездыханная на полу гостиничного номера. Она хотела помочь ему с «Человеком», хотела приготовить ему обед, хотела спать с ним.
— Если бы я не оттолкнул ее, она была бы жива сейчас? Как ты думаешь, Милт?
— Да нет, старина. Ей так на роду было написано. И тут никто ничего не может изменить.
— Зря я тогда так говорил с ней насчет Индии…
— Не мучай себя, Дэнни, ты ни в чем не виноват. И никто не виноват. Это судьба, понимаешь? Карты так легли.
— Но ведь ее все бросили, все — и я тоже.
— Ты делал для нее все, что было возможно.
— Не знаю, Милт, не уверен. В последний раз, когда мы виделись, она попросила меня сказать: «Я люблю тебя».
— А ты?
— А я молчал.
— Что тебе, трудно было выговорить эти три слова?
— Но я, наверно, не любил ее…
Милт вздохнул.
Из окна машины он видел, как бойко раскупают люди елки. Рождество в Лос-Анджелесе — как странно! Краснолицые Санта-Клаусы… сани, запряженные оленями… и ни одной снежинки на улицах. Он вспомнил, как они с Патрицией покупали елку, — она всегда выбирала самую большую, такую, что в доме не поместится. Стефани всегда готовила рождественский ужин, пекла свой особый пирог, украшала дом омелой.
Какая жестокая насмешка судьбы. Какое печальное рождество ждет Патрицию.
* * *
Его отчаянные попытки дозвониться на Лонг-Айленд ни к чему не привели. Голос дворецкого с британской отчетливостью сообщил, что мисс Патриция на отпевании миссис Деннисон и что допущены в церковь только члены семьи. Очевидно, его Джи-Эл таковым не считал. Дворецкий великодушно согласился передать Патриции, что звонил ее отец.
Он прождал несколько часов, и, наконец, вечером услышал в трубке ее истерический крик: «Папа, папа, что мне делать?!»
Он принялся было утешать ее, и в ту же минуту был дан отбой. Дэнни набрал номер, и голос с британским выговором сказал, что мисс Патриция к телефону подойти не может. Застонали короткие гудки. Дэнни немедленно позвонил снова — с тем же результатом. В отчаянии он мерил комнату шагами. Его дочь, его Патриция взывает о помощи, а он… Надо что-то делать!
Ближайшим рейсом он вылетел в Нью-Йорк, оттуда на вертолете добрался до Лонг-Айленда, и на такси подъехал к особняку Джи-Эл.
— Вот здесь начинаются его владения, — сказал водитель, взглянув на него в зеркало.
Дэнни зябко кутался в свой тонкий плащ, глядя на высокую каменную стену. Когда машина, буксуя в талом снегу, остановилась, он вылез. Такси, разбрасывая из-под колес жидкую грязь, умчалось, и он остался на этой тихой улочке один — ни автомобилей, ни прохожих.
Массивные железные ворота, украшенные яркими рождественскими гирляндами, закрывали дорогу к безупречно выметенному и вычищенному въезду. Даже снег, собранный на обочине в симметричные сугробы, казался хирургически стерильным.
Дэнни, чувствуя, что на него наведен объектив телекамеры, открыл дверку «интеркома», нажал кнопку, и в ту же минуту раздался приятный женский голос:
— Счастливого рождества, сэр, к вашим услугам.
— Я — Дэнни Деннисон. Хочу видеть свою дочь.
— Минутку, сэр, — прозвучало в ответ так же приветливо и весело.
Он стал ждать, притопывая ногами, замерзшими в легких башмаках.
Потом раздался грубой мужской голос:
— Сожалею, сэр, мисс Патриция никого не принимает, — и щелчок разъединения.
Дэнни надавил кнопку снова, и снова милый женский голос поздравил его с наступающим рождеством и осведомился, что ему угодно.
— Мне угодно повидаться с дочерью! — заревел он. — И я не уйду отсюда, пока не увижу ее!
Ответа не было.
Дэнни тщетно нажимал кнопку, потом бросил это занятие и по узкому чистому тротуару пошел вдоль стены, пока не заметил у заднего входа большой мусорный контейнер. Он придвинул его к стене, взобрался, примерился. Ухватился покрепче и тотчас ладонь прожгла острая боль. Подтягиваясь вверх, он увидел, что из глубокого разреза под окоченевшими пальцами хлещет кровь: в гребень стены были вмазаны острые осколки стекла. Дэнни выругался, стянул порез носовым платком, спрыгнул вниз, и по рыхлому глубокому снегу, промочив насквозь ноги и брюки до колен, через сад, где стояли деревянные статуи зверей и птиц, стал пробираться к дому.
Он услышал собачий лай: к нему мчались, бороздя снег, два крупных черных ротвейлера. Но прежде чем они успели наброситься на него, чей-то голос крикнул «Стоять!» — и псы остановились по грудь в снегу, негромко рыча и скаля длинные клыки. Появились двое охранников в форме и с пистолетами наготове.
— Тебе чего? — спросил тот, что был выше ростом.
— Моя фамилия Деннисон. Я хочу видеть свою дочь Патрицию.
Второй охранник вытащил рацию, что-то проговорил в нее, а что — Дэнни не разобрал из-за рычания собак, потом повернулся к нему:
— Шли бы вы отсюда, мистер Деннисон, пока мы полицию не вызвали.
— Вызывай, — ответил Дэнни. — Я имею законное право видеть свою дочь.
Охранники переглянулись, потом один из них снова произнес несколько слов в «уоки-токи», выслушал ответ и спрятал ее в чехол на поясе.
— Следуйте за нами, мистер Деннисон.
В дверях выросла уже знакомая ему плотная фигура в клетчатом костюме. Маккрейчен, вежливо посторонившись, пропустил его и повел в просторную, обставленную книжными шкафами гостиную, посреди которой, сверкая сотнями серебряных колокольчиков, стояла — макушкой под двадцатифутовый потолок — огромная елка. Маккрейчен указал на красное бархатное кресло, но Дэнни остался стоять. Руку дергало. Он взглянул на нее — кровь просочилась сквозь носовой платок и каплями стекала на бесценный персидский ковер. Дэнни сунул руку в карман. Из спрятанных в стене динамиков стереосистемы мягко и приглушенно звучала музыка.
В комнату вошла Патриция.
Дэнни поразило страдальчески-недоуменное выражение ее юного лица. Он хотел броситься к ней, обнять и расцеловать ее, сказать, как сильно он ее любит, но вместо этого словно прирос к полу.
— Патриция, это я, — с трудом шевеля непослушными губами, начал он. — Не знаю, что сказать… Прости меня…
Она отступила на шаг. Взгляд ее был полон все того же отчаяния. Она казалась выше ростом и тоньше, чем была, и он не узнавал в ней ту маленькую девочку, которая когда-то, заливаясь смехом, цеплялась за его штанину.
— Ты не узнаешь меня? Это же я, твой отец.
Она продолжала смотреть все так же.
Дэнни ждал. Она молчала. Тогда снова заговорил он:
— Милая, нас обоих постигло большое горе… Ужасный удар… Но надо жить, время рубцует любые раны. И потом, потом мы встретимся и обо всем поговорим, — он сам слышал, как просительно звучит его голос.
По щекам Патриции покатились слезы, она дико вскрикнула и забилась в истерических рыданиях. Дэнни бросился к дочери, но двое мужчин, словно выросшие из-под земли, заломили ему руки за спину так, что от острой боли он согнулся вдвое. Женщина в белом халате проворно увела Патрицию.
В комнату вошел Стоунхэм.
— Убирайтесь. Вы достаточно измучили Патрицию.
— Это моя дочь. Я имею право видеть ее.
— Никаких прав у вас нет, и больше вы никогда ее не увидите.
— Вы ее отняли у Стефани, теперь и у меня хотите отнять?!
По знаку Джи-Эл охранники отпустили Дэнни. Он взглянул в глаза Стоунхэма.
— Я же сказал, что уничтожу тебя. Придет время, и ты пожалеешь, что на свет родился, ты — жидовский ублюдок!
Дэнни похолодел.
— Да-да! Я знаю про тебя все! И про «Сан-Саббу», и про то, как тебя усыновили… Тебе повезло — тебя не сожгли в печи, как ты того заслуживаешь. — Губы Джи-Эл скривились в усмешке, все происходящее было мигом его торжества. — Ты думал, жидовская тварь, что сумел отвести всем глаза?! Не вышло! Теперь все узнают то, что ты так тщательно скрывал! Я об этом позабочусь!
Дэнни стоял, не в силах пошевелиться. Этот человек откопал то, что было похоронено на другом полушарии. Он глубоко вздохнул:
— Делай что хочешь, — внезапно охрипшим голосом произнес он. — Меня интересует только Патриция. — Голос его окреп, он двинулся на каменную фигуру тестя, взмахнул перед его лицом окровавленной ладонью. — Ты, что ли, сволочь, будешь заботиться о ней? У нее же нервный срыв, ее нужно показать врачам!
— Она получит все, что только можно купить за деньги.
— Но это еще далеко не все! Твои золотые браслеты и лошади не заменят ей мать. А Стефани убил ты!
— Замолчи! — толстые жилы вздулись на красной шее Стоунхэма.
— Ты разорил своего отца, ты уморил свою жену…
— Заткнись, я сказал!
— Ты — выродок! Неужели ты думаешь, я дам тебе сделать подобное с Патрицией — с моей дочерью, в жилах которой течет моя кровь — моя еврейская кровь?!
— Я убью тебя, если станешь у меня на дороге, — прошептал Стоунхэм.
— Придется, придется меня убить, — Дэнни подошел вплотную, навис над Джи-Эл. — Придется, потому что я не сдамся никогда!
— Вон отсюда! Убирайся вон! Во-о-он! — побагровев, завопил Стоунхэм.
Вбежавшие телохранители скрутили Дэнни. Стоунхэм тяжело отдувался. Последнее, что видел Дэнни, перед тем, как его выволокли из комнаты, — Стоунхэм, рухнув в громадное кожаное кресло, уставился в пол — туда, где ковер был испачкан кровью.
* * *
Когда в аэропорту Кеннеди он сел в «Боинг-747», ему казалось, что голова вот-вот лопнет. Внутри гудел тяжкий колокол, не заглушавший всхлипываний Патриции. Надо подумать, надо вырваться из мертвой хватки Стоунхэма.
«Жидовский ублюдок» — вот какими словами этот человек пробил огромную брешь в стене дома, которое он возводил столько лет и считал неприступной твердыней.
Как отнесется Патриция к этой тайне? А вдруг она скажет: «Я не хочу быть еврейкой». Никогда еще не испытывал Дэнни такого бессилия, такой беспомощности…
— Счастливого рождества, — сказала стюардесса.
Дэнни захотелось засмеяться — засмеяться до слез, которые спутают наконец мучительные мысли.
Глава XVI
1988.
ЛОНДОН.
Кот вспрыгнул на стол, потерся о руку Любы, но она мягко отодвинула его в сторону, и он, осторожно пройдя между пачками счетов, нашел наконец подходящий листок бумаги и улегся на него.
«Боже, — думала Люба, — ничего себе начинается новый год! И откуда взялась такая пропасть счетов?» Она получила от сестры миссис Маккивер сто фунтов за портрет ее собаки и двадцать пять — от водопроводчика за небольшой эскиз, но это все оказалось каплей в море. Она достала из-под брюха кота записку Дороти:
Сегодня вечером — встреча с рок-группой.
Она ненавидела эти встречи, но делать нечего. Слава Богу, что Дороти сменила гнев на милость. Она скомкала записку, швырнула ее в мусорное ведро, но не попала. Кот подхватил бумажный шарик и стал катать его.
Где же взять денег? Вечер с молоденьким рок-певцом не решит проблемы. Остается один выход — эта мысль давно уже засела у нее в мозгу. Так или иначе, терять ей нечего.
* * *
На следующий день, ничего не сказав Магде, она отправилась на вокзал Виктория и купила билет до Брайтона и обратно.
Под уныло моросящим зимним дождем гостиница «Гринфилдс Инн» казалась заброшенной и обшарпанной. Большой щит на газоне сообщал «ПРОДАЕТСЯ» и рекомендовал за более подробными сведениями обращаться в Королевский брайтонский банк. Люба огляделась по сторонам — на улице, как всегда в «мертвый сезон», не было ни души — и подошла к подъезду. Он был заперт. Тогда она пошарила в цветочном горшке перед входом, откуда до сих пор торчала ярко-красная пластиковая герань, выудила оттуда ключ.
Ей было неуютно и страшновато в холодном пустом доме, где так гулко раскатывалось эхо ее шагов. Но она знала — деньги должны быть где-то здесь. Больше полковнику спрятать их было негде. Она десятки раз думала об этом, мысленно обшаривая каждый уголок отеля, и пришла к выводу, что лучше места для тайника, чем в «цоколе», не найти. Да, они там! Она вспомнила тот день, когда полковник заставил ее перетаскивать мыло, салфетки, полотенца и прочую дребедень на чердак, и она впервые поняла, что у него не все дома. Дело было не в его ненормальности — просто он не хотел, чтобы она здесь появлялась. Но куда же он запрятал деньги?
У дверей его кабинета она замедлила шаги, заглянула в дверь, потом вошла. Сколько кошмарных воспоминаний связано с этим местом! Бюро было отперто и пусто, на вешалке аккуратно висел его кургузый белый пиджачок. Интересно, а в чем же его хоронили? Он бы, разумеется, хотел лечь в гроб в парадном мундире при всех орденах… Стоп! Вот оно! Ну, конечно!
Люба бросилась вверх по лестнице, представляя себе на бегу, о чем думала Магда, таща последний ящик мыла туда, на чердак, где лежал бездыханный полковник…
Уже смеркалось. Она зажгла свет и, поглядывая, не осталось ли на железных ступенях следов крови, стала взбираться на чердак. Добралась и окинула взглядом гору коробок мыла и туалетной бумаги… Сколько раз она пряталась здесь и рисовала, пока полковник разыскивал ее… Вот здесь, направо у стены стоял деревянный сундук, на который она забиралась. Она попыталась поднять тяжелую крышку — заперт!
Она слетела по ступеням вниз, на кухню, спугнув мышку, юркнувшую за плинтус. Достала из ящика деревянную колотушку, топорик для колки льда и побежала обратно. Она не сомневалась, что деньги — там, в сундуке. Вставила толстое лезвие в щель под крышкой и принялась бить по обуху молотком. Крышка подалась неожиданно легко, она откинула ее и увидела аккуратно сложенный полковничий парадный мундир и сверху — фуражку. Она вынула это из сундука. Под мундиром оказались сабля, африканская резная фигурка-талисман, каска, стек. Люба растерянно обшарила сундук. Пусто. Больше ничего. Но этого не может быть! Она уверена, что тайник где-то здесь. Нагнулась над сундуком, чтобы сложить в него доспехи полковника и вдруг замерла. Потом провела пальцами вдоль нижнего края и в самом углу нащупала едва заметную скобочку. Она потянула — и дно сундука выдвинулось, открывая потайной ящик. В нем лежала железная коробка. Люба торжествующе схватила ее. Коробка была заперта. Улыбаясь, Люба потянулась за топориком.
— Кто здесь? — раздался мужской голос.
Черт! Она стремительно задвинула второе дно, запихнула в сундук все, кроме мундира и коробки, захлопнула крышку.
— Кто здесь? — снова прозвучал голос.
Люба обвернула коробку мундиром, прижала его к груди и стала спускаться по крутым железным ступеням. На площадке, задрав голову, стоял полисмен.
— Боже мой, сержант Суинни! Это вы? Я так рада вас видеть! Вы меня напугали.
— Мисс Джонсон! В каких странных местах мы с вами встречаемся! Что вы здесь делаете?
— То же самое я могу спросить у вас, — кокетливо ответила Люба, спускаясь по ступенькам и подходя вплотную к нему.
— Я увидел свет, мисс Джонсон, и зашел погасить его.
— Дорогой сержант Суинни, мне сюда ужасно не хотелось возвращаться, да еще одной, но мать… Вы не представляете, как много это значит для нее! — Она положила свободную руку ему на плечо и заглянула в глаза.
— Но, мисс Джонсон, отель опечатан и идет с торгов, отсюда ничего нельзя выносить.
— Конечно, но мама была в таком горе, что забыла захватить при отъезде этот мундир… Полковник Джонсон воевал в нем в Африке, это наша семейная реликвия, — Люба прижалась к нему грудью.
— Да, конечно… я понимаю, но… все же, мисс Джонсон, это не положено…
Глубокая скорбь появилась в ее глазах.
— Ну, если так, заберите его.
— Да нет, я думаю, ничего страшного.
Пока они шли по коридору к лестнице, Люба несколько раз будто случайно споткнулась. Сержант обнял ее за талию, чтобы поддержать. Свет он выключить позабыл, а Люба не напомнила.
— Вы не сочтете меня нахалом, мисс Джонсон, если я опять приглашу вас на чашку чая? — застенчиво спросил покрасневший сержант.
— Вовсе нет. Беда в том, что мне надо успеть на лондонский поезд.
— Но вы хоть позволите проводить вас на станцию?
— Мне не хочется вас затруднять…
— А мне хочется вас проводить.
— Спасибо. Я в самом деле должна вернуться в Лондон: мать будет беспокоиться.
— Надеюсь, она вскоре утешится.
Люба снизу вверх взглянула на него, сжала его руку:
— Нет, сержант, пройдет еще много времени, прежде чем заживет эта рана.
— Понимаю, понимаю, — с искренним участием ответил он. — Но, может быть, хоть этот мундир внесет покой в ее душу.
— Вы и не представляете, как много это для нее значит, — сказала она, не сводя с него затуманенных глаз.
Когда они пришли на станцию, по радио как раз объявили посадку на лондонский поезд. Прежде чем войти в вагон, Люба обернулась и поцеловала сержанта в губы.
— Я вам так благодарна…
Поезд тронулся, и мимо окна проплыл оцепеневший сержант Суинни.
* * *
— Люба… Люба, где ты это… — Магда глядела на мундир. — Где ты это достала?
— Из сундука.
— Ты была в Брайтоне?
— Конечно.
— Ты что, спятила?
Люба, не произнеся ни слова, швырнула мундир на пол, а железную коробку водрузила на стол.
— Что это?
Люба, молча улыбаясь, принесла стамеску и молоток, примерилась, размахнулась и воскликнула:
— С Новым годом!
Коробка с треском открылась, и по столу разлетелись туго спрессованные пачки банкнот.
БЕВЕРЛИ ХИЛЛЗ.
Студия не работала, и Дэнни был уверен, что его не хватятся. Он мог затаиться. Настроение, овладевшее им в самолете, не проходило — какая-то затянувшаяся истерика. Он запер двери, задернул шторы, отключил телефон и стал пить. Водка не помогала — страх не проходил.
Когда Стоунхэм приведет свой приговор в исполнение? Что скажут окружающие его люди? Какими глазами посмотрит на него Милт? Разоблачен, разоблачен! И Патриция… От одной мысли о дочери он холодел. Она и так — на грани самоубийства. Что может он сделать для нее? В силах ли он помочь ей, даже если Стоунхэм ослабит контроль? Ни на один из этих вопросов ответов он не находил.
Там, в особняке, последнее слово вроде бы осталось за ним, но он-то отлично понимал, кто вышел победителем. Стоунхэм связал его по рукам и ногам и все туже стягивал узлы, не давая ему ни двигаться, ни действовать, ни говорить, ни дышать.
Дэнни просидел за бутылкой много часов, не вставая. Он снова и снова наполнял свой стакан, не обращая внимания на красную лампочку, пульсирующую на крышке факса. Ему хотелось только одного — погрузиться в пьяную одурь, заснуть и не просыпаться. Но мигающая лампочка раздражала — свет ее проникал даже под закрытые веки. Он потянулся выключить факс, и на стол выполз листок бумаги. В глаза бросилось одно слово — «Патриция».
Он взял листок в руки, попытавшись сфокусировать на нем осоловелые глаза. Это было письмо от адвоката Стоунхэма:
Настоящим уведомляем Вас, что Патриция находится в частной лечебнице, где ей оказывают квалифицированную помощь. Ее состояние улучшается. По мнению врачей, курс займет несколько месяцев. В течение этого срока ей предписано воздерживаться от контактов с кем бы то ни было.
Дэнни несколько раз перечитал факс. «Улучшается» — это главное. Куда ее поместили, не сообщается, но он был рад получить от Джи-Эл и такую малость. Может быть, Стоунхэм изменил свое решение и не станет губить близкого Патриции человека? Да возможно ли это? Или он всего лишь принимает желаемое за действительное?
* * *
Но, по счастью, вскоре он с головой ушел в работу над «Человеком», и это оказалось наилучшим способом совладать с гнетущей тревогой. Два месяца подряд он занимался подготовительным периодом — вносил изменения в режиссерский сценарий, выбирал места натурных съемок, смотрел макеты декораций и эскизы костюмов, репетировал с актерами и сам не понимал, что выглядит в глазах группы каким-то маньяком, пока Слим не сказал ему:
— Босс, стоит ли так уж из кожи вон лезть. Слава Богу, не первая лента.
— Слим, эта картина очень много значит для меня: я думал о ней много лет.
— Босс, мы с тобой не первый день знакомы, я же вижу: тебя что-то гложет. Еще же ничего не решено. У Стоунхэма может ничего не выгореть из его затеи.
— Слим, мне плевать на него и на его затеи, — сказал Дэнни резче, чем ему хотелось. — Давай-ка продолжим.
— Хорошо, босс, — ответил Слим, немного оторопев от этого тона.
Первая сцена прошла очень успешно, — Дэнни наложил на хроникальные кадры игровые эпизоды, снятые на студии: толпа дилеров, вскидывающих руки и истерично выкрикивающих ставки.
Когда он скомандовал: «Стоп! Снято!» — все присутствующие в павильоне невольно и не сговариваясь зааплодировали. Он отвесил своей группе шутливо-церемонный поклон, глядя при этом на разрумянившуюся, неистово бьющую в ладоши Лили — очень хорошенькую в своем голубом полотняном платье. Она оказала ему неоценимую помощь и оказалась просто незаменимой. Видя, что он чем-то угнетен, не задавала никаких вопросов и оказывалась на месте всякий раз, когда была нужна ему. За это время он по-настоящему привязался к ней.
* * *
В пятницу вечером съемки приостановились — за субботу и воскресенье Дэнни должен был внести в сценарий небольшие изменения. Все шло хорошо, но Дэнни постоянно ощущал подспудную неясную тревогу. В субботу, стоя у окна и поджидая Лили, он вдруг заметил коричневый невзрачный «седан», кативший по улице медленно, словно водитель искал нужный ему номер дома.
«Седан» притормозил у его ворот. Оттуда вышел человек в черном. Дэнни увидел белый воротничок и крест на груди. Наверно, будет просить пожертвований. Злясь на неожиданную помеху, он открыл дверь. У пастора было круглое, гладкое, как у младенца, лицо без всяких признаков растительности. Обширную сияющую плешь обрамляли кое-где кустики рыжих волос. Он широко улыбался, показывая передние, широко расставленные зубы. Дэнни никак не мог вспомнить, где он видел этого человека раньше.
— Дэнни Деннисон?
— Да.
— Вы позволите мне войти?
— Пожалуйста, а в чем, собственно…
— Меня зовут преподобный Каллаген, — и, улыбнувшись еще шире, добавил: — Но вы называли меня — Рой.
— Рой?! — глаза Дэнни полезли на лоб.
— Да, это я, Дэнни!
Дэнни крепко обнял гостя, прижал его к себе и буквально втащил в комнату.
— Рой! Я думал, мы никогда с тобой больше не увидимся! — Он даже стал запинаться от радостного волнения. — Я пытался разыскать тебя, но в приюте мне отказались дать сведения о том, где ты…
— Знаю. И я тебя искал.
Дэнни, отступив на шаг, вглядывался в лицо Роя.
— Но как же ты меня нашел?
— Я недавно посмотрел фильм некоего Дэнни Деннисона. Называется «Лондон-рок».
— Страшная гадость, наверно?
— Не знаю, мне понравилось. А потом я вспомнил, что наша учительница миссис Деннисон постоянно водила тебя в кино, сопоставил факты и сделал выводы.
Дэнни только качал головой, веря и не веря.
— А потом, как заправский детектив, пошел по следу. И вот я здесь — немного растолстевший, но прежний Рой.
— Я был уверен, что твои родители первым делом постараются тебя откормить.
— Да уж, они постарались и преуспели. И, знаешь, они меня не бранили, когда я несколько раз намочил-таки простыни, — Рой расхохотался.
— Не могу поверить, что вижу тебя, — Дэнни снова крепко обнял его. — Ну, пойдем, пойдем, выпьем чего-нибудь за встречу. Что ты предпочитаешь?
— Не знаю… Может быть, пива? Все, что угодно, кроме красного вина — его мы пьем каждое воскресенье.
Оба захохотали, радуясь встрече. Дэнни непослушными руками откупорил бутылку пива, себе налил водки.
— За нас!
— За приют Св. Иоанна! — подхватил Рой. — Если б ты только знал, Рой, как часто я вспоминал те дни!
Усевшись рядом, они смотрели друг на друга, узнавая тех мальчиков, какими были сорок лет назад.
— Рой, Рой… Вот бы не подумал, что ты станешь священником!
— Да, понимаешь ли, Дэнни, я вовремя понял, что звездой бейсбола мне не быть, — оба засмеялись, вспомнив, как Рой сидел на скамье запасных. — Ну, а если серьезно, то в этом ты виноват.
— Еще бы! Я во всем виноват — и в том, что ты писал в постель, и в том, что стал преподобным.
Рой, закинув голову, снова рассмеялся.
— Дэнни, я никогда не забуду того, что было — моей коробки из-под сигар и твоих сказок на сон грядущий… — Он ласково стиснул его плечо. — Твоя доброта согрела мне душу… И мне захотелось чем-то помочь другим. Я служил Господу в разных странах, а теперь мне дали возможность нести свет Христова учения австралийским аборигенам.
— Ого! Это далековато! А ты не мог бы попроситься куда-нибудь поближе, раз уж мы с тобой наконец встретились?
— Я, Дэнни, всего лишь следую стезей, предначертанной мне Богом, — произнес Рой, и Дэнни услышал в его голосе уверенность и силу, которые дает лишь верный выбор цели.
— Родители, наверно, гордятся тобой?
— Наверно, гордятся. Упокой, Господи, их души. Они погибли, Дэнни, погибли три года назад в автокатастрофе. На них налетел пьяный водитель.
— Какой ужас…
— Да. Но я уже примирился с этой потерей. Мне жаль того водителя — как страшно жить с таким грехом на совести…
— Жалко? Да я бы его задушил собственными руками!
Младенческое лицо Роя расплылось в ласковой улыбке.
— Сказано, Дэнни: «Не судите…» Мы должны только жалеть и сострадать.
Дэнни глядел на него недоверчиво.
— И ты никогда ни на кого не злишься? Никого не ненавидел?
— Почему же, в молодости такое со мной случалось. А теперь я обрел дар понимания… Ну, хватит о грустном! Расскажи мне о себе, о том, как ты жил. Я ведь знаю только, что миссис Деннисон усыновила тебя, и ты стал знаменитым кинорежиссером. Ты женат? Дети есть? Дом, у тебя, я вижу, прекрасный — жить да радоваться! А?
Дэнни, поднявшись, прошелся по внутреннему дворику, поглядел на видневшиеся за оградой холмы. Рой подошел к нему, мягко положил руку ему на плечо.
— Друг мой, я слышу, как душа твоя плачет. Что тебя гнетет?
Дэнни отрывисто фыркнул:
— Исповедники, кажется, сидят за такой особой занавеской?
— Что ты, Дэнни, я и не думаю исповедовать тебя, а просто спрашиваю…
— У меня тяжелое время, Рой: я полон такой ненависти… — проговорил Дэнни сквозь стиснутые зубы. — Я ненавижу своего тестя… Что он сделал с моей женой, что он сделал с моей дочерью… Я ненавижу тайну, которая лежит у меня на сердце, ненавижу постоянное чувство вины… Я хотел бы рассказать тебе… Да не могу.
Рой взял Дэнни за обе руки, крепко сжал их.
— Не мучай себя. Может быть, и не надо об этом говорить сейчас. Просто подумай об этом, загляни себе в душу. И в нужном месте в нужное время высшая сила придет к тебе на помощь.
Дэнни допил свой стакан:
— Давай еще понемножку?
Рой вздохнул:
— К сожалению, не могу. Мне надо ехать. Вечером у меня самолет.
— Какая досада, Рой, ты и представить себе не можешь, как мне… — он не договорил.
Они стали спускаться по ступенькам.
— Бог даст, еще увидимся, Дэнни.
Он чувствовал ком в горле — точно вернулся тот день, когда Роя, прижимавшего к груди коробку из-под сигар, увозили из приюта. Он так и не выдал ему свою тайну — ни тогда, ни сейчас. Не хватило сил. Он глядел на круглое гладкое лицо друга — совсем нет морщин, нет следов страданий.
— Счастливый ты, Рой.
— Это больше, чем счастье, Дэнни. Это чувство того, что я исполнил порученное мне.
— Приятно, наверно.
— Да. Это благодатное, прекрасное чувство. Знать, что ты должен делать в этом мире, и делать это — блаженство.
— И в душе у тебя мир?
— Если человек верен себе, в душе у него мир.
Они в последний раз обнялись, и Рой уехал. Дэнни медленно, очень медленно вернулся в дом. Прощальные слова друга звучали у него в ушах.
* * *
Вернувшись в гостиную, он услышал раздающуюся сверху музыку. Наверно, Лили прошла в дом, пока они с Роем сидели в патио: она любила, чтобы во время работы тихо звучала музыка. Но Дэнни был сейчас совершенно не готов диктовать.
Он сел в гостиной, глубоко задумавшись над тем, что сказал ему Рой, но музыка постепенно привлекла его внимание. Это была компакт-диск с записью Тины Тернер, которую так любила Лили. Раньше он как-то не вслушивался в текст:
К нам приходят повеселиться: Для того и сидим мы тут, Но гостям мы не смотрим в лица, И не знаем, как их зовут. Нам без разницы — он ли, ты ли, Молодой или старичок, Лишь бы вовремя заплатили… Ножки врозь — и смотри в потолок!Жалоба проститутки. Интересно, и Люба чувствует то же самое? Но ведь она с него никогда не брала денег. Почему?
Он быстро поднялся, самому себе боясь дать ответ на это. Он исключил ее из своей жизни и не собирался снова думать о ней. Поднявшись в свой кабинет, он выключил стерео.
— Очень громко, да? Простите, — сказала Лили. — Музыка — моя страсть, мне лечиться надо…
— Нет-нет, что вы, я сам люблю музыку.
— Я вас видела в патио у бассейна с каким-то священником, но не стала мешать душеспасительной беседе, — засмеялась она.
— Спасибо, — серьезно ответил Дэнни.
— Я и не знала, что вы католик, — сказала Лили, включая компьютер.
— А я не католик.
— А кто?
Дэнни поглядел в ее открытое лицо: на простой вопрос она хотела получить простой ответ.
— Я принадлежу к епископальной церкви, а этот священник — мой старинный школьный товарищ. У него с вами есть кое-что общее.
— В самом деле? Что же?
— Ему тоже нравится «Лондон-рок».
Она рассмеялась:
— Уверена, ему понравится и «Человек». Ну, что — приступим?
— Давайте. На чем мы остановились?
— Вы хотели переписать тот кусок, где герой решает захоронить токсические вещества в заповеднике.
— Да-да! Мы добавим, как он дает взятку смотрителю парка.
— Можно мне сказать?
— У нас свобода слова, Лили.
— Знаете, мне кажется, вы чересчур суровы к нему… Рисуете его одной черной краской. Так легко окарикатурить этот образ.
— Ничего, мы в эту ловушку не попадемся.
— Я вовсе не хочу показаться навязчивой, но…
— Но приходится, да?
— Ну серьезно, Дэнни, вспомните хоть «Гражданина Кейна» — вы же сами говорили, что без борьбы света и тьмы нет драмы. Помните, как он на смертном одре думает о самой своей большой драгоценности — о санках, которые были у него в детстве? В то время он был чист душой.
— Наш герой списан с Джи-Эл Стоунхэма, — твердо сказал Дэнни. — А мой тесть никогда не был невинен и чист душой. Он — воплощение зла.
Лили, пораженная тем, как прозвучали эти слова, не стала больше возражать.
Дэнни расхаживал по кабинету взад-вперед, стараясь сосредоточиться.
— Что-то не работается мне сегодня, — наконец признался он.
— Сделаем обеденный перерыв?
— И есть не хочется — больно уж жарко.
— Окунитесь в бассейн, освежитесь. Я и сама бы с удовольствием искупалась.
— Отлично! Тут наверняка найдется подходящий купальник.
— Да ну вас! — она выключила компьютер. — У вас в фильме девушки нагишом по крышам бегают, а вы вдруг ударились в ханжество — купальник! Купание в голом виде — старинная американская народная забава, — и она исчезла в соседней комнате, крикнув оттуда: — Я возьму полотенца!
Дэнни, немного растерявшись, откатил стеклянную дверь и вышел прямо в патио, потом после небольших колебаний разделся и бросился в воду, а когда вынырнул, увидел на бортике обнаженную Лили.
— Холодная вода? — крикнула она.
— Божественная!
Она почти без брызг прыгнула в воду и подплыла к нему.
— Врать-то зачем, мистер Деннисон? Вода как лед!
Минут десять они плескались в бассейне, чувствуя себя вполне естественно и наслаждаясь этим. Лили первая вылезла на бортик и, отряхиваясь, побежала в кабинет. Дэнни последовал за нею — она энергично растиралась полотенцем в ритме мелодии Тины Тернер.
«Она красива, — подумал Дэнни, — и знает это».
— Ну, как? — спросила Лили, выжимая прядь волос. — Лучше стало?
— Гораздо лучше.
— Испытали прилив жизненных сил?
Он медленно подошел к ней, вода ручьями стекала с его тела.
— Вроде бы да. А вы?
— В известной мере.
Полотенце упало с ее плеч. Она подошла к Дэнни вплотную и закинула руки ему за шею. Дэнни прижал ее к себе, стал гладить ее плечи, грудь, бедра, потом вместе с нею опустился на ковер. Она была готова принять его, и он испытывал острое, всепоглощающее желание. И тут в голове прозвучали слова песенки, и тяга к ее телу исчезла.
Дэнни высвободился и лег рядом с нею.
— Что с тобой?
— Извини, я оказался не в форме…
Она зажала ему рот:
— Ш-ш, ни слова.
— Сам не понимаю, что со мной…
— Это с каждым может случиться.
— Да, острый приступ полового бессилия.
Лили повернулась на бок, чтобы видеть его лицо.
— У женщин тоже такое бывает, но мужчины об этом даже не догадываются, — мы умеем притворяться.
— Да уж, — сказал он. — У нас проще: стоит или не стоит. Тут уж не притворишься.
— Дэнни, у тебя сейчас такое трудное время, такое множество проблем, ты снимаешь замечательный, сложнейший фильм.
— Ты прекрасно умеешь утешать.
— Позволь мне что-нибудь приготовить — это я делаю еще лучше.
Он покачал головой:
— Не знаешь, почему все женщины всегда старались меня накормить? Неужели у меня такой истощенный вид?
— Нисколько не истощенный. Просто я подумала — вкусная еда могла бы тебя переключить… А я бы осталась у тебя на ночь, и мы лежали бы рядом, гладили бы друг друга — без всякого секса… А?
— Спасибо тебе, Лили, за все спасибо. Но лучше мне побыть одному.
Когда она уехала, он набросил халат и снова спустился в патио.
Странная история. Лили настоящая женщина — красивая, излучающая радость и жизнелюбие, и вместе с тем очень тактичная. Он вспомнил, как она стояла на бортике: безупречно очерченная грудь, блестящие каштановые волосы… Он хотел ее. Что же случилось?
Это проклятая песенка напомнила ему про Любу. Он разозлился. «Выкину к черту этот диск! — подумал он и тотчас опомнился. — Не хватит ли глупостей?!» — и с кривой улыбкой покачал головой. Что бы ни случилось, во всем виновата Люба.
Глава XVII
1988.
НЬЮ-ЙОРК.
Лопасти винта завертелись сначала медленно, а потом все стремительней, пока не превратились в невидимый круг. С такой же быстротой неслись и мысли в голове Дэнни. Он не взял с собой в Нью-Йорк Лили — не смог. С той памятной ему неудачи он неизменно чувствовал себя с нею неловко, хотя она оставалась прежней — бойкой, все схватывающей на лету Лили, желавшей быть ему полезной в чем только возможно. Он оставил ее в Лос-Анджелесе готовить отснятый материал к монтажу.
Вертолет пролетел над башнями Центра мировой торговли. Дэнни смотрел на проплывающую в окне панораму Нью-Йорка и думал, что картина явно удалась, и теперь осталось пригнать все ее части воедино. Несмотря ни на что, он чувствовал удовлетворение. Может быть, такие чувства испытывал его отец, завершая работу над распятием.
Вертолет миновал безлюдную в воскресенье Уолл-стрит. Здесь будет происходить финальная сцена — предсмертный бред героя: камера с зависшего неподвижно вертолета снимала молодого человека, стоящего на углу. Дэнни видел, как Слим дает последние указания перед съемкой.
Гример нанес на лоб актера крупные капли «пота», парикмахер растрепал ему волосы. «Посторонние — с площадки!» — гаркнул в мегафон Слим, и вокруг актера, играющего главную роль, сразу образовалась пустота. Одинокий, страдающий человек закинул голову, вглядываясь в небеса.
— Камера? — в переговорное устройство спросил Дэнни.
Оператор соединил колечком большой и указательный пальцы.
— Мотор!
Вертолет круто пошел вниз, камера фиксировала мечущуюся фигуру Человека, отчаянно взывающего о помощи, и в ответ — закрывающиеся одно за другим окна многоэтажного дома. Затем оператор снял обнаженную девушку на крыше дома: замаскированный ветродуй взметнул ее длинные белокурые волосы. Она посмотрела вниз и позвала: «Человек! Человек!»
Вертолет заложил крутой вираж, позволяя оператору дать общий план — садящееся над крышами солнце — и крупно показать другую девушку с пламенеющими под закатными лучами рыжими волосами. Указывая вниз, она тоже кричала: «Челове-е-ек!»
И снова — общий план скорчившейся между каменными громадами маленькой фигурки. Человек мертв.
— Стоп! Снято! — крикнул Дэнни.
— Снято! — ликующе подтвердил оператор.
Вертолет полетел к месту своей стоянки. Короткий весенний день уже померк — они уложились вовремя. Дэнни откинулся на спинку сиденья, взглянул на исполинскую статую Свободы — символ надежды для многих миллионов беженцев и изгоев вроде Любы. Люба… Она никогда не видела статую Свободы, но она бы ей понравилась. Дэнни представил себе, как она стоит у подножия и смотрит в каменное лицо — одна сильная женщина глядит на другую. Рука статуи, поднятая к небу, казалось, приветствует его, а потом вспыхнул зажатый в ней факел. Добрый знак.
ЛОНДОН.
Магда возилась на кухне, готовя фарш для голубцов. Этим блюдом она когда-то потчевала Дэнни в Португалии… Как счастлива была тогда Люба, и Дэнни был так нежен и внимателен с ней… Впрочем, Магда с самого начала была уверена, что добром этот роман не кончится.
Пуделек крутился у нее под ногами. Она сунула ему комочек фарша.
— Ты тоже любишь голубцы, а?
Магда помнила, как сияли глаза Любы, когда она смотрела на Дэнни. Бедняжка. А теперь она сутками сидит взаперти и пишет, пишет, пишет свои картинки. Хорошо хоть сегодня удалось чуть ли не силой отправить ее за покупками. Не так давно Люба пыталась спровадить мать из дому, а вот теперь они поменялись ролями.
«С деньгами у них хорошо, — грустно размышляла Магда, — но даже это никак не радует Любу». Да, благодаря сбережениям полковника Джонсона они стали богаты. Прощай, распродажи, не надо больше выгадывать каждый пенс и ждать звонков из «эскорт-сервис». Отчего же Люба так печальна?
Закрыв кастрюлю с голубцами крышкой, она пошла в гостиную, всю заставленную и заваленную подрамниками, кистями, тюбиками с краской. Магда поглядела на неоконченный холст, натянутый на настоящий мольберт, который она сама ей купила, но Люба, кажется, и не заметила перемены… Что же ей сделать, чтобы дочь была счастлива?
Как долго она никому не показывала свои работы! И как обрадовалась, когда одну картину приобрела Маккивер, а другую — водопроводчик…
Магда поднялась, пошла в кладовую, куда Люба складывала холсты, наудачу выбрала один — очертания двух фигур на фоне моря. Ей-то эта картина очень нравилась, но как узнать, вправду ли у Любы есть талант?
Как узнать? Есть только один способ. Магда вернулась на кухню, выключила газ, вымыла руки. Потом скатала холст в трубку, завернула в клеенку и, накинув пальто, вышла из дому.
Держа скатанный холст за пазухой, она довольно долго расхаживала по Маунт-стрит — не хватало мужества зайти в одну из фешенебельных галерей. В витрине «Джеффри» она увидела несколько замечательных картин. Не сошла ли она с ума? Она, конечно, любит дочь и желает ей всяческой удачи, но разве она может судить о ее способностях?
Она рассматривала выставленную картину, а на нее сквозь толстое стекло давно уже поглядывала долговязая и сухопарая леди — владелица галереи. Магда собралась с духом и вошла.
Леди сейчас же приблизилась к ней, словно намереваясь загородить дорогу:
— Чем могу быть полезной?
Магда раскатала холст и положила его на пол.
— Это рисует моя дочь. Вам нравится?
Казалось, нос хозяйки еле заметно сморщился. Она скользнула по холсту мимолетным небрежным взглядом:
— Сожалею, мэм, но мы выставляем только работы известных мастеров.
— Извиняюсь, — пробормотала Магда и снова стала скатывать холст в трубку.
— Одну минуту, — раздался у нее за спиной голос, принадлежавший высокому мужчине — темный костюм, шелковый галстук, зонтик в руке. Он не сводил глаз с картины. — Мне нравится эта вещь… Мне очень она нравится.
— Вы правы, лорд Макфэдден, — быстро проговорила хозяйка. — Это действительно очень интересная работа.
Высокий мужчина перевел взгляд с полотна на Магду:
— Кто автор?
БЕВЕРЛИ ХИЛЛЗ.
Домой Дэнни добрался уже заполночь. Каждая клеточка его тела молила об отдыхе. Он славно поработал и этот отдых заслужил.
Съемки в Нью-Йорке были окончены, и ему не терпелось приступить к монтажу. Никогда еще постель не казалась ему такой желанной: последнее, что он слышал перед тем, как погрузиться в глубокий, как обморок, сон, было шуршание свежих, крахмальных простыней.
Потом сквозь густую пелену стал проникать какой-то посторонний звук — кто-то стучал в дверь, — но Дэнни только плотнее завернулся в одеяло. Однако стук повторился. На часах было четверть второго. Дэнни вылез из кровати и босиком, в пижаме, пошел открывать.
Он распахнул дверь и тотчас горько пожалел об этом. На пороге стоял тот самый — плотный, в клетчатом костюме.
— Вас желает видеть мистер Стоунхэм, — сказал он бесстрастно.
Дэнни покрутил головой, не веря своим ушам.
— Самолет готов, — продолжал посланец.
— Вы в своем уме?
— Мистер Стоунхэм настоятельно просит вас прилететь.
— Я столь же настоятельно посылаю мистера Стоунхэма к чертовой матери.
— Дело весьма срочное. Через двенадцать-тринадцать часов вас доставят назад в Лос-Анджелес.
Дэнни сделал попытку закрыть дверь, но широкая мясистая рука без усилия отжала ее обратно.
— Это касается Патриции.
— Что с ней? Где она?
— Мистер Стоунхэм вам все объяснит лично. Могу только сказать, что ваша дочь жива и здорова. Он должен поговорить с вами.
Быстро одевшись, Дэнни прошел за клетчатым к поджидавшему их лимузину.
На предназначенной для частных самолетов взлетной полосе стоял, готовясь вырулить, «Боинг 747» с выведенными по борту золотыми буквами «ПАТРИЦИЯ», и Дэнни почему-то возмутило, что имя его дочери украшает исполинское брюхо лайнера. Один из стюардов (их было не меньше четырех, не считая других членов экипажа) быстро провел его через несколько салонов, поднимаясь по ступенькам все выше, через полностью оборудованный кабинет с компьютерами, телефонами и факсами, через библиотеку, целиком, казалось, вывезенную из замка эпохи Тюдоров, через столовую и гостиную с цветами, свежими фруктами, хрустальными графинами, а потом открыл перед Дэнни дверь в роскошно обставленную спальню, где на широкой кровати лежала заботливо приготовленная шелковая пижама.
— Быть может, перед сном вам угодно будет отужинать? Повар может приготовить омлет, стейк, — все, что пожелаете.
Дэнни молча покачал головой.
Стюард начал объяснять ему назначение разноцветных кнопок на спинке кровати, но Дэнни, не дослушав, выслал его и, как был одетый, рухнул на кровать. Голова гудела от утомления, и не давала покоя мысль: «Какую новую пакость припас ему Джи-Эл?»
Он не мог поверить, что на самолете Стоунхэма, лежа на его кровати, летит к нему на Лонг-Айленд. Все произошло так стремительно, что он не успел ни о чем задуматься. Да он и не хотел думать — он хотел увидеть Патрицию.
Он принялся нажимать кнопки, чтобы погасить свет, но вместо этого высветился во всю стену телеэкран, на котором появилась карта Соединенных Штатов — маленький красный самолетик, двигаясь по ней, отмечал маршрут. Дэнни закрыл глаза, попытался уснуть, но мысли отгоняли сон. Самолетик был уже возле Невады. В нижней части экрана вспыхивали и гасли цифры — скорость 640 миль/час, высота — 47 000 футов, время полета — 4 часа 5 минут, температура за бортом — 42 градуса. Он снова закрыл глаза и, должно быть, все-таки уснул, потому что, когда в следующий раз глянул на экран, самолетик пульсировал уже за Небраской, а «время в пути» составляло 2 часа 10 минут.
В аэропорту Кеннеди, залитом ярким утренним солнцем, прямо к трапу был подан лимузин, рванувший с места, как только за Дэнни закрылась дверца. Он устало откинул голову на подголовник: неужели всего шесть часов назад он мирно спал у себя дома, в Беверли Хиллз? Манера мистера Стоунхэма вести дела поражает воображение.
Автомобиль остановился, водитель открыл перед ним дверцу, и Дэнни увидел, что его привезли не на Лонг-Айленд, а на Манхэттен. Он стоял на углу Парк-авеню и 77-й улицы, у входа в госпиталь «Ленокс Хилл». Неужели что-нибудь с Патрицией? Но клетчатый сказал, что она жива-здорова… Человек в белом, не произнося ни единого слова, повел его за собой и поднял на лифте в реанимационный блок.
В палате было полутемно, и потому издававшие через равные промежутки времени отрывистое гудение высокого тона экраны мониторов, на которых непрерывно возникали ломаные линии, казались до жути живыми. Кровати были поставлены полукругом и отделены одна от другой неплотно задернутыми шторами-ширмами так, что сестры могли наблюдать за больными.
Дэнни с трудом узнал Стоунхэма. Его красное лицо обрело теперь бледно-желтый оттенок, а от носа и рук тянулись какие-то прозрачные зеленоватые трубки. Один только взгляд водянистых глаз оставался прежним. Слабый хрипловатый голос произнес:
— Я вас не люблю. Очень не люблю.
— Взаимно, — коротко ответил Дэнни. — Зачем вы меня вызвали?
— Слушайте внимательно и не перебивайте, — с одышкой произнес Стоунхэм. Судя по всему, говорить ему было трудно. — Хочу предложить вам сделку…
— «Сделку»? Я не ослышался?
— Я же просил… не перебивать!
«Даже бессильно распластанный на кровати, он сохраняет свою властность», — подумал Дэнни.
— Я откажусь от приобретения контрольного пакета «ЭЙС-ФИЛМЗ», уничтожу все, что мне удалось узнать о вас, и… — он превозмог приступ кашля, — сохраню вашу мерзкую тайну.
Дэнни ждал… что с него потребуют за это?
— С одним условием… — медленно падали слова, отвечая на его безмолвный вопрос. — Патриция никогда не узнает о том, что вы — еврей.
Дэнни грубо засмеялся, чувствуя, как что-то вскипает в нем:
— Забавно. От такой сделки не отказываются, да? Еще недавно вы хотели раструбить на весь мир о моей «мерзкой тайне». А теперь желаете сохранить ее. Я своей дочерью не торгую. Делайте что хотите.
— Я всегда делаю то, что хочу, — за прозрачными трубками странно кривились губы.
Дэнни повернулся и пошел к дверям.
— Деннисон!
Дэнни остановился.
— Завтра мне предстоит тройная пересадка. Пятьдесят процентов за то, что я вытяну. — Он откинул голову на подушку, как бы набираясь сил для дальнейшего. — Если не вытяну, все достанется Патриции. — Голос его стал слабее. — Больше у меня никого нет.
Дэнни неотрывно смотрел, как по прозрачной трубке капельницы медленно течет прозрачная жидкость.
Судорожно вдохнув воздух, Джи-Эл сказал:
— Если умру, позаботьтесь о ней.
Дэнни почувствовал, как заколотилось у него сердце. Что это? Жизнь имитирует кино? Ведь он только что отснял эту сцену: Человек подводит итог жизни, отчаянно ищет оправдание своим поступкам. Испытывая нечто похожее на жалость, он сказал:
— Можете не сомневаться в этом. Она моя дочь.
— Не хорохорься, Деннисон… Если в понедельник не увидишь в газетах мой некролог, смирись с тем, что я жив.
ЛОС-АНДЖЕЛЕС.
В третий раз Дэнни, сидя в монтажной, просматривал начальные кадры своего фильма, но так и не смог сосредоточиться. Голова была занята совсем другим. Много событий вобрали в себя последние двое суток.
Джи-Эл, его непримиримый, его заклятый враг, позвал его к себе в смертный час и сказал, что унесет его тайну с собой в могилу. В это трудно было поверить.
В дверях появился Милт с бутылкой шампанского.
— Ты читал это? Все! Бояться больше нечего! — кричал он, потрясая свежим номером «Дейли Вэрайети». — Стоунхэм отказывается от сделки! А что я тебе говорил? Недаром сказано: «Проблема зависит от того, как на нее взглянуть»! Это дело надо спрыснуть!
— Там написано, как прошла операция?
— Не бойся, этот подонок очень живучий. Уверен, что когда он узнал, сколько миллионов принесло ему повышение акций «ЭЙС-ФИЛМЗ», то спрыгнул с постели и пустился в пляс. — Пробка вылетела с громким хлопком, струя шампанского залила ему рубашку. — Тьфу ты, черт! Сара меня убьет!
— Как твоя супружеская жизнь?
— Дэнни, ты можешь мною гордиться: я веду себя, как ангел, — он помахал руками, изображая крылышки.
Они выпили теплого шампанского из пластиковых стаканчиков.
— Ох, чуть не забыл! Арт Ганн осведомляется насчет просмотра. Скажи, Дэнни, когда ты собираешься окончить монтаж и озвучивание?
— Я прикину и сообщу, — вяло сказал Дэнни: шампанское всегда действовало на него усыпляюще.
Милт вгляделся в него:
— У тебя усталый вид.
— Не выспался. Только вернулся — пришлось снова лететь в Нью-Йорк.
Милт расхохотался, блестя очками: он решил, что Дэнни шутит.
— Береги себя, Дэнни! Предстоит еще одно торжество. Сара желает непременно позвать в гости тебя и Лили, — он подмигнул, но Дэнни остался таким же безучастным.
— Милти, — сказал он, — на ближайший месяц можете на меня не рассчитывать: я буду прикован к монтажному столу,
* * *
Дэнни, полумертвый от усталости, понял, что работать все равно не сможет, и уехал домой.
Едва войдя в кабинет, он увидел красную лампочку факса, вытянул лист и прочел:
Мистер Стоунхэм сообщает Вам, что состояние Патриции вскоре позволит ей принимать посетителей. Она находится в Швейцарии, проходит курс лечения в санатории «Ле Монт», по окончании курса будет принята в школу, находящуюся там же, если Вы не будете возражать против этого.
Дэнни перечитал последние слова дважды. Неужели Джи-Эл мог произнести их? Неужели он дает ему разрешение видеться с Патрицией? Так что же — Стоунхэм оказался человеком? Или его так напугало самоубийство Стефани? А, может быть, заглянув в глаза смерти, он что-то понял? Впервые за многие годы Дэнни испытал какое-то подобие симпатии к своему бывшему тестю.
* * *
Он не мог долго избегать Лили. Когда они увиделись, она вела себя так, словно между ними ничего не было, но прежняя простота их отношений исчезла. Дэнни старался проводить с ней наедине как можно меньше времени и не мог дождаться, когда же работа будет окончена. Ее нежное, пышущее здоровьем лицо раздражало его — ему казалось, она испытывает к нему жалость.
Ему нравилось то, что он сделал. Десятки раз он мог смотреть свою любимую сцену, когда камера, поднимаясь от распростертого на земле Человека, панорамирует по окнам Центра мировой торговли — тысячам неотличимых друг от друга окнам, подобным сотам в гигантском улье коррупции и наживы, — и потом останавливается на врезанном в закатное небо силуэте женщины — великолепной, чувственной женщины.
— Дэнни, извини… — Лили смотрела на экран из-за его плеча. — Я, наверно, сильно поглупела… Нет-нет, сэр, не возражайте! Но, убей меня, не понимаю, почему эти девицы у тебя бегают голышом?
Дэнни холодно взглянул на нее:
— Потому что я хочу, чтобы они не вызывали никаких ассоциаций с эпохой или социальной средой, — и сам поморщился от того, как заумно это прозвучало.
Лили не отвела глаза.
— Они должны символизировать обольщение — обольщение алчностью, властью, себялюбием. Что лучше, чем обнаженное тело, может выразить соблазн и искушение?
— Будем надеяться, до зрителя это дойдет, — кротко произнесла она.
— Я думал, тебе нравится мой замысел.
— Мне очень нравится, но…
— Что? Что «но»? — резко спросил он.
— Ничего.
Он отвернулся и снова уставился на экран, но слова «до зрителя это дойдет» не давали ему покоя.
* * *
Кэти играла на рояле — скверно играла. «Ничего не изменилось за эти тридцать лет», — думал Дэнни. Кэти не стала виртуозом, Сара не научилась вкусно готовить, а Джонатан остался в тридцать семь таким же самодовольным и противным, как и в семь, разве что растолстел и облысел.
За обедом Сара усиленно потчевала мужа:
— Милти, отчего ты так плохо кушаешь? Ведь это же твоя любимая фаршированная рыба.
— Не стоило тебе, Сара, так возиться.
Один Дэнни знал, что означают на самом деле слова Милта, больше всего на свете ненавидевшего фаршированную рыбу, которую он неизменно называл «лягушка под маринадом». Он оглядел сидевших за столом — все ели с большим аппетитом, а Милт, усердно жуя, еще успевал одобрительно улыбаться жене. Боже, давно ли, казалось, бородатый очкастый парень пришел в университет посмотреть курсовик Дэнни?! Теперь агенты больше не выискивают даровитую молодежь — они ждут, когда ты станешь звездой, а уж потом снисходят до подписания контракта. А Милт по-прежнему каждый год смотрит студенческие работы.
Милт перехватил взгляд Дэнни и улыбнулся. Наполнил бокалы, прокашлялся и встал:
— За Дэнни, за одного из моих самых первых клиентов! Он пришел в «Феймос Артистс», еще когда я сидел в самом крайнем кабинете. Он тогда снял коротенький фильм… Как он назывался?
— «Спасенная».
— Да-да! Я никогда не забуду эту картину. Я сразу понял, что имею дело с талантом. И, поверь, я рад, что чутье меня не обмануло. — Он с улыбкой обвел всех взглядом. — На его десять процентов куплено все, что есть в этой комнате, включая обои, — трудно было понять, когда он шутит, а когда говорит серьезно, но в эту минуту улыбка вдруг исчезла с его лица. — Завтра мы увидим новый фильм режиссера Деннисона — «Всякий человек». — От волнения он даже немного охрип. — Дэнни, друг мой, я знаю, что этой картиной ты поднимаешься на новую ступень мастерства, — сказал он со слезами на глазах. Сара уже всхлипывала. — Твое здоровье, дорогой мой! — и он залпом выпил вино.
* * *
Дэнни, прислонясь к стене монтажной, смотрел, как киномеханик вставляет в аппарат бобины с пленкой. Сейчас должен был начаться предварительный просмотр. Фильм вырвался у него из рук, начал самостоятельное существование, и Дэнни вдруг захотелось схватить коробки с пленкой и унести их домой.
Вошла Лили с сумкой, набитой книгами, и перекинутым через руку плащом.
— Что ж, Дэнни, кажется, пришла пора прощаться.
— То есть?
— Моя работа окончена. Я тебе больше не нужна — ни в каком качестве.
Ее спокойная прямота неприятно поразила его.
— Ты что же, не хочешь послушать, что скажут о нашей картине?
Она слабо улыбнулась:
— Я все равно уже ничего не смогу изменить.
Дэнни не совладал с нервами:
— Отчего ты уже заранее настроена на провал?!
— Вовсе нет. Я от всей души желаю, чтобы он всем понравился.
— А тебе, значит, он не нравится? Ну, разумеется, нет!
— Дэнни…
— Знаешь, тебе в самом деле лучше уйти, — сказал он, старательно перелистывая какие-то бумажки.
Он чувствовал ее взгляд, но так и не поднял голову. Потом, не сказав ни слова, она вышла. «Зря я с ней так резко», — подумал он. Разговор с Лили окончательно выбил его из колеи.
Приехав домой, он включил автоответчик и долго ходил из угла в угол, слушая голоса тех, кто звонил ему.
— Дэнни! Увидимся после просмотра! Я молюсь за тебя! — кричал Милт.
Потом он стал разбирать почту — рассеянно проглядывать письма и швырять их в мусорную корзину. В руках у него оказалась открытка с изображением двух обнявшихся на ветке коала. Он перевернул ее и прочел:
Аборигены — чудесные люди, я со многими уже успел подружиться. Но таких друзей, как ты, у меня нет и больше не будет.
Благослови тебя Бог.
Рой.Двое самых близких ему людей находились так далеко от него: Рой — в Австралии, Патриция — в Швейцарии. Как только пройдет премьера, он улетит туда… Наконец-то они будут вместе! Они поездят по стране, поплавают по Женевскому озеру, наговорятся всласть. А о чем же они будут говорить?
Старинные часы в углу гулко отбили пять сдвоенных ударов. Сейчас зрители рассаживаются по местам. Он специально назначил просмотр так рано, чтобы присутствующие, как следует выпив и закусив, не дремали в креслах. Пять часов — это начало сумерек, это время его героя… Именно в пять начинался и спектакль в Зальцбурге.
Ему не сиделось на одном месте, и он поднялся. Надо бы вернуться на студию, а там ажиотаж — наверно, и машину некуда будет приткнуть…
Дэнни выключил зажигание, минуту сидел неподвижно, потом резко выскочил, через боковую дверь вошел на студию и по пустынным коридорам двинулся к просмотровому залу. По стенам висели рекламные плакаты к шедеврам былых лет — «Мост через реку Квай», «Лоуренс Аравийский», «Этой ночью случилось»… Как было бы хорошо, если бы в эту изысканную компанию попал и его «Человек».
Он приник ухом к двери. Тишина. Смотрят, затаив дыхание. «Господи, дай…» — прошептал он и отошел.
Вернувшись к машине, он попытался поудобнее устроиться в кресле, но то и дело менял позу, ежеминутно смотрел на часы, пытаясь представить себе, какая сцена идет сейчас на экране. Без десяти семь должен был начаться эпизод, снятый с вертолета, — финал фильма.
Вскоре он услышал голоса. С бьющимся сердцем Дэнни вылез из машины, стал так, чтобы она его загораживала, и прислушался к разговору тех, кто выходил из студии.
— Что это за чушь?
— Еще занудней чем «Прошлым летом в Мариенбаде».
— Да уж, желающие посмотреть этот шедевр без труда поместятся в телефонной будке.
Дэнни почувствовал на плече чью-то руку и, повернувшись, взглянул в добрые, сочувствующие глаза Милта.
— Ну что, — шепотом, как ребенок, спросил он, — никуда не годится?
— Дэнни, — Милт крепче стиснул его плечо. — Как не годится? Очень даже годится! Весь вопрос в том, для кого это годится? Кто пойдет на этот фильм?
— Вы слишком много времени провели в Европе, — раздался голос Арта Ганна. — Мы даже не можем начать рекламную кампанию. — Зажав сигару в углу рта, он со смехом покачивал головой. — Нет, ну ты подумай, Милт: наверно, он решил получить приз в Каннах, — смастерил кино, понятное только шестерым безработным интеллектуалам, которые почешут языки в бистро.
— Ладно, Арт, — сказал Милт, немедленно становясь на защиту друга. — Еще не все потеряно. Мы что-нибудь придумаем.
— Чего тут придумывать? Обошелся фильм, слава Богу, дешево, а по договору Дэнни обязуется снять еще одну картину. Так что не унывайте, Дэнни, и готовьтесь запуститься с «Париж-рок».
Он отошел. Перекрывая рокот мощных моторов разъезжавшихся со стоянки машин, вдруг чей-то голос пропищал дурашливым фальцетом: «Челове-е-ек!» Ему отозвался другой, послышался смех. Дэнни вглядывался в сгущавшуюся тьму, но ничего не видел.
Потом голоса смолкли.
— Поедем к Чейзену, поужинаем, — предложил Милт.
— Не хочется, — тихо ответил Дэнни. — Спасибо, Милт.
Но тот не уходил.
— Старина, ты сделал блестящую ленту!..
— Кончай, Милт.
— Нет, Дэнни, настоящий шедевр! Высокое кино! Но это — не товар. Сейчас в ходу подземелья, цепи, вампиры…
— «Париж-рок», — с горечью продолжил Дэнни.
Милт взял его под руку:
— Поедем-ка домой.
* * *
Войдя, они первым делом направились к бару. Милт налил себе и Дэнни по двойной порции водки. Они молча выпили.
— Хотелось разнообразия, Милт.
Тот быстро наполнил стаканы вновь:
— Ты ведь и тестя своего пытался переубедить! Забудь, Дэнни, все что было, и берись за «Париж-рок». Зарабатывать надо.
В молчании они опорожнили полбутылки.
— Но тебе-то, тебе-то самому понравилось? — спросил наконец Дэнни.
Милт наставил на него стеклышки очков:
— Что понравилось?
— Фильм! «Человек»! — взорвался Дэнни.
— Налей еще.
Дэнни потянулся за бутылкой и неловким движением опрокинул ее. Водка разлилась.
— Можешь ты мне сказать — тебе понравилось то, что я сделал?
Милт тяжело вздохнул:
— Кафка.
— Кафка?
Милт кивнул и отпил глоток.
— И ты сравниваешь мою картину со стряпней этого еврейчика?
— Попрошу без антисемитских реплик! Я с тобой говорю как с другом. Ты сделал замечательное кино… Это… ну, не знаю, как сказать… это — искусство. Но, понимаешь ли, немножко не туда… Мимо.
— О чем ты, черт побери? Говори ясней!
— Та же самая история, что с тем фильмом по Кафке. Тоже — «в молоко».
— Что тут общего? Идиотский сюжет: старый еврей хочет, чтобы ему рассказали, в чем его вина.
— Кафка — это классика.
— Классика? А вся его вина — в том, что он еврей.
— Дэнни, ты не забывай, пожалуйста, что говоришь со мной. Со мной, понимаешь?
— А я не забываю. Но я помню еще, как ты сказал, что это — лучший мой фильм.
— Дэнни, ты хочешь услышать правду?
— Да! Только правду!
— Ну, так знай: это — провал.
— А ты — дерьмо!
— Сам дерьмо! — крикнул Милт.
— Не смей сравнивать «Человека» с каким-то еврейским безмозглым червем!
— Да пошел ты! Сволочь расистская! От твоего «Человека» смердит!
— Заткнись! Заткнись! — Потеряв голову от ярости, Дэнни кричал все громче и громче, пока не сорвался на истошный оглушительный вопль: — Заткни-и-и-сь!!!
Он, как гора, навис над маленьким Милтом. Тот выпучил глаза, открыл рот. Не давая ему произнести ни слова, Дэнни крикнул:
— Ты просил налить еще?! На! Пей! — и выплеснул водку в лицо Милта.
Кусочек льда попал в стекло очков, и оно треснуло. Но Милт, словно не замечая этого, застыл как в столбняке, сгорбился на стуле. Водка текла у него по щекам.
— И на…ть мне на то, что ты думаешь! — продолжал бесноваться Дэнни, распаляясь все больше. — И на тебя мне на…ть, и твою жену, и твоих вонючих любовниц, и твоих детей! И на…ть мне, кому ты засаживаешь — Мэрилин или Саре! Убирайся отсюда! Вон! Во-о-он!
Милт не двинулся с места.
— Вон, тебе говорят! — Дэнни ухватил Милта за отвороты пиджака и отшвырнул к дверям.
Выбегая из комнаты, тот крикнул:
— Гадина!! Антисемитская гадина!
Дэнни кинулся за ним. Он хотел крикнуть ему: «Я — еврей!».
Но язык у него словно присох к гортани.
Глава XVIII
БЕВЕРЛИ ХИЛЛЗ.
Хватая ртом воздух, дико озираясь по сторонам, Дэнни нашарил почти пустую бутылку, рухнул на стул, едва не свалившись, выпил. Глаза его вдруг наткнулись на аквариум — четыре последние рыбки плавали брюхом кверху. С утробным воплем Дэнни вылил туда остатки водки. Вода в аквариуме забурлила и стала мутной, хлынула наружу, заливая аккуратно переплетенные сценарии его фильмов. Милт помогал ему с самого начала, Милт был рядом, Милт любил его, Милт был его другом… Как он мог так поступить с ним?
Ненависть, которую он испытывал к себе, стала безмерной. Уронив голову в ладони, он глухо простонал: «Прости меня, Милт, прости меня…» — но перед глазами качалось бородатое, залитое водкой лицо, треснутое стеклышко очков.
Дэнни схватил трубку. Он должен вымолить у него прощение.
— Сара, это я, Дэнни… Милт дома?
— Нет… А, подожди, вот он как раз вошел… Минутку, Дэнни.
Он вздохнул с облегчением. Милт все поймет, все простит, они забудут эту нелепую ссору…
— Дэнни, ты слушаешь?
— Да!
— Он говорит, что не хочет с тобой говорить… И еще… чтобы ты не звонил сюда больше… Никогда.
Дэнни поник головой. «Это моя вина. Во всем виноват я». Потом он услышал короткие гудки и обнаружил, что все еще сжимает в руке телефонную трубку. Он опустил ее на рычаг, с трудом поднялся, побрел в ванную. Он чувствовал внутри сосущую пустоту. Снял с крючка полотенце, чтобы вытереть лицо, и вдруг увидел себя в зеркале.
Вот он — мужчина средних лет, лгавший всю жизнь и всю жизнь построивший на лжи, еврей, который счел, что быть евреем — вина и преступление. Люба была права. Он ничтожество, жалкое ничтожество. Потому и фильм его провалился.
ЛОНДОН.
Он не стал звонить ей и предупреждать о своем приезде, она могла бы повторить слова Милта. Кроме Любы, у него никого больше не оставалось, и она была нужна ему как никогда.
В Лондоне, по обыкновению, шел дождь. Дэнни взял такси, а когда подъехал к ее дому, вдруг испугался: а что если она не впустит его? Попросить водителя подождать? Но он расплатился, вылез из машины, вошел в подъезд и нажал кнопку «интеркома».
— Да? — отозвался голос Магды.
— Это Дэнни.
Она молчала. Он ждал. Потом раздался щелчок замка. Дэнни поднялся по лестнице, дверь в квартиру была открыта. Дэнни с прилипшими ко лбу мокрыми волосами, с воспаленными, налитыми кровью глазами, под которыми залегли темные тени, остановился.
— Дэнни, вы ужасно выглядите, — сказала Магда.
— Где Люба? — отводя взгляд, спросил он.
— Не знаю, — раздумчиво проговорила Магда.
— Когда она придет?
— Не знаю.
— Можно, я ее подожду?
Магда без особого радушия посторонилась, пропуская его в комнату, сплошь заставленную и завешенную полотнами Любы.
— Вы что, переезжаете? — спросил он.
— Нет-нет, Люба устраивает выставку в картинной галерее на Маунт-стрит.
— Ого! Это, кажется, очень фешенебельное заведение?
— Да. Им понравились ее работы.
— Мне тоже, — сказал он, поворачивая к себе холст, где он был изображен в виде сатира. Тишину нарушал только стук дождевых капель о стекло.
— Дэнни, — услышал он голос Магды. — Пожалуйста, не мучайте Любу.
— Что вы такое говорите? Она помогла мне, она так чудесно ко мне относилась… Я никогда ее не мучил и не собира…
— Не ври! — пронзительно выкрикнула появившаяся в дверях спальни Люба. — Самовлюбленная свинья! Ты обошелся со мной, как с уличной девкой последнего разбора, и отвалил! Кто тебя звал сюда?! Зачем ты явился? Плохо стало? Прибежал жаловаться мамочке?
— Да, — попытался он улыбнуться.
— Ты выпотрошил меня, вытряс из меня все мои тайны, выжал, как мокрую тряпку, а потом, когда я стала не нужна, выбросил, чтобы руки не испачкать!
— Ты мне нужна, Люба, и всегда была нужна.
— Все вранье! — она ничком бросилась на диван.
Магда потихоньку выбралась из комнаты на кухню.
— Я виноват, Люба, но, понимаешь ли, такие обстоятельства…
— Понимаю! Понимаю! У всех свои обстоятельства!
Магда, неся дымящуюся тарелку овощного супа, снова появилась в гостиной.
— Снимите пальто, поешьте, — сказала она.
Дэнни с готовностью повиновался: ему не хотелось уходить.
Магда унесла мокрое пальто на кухню. Суп был вкусный.
— Ну что, лучше стало? — более мирным тоном осведомилась Люба, когда он проглотил последнюю ложку.
— Да, — он отодвинул тарелку.
— Ну и мне тоже. Просто накипело на душе… — Она что-то сказала матери по-польски, и Дэнни вскоре услышал поскуливание собаки. — Ты в жутком виде. Прими душ и ложись спать. Магдина кровать свободна.
Она вышла, а Дэнни, вытащив из кармана бумажник и кредитные карточки, положил все это на стол.
— Вот, надевай, — Люба набросила ему на плечи халат. — Поди поспи, а то ты на ногах не стоишь.
— Возьми, сколько нужно… Заплати за квартиру, — он показал, на бумажник.
— Забыл? Я никогда не брала у тебя денег.
— Нет, не забыл. — Он понуро стоял перед ней, как стоял бывало в приюте, когда его бранила директриса. Потом вскинул глаза. — Но мы могли бы уехать куда-нибудь. Куда захочешь.
Она молчала. В дверях появилась Магда, неся охапку вещей. По пятам за ней следовал пуделек.
— Мне так неловко, я вас выживаю…
— Нет-нет, Люба правильно говорит — идите туда и отдыхайте.
Дэнни с наслаждением вытянул свое длинное тело в горячей воде. Когда он пришел в спальню, его сумка уже была распакована, и на приготовленной постели лежала пижама. Он надел ее, чувствуя смертельную усталость.
Появилась Люба со стаканом воды и таблеткой:
— Прими.
Он послушно проглотил таблетку, запил водой. Она стояла над ним, и он потянулся к ней.
— Еще чего! — сказала она. — Я вовсе не желаю оказаться под трупом.
Тогда он похлопал ладонью по кровати, приглашая Любу сесть.
— Ладно уж, но сказки на ночь не жди, — она улыбалась. — Как твой «Человек»?
Дэнни не ответил. Люба терпеливо ждала, потом взяла его за руку.
— Они смеялись, — наконец ответил он шепотом, — они насмехались над ним.
Люба сжала его руку.
— Они смеялись, — громче повторил он, — смеялись надо мной.
Люба успокаивающе гладила его по руке:
— Дэнни, не все и не всегда получается так, как мы хотим. Спи. Завтра обо всем поговорим. Пойдем куда-нибудь и поговорим.
— Куда?
— Я придумаю. Ты мне веришь?
— Верю, — сонно ответил он: таблетка подействовала.
Люба осторожно поцеловала его в губы. Погружаясь в забытье, Дэнни услышал:
— Хорошо, что ты приехал.
* * *
Он проспал десять часов: с девяти вечера до семи утра. Открыл глаза и сразу почувствовал аромат поджаренного бекона и кофе. Люба разговаривала по телефону.
Они завтракали на кухне, и Дэнни с аппетитом съел все, что она положила ему на тарелку. Еда казалась ему необыкновенно вкусной. Потом раздался звонок в дверь.
— Это такси. Собирайся — поехали.
— Куда? — Дэнни удивленно смотрел на стоявшие у дверей сумки.
— Узнаешь, — загадочно сказала она.
Он удивился еще больше, когда вместе с ними в машину села и Магда. И она, и Люба пребывали в каком-то приподнято-игривом настроении.
В лондонском аэропорту Люба купила три билета до Кракова.
— Да ведь вы же сбежали оттуда? — ошеломленно спросил Дэнни. — Не боитесь возвращаться?
— Нет. Мы с Магдой — подданные Великобритании: можем приезжать и уезжать сколько угодно. Ты же сам вчера сказал: «Поедем куда-нибудь».
— Но почему именно в Краков?
— Это очень романтическое место, Дэнни, тебе там понравится, вот увидишь.
В самолете они уселись напротив него, пересмеиваясь и оживленно щебеча по-польски. Дэнни невольно передалось их настроение, и горькие мысли о провале фильма наконец-то покинули его. Ему только ужасно хотелось знать, о чем говорят Магда и Люба.
КРАКОВ.
Такси доставило их на другой берег Вислы. Магда и Люба жадно глядели на проплывающие за окном и столь памятные им места — замок Вавель на склоне холма, златоверхий кафедральный собор, памятник Костюшко, рынок. Показав на цветочные ряды на рыночной площади, Магда воскликнула:
— Все как было!
— Да. И цветы за восемь лет не успели еще завять, — подхватила Люба.
Их смешанная с ностальгией радость захватила и Дэнни. Сначала он не очень понимал ее — ведь когда-то они рисковали жизнью, чтобы вырваться отсюда, — но потом сообразил, как много счастливых воспоминаний связано у них с этим городом. Просто они старались забыть все плохое, что было в прошлом.
— Ой, остановите! — крикнула Люба таксисту. Они оказались на автовокзале, откуда началось их бегство из Польши. — Отсюда я отправилась искать тебя, — лукаво улыбнулась она Дэнни.
Они остановились в отеле «Орбис», где был заказан огромный номер — гостиная, две ванные комнаты, две спальни: поменьше — для Дэнни, побольше — для Магды и Любы.
— Приведем себя в порядок, а потом покажем вам город, — сказала Магда и что-то добавила по-польски.
Люба радостно согласилась.
— Вы будете удивлены и разочарованы, — пошутил Дэнни, — но я совсем не говорю на этом прекрасном языке.
— Магда предложила пообедать в морском ресторанчике, — объяснила Люба. — Помнишь, я тебе о нем рассказывала?
Да, он помнил. Это туда повел их когда-то Стах, и это там Люба впервые попробовала водку.
Магда принялась распаковывать вещи. Дэнни пошел в свою комнату, и Люба сейчас же скользнула следом. Она помогла ему раздеться, нежно провела пальцами по его телу и шепнула:
— Я всегда выполняю свои обещания.
— Ты хочешь сказать?.. Магда?..
— Да. Она готова.
Его глаза расширились:
— Сейчас?
— Скоро, — она подмигнула. — Сначала надо пообедать. Умойся и переоденься.
Дэнни улыбнулся. Ну, разумеется, где же, как не в Кракове, осуществиться его фантазиям? Он взглянул в окно на запруженные людьми, оживленные улицы. Как часто, как много рассказывала ему Люба про этот город! По этим тротуарам они ходили, в этих кафе назначали свидания, от этих милиционеров убегали…
И вот они снова в Кракове, и он — с ними. Он вверил свою жизнь в руки Любы.
Появление женщин ошеломило его. Они преобразились. Люба заплела волосы в две косички, надела короткую юбку и блузку с оборочками. На Магде была длинная юбка, туго перехваченная в талии широким поясом, и кофточка с большим вырезом, открывавшим плечи и часть груди. Она накрасила ресницы, нанесла на губы ярко-красную помаду — и усталая, измученная жизнью женщина исчезла. Она стала похожа на свои давние фотографии. И Магда, и Люба, хихикавшие, как школьницы, были очень соблазнительны.
Дэнни обнял обеих одновременно.
— Всем все поровну! — сказала Люба.
— Конечно, — согласилась Магда.
К одному его плечу прижимались пышные груди Магды, к другому — небольшие круглые груди Любы. В безотчетном порыве он поцеловал сначала дочь, потом мать. Магда, смеясь, стерла ему со щеки след своей помады.
— Пошли, — сказала Люба, когда они оказались на улице. — Мы, как три мушкетера.
Вымощенную булыжником рыночную площадь, по которой был запрещен проезд автомобилей, заполняла толпа. Стену украшали гирлянды цветов, а над стеной торчали гигантские головы из папье-маше. Из всех окон свешивались разноцветные флаги.
— Что это? — спросил Дэнни. — Масленица? Карнавал?
— Нам повезло, — объяснила ему Люба. — Сегодня празднуется годовщина победы над татарами. Весь город сойдет с ума. Редкостное зрелище.
Она вдруг замерла на минуту, с каким-то благоговейным вниманием вслушиваясь в раздавшиеся неподалеку звуки незамысловатой польки. Потом очнулась и с улыбкой сказала:
— Ну, пойдемте обедать.
Дэнни казалось, что он уже бывал здесь раньше, так подробно описывала ему Люба этот ресторан. Он все узнавал — и рыбачьи сети, которыми был затянут потолок, и выбеленные стены, и массивную стойку бара, украшенную вычурной резьбой, и часы со знаками зодиака на циферблате. Кроме них, в зале никого не было — слишком рано.
Магда заказала всем речного карпа. С утра никто из них еще ничего не ел. Неужели они всего несколько часов назад были в Лондоне?
— Вы подумайте, — сказала Люба, — тот же самый музыкант!
К ним приближался цыган с мандолиной в руках, и Магда встала к нему навстречу.
— Тебе нравится тут, Дэнни? Не жалеешь, что прилетел?
— Не жалею, — улыбнулся он в ответ. — Я рад.
— Потом будешь еще радее… или как это правильно сказать? Ну, в общем, ты понял.
Ему не верилось, что все происходит так просто и естественно, а вот совладать с нетерпением было трудно. Официант принес им еще водки и подал кофе.
Вернулась радостная Магда:
— Он сыграет мою любимую — «Сердце мое»! — она захлопала в ладоши.
Она стала подпевать — у нее оказался красивый и звучный голос. Дэнни понравилась мелодия. Он взял Любу за руку.
— О чем это? Переведи мне.
— Когда ты впервые появился в моей жизни, — шепотом заговорила она, — я отдала тебе мое сердце. А теперь ты ушел, но знай, что оно так и осталось у тебя…
— Будь здоров, живи сто лет! — крикнула Магда музыканту, и Дэнни, подняв свою рюмку, повторил эти слова. Вот он и заговорил по-польски!
Когда они, приятно расслабленные, вышли из ресторана, Магда и Люба заспорили, куда идти дальше. Каждая тянула Дэнни в свою сторону. Наконец они с хохотом двинулись на рыночную площадь, где веселье было в самом разгаре, и актеры, одетые в старинные костюмы татарских воинов, верхом на картонных лошадях разыгрывали потешную битву.
Дэнни затолкали, и он, на минуту отстав, потерял своих спутниц из виду. Стал оглядываться по сторонам, громко звать их, потом бросился вперед, прокладывая себе дорогу в шумной и веселой толпе, пытаясь мимикой и жестами спросить, не видел ли кто-нибудь двух женщин. Но в ответ звучал только смех и непонятная польская речь.
— Люба! Магда! — громко позвал он.
В ту минуту, когда он уже готов был удариться в панику, его подхватили с обеих сторон: «От нас не удерешь!» — и потащили в переполненное кафе, где гремела музыка, а столики были вынесены прямо на мостовую.
Хозяйка кафе — крепкая, дородная женщина — оказалась давней подругой Магды. Она обняла и расцеловала ее, поставила на столик бутылку водки, а Дэнни похлопала по спине:
— Америкэн? Добро пожаловать! Уэлкам!
Магда наполнила рюмки:
— Ну, еще по одной — и ведем нашего Дэнни домой!
Они выпили. У столика то и дело останавливались мужчины, что-то говорили Магде и Любе, от чего те покатывались со смеху, приглашали их танцевать. Магда отмахнулась и снова разлила водку по рюмкам:
— Еще по одной — и уложим Дэнни спать! О’кей?
Расхохотавшись, они опрокинули водку.
Какой-то молоденький морячок с бескозыркой в руках поклонился Магде и протянул ей красную гвоздику.
— Потанцуй с ним, — сказал Дэнни, — я разрешаю.
Магда воткнула цветок в волосы за ухом, и морячок умчал ее.
— Я так рада, что ей весело, — сказала Люба.
— Да, и как она свежа и молода! Просто прелесть!
Дэнни доставляла удовольствие безыскусная радость Магды. Но как же она могла стать проституткой? А Рахиль? Он знал ответ. Ты делаешь все, чтобы выжить, если тебе хватает на это мужества, — вот и все. А если бы муж не бросил ее, не бежал из Польши? Что ж, тогда она, быть может, так и осталась бы в Бродках, была бы примерной супругой и матерью. А Люба? Он повернулся и взглянул на нее: прихлопывая в ладоши, она ритмично подергивала плечами в такт музыке. Нет, это не тот случай: так или иначе, но она сбежала бы отсюда.
Морячок подвел Магду к столику, и она бросила гвоздику дочери. Дэнни чокнулся с ней. Хорошая мать. На все готова, чтобы порадовать свое дитя, — он чувствовал легкую дурноту.
— Дэнни, пойдем, я тебя научу нашим танцам, — тянула его Люба.
Он засмеялся, взял ее за обе руки.
— Нет уж! Танцуй, а я, пожалуй, пойду в отель.
— Мы с тобой.
— Посидите еще, здесь так весело. Я что-то устал. Лягу спать.
Люба перестала улыбаться:
— А как же мое обещание?
— Обещание? Я благодарен тебе за то, что ты собираешься его выполнить, но скажи, почему ты так долго ждала?
— Не хотела тебя терять, — пряча глаза, ответила она. — Я могла бы вернуть тебя только… только этим.
— Нет. Я вернулся, Люба, потому что ты мне нужна. Я кое-чему научился за последнее время, — и отвечая на ее невысказанный вопрос, наклонился к ней, обеими руками взял ее голову: — Люба, есть фантазии, которые никогда не должны становиться реальностью.
Он поднялся.
— Подожди, я провожу тебя! Дэнни, ты заблудишься!
— Я найду дорогу…
* * *
Дэнни открыл глаза. Рядом, со слабой, умиротворенной улыбкой на лице спала Люба. Что ей снится? То, как ночью она неслышно скользнула к нему в постель, как он проснулся, ощутив рядом ее тело? То, как, не произнеся ни единого слова, они особенно нежно и бережно любили друг друга, а потом уснули, не размыкая объятий?
Где-то очень далеко зазвучала музыка на карусели — она замедляла ход и должна была вот-вот остановиться. Дэнни представил себе пестро и ярко раскрашенных, но местами облупившихся лошадок. Он тоже устал от вечного кружения.
Надо остановиться. Есть кое-какие дела.
Дэнни осторожно, чтобы не потревожить Любу, поднялся с кровати, принял душ, оделся. Он чувствовал себя одновременно и древним старцем, и юношей. Забавное ощущение. И еще он чувствовал: что-то должно случиться, но что именно — не знал. Близилось что-то очень важное.
Сняв трубку телефона, он вполголоса подтвердил заказ на билет, потом стал укладываться.
Проснулась Люба и, зевнув, сказала с улыбкой:
— Я думала, ты будешь еще спать и спать.
— Я — ранняя пташка, — ответил Дэнни.
Тут она заметила его сумку.
— Куда ты собрался?
— В Швейцарию. В Лозанну.
— Дэнни… — позвала она. — Подойди-ка сюда.
Он присел на край кровати.
— Там, в кафе, ты сказал, что кое-чему научился. Я тоже.
— Да? И чему же?
Она глядела ему прямо в глаза:
— Знаешь, вчера мне было очень весело… Как будто вернулись наши с Магдой прежние деньки. Но я теперь точно знаю, что никогда больше не буду шлюхой. — Она засмеялась. — А буду я знаменитой художницей.
— Дай Бог. — Дэнни взял ее за руку. — Ты мне пришлась по сердцу, Люба. Ты — честная, а там, где я живу, это большая редкость. И я всю жизнь лгал и хитрил. — Он поднялся, перекинул через плечо ремень сумки.
— Не уходи, — голос ее чуть дрогнул. Она выпрыгнула из постели и пошла за ним в гостиную. Ты мне нужен, Дэнни.
— И ты мне нужна, Люба. Я тебе благодарен за очень-очень многое.
В ее наготе было что-то трогательное и беззащитное. По щеке покатилась слеза — Дэнни впервые в жизни видел, как плачет эта женщина.
— Мы еще когда-нибудь увидимся с тобой?
— Да. Я тебе обещаю, — ответил он с порога и улыбнулся. — Через неделю я буду в Лондоне.
Люба, бросившись к нему, обвила руками его шею. Дэнни крепко прижал ее к себе и вдруг почувствовал, как просто и легко выговаривается то, что ты думаешь на самом деле:
— Я люблю тебя, Люба. Я очень тебя люблю.
Эпилог
1988.
ТРИЕСТ, ИТАЛИЯ.
Дэнни откинул спинку кресла и посмотрел в иллюминатор. По ниточке железной дороги вдоль берега реки полз крошечный железнодорожный состав, к ли выбирались из Польши Магда и Люба?
Они были неразрывно связаны между собой и в Кракове, и потом, после побега. Они никогда не попытаются ослабить эти узы.
Дэнни подумал о своем фильме, но впервые за последнее время — без острой душевной боли. Он осуществил замысел, который вынашивал десять лет. А неудача постигла его потому, что он не заметил, как глубоко развращен он сам. Слишком сильно погряз он во лжи, работая в мире неправдивого правдоподобия.
Он сказал Любе, что летит в Швейцарию, но сначала он должен был побывать в другой стране, в другом месте. Когда самолет совершил посадку в Триесте, он вскочил в такси.
— Отель, синьор? — спросил водитель.
— Нет. Сан-Сабба.
— Сан-Сабба? — водитель пожал плечами и нажал на акселератор.
…Они остановились у высокого темного здания с потускневшей надписью на фасаде «LA RISIERA DI SAN SABBA».
Наконец-то он вернулся сюда. Жизнь идет по кругу. Его отец, мать, сестра — все погибли здесь. В этом угрюмом месте до сих пор обитают преследующие его призраки. Здесь берут исток воспоминания, не дающие ему покоя, здесь свили гнездо демоны, погубившие его жизнь. Как он, одержимый этими демонами, еще пытался спасти Патрицию?! Как смел он надеяться на будущее, пока не произведен расчет с прошлым?
Ворота здесь теперь другие, а сбоку пристроена будочка кассы. Он вылез из такси и купил у сонного старика-итальянца входной билет. Когда он впервые шел по этой узкой, посыпанной гравием дороге, отец держал его за руку. Сейчас двор пуст. Он нашел окно того полуподвала, из которого видел столько ужасного.
Других посетителей не было. Жизнь не стоит на месте, люди не хотят помнить то, что было, и открещиваются от этого. И он предпринял попытку сделать вид, что ничего не было. Однако вот же он перед ним — концлагерь «Сан-Сабба» — средоточие мук и смерти…
Он вошел в крематорий, обвел взглядом выбеленные известью стены. Ничего зловещего тут не было. Чуть дальше он увидел две печи с длинными, под два метра, лотками на колесиках. Неужели на эти лотки клали тела сжигаемых? А, может быть, они служили для буханок свежевыпеченного хлеба, которым кормили голодных евреев?
Прежней дорогой он вернулся к воротам, открыл дверь рядом с воротами. По обе стороны от входа стояли два ящика — один с ермолками, другой — с молитвенниками на иврите. Он взял книгу и ступил в полутемную комнату, где происходили издевательские судилища, где людей приговаривали к смерти, не называя вины.
На стенах висели фотографии и рисунки, от которых сжималось сердце. Многие были сделаны детьми и изображали птиц, зверей, цветы — эти яркие воспоминания они сохранили до смертного часа. Дэнни долго ходил по этой комнате, пока не нашел то, за чем приехал сюда. Оно нисколько не изменилось за эти годы. Оно было точно таким, каким сделал его отец. Дэнни стоял и смотрел на распятие.
На подставке из приваренных друг к другу болтов, железок, гаек — по мысли отца, эта груда металла должна была символизировать нацизм — стоял скелет человека, и за стальными полосками ребер ярко горел кусок меди — душа. Раскинутые руки длинными гвоздями были прибиты к поперечине креста, а на клочке когда-то белой, полуистлевшей ткани еще можно было различить шестиконечную звезду. Голова была опущена на грудь в неизбывной и вечной муке.
Как долго он отрицал свое еврейство! И глядя на статую, изваянную его отцом, Дэнни вдруг подумал: «Может быть, Иисус и есть мессия? Почему не принять эту мысль, не скинуть с себя тяжкое бремя религии, которая приносит одни лишь страдания? Почему не уподобиться народу, среди которого живешь, не слиться с ним? Зачем цепляться за древние верования и архаичные традиции, зачем поклоняться гневному Богу, требующему немыслимой верности своим заветам?» Он стал христианином, потому что не хотел делить муку еврейства. Но он не сумел избежать ее.
Этот гневный еврейский Бог требует воздаяния, но тем, кто несет это бремя, Он дает награду. Не Он ли уничтожил всех врагов избранного народа — вавилонян, египтян, римлян, нацистов? Не он ли наделил это немногочисленное племя могучим даром — мир поет сложенные им песни, читает написанные им книги, смотрит снятые им фильмы?
И только здесь, на месте страданий и гибели его близких, Дэнни понял, что бегство невозможно.
И муки мои будут длиться, потому что я — еврей.
Он надел ермолку, опустился на колени перед распятием, закрыл глаза. Сквозь колеблющиеся огоньки зажженных в честь субботы свечей он увидел мягкие черты матери, а напротив нее — аскетично-суровое лицо отца. От их любви появился на свет Мойше. Во тьме возникли пухлые губы, высокие скулы, каштановая волна волос, обрамляющих чувственное лицо, живые, нежные глаза, — это его сестра, это — Рахиль.
Они умерли до того, как он прошел обряд совершеннолетия — бар-мицву, и теперь перед их памятью он произнес слова, которые произносит каждый еврейский мальчик, достигший совершеннолетия: «Сегодня я стал мужчиной».
Открыв глаза, он снова взглянул на распятие, шепча сквозь слезы: «Отец, я предал тебя, мать и сестру. Прости меня».
Он развернул молитвенник и громко прочел заупокойную молитву, в которой сорок лет отказывал своим близким.
Потом утер слезы. Он наконец-то исполнил долг, похоронил своих мертвецов — теперь можно попробовать жить. Теперь он обрел мужество на весь мир заявить о том, что он — еврей, и выкорчевать ложь из своей души.
Теперь он имеет право лететь в Швейцарию. Он имеет право на Патрицию.
Выходя из ворот, Дэнни вновь ощутил на плече могучую руку чернокожего десантника Тайрона. Он остановился, взглянул на высокую черную трубу крематория, так четко выделявшуюся на фоне яркого голубого неба.
А где-то в Южной Германии аист взмахнул крыльями, сорвался с крыши и полетел на закат.
Примечания
1
С добрым утром, герр Деннисон! (нем.).
(обратно)2
Все в порядке? (нем.).
(обратно)3
Не за что (исп.).
(обратно)

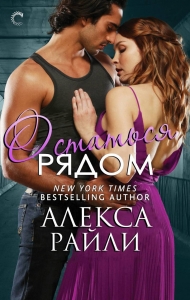



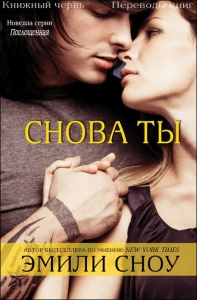


Комментарии к книге «Танец с дьяволом», Кирк Дуглас
Всего 0 комментариев