Владимир Ляленков Армия без погон[1]
…когда настанет утро, ты скажешь: «О, если бы был уже вечер!»
Когда же придет вечер, ты будешь молить, чтобы пришло утро…
Глава первая
В потемках я выбрался из вагона, пробежал к деревянному вокзальчику. В зале ожидания ни души, пахнет чем-то кислым. И холодно, холодней, чем на улице, но там льет дождь. Вошел милиционер, сказал, что в такое время в Кедринск не попасть: дорога разбита, ночью автобус не ходит. Нужно ждать утро. В седьмом часу придут машины за рабочими, которых возят из деревни на стройку. И я доберусь с ними.
Чтобы ночь пробежала незаметней, я прилег на скамейке, вскоре уснул. А проснулся утром от шума: три цыгана выкладывали руками кислую капусту из бочки в ведра. Вокруг них сновала цыганка в платке до пят. Что-то кричала мужикам, те коротко, резко отругивались.
Увидев меня сидящим, цыганка подошла, предложила погадать. На вид ей лет двадцать. Она была красива, от нее пахло мочой.
— Не надо мне гадать. Отойди.
— Дай покурить, красавчик…
Машины уже стояли возле магазинчика, к ним сходились рабочие. За ночь я продрог, ноги в коленях окоченели. Я с трудом забрался в кузов ближней машины. Тронулись.
Дорога тянулась хвойным лесом, вся в ухабах, залитых водой. Проплыла мимо деревенька: дворы не огорожены, трубы не дымят, людей не видно. У крайней избы показался босой мужик. Проводил машины взглядом, помочился и скрылся в дверях.
Машины перевалились через бугор, очутились в Кедринске: одна улица, в стороне несколько бараков. Штук пять изб — остатки снесенной деревни Кедринка. Севернее от жилья промплощадка, труба строящейся ТЭЦ. Вокруг всего этого сырой хвойный лес со множеством озер и болот.
На дороге непролазная грязь. Даже там, где успели покрыть землю бетоном, она доходит до щиколотки. Возле управления стройтреста колонка. До прихода служащих я вымыл ноги, туфли.
Начальником отдела кадров треста работает пожилой, полный еврей Штокман. Он небрежно просмотрел мои документы.
— Пойдете в СУ-пять, там начальник Гуркин Иван Антонович. Но прежде зайдите к управляющему.
— Зачем?
— Для собеседования…
Управляющий предложил сесть. Не отрывая глаз от бумаг, задавал вопросы. Я смотрел на огромный голый череп, на плечи, торчавшие палками под рубашкой. И отвечал.
— Ну, а бетонные работы хорошо знаешь? — гудел глухой, подвальный бас.
— Знаю.
— Земляные?
— Знаю.
— Работал прежде?
— Работал. Рабочим на стройках. Руководить не приходилось.
— Научишься. Женат?
— Нет.
— А водку пьешь? — темные, старчески-мутные глаза уставились на меня в упор.
— Случается.
— Гм… Ну ладно. Скажу одно: знай, с кем пить, где, когда и сколько…
После управляющего я представился начальнику СУ-5 Гуркину, главному инженеру Самсонову. От них вышел в должности мастера по строительству больничного городка будущего города. На складе получил резиновые сапоги, брезентовый плащ с капюшоном.
Глава вторая
Итак, я теперь не студент, не иждивенец. А вполне самостоятельный человек.
Живу в трестовской гостинице-общежитии, в двухэтажном домике, окруженном лужами, в двухместной комнате с трестовским бухгалтером Околотовым. Когда я только поселился, принял меня Околотов неприветливо. Я написал родным письмо, сходил в столовую. Потом лежал на койке, задрав ноги на спинку ее, курил и мечтал. В шестом часу дверь раскрылась, вошел высокий худой старик в плаще и в кожаной фуражке с длинным козырьком. Он бросил на стол пачку газет, постоял молча и спросил:
— Вы надолго поселились, молодой человек?
— Не знаю, — сказал я.
— Вы в командировке?
— Нет. Я приехал работать.
Он еще постоял и отправился к коменданту, крохотной доброй татарке, просил поселить меня в другой комнате. Дескать, он берет часто работу домой, я буду мешать. Но свободных мест больше не имелось, и я остался жить с ним. Никакой работы Околотов домой не приносит, — он просто привык к одиночеству. Выписывает массу газет. Перечитывает их все, делает из них вырезки, выписки. Выписки заносит в толстую тетрадь в черном переплете, которую хранит в фанерном чемодане, напоминающем сундучок. Занимаясь этим делом, Околотов терпеть не может моего присутствия. То и дело косится на меня, ерзает на стуле, хныкает в нос. И я оставляю его наедине с самим собой.
— Я закроюсь, Борис Дмитрич, — провожает он меня, — а нужно будет зайти — постучите.
— Хорошо.
С жильцами гостиницы он не общается. За исключением жильцов четырнадцатой комнаты, работников бухгалтерии СУ, пожилых людей. По субботам играет у них в карты. Иногда возвращается от приятелей под хмельком. Тогда медленно раздевается, кладет в чашку с разведенным спиртом свои вставные челюсти. Гасит свет, садится на койку, сидит подолгу, обхватив голову руками, уперев локти в острые колени. Вдруг вскочит, начинает ходить большими шагами от окна к двери. Кому-то задает вопросы. Сам же отвечает на них шепотом, отчаянно жестикулируя руками. Потом заберется в постель, укутается в одеяло и лежит не шевелясь.
Он не из местных. До сорок шестого года жил в Белгородском районе, работал главбухом пивоваренного завода. Там же работал техноруком некий Суворов, отличный специалист и отчаянный жулик. Аккуратный в работе главбух мешал жить Суворову. И тот, пользуясь опытом друзей, состряпал на Околотова донос: Околотов в армии не служил, во время оккупации выдавал немцам коммунистов и евреев.
Околотов не служил в армии из-за больных почек и сердца. При немцах жил в своем домике неподалеку от полуразрушенного завода с женой и маленькой дочерью. С немцами никаких дел не имел. Но Суворов подкупил свидетелей. Плюс к этому жена бухгалтера, женщина полуграмотная, запуганная, подписала в милиции бумагу, которая якобы должна была облегчить судьбу не только мужа, но и всей семьи. Околотова упекли в тюрьму на десять лет. Спустя восемь лет его выпустили, реабилитировали. Он поехал к родным, от которых за все восемь лет не получил ни одной весточки. Приехав в родные места, узнал: едва его посадили, жена домик продала, уехала с дочкой на Север, в Тихвин, к своей престарелой матери. Желание видеть дочь привело Околотова в этот город. С неделю он жил в гостинице. Ежедневно встречался с дочерью, которой мать внушила с детства, что отец ее умер от болезни. Потом Околотов переехал сюда. Он регулярно посылает семье деньги, но навещает редко. Когда навестит, с женой совершенно не разговаривает. Отдаст дочери подарки, погуляет с ней. И возвращается обратно в Кедринск. Дочь тоже приезжает к отцу, обычно в субботу на воскресенье. При ней он становится другим человеком. Много и бесполезно суетится. Закупает множество закусок, сладостей. Он вегетарианец, питается крайне умеренно. А тут все ест и сам, лишь бы дочь угощалась. Хотя после страдает желудком.
— Чего бы ты еще хотела, Оленька? — повторяет он то и дело. — Скажи, родная? — И на лице его гуляет блаженная улыбка помешанного.
Обычно я оставляю их наедине. Иногда Околотов приглашает меня посидеть с ними, чтобы дочери не так скучно было. Приглашая, улыбается мне заискивающе, как-то по-собачьи. Отказаться трудно.
На столе появляется коньяк. Околотов то и дело подливает мне, приговаривая:
— А мы еще маленько выпьем… Борис Дмитрич весь день провел на открытом воздухе. Оно и ничего, даже полезно выпить…
Оля кончает десятый класс, собирается в институт. Расспрашивает о студенческой жизни. Я горожу всякий веселый вздор, она хохочет. Смеется она великолепно.
Спать укладываем ее на отцовой койке. Он ложится на моей. Я стелю себе на полу возле радиатора.
— Пап, ну, может, простишь и вернешься домой? — услышал я однажды, проснувшись под утро от холода. — Как хорошо бы жить вместе!
— Нет, доченька, нет, моя красавица, — шепелявил Околотов, — не могу я сейчас этого сделать с теперешним моим характером… Будут часто скандалы, Оленька. А ты не должна их знать. Вот уедешь в институт, тогда посмотрим…
После отъезда дочери Околотов дня три ходит бодрым. Газеты не читает, вечера проводит у бухгалтеров. Даже беседует со мной. И всегда на одну и ту же тему: истинные человеческие чувства могут связывать только родителей и детей. Потому люди должны совершать поступки по отношению друг к другу только согласно принципам. Даже вступая в брак, люди должны исходить из каких-то принципов. Ибо чувства непостоянны, тленны, меняются от обстоятельств. Я пытаюсь возражать, привожу примеры из литературы. Околотов начинает браниться, ругает писателей. Не каких-то отдельных, а всех огулом: они сами живут чувствами, много страдают. Выливают свои страдания на бумагу и заставляют людей переживать чужое горе. А у людей самих этого горя — хоть отбавляй.
Таков мой сосед по комнате. По утрам он выполняет для меня роль часов. Мой рабочий день начинается с восьми, его с девяти. Но уходит он намного раньше — ровно в половине восьмого. Проснувшись от шагов бухгалтера, я лежу, слушаю его шепот, постукивание ложки в чашке. Едва он уйдет, я вскакиваю, умываюсь, пью чай и спешу на работу.
Больничный городок строится на окраине будущего города. Города еще нет, потому мой объект стоит на отшибе от основной стройки. Я оставляю позади весь второй квартал. Пересекаю обширный пустырь, усеянный валунами, покрытый лужами, по краям которых бегают кулики, они залетают из ближнего лесного болота. Пустырь — в будущем городская площадь. За ним котлован под Дом культуры. Здесь я сворачиваю на щебеночную дорогу, ведущую к объекту. Дорога временная, мы ее часто ремонтируем. А машины с помощью дождей разбивают ее. Недавно ночью на дороге образовалась яма: под полотном была карстовая воронка, и грунт просел. Не успели мы утром засыпать яму, как из-за угла второго квартала вырвался зеленый «козел» управляющего. На всем ходу влетел в яму, взревел и заглох. Мой непосредственный начальник, прораб Федорыч придерживается древнего солдатского правила: как можно реже попадайся на глаза начальнику. А под горячую руку не лезь вовсе.
— Иди, расхлебывайся, — толкнул он меня в плечо, сам исчез в дверном проеме главного здания.
С рабочими я пошел к машине.
— Где прораб? — ответил на мое приветствие управляющий.
— Иван Федорыч ушел на лесозавод, — сказал я, — опять нам досок не дают.
Едва машину вытащили, она развернулась и укатила. В тот же день Федорыч получил выговор по тресту «за плохое состояние подъездных путей к объекту».
— Нехай, — отмахнулся он, узнав новость, — у меня этих выговоров было столько, что собери их все в кучу да раздели на линейный персонал нашего СУ, достанется всем по десять штук на рыло. Да. Я, брат, двенадцать лет работаю прорабом. Только здесь пережил трех управляющих, двух главных треста и четырех начальников нашего СУ. Так-то…
Специального образования Федорыч не имеет. Еще до революции окончил три класса сельской школы. Прошел через гражданскую, финскую, Отечественную войны. Четыре раза был ранен. Последнее ранение получил в ногу, потому немного хромает.
После войны отработал год в милиции, откуда сбежал.
— Что творили, что творили тогда в милиции, — поясняет он причину своего бегства, — как хотели измывались над народом. Не выдержал я и сбежал. Понятно, не говорил действительности своих желаний. Сказал, мол, раны болят, не могу и так далее. Там, брат, правду эту в затылке держи. У-у! Теперь вот иначе. Вон, — кивнул он на подвернувшиеся к случаю три милицейские формы, пробиравшиеся по грязи в сторону деревушки Окново, — идут себе и пусть идут. И никто на них внимания не обращает. А тогда б со всех щелей смотрели: куда сразу трое, кого забирать?..
Как бы рано я ни пришел на объект, Федорыч уже здесь. Либо бранит ночную сторожиху Настю, разбуженную им только что. Либо сидит в прорабской, смотрит через окно на дорогу.
— С новым днем, со старыми заботами! — встречает он меня.
Часто сразу же закашливается. У него больные легкие. Кашляет он затяжно, тужась так, что припухшие серые щеки розовеют. Шея надувается. И похоже, будто вся его низенькая, плотная фигура становится толще.
— Будь проклята эта весна, — хрипит он, утираясь платком, — дожди, слякоть, сырь…
Даже в сухую погоду он спит по ночам плохо. Когда сыро, ночи проводит полулежа на подушках. С утра настроение у него скверное.
Каждую весну и осень он собирается на пенсию, но не уходит.
— Тишины не переношу, Дмитрич. Черт знает что! И скажи ты: баба у меня славная. Обе дочки ласковые, приветливые. Я их люблю. А не могу сидеть дома! Ездил в деревню. Думал, половлю рыбки, подышу в соснах — нет! Как чужой ходил там от тишины. И недели не прожил.
Глава третья
Как и большинство самоучек, Федорыч не принимает условий, которые помогли ему выдвинуться до прораба. Все успехи приписывает своим личным качествам. Работает, опираясь лишь на опыт. Из него вывел свою единственную в мире теорию поведения прораба на работе. Он считает, что, конечно, начальству сверху видней. Но когда оно вмешивается в дела прораба, поступает глупо. Однако слушаться начальство надо. Прекословить ему нельзя, а по возможности и тайком надо поступать по-своему. Рабочие, за исключением некоторых, пройдохи и лентяи, за ними нужен глаз да глаз. И с ними нужно быть строгим. По натуре же он добрый, мягкий человек. Выработал в себе привычку самовозбуждения. Делая выговор, замечание по какому-нибудь пустяку, начинает с низкой ноты. Постепенно повышает ее, кричит, трясет щеками, краснеет. Распалившись, совершает обход по объекту, рассыпая ругань налево и направо. Уже вспотевший, дрожащий от негодования вбежит в прорабскую, опустится на лавку.
— Фуух!.. Ну контингент, контингент подобрался… Со всего света съехались Тюха с Матюхой… Топора держать не умеют, а кричат: мы плотники четвертого разряда!
В углу прорабской, за лавкой, насыпан ворох стружек. Под ними всегда покоится бутылка с перцовкой. В аптечке стакан. Врачи запретили Федорычу выпивать. Дома жена строго следит за этим делом. Он прикладывается в прорабской. Выпив, занюхав корочкой, он ставит перед собой очередную задачу. Отправляется исполнять.
Прорабская наша — длинный дощатый сарай, обшитый изнутри картоном. Разделенный на два помещения. В меньшем — непосредственно прорабская, в большем — отдыхают, обедают, а зимой греются рабочие. Здесь по утрам спит на лавке длинный, курносый плотник Курасов. Он живет в деревне километрах в двадцати от Кедринска. Ежедневно, в пятом часу утра, через деревню проходит в сторону Кедринска почтовая машина. Курасов добирается на ней, до восьми спит в будке. Он член колхоза, паспорта не имеет. Принят на работу временно, хотя работает второй год. Из подобных ему прораб сколотил целую бригаду. Мечтает собрать еще одну. Эти люди хорошо плотничают. И дисциплина у них на высоте: в любую минуту прораб может уволить. А пожаловаться беспаспортному пойти некуда.
На днях с Курасовым произошел такой случай. Я осматривал на чердаке главного здания вытяжные шахты, установленные плотником. За кучей неразбросанного шлака увидел лежащего человека. Это был Курасов. Он спал. Я растолкал его, он вскинулся, ударился головой о крышу. На четвереньках пополз прочь. Я удержал его. «Да как же это?.. Эк меня сразу-то!» — повторял он сидя, потирая красные глаза.
От него несло перегаром.
— Ты пьян? — спросил я.
— Не. Нет, Борис Дмитрич, это со вчерашнего. Вчера был мой справочный день.
— Что за справочный день?
Он рассказал. Чтобы поступить на стройку, член колхоза должен иметь на руках справку: такому-то разрешается правлением поработать временно на строительстве.
В их деревне пятеро мужиков получили такие справки от председателя. За это угощают его по очереди. Вчера была очередь Курасова. С вечера он сажал картошку. Потом пришел председатель, пили они допоздна. Боясь проспать почтовую машину, Курасов не ложился вовсе. И вот забрался сюда взять забытый молоток, присел покурить и незаметно уснул.
Я отправил его домой выспаться. Пообещал прорабу ничего не говорить. Насчет дисциплины Федорыч строг. В причины какого-либо проступка вдаваться не любит. Курасову здорово бы влетело.
Рабочий день Федорыч начинает с «утренней разрядки». Разбудив Курасова, он отправляется по объекту. Вдруг останавливается возле штабеля кирпича. Облокотившись на него, скрестив ноги, кричит:
— Савельев!
— Я… о! — откликается голос бригадира молодых плотников.
— Иди сюда.
Стройная фигура вырастает перед прорабом. Бойкие, нахальные глаза смотрят на него.
— Чем занимаешься?
— Полы достеливаем в родильном отделении. Опалубку готовим для лифта.
— Материал есть?
— На сегодня хватит.
— Хорошо. Все твои вышли?
— Все, Иван Федорыч.
— Еще лучше. Позови-ка сюда Николайчика.
Бойкость из глаз бригадира исчезает.
— Ну?
— Иван Федорыч, он с обеда…
— Передай ему: еще раз — выгоню с треском… Тебя лишаю в этом месяце бригадирских. Помни: за укрывательство! Иди.
Федорыч ковыляет дальше. Он не выносит письменных выговоров. Не пишет докладных начальству на провинившихся.
— Мы этими пустяками не занимаемся. Да. Мы бьем рублем. Ох, и хороший кнутик, скажу я вам, этот рубль. Стегну, к примеру, рублей на сто, мигом поумнеет. Поумнеет, скажу я вам!
Когда дела на объекте идут хорошо и прорабом владеет благодушное настроение, он любит пофилософствовать, читать нравоучения. Поучал и меня. На третий день моей работы перед обеденным перерывом пригласил меня в прорабскую.
— Пойдем в будку, Дмитрич. Посидим, поговорим, да и обедать отправимся…
В прорабской налил мне перцовки, потом выпил сам. Кряхтя от удовольствия, потирая ладонью грудь, потную морщинистую шею, заговорил:
— Хороша, хороша, окаянная… Красное вино дрянь, московская предательница: выпьешь сто грамм, а несет от тебя перегаром за версту. Перцовка хороша: и жжет, и греет, и запаху не дает. Да… Вот что, Дмитрич, что я хочу сказать… Я конечно, для тебя ни поп, ни батька, но скажи как на духу: работать приехал или норовишь улететь?
— То есть как это? — не понял я.
— Да как… Вот приедет, к примеру, вроде тебя. Ему и это толкуешь, то поясняешь. Все грехи его на себя берешь перед начальством. А пробежало несколько месяцев, глядишь, улетел орелко! Чего, спрашивается, старался старый?
Я сказал, что приехал работать, улетать не собираюсь.
— Ну добре. Тогда вот что скажу для начала: забудь все, чему вас там в институтах учили. Забудь. Нивелир да теодолит знаешь, — загибал он свои толстые, короткие пальцы, — чертежи читать умеешь. И будет. Остальное забудь. Луди глотку, смотри волком. И никому не доверяй. Себе не верь! Сказал «пять метров» и лезь в чертеж: а пять ли их тут, окаянных? У-у! Иначе вам удачи не видать. Заклюют, съедят, костей не оставят и в дураках ходить будешь. Так-то. К тому говорю, что повидал я вашего брата, нынешних образованных. Чуть что, ох да ах, да как же так, да разве можно так?! А у нас, как на войне: делай и шабаш. Хочешь рассуждать — иди в лесочек, сядь на пеньке и рассуждай. Не улыбайся… К людям присматривайся, кто как работает. Но в душу не лезь, не забирайся! В душу и к одному не заглянешь, у тебя сотни будут в подчинении. И погрязнешь, как в болоте, а работу запустишь. Так-то. Люди, они, брат, разные. Очень даже различные, скажу тебе, во многих отношениях…
И будто для подтверждения его слов в прорабскую ворвалась разнорабочая Катя Шугулиц, по прозвищу Молдаванка. В юбке, в белой мужской рубашке, она закричала, раскинув в сторону руки:
— Ты что, старый хрыч, все нас да нас за цементом посылаешь?! Пятый день ездим, пылюку глотаем! Больше бригад нету? Или, может, тебе взятку дать?
Федорыч откинулся к стене, выпучив глаза. У Молдаванки дрожали пальцы рук, темные губы и ресницы огромных глаз.
— Ох, Катька, Катька, смотрю я на тебя, девка… Что из тебя получится? Пропадешь ты.
— Не ваша забота, — отрезала Молдаванка.
— Пропадешь. Замуж тебе надо — вот что! — вдруг закричал прораб. — Да мужика надо такого, чтобы норов твой прикрутил по-русски! — кулак Федорыча влип в стол.
И Молдаванка обмякла. Запела:
— А ты найди мне такого, Федорыч, а? Укажи. Отцом родным будешь! Уж как я зацелую тебя, старого!
Откинув назад голову, она хохочет, не стыдясь показавшихся в разрезе рубашки смуглых грудей, не прикрытых лифчиком.
— Вот видал, — сказал прораб, едва дверь хлопнула за Молдаванкой, — начальство не уважает, по-нормальному слова не скажет. Но я не сержусь на нее. Работает хорошо и пусть работает. Одно время бригадиром была. Пришлось уволить.
— За что?
— Бьет товарок. Чуть что не по ней, сейчас — хлясь, хлясь по щекам. А этого нельзя в рабочее время…
Молдаванка мне ровесница. Родилась в деревне где-то под Одессой. Родители погибли во время войны, она жила у родной бабки по матери. Когда подросла, устроилась в Одессе нянькой в семью инженера, обещавшего выхлопотать ей к совершеннолетию паспорт, устроить на хорошую работу. Паспорт она получила. В том же году инженер изнасиловал ее в чулане на куче тряпья.
— Здоровенный был боров, — рассказывала она женщинам, сидя в будке перед печкой, спокойно перебирая в руках рукавицы, — ну, ушли они в город: сама пошла, маленького взяла. И он с ними. Я в комнатах прибрала. Только захожу зачем-то в чулан, слышу шаги. Оглянулась — он. Вскочил в чулан, дверь запер, весь дрожит. Я было кричать. Он рот мне зажал, говорит: «Не ори, а то в тюрьму засажу». Ну и обработал…
Забеременев, она перетягивалась полотенцем. Пила всякую дрянь, чтобы лишиться плода. В один из июльских дней разродилась мертвым ребеночком. Да разродилась как! Стояла в очереди за крупой. Было душно. Слепили глаза лучи солнца, белые стены домов. Хотелось ей пить и пить. Вдруг ударила кровь в голову, что-то схватило поясницу раскаленными щипцами. В глазах потемнело, дома, люди закачались. Едва хватило сил добрести до ближнего парка. Забилась там, как зверь, в кусты. От боли, жажды жевала сочную траву. Только вечером обнаружила ее милиция — стонала, будучи без сознания.
Выйдя из больницы, к инженеру и не показалась, пешком ушла в деревню. Жить там не могла, тянуло куда-то ехать. Завербовалась на строительство Волго-Донского канала, с тех пор путешествует по стране. Здесь работает полтора года. За это время дважды увольнялась, куда-то ездила. Вначале жила в общежитии, потом перебралась в Окново, стала жить в избе одинокого древнего старика Савельича. Жена прораба берет молоко в Окнове. Бабы говорили ей:
— Повезло старому Савельичу! Век прожил бобылем, все по сударушкам таскался. Своих детей не имел, так чужая девка нашлась. Избу убрала, как терем, и ходит Савельич теперь в чистом!
Удивило окновцев и другое: едва сошел снег, стала купаться Молдаванка по утрам голиком, никого не таясь, в ключевой речушке Норка, вода в которой круглый год ледяная.
Изба Молдаванки близко от городка. Но обед она приносит с собой. Усядется в сторонке от мужиков, разложит на газете яйца, хлеб, холодное мясо. Ест не спеша, аккуратно, напоминая в эти минуты повадкой кошку, когда та умывается. Вдруг обернется к мужикам:
— Эй вы, чего чавкаете? Как свиньи…
— А ты не слушай, Катя, бо еще какой звук услышишь.
Смеются.
— Куркули, — отвечает она коротко.
По воскресеньям, в сухую погоду, прогуливается она по главной улице Кедринска: голенища сапожек отвернуты. Слегка покачивая бедрами, надламываясь в пояснице, смотрит вокруг, будто никого не замечает. Точно так же, как молодой часовщик, прижившийся на стройке, с искалеченной, страшно вывернутой ногой.
Нынешняя весна выдалась дождливой, холодной. Приплывающие из Прибалтики слои влажного воздуха сталкиваются с северными, восточными слоями. Дождь сменяется снегом, градом. Но в прошлую субботу с утра светило солнце. Видна была линия горизонта вокруг Кедринска, образованная вершинами деревьев, обычно закрытая туманом. К полдню рабочие сняли куртки, спустили до пояса комбинезоны. В полдень стояла настоящая жара. И после работы я спустился к Норке. Раздевшись до трусов, обмылся, стоя на камне, хрустальной водой, под которой черное каменистое дно. Потом лежал на плаще, обсыхая. Звенели жаворонки, на той стороне женщины копали огороды. За кустами что-то прошуршало, послышался плеск воды. Я сел и увидел Молдаванку. Она стояла голиком по колено в воде, пригоршнями плескала воду на плечи, на грудь. Брызги метались роем. Солнце освещало смуглое прекрасное тело женщины, над ним вспыхивал на мгновение желтоватый венец радуги…
— Фигура, ну и фигура, — говорит о Молдаванке прораб, сочувственно качая головой. Вкладывая в это слово понятие: человек, его характер. Произносит это слово, но только восхищенно качая головой, когда говорит о бригадире плотников Жукове.
— Это фигура, я понимаю. Мне бы таких человек десять, готов до ста лет работать на стройке.
Глава четвертая
В бригаде Жукова двенадцать человек. Каждый может выполнить любую работу, какая только встретится на стройке. Бригада почти не простаивает и в самый плохой месяц зарабатывает не менее пятидесяти рублей в день на человека. На работе Жуков хмур, молчалив, даже грубоват. На новичка может произвести неприятное впечатление. Когда я только вышел на работу и сидел в прорабской, знакомился с чертежами, вошел коренастый мужик с широким сухим и немного курносым лицом. Метнул по столу острым взглядом и спросил:
— Где прораб?
— Не знаю. Куда-то вышел.
— Как придет, передай ему: в подвале вода появилась. Я людей снял. Нужен насос. Да поскорей. Иначе зальет. Я людей не поставлю туда.
Слова выбрасывал резко, как мне показалось, со злобой. Я подумал, что это горлопан, каких встречал на стройках.
Прежде он работал в Новогорске. Там кончилось строительство, перебрался сюда, поселился в Окнове, где снял избу. Сыновья его плотничают на промплощадке, получили квартиры. И оставили стариков, которые не представляют, как это можно жить без хозяйства, потому избу не бросают.
Дома, в своей избе, Жуков ведет себя иначе, чем на работе. Любит петь песни, играет на гармошке. Окновцы приглашают его дружкой на свадьбы. Приходили прямо в прорабскую две женщины, упрашивали Федорыча отпустить бригадира в какую-то Кузнецовку, где живет невеста. Обе просительницы были нарядно одеты. Головы обмотаны цыганскими платками, закрывающими лбы до бровей. Одна из них была ярко-красива и немного хмельна.
— На два денечка-то, товарищ прораб, — просила она, наивно играя глазами, облизывая губы, — без Данилыча неловко ехать жениху за невестой!
— Да вы что, бабы, — оборонялся Федорыч, — рехнулись? Вы куда пришли? У вас одни свадьбы на уме, а у меня работа, курьи головы!
— Да на два денька-то!
— Ну кто там у вас с ума сходит? — сдался Федорыч.
И три дня, прихватив воскресенье, Жуков гулял, веселил народ. В понедельник вышел на работу, был спокоен, молчалив.
— Как погулял, Данилыч? — спросил я.
На секунду в его глазах мелькнуло что-то задорное. Но он ответил просто:
— Ничего… Погуляли…
И вот этот толковый, сообразительный бригадир совершенно не умеет работать с чертежами. Упорно не желает даже знакомиться с ними.
— Ты, Дмитрич, покажи мне на пальцах, — говорит он, подвигая чертеж, — пойдем на натуре покажешь, пошли на месте уясним.
И на месте моментально схватывает идею. Проверять его работу нет нужды. Еще ни за что не желает иметь в бригаде более двенадцати человек. Даже Самсонов просил его:
— Данилыч, прислали ребят из училища. Возьми человека три временно. Поучатся и заберем.
— Я не учитель. Дайте любую работу, я сделаю, а лишних людей мне не нужно.
— Но ведь временно!
— Что же, будет стекло в этом месяце? — перевел разговор бригадир.
Мне кажется, здесь связано что-то с предрассудками.
Один раз только Жуков изменил своему правилу. И то, видимо, потому что тринадцатым оказался подросток.
Жестянщиком в городке работает дядя Саша Герасимов. Тихий, мягкий и незаметный, он устроил мастерскую в кабинете главврача. Стучит там целыми днями молотком. Ни к кому ни с какими вопросами не обращается. Кончится железо, он сам раздобудет где-то подводу, получит на складе все, что нужно, привезет. Молча отдаст Федорычу накладную. И скроется в мастерской. Год назад умерла от рака его жена, женщина властная, державшая в руках семью вместе с мужем. Он остался с четырьмя детьми: три дочери и четырнадцатилетний Ванька. Сам дядя Саша полуграмотный. Давно принял решение: его дети будут инженерами. Какими там инженерами — это не имеет значения. Старшая дочь уже поступила в институт, две другие, двойняшки, заканчивают седьмой класс. А Ванька после смерти матери школу бросил, повадился ходить на беседы в Окново. С одним из приятелей выпил водку, хранившуюся в столе для всякого случая. Чтобы оттянуть расправу, в бутылку налили воды. Расправа пришла, на другой день Ванька очутился в прорабской. Стоит, смотрит в пол и шмыгает припухшим носом. Под глазом у него ссадина. Дядя Саша сидит на скамейке, мнет в руках ржавую кепку.
— Возьми, Федорыч, хоть как возьми, — просит он, — хоть не плати ему ничего — лишь бы к делу пристроился. Как стоишь? Ты куда пришел? — кричит он сыну.
Федорыч давно знает жестянщика. Знает о его беде.
— А ты к своему делу пристрой, — говорит он.
Дядя Саша даже взвизгивает:
— Пробовал! Уж куда бы лучше! Да не хочет, подлец. Ткну его маленько, чтоб уразумел, губы развесит и хоть убей его, не сдвинется с места. Как стоишь, спрашиваю?
— Н-да… Дело сложное… Теперь вот таких в колонии сажают… да… не кормят и через день розгами стегают. А то и каждый день. Что ж, я попробую взять, только в милицию надо позвонить.
Федорыч выходит, я за ним. Решаем взять мальчишку.
Оформляем его учеником. Вооружаем кувалдочкой, зубилом. Прикрепляем к бригаде сантехников пробивать отверстия в перегородках для труб. Два дня он работает. Потом начинает исчезать. Явится утром с отцом, скроется в главном здании и растворится в нем: до вечера нигде не найти. После работы плетется за дядей Сашей, которому я ничего не говорю. Не хочется расстраивать старика, да и толку с этого мало — излупит и только.
— Иди-ка сюда, — подзываю Ваньку, — ты где пропадал?
— В подвале бил дырки.
— Зачем врешь? Там никто не работает.
— Я не знаю… Меня привели, указали, и я бил…
Врет спокойно, наивно глядя зелеными глазами на пряжку моего ремня. Он уже начал усваивать привычку: во что бы то ни стало в данный момент отвертеться, а там видно будет. Что делать с ним? Прикрепил к бригаде Савельева. Но дух неповиновения уже засел в подростке. Плотники прогнали его. Точно так же поступили каменщики. На моих глазах Ванька превращался в дикого, осторожного зверька, для которого весь рабочий мир — враг. Я решил убить хоть весь день, но найти его убежище. С утра осмотрел подвал, все этажи, обшарил чердак. Спускаясь вниз, заглянул в столярную мастерскую, где принятый на временную работу старичок-пенсионер изготовляет топорища, ручки для лопат и так далее. Я и прежде заглядывал сюда. Теперь же подхожу к окну, закуриваю. Взгляд мой скользнул за лист фанеры, отгораживающий угол. Там на стружках лежит Ванька. Курит папироску, пускает дым кольцами. Улыбаясь, следит за ними. Я хватаю его за оттопыренное ухо, дергаю. Покуда тащу пленника, он не произносит ни звука. В прорабской толкаю его в угол. Запираю дверь. С полчаса говорю о работе, о положении в семье, о его будущем. Под мирный тон моего голоса Ванька приходит в себя. Произносит сипло:
— А за ухи вы не имеете права таскать. Я могу пожаловаться в милицию, и вас посадят! Это вам не Америка.
Черт знает что! Отодрать бы его ремнем хорошенько. Эту мысль и высказывает Федорыч, когда присели на кирпичах за моргом, чтобы окончательно решить Ванькин вопрос.
— Был бы он мой, — ворчит прораб, — семь шкур спустил бы, а человеком сделал.
За морг в кусты прошел Жуков по малой нужде.
— Данилыч, зайди посиди, иди покурим! — позвал Федорыч.
Бригадир присел перед нами на корточки, внимательно слушает. Поднявшись, говорит:
— Я про все это знаю… Сашка мужик хороший, только дурь в голову вбил: инженеров ему подавай! А мужик деловой. Трудно ему. Сколько ж парнишке годков?
— Шестнадцатый потянул, — моментально сообразил Федорыч.
— Присылай его завтра в бригаду…
За две недели Ванька стал другим человеком. Вначале подносил плотникам доски, инструмент. Теперь у него появился топорик, подаренный Жуковым. Он шкурит доски, опиливает их по размеру. Работает в паре с бригадиром…
«Жуковцы» сейчас кончили заготовку половых лаг, должны укладывать их в кухонном отделении. Нужно вынести отметку чистого пола. Я появляюсь с нивелиром, устанавливаю его. Плотники перекуривают. Сидят кружком, Жуков и Ванька немного в сторонке. Мне сверху видна рыжая копна волос Ванькиных. Медный блин лысины бригадира, окаймленный серебристым ободком волос. Могучие плечи, обтянутые застиранной гимнастеркой.
— Что ж, Иван, осенью пойдешь в школу? — говорит Жуков.
— Не, — беспечно отвечает Ванька, скребя стеклышком топорище, — ну ее… — он скверно выругался.
— Ругаться так нельзя, Иван. А не хочешь учиться, так и не учись. Я тебя научу плотничать, потом столярничать. Любого ученого за пояс с тобой заткнем.
Я прошу плотника Никифорова походить с рейкой. Остальные говорят на политическую тему.
— Нет, Америка больно жирная, — говорит пожилой Казаков, — на Россию она не полезет. Россия жесткая, костлявая. Народ у нас стал злым от этих войн. Полезет кто — расшибем. И ракеты же теперь…
— Куда ей! Конечно! Ракету с любой стороны запускай, и угодит по назначению.
Помолчали. Возвращаются к утренней новости, облетевшей стройку: в прорабстве Еремина обнаружили в смотровом колодце труп рабочего Николаева. Николаев приехал недавно из заключения, работал землекопом-бетонщиком. Говорит, конечно, Куприянов, длинный, сухой, как жердь. Сидит, подавшись вперед, изогнув спину колесом, будто позвоночник резиновый. В жизни он тих, муху не обидит. А рассказывает всегда о чем-то страшном, связанном с убийствами, грабежами.
— Это еще что, — он глубокомысленно смотрит на носок сапога, — этот из тюрьмы. Может быть, с ворами был связавшись, да изменил им. А у них это решается в полном откровении: где хошь найдут и прикончат. А вот в позапрошлом годе в Ершовке под вечер вышел парень из избы и как в воду канул. Двое суток прочесывали лес, не нашли. А весной обнаружил пропавшего колхозный пастух: парня убили и затолкали в ствол столетней ели у самой опушки.
— Кто ж его?
— Неизвестно.
— А за что?
— Да кто ж знает! Говорят, он был пристрастивши играть в карты с приезжими. А врачи в трупе печенки не обнаружили.
— Что ж он, на печенку играл?
— Чудак! Кто ж знает!
Жуков поднялся.
— Покурили и хватит. А то мастер скажет: сидят, сидят, а как наряды закрывать, все им мало.
Он добродушно посматривает на меня…
Потом я осматриваю кладку стен поликлиники. Даю отметку оконных перемычек. Нужно подняться на чердак, посмотреть, как подвигается работа у каменщика Борцова. Он с тремя подсобницами выкладывает из гипсолитовых плит вентиляционные каналы. Пришел к нам Борцов недавно и работает скверно. То и дело перекуривает, тискает девчат, рассказывает им анекдоты. А стоит появиться мне, он суетится, покрикивает на подсобниц. В этом месяце надо закончить каналы. Сдадим заказчику весь чердак, получим деньги. Борцов может подвести. На чердаке душно, пахнет шлаком. Так и есть: каменщик сидит на ящике для раствора, что-то рассказывает. Девушки сидят напротив, обнявшись, слушают. Заметив меня, Борцов взмахивает мастерком, стучит по плите.
— Девки, девки, пошевеливайся!
За полдня канал вытянулся метра на два, не больше.
— Почему так медленно дело подвигается, Борцов?
Он никогда просто так не выслушает замечание. Всегда ищет отговорку. Мыслит он так же, как и Ванька Герасимов, когда нагло врал мне: в данный момент вывернуться, а там видно будет. Но Ванька еще мал, глуп. Он не в состоянии был привести осмысленный аргумент и врал с умыслом, но без всякого смысла. Борцову двадцать пять лет.
— А что я сделаю? Что? — голос у него грубый, сильный, узкое лицо темно, темны густые, сросшиеся брови. — Вот эти рассядутся и сидят, как квочки. Раствор не успевают готовить.
— Когда не успеваем, Гришка? Что пустое болтаешь? — укоряют его девчата.
— Когда? Тогда! Когда в магазин бегали. Думаете, я не знаю?
— В какой магазин?
— В курносый!
И мне с некоторым укором:
— А вчера после обеда вы к нам не поднимались, а энергии не давали. Что ж я, на себе должен плиты с земли таскать сюда?
Это уж слишком: вчера день был пасмурный. Я сидел до вечера в прорабской, возился с нарядами. Лампочка горела и ни разу не мигнула. Терпение мое лопается.
— Ну вот что, — говорю, сдерживаясь, — я с тобой беседовал не раз, Борцов. Довольно. После работы получишь направление в отдел кадров.
Прохожу дальше, за спиной тишина. Федорыч приветствует мое решение.
— Добре. Давно пора прогнать этого бездельника. Надо бы с треском, да уж ладно…
С треском. Это, значит, Федорыч позвонил бы всем прорабам, назвал бы фамилию уволенного. И повсюду ожидало бы его сочувствующее отношение к нему. Бывают случаи, когда какой-нибудь отчаянный разгильдяй совершит полный круг от прораба к прорабу и попадет опять к Федорычу.
— Иванов, ты ли? — удивляется Федорыч. — Каким ветром? Зачем ко мне?
Иванов молчит.
— Ну иди в свою старую бригаду. Иди…
Иногда человек исправляется. Иногда нет.
Когда вручаю направление Борцову, он усмехается:
— Я-то не пропаду: была бы шея, хомут найдется. Это когда вас, начальников, увольняют, вы не знаете, куда приткнуться.
Посвистывая, он уходит. Зол ли я на него? Нисколько. Я видел, что работать он умеет и может быстро работать. И он не виновен в том, что распустился. Его сделали таким порядки на стройке, система оплаты труда. Взять наш городок. Строить его начали года три назад и три раза консервировали. Побывало здесь несколько прорабов. Каждый из них старался урвать от заказчика деньги вперед, а работу не сделал. Теперь нужно делать; деньги же «съедены». А частые простои бригад из-за отсутствия материалов? Трест наш молодой, рабочие кадры слабы. Штокман до сих пор разъезжает по стране, выискивает захудалые районы, вербует людей. Едут сюда топор не державшие в руках, с печальными пометками в трудовых книжках, отсидевшие срок, не поладившие с милицией где-то. Текучесть кадров огромна, выработка низка (в отчетных документах она нормальна). А расценки на строительные работы составлены по каким-то неведомым показателям выработки. Все это и еще масса мелких обстоятельств работают в течение месяца, в конце его результат такой работы обрушивается на голову прораба. Он должен дать план, должен платить рабочим. Где же взять деньги? Где? И вот строители всеми правдами и неправдами урывают от заказчика деньги вперед. Составляют липовые акты, процентуют работы, каких и делать не будут. Как-то, как-то выкрутиться! Вывести (не заплатить, а вывести!) сносную зарплату рабочим. Начинается то, что рабочие называют туфтой. А прорабы — мастера трансформаций. Здесь-то и обнажается корень трудового разврата:
— A-а, что там упираться! Все равно больше тридцатки не выведут!
С трансформацией я познакомился так.
— Закроешь, Борис, наряды Николаевой и Грузинову, — сказал мне Федорыч, — да не тяни резину. Сдавать в контору надо. Самсонов уже звонил.
Собираю наряды, часа два сижу в прорабской. За стенками носится холодный ветер с дождем, врывается под дверь. Уныло, протяжно стонет в трубе. Прихватив журнал работ, ухожу в гостиницу. Околотов, видя, что я занят делом, отправляется к приятелям. Я уже знаю: штукатуры зарабатывают в день рублей по двадцать семь. Землекопы-бетонщики от тридцати до сорока. У меня получилось: штукатурам по шестнадцать с полтиной, землекопам-бетонщикам — по двадцать пять рублей. Что такое? Пересчитываю, роюсь в справочниках, в расценках — расчеты верны. Утром пригласил бригадиров в прорабскую.
— Может быть, мы упустили что-нибудь? Сделали, а не записали?
Николаева пожала плечами:
— Не знаю, Борис Дмитрич, вроде все учтено… Все будто бы…
Рослый, мускулистый Грузинов, проработавший на стройках лет пятнадцать, усмехаясь, поглядывал на меня. Играя кончиком кавказского ремешка, поднялся нехотя:
— Ты, Борис, отдай наряды Федорычу, тот мигом все уладит…
Прораб интересовался как бы между прочим:
— Ну как там с нарядиками? Не тяни, не тяни резину…
Я выложил перед ним бумаги.
— Мало получается, Федорыч.
Старик потер ладонь о ладонь. Брови его победоносно взлетели.
— Ну вот и до этого дошел инженер. Так сказать, сунулся носом в самую жилу! Этому, брат, в институтах не учат. Нет! Садись! — ударил он ладонью по лавке. — Вот здесь садись. Давай-ка выпьем для начала…
И он произвел трансформацию. Пробежал взглядом по нарядам. Пожевал мозгом итоговую цифру. На несколько секунд задумываясь, закрывая глаза или глядя в потолок, прикидывал что-то в уме. Молниеносно чиркал карандашом в графе объемов работ. Цифра семь превратилась в семнадцать с чем-то, тридцать шесть в пятьдесят шесть с десятыми…
Через полчаса подбиваю итог: штукатурам вышло по двадцать шесть рублей.
— Они, канальи, ленились в этом месяце, — аргументировал Федорыч заработок.
Землекопам-бетонщикам — по тридцать восемь.
— И с этих достаточно. Вполне даже. Иначе из фонда вылезем. Да. А вылезать из него нельзя. Никак нельзя. Как хочешь провинись: напейся, прогуляй — простят. Из фонда будешь вылезать — ты и болван, и руководить не умеешь. Заклюют.
Шли домой, Федорыч толковал, что трансформация — дело простое. Но производить ее надо с умом, тонко, чтоб не бросалась в глаза какая-нибудь несуразица.
— Ажур полный должен быть. Похожесть на действительность должна соблюдаться. Да. Хоть и знают об этом — от главного до министра, — но видимость действительности требуется всегда.
Старик был уверен, что я быстренько научусь такому делу. «Ты парень с башкой». Привел, явно с педагогической целью, пример «о таком же, как я», молодом специалисте Шумакове, побывавшем в Кедринске года три назад.
Носил Шумаков очки, страшно любил читать книги. Даже в кармане их носил. В тихую минуту примостится где-нибудь и читает. Дали ему отдельный мастерский участок. Да и пожалели: Шумаков закрыл своим рабочим наряды по столько, по сколько выработали. Понятно, своего рода бунт: не по своей вине простаивали! Дошло дело до самого управляющего. Но и тогда Шумаков отказался делать приписки.
— Шальной был. Начитался больно много, полил струю против ветра. Через месяц его и не стало здесь.
— Уволили?
— Еще как! Подергали, подергали, клинья подвели и — фьють!.. Да и поделом: не будь умней всех, знай свое место, — Федорыч вздохнул, — странный народ, ей-богу. Ну вот о чем он думал? «Все, мол, так, а я вот иначе, я буду белой вороной». Поделом, поделом ему…
Трансформация привела к тому, что в конце месяца рабочий не знает, сколько он получит денег. Все зависит от прораба, мастера, как они сумеют вывернуться. От выработки всего управления. Это развращает и некоторых прорабов.
Строительство домов шестого квартала ведет прораб Кустарев. Худенький, маленького роста. Со всеми вежливый, видом какой-то робкий и слабый, он ходит вечно пьяный. Причем, будь он трезв или пьян, внешне совершенно одинаков. Придет за чем-нибудь в прорабскую. Сядет и сидит, шумно втягивает воздух через крупные, круглые ноздри. Иногда и уйдет, не сказав ни слова.
— Пьян в стельку наш Гриша, — заметит Федорыч.
— По нем незаметно.
— Привычка… Ну да это ладно. Как говорится, не пьет тот, кому не за что, да кому не подносят. Другое худо: пьет с рабочими. Деньги у них берет. А это уж никуда не годится.
— Чего ж не уволят за это?
— Кто же уволит?
— Начальство.
— Это не так просто, Дмитрич. Нужны, брат, доказательства, свидетели. А их-то и не сыщешь днем с огнем. Да кому охота кашу заваривать?..
Расходимся с прорабом у почты. Я сворачиваю за угол, он ковыляет к шестому кварталу, где стоит ряд коттеджиков. В коридоре одного из них он стягивает сапоги, вешает на гвоздь фуфайку. Проходит в комнату. Выпив стакан молока, ложится на диван. Глаза его закрываются. Минут двадцать лежит неподвижно. В квартире тихо. Только на кухне стукнет что-то — жена накрывает стол. Дочки в своей комнате чем-то занимаются. Уже традиция: двадцать, тридцать минут принадлежат только отцу. Но вот он садится, громко кричит:
— Мать, что это так тихо в квартире? Неужто девки замуж успели выскочить?
Глава пятая
У самой гостиницы меня кто-то окликнул. Оглядываюсь. Краевская. Пожимаю протянутую узкую ладонь.
— Давно не виделись. Ты не изменился. Как Николай? Пишет?
Она ежится в зеленом плащике. Серые красивые глазки ожидающе смотрят на меня.
— Пишет. Уже начал пальцами ног шевелить.
— Значит, позвоночник цел. Передавай привет ему.
— Хорошо. Передам.
Николай работал прорабом у монтажников. Сорвался с лесов, поломал обе ноги, руку и повредил позвоночник. Его увезли на вертолете в Ленинград. Я дружил с ним, и теперь мы с ним переписываемся. Краевская замужем, это не мешало ей встречаться с Николаем. А теперь она утешилась без него с московским армянином, приехавшим толкачом на рудник. Там творится ералаш. Начальство управления поставлено прорабами, прорабы мастерами, мастера бригадирами. Отослали туда много бригад с других участков. Но к пятнадцатому числу отправят первый эшелон известняка в Новогорск, а в Москву полетит телеграмма. Армянин поселился в гостинице, что-то не понравилось ему у нас. Перебрался на квартиру к снабженцу Роскину, который может сегодня пить с тобой, завтра будет пороть всякий вздор каждому встречному. Прибежал к нам в прорабскую: глазки блестели, весь дергался.
— Дома не ночую, скитаюсь по соседям…
Не выдержал и выложил: армянин приводит к себе Краевскую. Сколько пьют! А закуска: красная, черная икра…
Я был недавно дома у Краевского. Наш куратор Тихомиров болел, надо было кое-что уточнить в чертеже гаража. Когда я пришел, старик возился у приемника. Предложил мне чаю, заговорил о спутнике. Он еще больше постарел, обрюзг. Мне кажется, он все знает о своей половине. И тут влетела она, вся под девочку — в голубом, косички. Тридцать ей ни за что не дашь. Закрутилась вокруг мужа: она стояла в очереди за свежей рыбой, не достала. Прогулялась в лес, а там миллион тропинок. Шла, шла и заблудилась. Натолкнулась на стадо, и такой миленький пастушок вывел ее на дорогу.
— Ты голоден, мой дорогой? Сейчас тебя покормлю…
Николай говорил, что она умна. Ерунда. Она чертовски хитра, а эта сучья жизнь научила ее великолепно играть. Из нее вышла бы хорошая актриса…
В гостинице ожидают меня два письма: от родных и от Николая.
Днем в гостинице тихо, теперь она оживает. Возвращается с работы бригада эстонцев-наладчиков, командированных из Таллина. Рослые, с длинными крепкими шеями. Они моются гогоча, брызгаясь. Переодевшись, отправляются в конюшню, в бывшую конюшню, где убрали перегородки, перестелили пол. Поставили кассу и крутят по вечерам пластинки. Народу набивается много. Стены сжимают дергающуюся толпу, пахнущую потом, одеколоном. Эстонцы держатся там компанией, дают решительный отпор любому забияке. Компанией возвращаются в гостиницу, приводят с собой девиц. Тайком от вахтера проводят их через черный ход в комнату.
Появляются мягкотелые, с отсиженными задами бухгалтеры. Тихоговорливые, тихошумливые и недоверчивые. Подолгу толпятся в проходной у чайников с кипятком, который готовят вахтеры на электроплитках. Даже здесь бухгалтеры создают проблемы: устанавливают очередь, следят за ней, тихо ссорятся. Не берут те чайники, в которых вода кипела не на их глазах.
По одной, по две сходятся женщины, занимающие левое крыло. Оттуда по вечерам доносится грустное пение: в пятой комнате живут три молодые специалистки. Две очень тощие, некрасивые, третья уродливо полная, со свирепым выражением глаз. Соберутся на одной койке, обнимутся, поют: «Куда ведешь, тропинка узкая…»
Легко взбежала по лестнице, просеменила стройными ножками трестовский юрист Здражевская. Оставила за собой запах каких-то чудных духов. Мужчины проводили ее взглядом. Вскоре она появляется снова, но прежде чем взять чайник, болтает с вахтершей, то и дело улыбается большим ртом. Около десятка пар глаз невольно следят за ней. Кто она? Замужем ли? Что занесло такую редкость в эту глушь?
Как будто у нее в руках не чайник, а драгоценнейший приз, Здражевская уходит к себе. Медленно ступая ногами, поднимается Околотов. Пришли жильцы двадцатой комнаты, мои приятели, молодые специалисты: Жора Маердсон, Латков Федя, Иван Рукавцов и Петя Мазин. Их комната рядом с моей. Я уже поужинал. Лежу на койке, читаю письма. Мама спрашивает, почему я редко пишу, где обедаю. Осенью она собирается на пенсию: уже не выносит морозов, очень мерзнет. Сестра вышла замуж, он тоже врач, учились они вместе, вместе уехали на работу куда-то в Казахстан. К осени мама вяжет мне двойные шерстяные носки, носить их надо будет обязательно с портянкой.
Письмо от Николая сегодня длинное. Прочитал его, снова перечитываю. На днях ему сделали перевязку. Ему легче, и он может уже полулежать на подушках. Даже может смотреть кино. Недавно им показывали кинокомедию: две девки и три парня проводили отпуск на берегу моря. Имели претензию на остроумие, на любовь. Не было ни того, ни другого, а так — пошлость. Вообще, пишет он, комедии у нас нет, она была когда-то, но это прошлое. Образование многое сделало в России. И голая задница, мелькнувшая на экране, нетопырь, свалившийся в курятник, не заставят человека хохотать, они вызовут недоумение. Кинодеятели наши отстали от жизни лет на двадцать… Он читает сейчас много, в основном классиков. «Школьная прививка против классиков улетучилась. Читая их, лучше поймешь человека, жизнь, нежели от современных авторов. Они все доказывают, что до революции было худо, а теперь хорошо. Скучно и нудно проповедуют: не убей, не укради; будешь хорошо работать — больше заработаешь, а поленишься — мало получишь. Посмотришь в биографическую справку об авторе — пожилой человек. А представление о людях дает такое же, каким оно было у нас в детстве: если уж плохой человек, то он и норовит всю жизнь делать одни пакости. Герои книг ставятся в какие-то необычайные условия, в какие ни один из читателей никогда не попадает. Одним словом, в книгах все можно найти, нет в них одного — жизни. Тех действительно существующих условий, в которых молодому человеку придется работать. Нет подлинных характеров. А раз так, книги лживы, вредны для вступающих в жизнь. Конечно, есть и хорошие книги, но где их найти? Не можешь ли ты мне помочь в этом?!»
Я хочу сейчас же писать ответы, но Околотов занял стол. Несколько раз уже посмотрел на меня поверх очков. Ухожу в двадцатую. Маердсон торопливо переодевается к вечерней вылазке в конюшню. Его не удержит ни дождь, ни холод. Явится под утро усталым, озябшим. Сбросит сапоги, свалится трупом. В начале восьмого его будут тормошить, поливать холодной водой, пока не очнется ото сна. Он на год раньше меня приехал сюда. Уже работает прорабом, ведет жилье. Латков читает. Рукавцова нет. Мазин примостился у тумбочки, пишет письмо. Золотистая косичка в ложбинке шеи Мазина топорщится хохолком. Он моложе всех нас, строен, худ и красив, как девочка.
— Партию, Петя? — предлагаю я.
— Давай.
Усаживаемся за шахматы. Счет у нас шесть — четыре в мою пользу.
— Петька, может, пойдем? — говорит Маердсон.
Мазин качает головой, и Жора уходит.
Мазин родился и рос в семье трех старозаветных учительниц, из которых самая младшая — его мать. В том же городке, где рос, окончил и техникум. И прямо из-под крыльев матери и двух старых дев прилетел сюда с чемоданом, набитым сорочками, майками. И с комсомольской путевкой в кармане. В день его приезда была получка у строителей. В комнате собралось человек пятнадцать мастеров, прорабов. Был даже Федорыч. Много спорили, кричали, пели, пили. Потом говорили о женщинах. И Маердсон кричал: «Стойте! Я скажу вам о женщинах, о молодых женщинах! Они, как и проекты, бывают в нескольких стадиях: в стадии задания, в стадии разработки и, наконец, так сказать, в рабочем варианте. Я предпочитаю последних».
— А в стадии задания?
— Нет: хлопот много, а толку мало. Юноша, — обратился он к Мазину, сидевшему на койке, — а вы почему в стороне? Так нехорошо, иди сюда. Подвинься, Латков.
Мазин втиснулся между приятелями.
— Что будешь пить? Красное? Белое?
Мазин ничего не хотел.
— Красное, — сказал он.
— Ну можно и с этого начать…
Когда гости разошлись, Маердсон сходил в конюшню, привел Агнию Матросову, которая теперь, знакомясь, называет себя Марой. Она выросла в Окнове, после семилетки поступила в промтоварный магазин. Две продавщицы, приехавшие из Ленинграда, закончили ее образование. Сидя за столом в компании инженеров, она старалась держаться естественно и свободно. Закидывала ногу на ногу, громко хохотала. Курила, пуская дым через плечо. И выпила вина. Глупая девочка, она вела себя развязно. А намазанные ресницы, наведенная синева под глазами делали ее лицо старше и развратней. Она переночевала в гостинице. На рассвете Маердсон вывел ее через черный ход, она бросилась бежать. Жора спешил объявить приятелям удивительную новость: эта Мара была девочкой! Когда он вошел в комнату, Мазин стоял у стола. Новичок был бледен.
— Вы негодяй, Маердсон! — закричал он. — Вы развратник, вы не уважаете окружающих! Вы не советский человек!
Жора хохотал. Проснувшийся от крика Латков удивленно смотрел на новичка.
— Если еще подобное повторится, я буду драться с вами! — кричал Мазин.
Маердсон хотел рассердиться. Но понял, что новичок не шутит, сказал, прижав локти к ребрам, махая кистями:
— Ладно, ладно, Петя, больше этого не будет. Даю слово.
И Мазин не разговаривал с Маердсоном, покуда жизнь не подстроила скверную штуку.
Первое время Петя никуда не ходил по вечерам. Писал письма, читал. Потом познакомился с нашими подругами. Часто ходил и без нас в женское общежитие. И Рита Жиронкина, и Алябьева, и Козловская полюбили Мазина любовью старших сестер. Укоряли его худобой. Стоило ему появиться у них в комнате, тотчас угощали чем-нибудь. Они говорили ему, что Маердсон, я, Латков — отпетые люди, испорченные такими глупыми бабами, как они: до тридцати лет мы не женимся, а потом будем искать молоденьких. Петя не должен брать пример с нас. И как только встретит девушку, которую полюбит, пусть сразу женится. Он же о женитьбе и не помышлял. Праздники, дни рождения мы справляли у подруг. Тогда отмечали день рождения Жиронкиной. Были приглашены две девушки из соседней комнаты. Одна из них, Мая Воронкина, приглянулась Пете. А он понравился ей. Вскоре Мазин влюбился и объявил нам, что хочет жениться на Воронкиной.
Помню, Маердсон сказал тогда:
— Петька, это не мое дело, а ты дуешься на меня. Но я скажу тебе: Воронкина — рабочий вариант. Если бы было время, я бы доказал это.
— Заткнись, — ответил Мазин.
Месяц спустя сыграли комсомольскую свадьбу. Трест подарил молодым квартиру в новом доме. А через неделю после свадьбы молодая поехала в Питер и прислала оттуда мужу коротенькое письмо.
«Петя, — писала она, — получилась ошибка. Мы совершенно разные люди. Не ищи меня. Между нами ничего не будет».
Мазин прибежал с этим пйсьмом к нам.
Мы заставили его переселиться обратно в гостиницу. Маердсон и Латков разобрали ружья, патроны я унес к себе. Едва Петя приходил с работы, мы не оставляли его в одиночестве. Он ложился на койку и подолгу лежал молча. Маердсон любит играть в карты. Он говорил, что Петя слишком рано пошел ва-банк. Как и в игре, надо сначала изучить карты партнеров, а потом действовать, так же и в жизни. Жора говорил, что раньше сорока лет он не женится. К сорока годам он будет главным инженером треста, на худой конец управления, и тогда женится. Наши подруги были возмущены случившимся. Они разыскали какую-то Разумовскую, близко знавшую Воронкину. Стало известно, что Мая, еще учась в институте, была в связи с какой-то дряхлой знаменитостью из артистического мира. Родители ее были против их брака. Она приехала сюда с определенной целью и добилась своего: явилась перед строгими родителями вся в слезах, измученная пьяницей мужем, который до свадьбы был нежен с ней, ласков. А после свадьбы стал пить, бил ее.
Недели две Мазин жил лунатиком. Потом выбрался из омута мрачных мыслей. Подружился с Маердсоном, и часто делают вылазки в конюшню вдвоем.
Когда мы кончили четвертую партию, пришел Рукавцов. Удивленно осмотрел комнату, будто чужую. Серое, в мелких морщинках лицо его сердито. Он пьян.
— Играете? — заявляет он. — Ну, ну…
Проходит к койке, ложится, начинает скрипеть зубами и кого-то ругать. Он работает уже три года, говорят, не ладит с начальством и ходит до сих пор в мастерах.
— Не пойду никуда! — заявляет он вдруг. — Сказал — не пойду, и не пойду. У-ух! Петька, все они гадюки, верно?
— Верно, — Мазин объявляет мне шах ладьей.
Рукавцов мал ростом, некрасив. Он славный малый, но красивым девушкам недостаточно этого. Уже три кедринские красавицы отвергли его. По нашему мнению, он уже старик. На каждой из трех он готов был жениться, но ничего не вышло. В Окнове отыскал какую-то девицу, которую никому не показывает. Частенько ночует у нее.
— Я сказал, что больше не пойду! — категорически заявляет он еще раз сам себе. И вскоре исчезает за дверью.
Мы кончаем пятую партию. Ухожу спать.
Глава шестая
В городке вдруг наступает затишье: нам не везут ни досок, ни бетона. Все отправляют на промплощадку и на жилые дома. Рабочих стало много, к зиме нужно приготовить жилье. А заводом интересуется Москва. Тут уж не до городка.
От нас забрали всех каменщиков, штукатуров, бригаду Савельева. Хотели забрать Жукова, Федорыч не отдал.
— Забирайте разнорабочих, бетонщиков — всех забирайте, а Жукова не отдам! — кричал Федорыч по телефону Гуркину. — Я эту бригаду создал. Что? Временно? Знаем мы, как это временно.
Прораб повесил трубку.
— Отдать Жукова! Прораб Кибиткин сидит без рабочих! Курам на смех! Пусть сам министр приказывает, а не отдам Жукова. Завтра клюнет управляющего жареный петух, нагонит материалу, а у меня людей нет!
Позвонил сам управляющий, Федорыч и ему сказал, как и Гуркину. Через час курьер приносит приказ по тресту: Федорычу вынесен выговор с предупреждением: если не отошлет плотников на шестой квартал, будет уволен. Федорыч рассвирепел.
— Я не мальчишка! Пусть увольняют, а вот Жукова не отдам!
И он уносится прочь от городка по щебеночной дороге. Он редко теперь бывает здесь. С утра обивает пороги в парткоме, в конторе. Потом бродит от прораба к прорабу. Там выпросит воз досок, несколько листов железа, машину кирпича. Везде и все его знают, выручают по возможности. Контрабандой он завез даже десять машин бетона.
Я никуда не ухожу с объекта.
— Я побираюсь, а ты сиди и никуда не отлучайся, — говорит прораб, — здесь, как на фронте: хоть подохни, а покуда приказа нет, заройся в землю и жди.
Разнорабочие убирают территорию, тем же занимаются землекопы-бетонщики. «Жуковцы» бродят по городку, выискивают недоделки, исправляют их. Молдаванку я отпустил на полторы недели. Она пришла в прорабскую, мягко села на лавку. Поправила белый платочек. Я редко вижу ее лицо близко. Как можно равнодушнее смотрел ей в глаза.
— В чем дело, Катя?
— Мне бы отпуск…
Я подписал заявление, спросил, куда она собирается ехать.
— Так… по личным делам…
Из разговора женщин я догадываюсь: где-то под Ленинградом у какой-то женщины живет ее ребенок. Почему она его не заберет?
Один жестянщик продолжает стучать в своей мастерской. Он по-прежнему сам достает материал на складе. Мне делать совершенно нечего. Ваньку Герасимова и двух бетонщиков из бригады Грузинова обучаю читать чертежи. Особенно приятно заниматься с Ванькой.
— Вот эти линии — перегородки, которые мы делали? — искренне удивляется он.
— Да. Вот смотри: это капитальная стена. Сколько мы отмеряли от нее? Это расстояние указано здесь…
От меня Ванька бежит к своему бригадиру, рассказывает о том, что узнал.
Побродив по этажам, я заглянул к дяде Саше. Он прекращает работу, садится на подоконник. Он интересуется студенческой жизнью.
— Что ж им там стипендию сразу выдают или разбивают как бы на аванс и получку?
Я говорю.
— На четыре рубля можно в ихних столовых пообедать плотно?
— Вполне.
Заглянет в мастерскую столяр старичок-пенсионер. Теперь я знаю, что он трезвым никогда не бывает. Но и пьяным я его ни разу не видел. Живет он вдвоем со старухой. Ей отдает пенсию, а заработок равномерно пропивает. Покуда я не уйду, столяр рассматривает какую-нибудь жестянку. Едва исчезаю за дверью, слышится его басок — предлагает дяде Саше составить ему компанию.
Другие рабочие, даже «жуковцы», начали пошаливать. Смотришь, подались по кустам в сторону Окнова несколько человек. Вскоре возвращаются, придерживая полу курток, воровски оглядываясь, не вижу ли я. Я делаю вид, что ничего не замечаю.
Как нарочно, погода установилась чудесная. Солнце печет, воздух чист, свежий и теплый. Поднявшись на чердак, подолгу смотрю в слуховое окно. Уже не надо смотреть в генплан, чтобы понять планировку города. Вот это городская площадь. От нее отходят лучи улиц. Самая длинная уходит на север к промплощадке, против которой через дорогу старинный парк с тремя прудами. Разбитая на аллеи, обросшие столетними дубами, липами, елями. Промплощадка — настоящий муравейник людской. На земле, на лесах, на крышах цехов копошатся люди. Там и здесь блещет белым огнем сварка. Снуют машины, ползают тракторы. Тихий, монотонный гул ползет от промплощадки к городку, проходит сквозь него, глохнет где-то в лесу. В голове копошатся предательские мысли по отношению к Федорычу: как только закончим городок, буду проситься на промплощадку.
Здесь все уже кажется мне простым. Здесь нужно только организовывать работу. А там сложные конструкции, да и материал всегда есть.
Вон движется через пустырь длинная фигура в костюме цвета хаки — Маердсон. Он стал часто наведываться ко мне. Спускаюсь вниз. У Жоры на объекте сейчас, как говорится, работа кипит.
— Фух, — утирает он потное лицо, — набегался… Старик сейчас был, — Жора хохочет, — ёшь твою двадцать, пришел на седьмой дом, а там в коридоре горы мусора. Он мне: «Что ты, тудыть твою мать, Гималаи здесь развел? Сдашь дом в этом месяце?» — «Сдам», — говорю. «Смотри, — гудит, — голову сниму». И уехал… Есть там что-нибудь? — Он кивает на ворох стружек.
Я достаю перцовку. Я завидую ему. Во-первых, он сам ведет объект. Во-вторых, он испытывает сейчас то чувство, которое владело мной уже лишь отчасти — чувство удовлетворения от работы. Пусть сто человек работают на объекте, каждый делает какое-то одно дело. Все эти сотни дел прораб постоянно держит у себя в голове. Находясь даже вдали от объекта, он мысленно видит их. Прикидывает, как, где и что надо предпринять, чтобы завтра дело не приостановилось. Значит, к сотне этих дел прибавляется еще столько же, а может, и больше. И когда, несмотря на неурядицы, все такие дела в какой-то степени увязываются между собой, постепенно сливаются в одно целое — работа подвигается, тут уж чувствуешь свою значимость, нужность. А это самое главное…
А месяц-то подходит к концу…
— Деньги, деньги, черт бы их подрал! — Федорыч стискивает голову ладонями, качает ею, как от зубной боли. Неожиданно вскидывается, смотрит на меня изумленно: — Между моргом и прачечной был холм, — говорит он, поражаясь сам этой идее, — ни экскаватору, ни бульдозеру к нему не подобраться было. Мы его срыли вручную, грунт отвезли тачками на расстояние до пятидесяти метров. Что скажете, Борис Дмитрич?
— Акта нет же?
— Будет. Я свалю на тебя: мол, молод еще, забыл написать. Задним числом состряпаем. Возьмем на этом кубов четыреста… Тихомиров подпишет, я его уломаю…
Решаем запроцентовать бетонные фундаменты ледника, которых еще нет. Так же поступим с полами первого этажа. Ну и, скажем, весь месяц откачивали грунтовые воды из подвала… Еще тысчонок пять наберем по мелочам. А там и Самсонов подкинет деньжат за счет других участков…
Но вдруг вся наша затея рушится. Наш куратор, инженер ОКСа Тихомиров уходит на пенсию. Уезжает под Москву к сыну разводить сад. Это был спокойный человек, напоминающий характером дядю Сашу.
Побродит Тихомиров по объекту, придет в прорабскую, расскажет анекдот, выслушает сам, поговорит с Федорычем о делах треста, завода, о международной политике. Любил вспоминать двадцатые годы, когда ему, молодому специалисту, чуть ли не сам Ленин подписывал бумагу, по которой он получал в банке чемодан денег. Ехал строить мастерские, дома, элеваторы. Тогда доверяли людям, можно было проявить инициативу. Теперь же, говорил он, черт знает что: начальник сидит на начальнике, друг друга погоняют, проверяют. А рядом летят в воздух миллионы, но виновных не найти: все виноваты по чуть-чуть, и на поверку выходит, что все правы оказываются. Бумажная волокита разрослась до ужасающих размеров. Работников бухгалтерии развелось в стране в несколько раз больше, чем учителей и медицинских работников вместе взятых. Бумажная волокита превратилась в бедствие, которого никто не желает замечать, как не замечают воздух.
Наговорившись, Тихомиров делал какие-нибудь замечания по работе. Случалось, Федорыч и скандалил с ним. Но всегда они находили общий язык, все недоразумения кончались миром.
— Ну, ведь надо же, Иван Иваныч, — говорил прораб. — Ну, куда денешься? Я же не себе в карман беру эти деньги. Раз так получается…
— Ну ладно уж, ладно, — кивал Иван Иваныч, — что ж тут поделаешь… Только смотри, чтоб в следующий раз вперед не залазил. Не подпишу.
Приходил «следующий раз», повторялась прежняя история.
Глава седьмая
И вот вместо Тихомирова появился тщедушный старичок с острым личиком, обтянутым прозрачной младенческой кожей — Иван Карлович Штойф. По национальности немец, по профессии — инженер-строитель-проектировщик. Проектировал, строил общественные здания. Так в Мюнхене построена им «очень практичный и очень красивый гостиница».
В сорок первом году Гитлер послал Штойфа воевать в Россию, чего Штойф не желал, тем более против большевиков, с которыми мечтал поработать на строительстве городов бесклассового общества. При первой возможности он перебежал к нашим. В первый год войны перебежчики были редкостью. А Штойф не только солдат, но и человек с высшим образованием. Его отвезли в Москву, оттуда в Сибирь на строительство крупного комбината. Там он женился. После войны не пожелал возвратиться в Германию, принял наше подданство. Он научился правильно писать по-русски. Но понимать разговорный язык наш, украшенный различными оттенками, словечками, он не в состоянии. Первые же шаги Штойфа на лугу кураторской деятельности ошарашили прорабов. Пошли слухи, что он чертовски упрям. Как бы худо ни шли дела у прораба, он ни копейки не платит вперед. Еще хлеще: совершенно не платит за работу, не доведенную до конца. Положим, кровля выполнена на пятьдесят процентов к концу месяца. Штойф не платит за эти пятьдесят процентов.
— Сделать надо крыша вся, — утверждает он, — тогда получай деньги. За часть крыши деньги платить нельзя.
Говорят, прорабы ходили с жалобой к директору завода, в партком. Но Штойф не меняет своей тактики.
На объект он старается проникнуть лазутчиком, незаметно. Осмотрит все. Что не так, занесет в блокнотик. Проставит дату, время. И старается исчезнуть незаметным. Но это удается ему лишь на первых порах. Внешний вид, манера поведения моментально создают ему известность среди рабочих.
— Штойф, Штойф идет! — разносится по городку.
Все с улыбкой наблюдают за крохотным человечком в светлом плаще, в светлой шляпе, семенящим по дороге с чемоданчиком в руках. Там, где грязно, он ходит в сапожках. Достигнув сухого места, Штойф извлекает из чемоданчика туфли. Ни на кого не обращая внимания, переобувается. Исчезает в помещении.
В первом же сражении со Штойфом Федорыч потерпел поражение.
Часа за полтора до окончания работы в прорабскую влетел Ванька Герасимов, расширив до предела свои зеленые глаза, выпалил:
— Иван Федорыч, Штойф на горизонте!
Прораб посмотрел в окошко, выпил стакан перцовки, углубился в изучение журнала работ. Дверь открывается, немец скребет подметками по порогу, здоровается с полупоклоном и присаживается, сняв шляпу.
— Хорошая погодка установилась, — замечает Федорыч. Откидывается к стене, улыбаясь, смотрит на куратора.
— Да, погодка отличная…
Штойф приглаживает ладонью короткие седые волосы. Озирается голубыми невинными глазками. Его хрупкие пальчики, обтянутые прозрачной кожицей, достают из кармана табакерку. Понюхав, чихнув, он достает платок.
— Да-а, погодка отличная. Я пришел просит у вас чертеж ледника. В нашем техническом отделе мне не повезло его найти. Может быть, он сумел пропасть. Я хочет взять у вас один экземпляр сроком на сутки и после суток вернуть вам. Я даю вам расписку.
Расписка легла на стол.
— Зачем расписку?! Какая может быть расписка? Борис Дмитрич, где чертежи ледника?..
— Вот, вот они. Пожалуйста. Вам все?
— Мне один.
Куратор выбирает один лист, кладет его в чемоданчик, хочет подняться, но Федорыч задерживает.
— Может, пройдемся по объекту, Иван Карлович?
— Я уже был на днях. Я все знаю. После завтра я буду к вам в девять часов утром.
— Посмотрели, тем и лучше. У меня тут процентовочка заготовлена… Это по моргу, это по прачечной… Деньжат совсем мало… Н-да… замучился с работой: того нет, этого нет. Рабочие простаивают. План давай, зарплату плати…
Штойф посмотрел процентовки, заглянул в блокнотик.
— Подписать не могу.
— Почему же?
— Обо всем разговора не может и быть. Вот и кровлю я не подпишу: на здании крыша имеет пятнадцать листа расколоты.
В крыше мы даже не сомневались, считали это дело чистым. Федорыч поражен, но справляется с собой.
— Это пустяки. Завезем шифер и мигом заменим. Работы на пять минут.
— Нет, нет, — качает головой Штойф.
— Ну бог с вами, считайте, что часть крыши не сделана. Давайте уменьшим цифру. Сколько снимаем?
— И полы не закончены…
Штойф снова понюхал табак.
— И не в цифрах дело… Когда я поступал на работу, директор завода Василий Абрамович Заикин сказал мне: «Товарищ Штойф, вы должны быть знать одна истина: все строители — хорошие люди. Но все они честные жулики. Никогда не верьте им по словам и вперед не платить ни копейка, а то они вам на шею съедят». Он правильно сказал. Но что такой честный жулик, как жулик может быть у вас честным, я не понял. Но по словам я никогда не платил. Должен быть строгий порядок.
И такого монолога прораб не ожидал.
— Все-таки подписать надо, Иван Карлович…
— Не могу.
Федорыча взорвало.
— Да вы понимаете, мне рабочим платить надо?! Материал списать надо?
— Все надо… Штойф получает от государства зарплату, и он должен поступать правильно надо.
— Да, голова два уха, все мы поступали правильно, но если безысходное положение?
— Крыша с дыркой — это неправильно. Сегодня ночью побежит дождь. Потолок капает, штукатурка делает падать. А Штойф уплатил деньги и за штукатурка и за крыша.
До Федорыча дошло, что куратор даже не колеблется: заплатить или нет. И он взвился.
— Вот, — закричал он, распахивая дверь, указывая рукой на главное здание, — здесь работают десятки людей, у них семьи, дети. Маленькие дети! Их надо кормить, одевать!..
Прораб кричал, что городок этот его погибель. Что он бросит все к чертовой матери, уйдет на пенсию… Картина была внушительная.
Театральные жесты Федорыча, выкрики должны были положить Штойфа на лопатки. Но тот даже бровью не повел.
— А ты, Штойф, не немец, — тряс Федорыч щеками, — ты черт знает кто такой! У меня работали пленные немцы — люди как люди. Откуда ты выискался? Зачем ты в России остался? Порядки новые заводить?
— Мы на производстве. Личность трогать не надо. Мы не дети.
— О-о! Зарезал! Без ножа зарезал!
— Время у вас еще есть.
Штойф поднялся. Через минуту уже спешит по дороге прочь от городка. С полчаса Федорыч мечется по прорабской, плюется проклятиями в адрес немцев. Допивает перцовку.
— Ничего, ничего… Погоди, брат, погоди… Герой выискался… Спорю с кем угодно: еще месяца два, и его здесь не будет. Удачи ему не видать. Да! Не видать. Куратором он не будет. На что угодно спорю.
— Давай со мной?
— На бутылку.
И он протягивает свою толстую, короткую руку…
С деньгами решается благополучно. Вечером отправляемся к Самсонову. Узнаем, что по промплощадке большое перевыполнение.
Самсонов выделяет нам достаточный фонд зарплаты. Весь следующий день возимся с нарядами: мы выдумываем возможные объекты работ. Мы туфтим, мы делаем трансформацию.
— Только ажур, ажур должен быть, — урчит Федорыч, — чтоб ни одна банковская крыса не подкопалась…
Глава восьмая
Но и затишью приходит конец. Несколько раз появляется нервная, худощавая особа в юбке и с мужским лицом. В первый приход набрасывается на меня и Федорыча: старая больница мала. Начали поступать роженицы, травмированные. Койки даже ставят в коридоре. Осенью обещали строители сдать городок, а у вас конца и не видно!
Мы с Федорычем обрушились на наше начальство. Советовали написать в обком, а еще лучше — прямо в Москву.
— Придется, — отчеканила главврач, — я напишу куда надо.
И, должно быть, написала. Женщины, да еще главврачи, умеют писать жалобы. В одно утро потянулись к нам машины с кирпичом, подводы с досками. Пришли две бригады штукатуров, каменщики, две бригады плотников. Начальник нашего СУ Гуркин редко наведывался. По натуре он снабженец. О своем появлении оповещает руганью.
— Прорабы, молодые инженеры! — несется он по территории, припадая при каждом шаге. — Опять кирпич не сложен? Что? Не отговариваться! Все с вас высчитаю, я вас раздену!
На рабочих нельзя кричать, тот может пойти пожаловаться. Он отыгрывается на нас. Федорыч не обращает на ругань Гуркина никакого внимания. Ругань, крик — это метода руководства начальника. После его ругани можно пойти к нему с любым вопросом, и он, если может, все для тебя сделает. Я все это знаю, но когда он кричит, брызжет слюной, в голове одна мысль: подойти и дать крепкую затрещину. Интересно: что бы он сделал после этого? Теперь приехал на машине.
— Затянули, затянули городок. Надо кончать…
Он чуть выше Федорыча, немного плотнее. Затянут в кожаный плащ, голенища сапог на икрах разрезаны. Лицом он не похож на прораба совершенно. Но в то же время у них есть что-то общее, что-то такое, что выразить словами невозможно.
Позвонил управляющий:
— Все, что нужно, вам дадут. Будут задерживать, звоните прямо мне.
Начался аврал, штурм. Под шумок Федорыч завозит лишние гвозди, железо, ящики стекла. Привез три бочки битума, совершенно не нужного нам.
— Все нужно, все. Да. Вот работка, это работка, — оглядывается он, уперев руки в бока, — черт возьми!.. Ты только, Борис, теперь поглядывай, проверяй… Как бы чего не случилось. В такой суматохе всякое может быть.
Он имеет в виду «несчастный случай». Но как его предугадать, предупредить? Ведь потому он и «случай», и «несчастный», что его никто не ждет и не знает, когда, где и как произойдет. До сих пор судьба миловала городок, изредка сердилась на промплощадку, но вот посетила и нас. С южной стороны фасад главного здания отделали. Нужно разобрать пятиярусные леса, перенести на другую сторону, там установить. Поручаем это Савельеву. Он прячет наряд в карман, уходит. Я видел, как он собрал бригаду, что-то толковал с товарищами.
После работы вся бригада остается, покуда светло, снимают с лесов закрепы. Оставляют несколько на всякий случай. В полночь являются на объект, вооруженные веревками. Привязывают их к стойкам верхнего яруса, постепенно начинают раскачивать. Леса кряхтят, крепятся и вдруг с шумом рушатся. В темноте плотники сходятся, обсуждают: сейчас перенести леса или сделать это, когда хоть немного посветлеет. Но что такое: кто-то стонет. Это плотник Старостин. Он лежит в грязи, едва шевелит губами; рядом с ним обломок стойки. Приятели уносят его в общежитие. Руки, ноги у Старостина целы, ран не видно. Может, все обойдется и никто ничего не узнает? Достают водки, кипятят чай. К утру Старостин побледнел, вытянулся. Вызвали «скорую помощь», Старостина увезли в больницу.
В начале восьмого Федорыч приходит на объект, видит, что леса разобраны, перенесены. Плотники молча устанавливают стойки первого яруса. «Решили заработать в этом месяце», — думает прораб. А в девять часов приехала комиссия во главе с главным инженером треста Рубцовым.
— Иван Федорыч, пройдемте в прорабскую…
— Расскажите, как все произошло. Говорите.
Немая сцена.
— В восемь ноль-ноль Старостин скончался. Вы должны откровенно рассказать. Что произошло вчера?..
И через минуту:
— Картавин! Эй, кто там? Девушка, позовите мастера.
— Борис Дмитрич! Борис Дмитри-ич! Вас в прора-а-абскую зовут!
Из окна четвертого этажа:
— Кто?
— Там приехали! Рубцов там!..
Мы с Федорычем смотрим друг на друга. Я иду за Савельевым. Тот долго молчит, что-то бормочет.
— А может, это неправда? Может, вы нарочно? — наконец не выдерживает он. И тут же все рассказывает…
Проходит всего лишь день…
Я устанавливаю нивелир. Нужно сделать разбивку ограды городка. Савельев уже не бригадир. С него взяли подписку о невыезде из Кедринска. Он сидит рядом со мной на корточках, складывает в ведро колышки.
— Смотри-ка, Борис, — говорит он.
От морга, от прачечной бегут люди за главный корпус. Сердце вздрагивает, и я бегу. Ноги скользят. Вон Федорыч бежит к прорабской. Должно быть, звонить. Сталкиваюсь с разнорабочей Уляновой, волосы ее растрепаны.
— Позвонить, позвонить надо! — кричит она.
— Что такое?
— Убило!
— Кого?
— Шуракину! Звонить надо!
Сворачиваю за угол, расталкиваю толпу.
Девушка лежит навзничь.
— Разойдитесь! Дайте воздуху!
Голубые глаза девушки раскрыты. В них небо, даже видны облака. В них мое лицо. То ли от волнения, то ли пальцы мои грубы, но я не чувствую ни пульса, ни стука сердца.
— Дайте дорогу!
Санитары кладут носилки. Молоденький врач, совсем мальчишка, наклоняется над Шуракиной.
— Отойдите все. Отойдите!
Это уже кто-то из милиции. Несколько раз щелкает фотоаппарат. Под головой Шуракиной кровь. В волосах маленький болт с гайкой.
— На носилки.
— Что с ней? Жива?.. Я мастер…
…Люди не работают. Изредка кто-нибудь подходит к месту, где лежала Шуракина. Стоит некоторое время. Отходит. Возле прорабской толпа женщин.
— …Я гляжу, а она вот так постояла, постояла да разом на спину…
— У Старостина никого нет, он сирота был. Это уж его одного горе. А у ней-то матушка, отец где-то в Воронежской области…
— Поехала девка денег заработать…
— Боже ты мой, девоньки, телеграмму-то дадут… Мать-то получит…
— Дадут обязательно.
Пожилая женщина убирает под платок седые волосы. Быстро крестится.
— Замуж собиралась…
— Едут!
Комиссия на двух машинах. В комиссии двое из области, вызванные шифрованной телеграммой по делу Старостина. Один пожилой, сутулый. То и дело кашляет. Второй молод, рыж. Комиссия разделяется на две партии. Опрашивают людей в разных местах.
— Мастер Картавин!
Вначале меня опрашивают приезжие.
Пожилой спокойно задает вопросы, что-то записывает.
— Можете идти. Позовите бригадира Шуракиной.
Рыжий задерживает меня:
— Вы не должны ничего скрывать. Мы все узнаем. Тогда хуже будет.
Он даже грозит пальцем. Что ему сказать? Губы мои что-то шепчут. Я иду за поликлинику, спускаюсь к Норке. За речкой кусты, потом лес. Тишина. Да, тишина, только она. Что думать, о чем говорить? Ни о чем. Смерть… Пусть будет тихо… Уже в потемках я подошел к Кедринску со стороны парка. Ночи сейчас светлые, но в парке темно. Вершины деревьев закрывают небо, оно видно лишь над озером. Цокают соловьи. Как они заливаются! От ходьбы я вспотел. В кустах жасмина и сирени лавочка. Я давно знаю эту лавочку. Ближние соловьи умолкли, но я не шевелюсь, и они опять цокают. «Интересные птахи… Я никогда не видел поющего соловья… Наверное, родным ее уже послали телеграмму… Помню, бабушка говорила, что если кто увидит поющего соловья и задумает в это время что-либо, то задуманное исполнится…» Поздно вечером я выходил в сад… Сколько мне было лет тогда? Семь, восемь? Да, в школу я уже ходил. Я крался по дорожке, то и дело оглядывался на освещенные окна. Страшно было. Я трусливым не был, но почему-то ночного сада боялся. Почему? У соседей наших, что ли, весной обнаружили в саду труп какой-то старушки. И вот всегда, очутившись один в саду, почему-то вспоминал о ней. Но я шел к тому заветному кусту, в котором пел соловей. Не дыша замирал у куста, а стоило раздвинуть ветки, певец умолкал. Я так и не видел поющего соловья. Но ух, как я бежал обратно к дому! Казалось, кто-то гонится за мной, вот-вот схватит. Я влетал в освещенную комнату пулей, и все страхи исчезали… Но откуда взялся этот болт? Болт… Ладно. Если это случай, то с каждым могло так случиться. Я бы тоже сейчас лежал в морге. Вот и с Николаем случилось… Многие ходили там по ярусу. Подсобницы даже кирпич носили. А он облокотился на доску в том месте, где был сучок. Чудак этот рыжий. Впрочем, будь я на его месте, как бы вел себя? Душно что-то стало и совсем темно. Наверное, будет дождь. Искупаться?..
Я прошел к пруду, быстро сбросил одежду, нырнул. Тотчас выбрался на берег, ошпаренный холодной водой. У самого выхода из парка передо мной выросла высокая фигура.
— Разрешите прикурить.
Подаю спички и чувствую, что сзади кто-то стоит. В памяти мелькают двое проектировщиков, командированных сюда из Ленинграда. Их ночью раздели в парке догола, даже трусы сняли. Фигура чиркает спичкой, ладони держит отражателем. Мое лицо освещено, а я вижу только кепку, сдвинутую на глаза, длинный овал лица.
— Спасибо.
Фигура проходит мимо.
— Не нужно, — доносится шепот, — это мастер с больничного городка…
В гостиницу прихожу в полночь. Околотов почему-то не спит. Следит, как я раздеваюсь. Он чем-то взволнован, хочет о чем-то спросить.
— Борис Дмитрич… мм… вы где были?
— Гулял…
Он недоверчиво смотрит на меня.
— Мм… А не в милиции вы были?
— Нет.
— Вас допрашивали сегодня?
Его интересует, как со мной разговаривали, не грозили ли мне чем-нибудь?
Выслушивает, как было дело, отворачивается к стене.
Ночью я, вздрогнув всем телом, просыпаюсь. За окном грохот. Сверкает молния. В свете ее седые волосы бухгалтера кажутся голубоватыми. Впалые щеки восковыми, как у мертвеца. Я давно уже не могу спать во время грозы. С каким-то детским страхом ожидаю очередного удара грома, блеска молнии.
Лежать надоедает, хочется покурить. Одевшись, выхожу в полумрак коридора. В проходной горит яркая лампочка. Дежурит пожилая, полная девушка Галя.
— Почему не спите, Картавин?
— Голова что-то болит.
— У нас есть аптечка.
— Спасибо, Галя. Уже проходит.
Электроплитки раскалены. От них душно. Выхожу на крыльцо под гудящий жестяной навес. Вокруг крыльца вода, в ней плавает расплывчатая дрожащая звезда — отражение фонаря башенного крана. Днем, когда вокруг тебя люди и ты занят, почти не думаешь о бескрайнем лесном пространстве, окружающем стройку. Теперь же кажется, что лес близко, в пяти шагах. Особенно остро чувствуется его бескрайность, дикость, холод его озер и болот. А стройка — маленький пятачок в этом необъятном море. Кто-то пробежал в стороне, за ним второй.
— Постой, подожди! — хрипит мужской голос.
Откуда-то из-за гостиницы, видимо, от седьмого квартала, где стоит ряд недостроенных домов, напоминающих ночью развалины военных лет, доносится истошный женский вопль:
— А-а-а-а!
Грабят? Насилуют? Муж колотит жену?
Залились милицейские свистки.
Шлеп-шлеп — кто-то топчется в луже у стены.
— По три-и но-о-очи мы не спа-а-а-ли!
Пьяный голос обрывается, фигура падает в лужу. Покуда поднимается, осыпает темноту скверной руганью. Проплывает мимо.
— Пьем мы водку, пьем мы ро-о-ом!..
Гроза утихла. Потянуло ветерком. Зябко. Ухожу в комнату. Сон моментально окутывает сознание. Но сплю я неспокойно — одолевают сновидения. Прежде мое сознание не принимало участия в снах. Просыпался утром и никак не мог вспомнить, что именно снилось. Теперь сознание подключается в работу, и получается так, будто я смотрю какой-то бессвязный фильм, в котором нередко участвую сам. И утром помню все до мельчайших деталей. Вот вижу себя сидящим в осоке на берегу реки. Ночь. На фоне светлого горизонта высокие, стройные силуэты сосен. Под ними вспыхивают огоньки, и доносятся выстрелы. «Откуда это?» — думаю я. Это приснилось из далекого детства. Городок, где я жил, заняли немцы. Наших людей расстреливали по ночам за баней, в соснах… Но вот уже день, и печет солнце. На берегу стоит голая Молдаванка, она смеется, а я подхожу, подхожу к ней, целую ее груди. Но она вдруг вырывается и кричит: «Мастер, лучше вон туда посмотри!» Оглядываюсь и вижу плывущую по реке Шуракину. От головы ее расходятся кровавые круги. А на груди у нее лежит маленький болтик… А вот уже зима, река скована льдом. Я пришел с ведром набрать воды в проруби. На льду пятна крови, следы босых ног, кованых сапог. Здесь ночью немцы расстреливали людей, трупы спускали под лед. Я ухожу по берегу выше по течению. Пробиваю новую прорубь. Хочу набрать воды, но ведро не погружается. Опускаю коромысло в воду, за крючок его что-то зацепилось. Я тащу и вижу концы веревки. И вдруг вижу темные пальцы связанных человеческих рук. Я бросаю коромысло и убегаю…
Весна. Наши отбили городок. За мостом, в маленьком заливчике, люди обнаружили водяное кладбище трупов. Темно-синие, вздувшиеся, они покрывают весь залив. Со дна продолжают всплывать новые трупы. Свободного места на поверхности нет, они толкаются. И такое впечатление, будто некоторые из них сами шевелятся…
Я вижу это, чувствую то, что и тогда в детстве. Мне жутко. «Да это же сон!» — мелькает спасительная мысль. С трудом открываю глаза. Светло. Околотов завтракает…
Старостина и Шуракину хоронят в один день. Трест нанял оркестр из музыкантов-любителей. Первым за машиной с гробами идет высокий мужик в полушубке и в валенках — отец Шуракиной. Он думал, что здесь настоящий север, приехал в зимней одежде. За ним Федорыч. Секретарь парткома треста Новожилов. Рабочие городка. Я ни разу в жизни не участвовал в похоронной процессии. Я не могу даже смотреть на нее. А когда играет похоронная музыка, стараюсь не слушать ее. Почему так? Не знаю.
Со всех сторон к процессии сбегаются женщины, дети. В их глазах я вижу что-то от дикарей. Когда заиграли эти музыканты с пропитыми физиономиями, у меня стискиваются зубы. Глухой стон я подавляю в груди. На некоторое время глаза мои закрываются. Делаю несколько шагов в сторону, смешиваюсь с толпой. Через минуту уже за стройкой. Бреду по лесу…
Вечером возвращаюсь обратно. На берегу Норки наталкиваюсь на музыкантов. Они уже пьяны. Один, толстый, усатый и с громадным брюхом, дудит на трубе. Двое подрались. Их разнимают, по очереди бросают в воду прямо в одежде. Хохот.
Глава девятая
Жизнь равнодушна к ушедшим из нее. Жизнь в городке пошла своим чередом. Несколько раз я побывал у следователя Моргунова. Теперь установлено, что болт принадлежал сантехникам. Упал он с пятого этажа. Он не был брошен кем-то, а его просто кто-то смахнул с подоконника. Кто мог это сделать? Сантехники уже не работали там. Наших людей там тоже не было. Кто-то проходил, смахнул болт. Но кто? Это осталось тайной. Федорыч как-то разом сдал. Постарел, меньше шумит. Если прежде любил пофилософствовать, поспорить, то теперь молча выслушает собеседника и кивает:
— Да, да, бывает…
На мне лежит уже не только техническая сторона дела, но и организационные вопросы, часто решаю их без прораба.
— Наверное, уйду скоро, Борис, останешься ты здесь… Да… Закончишь городок сам…
— Брось ты, Федорыч!..
— Без меня, без меня кончишь…
И вдруг приходит день, когда нам с Федорычем приходится расстаться. И уж не я, а он остается в городке.
В начале девятого Гуркий вызывает меня по телефону в контору.
— Да поскорей, поскорей…
Кладу трубку, несу новость прорабу. Гуркин никогда по утрам не вызывает к себе.
— Вчера ты нигде, ничего? Не прославился вечерком?
— Нет.
— Поскорей возвращайся…
— Ну садись, сын, — начальник подал мне руку, улыбнулся, и я насторожился.
Год назад наш трест обязали построить колхозу «Восход» коровник и свинарник. Читаю ли я газеты? Да, читаю. Читал выступление Хрущева? Читал. Ну так вот. Строительство коровника и свинарника затянулось. Руководит там прораб Окунев, он, так сказать, маленько свихнулся в дисциплине, частенько закладывает. Вчера на партийном бюро постановили послать меня туда. Работы там осталось мало. К осени я разделаюсь.
— Вернешься, назначу тебя прорабом. Отдам тебе мясокомбинат — работы на пятнадцать миллионов. Один будешь руководить…
Если б хоть мастерские какие-нибудь, а то коровник! Да я уже слышал: «Восход» километрах в тридцати от Кедринска. Дорога туда отвратительная, с материалом там туго, работа запущена.
— Я не поеду туда.
— Почему?
— Почему я должен?
— Ты холост.
— Маердсон, Латков…
— У них отдельные объекты. Ты комсомолец? — Гуркин возвысил голос.
— А комсомольская организация есть в нашем СУ?
— Гм… Должна быть. Есть.
Я рассмеялся. Что за народ! В нашем СУ организации нет, есть в тресте. Я недели две искал секретаря, чтобы уплатить взносы. В повседневной жизни о комсомольской организации никто не думает. А вот когда что-то надо от человека, тогда вспоминают.
— Я не пойду в колхоз.
— Разговаривать некогда! — Гуркин встал. — Приказ уже есть. Все.
В дверях мелькают разрезанные голенища начальника. Под окном зафыркала машина, он укатил. Я закуриваю. Стучит машинка машинистки Маши. Под окном прополз бульдозер. Мясокомбинат — это вещь. Пятнадцать миллионов — это солидно. Ладно. Я поднялся. Начальник ПТО Шуст у себя. Маленький, юркий, напоминающий какую-то птичку, он сидит за огромным столом, что-то подсчитывает. Как ни странно, но финансовыми делами СУ вершит Шуст. Если прораб не справится с планом, Шуст, сидя за столом, вытянет его.
— А, это ты — садись, Борис. Сколько полтора процента от миллиона? — Шуст смотрит на меня. Что-то чиркает на бумаге и выныривает из мира цифр.
— Чертежи там, в деревне, у Окунева. Вот сметы. Познакомься.
— Много съели денег?
— Нет! Что ты! Не бойся! Вперед не забирались. Примешь дела, составь процентовку по молокосливной и пришли к десятому. Обязательно…
Листаю смету. Стоимость коровника четыреста шестьдесят тысяч. Свинарника — двести тысяч.
— Ну все-таки, Юрий Абрамович, сколько забрали денег?
— Совсем мало… Мало, мало…
Отправляюсь в городок.
— Да-а, — говорит прораб, выслушав меня, — вот так оно и кособочится всю жизнь. Думаешь так, а оно выходит этак. Замотаюсь я тут один. Может, пришлют кого…
И улыбается хитро:
— А для тебя это самый раз. Заметил я: норовишь ты все по-культурному: пожалуйста, извините. Для всех хорошим хочешь быть. За чужой спиной так можно. А теперь сам будешь…
До конца рабочего дня заполняю журнал работ, закрываю наряды. Приношу из окновского магазина перцовки, закуску. Сидим за столом с Федорычем, он объясняет, как лучше добраться до «Восхода»…
Моя командировка — солидный предлог для основательной выпивки. Маердсон и Рукавцов быстренько прикидывают смету, я даю деньги. Переодеваемся. Мазин уходит предупредить подруг. Жора был в деревне, строил там овощехранилище.
— Какая там база, Жора?
Он хватается за живот и падает на койку.
— Ба… база! — стонет он. — База! Узнаешь там базу!..
На улице подсохло. Мы все в туфлях. После сапог такое ощущение, будто ты в тапочках. Вчера была получка, возле гастронома длинная очередь, женщины несут дешевую конскую колбасу. Пивные ларьки облеплены рабочими. Там и тут на травке примостились компании, пьют водку. В такой день нет нужды прятаться в подъездах, на чердаках, в подвалах. Ханжество наших властей бесподобно: знают, что винные прилавки трещат от очередей, а устроить какое-нибудь заведение, где после работы можно поболтать и выпить — это значит способствовать пьянству. В магазине мы нагружаемся.
Окно в комнате подруг открыто. Жиронкина приветствует нас рукой. У девушек как всегда чистота в комнате. Даже как-то неловко.
— С чем и поздравляю, — большой рот Козловской становится еще больше от улыбки. Под сросшимися бровями щурятся серые пытливые глаза. — Дайка папироску.
Она целует меня.
— Рита, не ревнуй. Мальчики, раздвиньте стол!..
Поздно вечером уходим компанией в парк.
Утром следующего дня шагаю по тропинке вдоль пыльной дороги. То и дело проносятся по обе стороны самосвалы — возят песок, известь. В пяти километрах от стройки большая деревня Сорокино. В чайной завтракаю. Возле буфетной стойки двое: директор известкового заводика Тверской, рослый мужик с длинным сизо-кровавым носом, который директор возил в Ленинград к профессору, чтобы избавиться от красноты. И заготовитель корья, ягод, грибов Микульский. Оба пьют из бутылок вино.
— Я им говорю: дадите квартиру — поеду, а так нет, — Тверской кивает мне.
За деревней луг, печи известкового заводика. Дорога врезается в лес. Шум стройки все тише, тише. Вот уж не слышно и моторов самосвалов. Где-то в стороне бренчит колокольчиками стадо. Далеко-далеко хлопнул ружейный выстрел. Развилка. Лавочка. И возле нее стоит, опершись на палку, привидением — старик.
— По какой дороге в «Восход» идти, дедушка?
— Сюды. Будить Ходеево, Мошкино, Тутошино. Потом озеро, а за ним Вязевка. Там-то и правление «Восхода».
В правлении застаю бухгалтера Иваныча, тоскующего над ведомостью.
Председателя колхоза Баранова в деревне нет, он уехал в Новогорск по делам. В самой Вязевке ничего не строится. Ставят коровник в Заветах — это еще нужно пройти по берегу озера километров пять. Свинарник — в Клинцах. Чтобы попасть в Клинцы, нужно пройти обратно километра четыре. И у первой же повертки вправо свернуть.
— Окунев где может быть сейчас?
— Кто ж его знает… Утром проходил в сторону Клинцов, может, и там он…
Глава десятая
Штук тридцать избушек, крытых дранкой, расположенных в два ряда. За избами овраг, в нем ручей. За оврагом на поляне стоит шлакоблочная коробка с тамбурами, без крыши и потолка. В одном тамбуре свалены бумажные мешки с цементом. Я потрогал верхние — от дождей они стали тверды, как камень. Ни одной живой души. Вот кучка свежего песка. Следы. Я присел и закурил. Слышится шум мотора. Вскоре из лесу, подминая кусты, выползает трактор с прицепленными железными санями. На санях песок и шесть человек молодых парней. В Кедринске они работали землекопами-бетонщиками. Вчера Гуркин вызвал их в контору, отправил сюда.
— Сколько вас? — говорю я.
— Десять человек. Одиннадцатый — бригадир.
— Где он?
— Войченко куда-то отлучился. Остальные остались в карьере.
— Окунева не видели?
— Нет. — И кто-то смеется.
— У нас никакого инструмента нет. Гуркин сказал, что здесь все есть, а здесь ничего нет. Лопаты мы у хозяек выпросили.
— Так…
— Много песку надо?
— Много. Возите. Далеко карьер?
— Километра три отсюда.
Ребята сгрузили песок, уехали. Из лесу по тропинке вышли три девушки. Окружают меня.
— Вы начальник новый будете?
— Я.
— Переведите нас сюда на свинарник…
Девчата рассказывают, что они клинцовские, Окунев их принял временно на работу, послал в Заветы, где они готовили раствор штукатурам. Теперь там работа кончилась, они хотят работать здесь.
— А Ефим Андреич нас не переводит.
— Почему же?
Девчата начинают в один голос говорить, но вдруг вскрикивают и убегают к деревне: на другой стороне поляны появился маленький человечек в комбинезоне, в фуражке и в очках.
— A-а, не слушаться! Вот я вас! Вон отсюда все! — визжит он.
Натолкнувшись на меня, человечек протягивает руку.
— Честь имею представиться — прораб Окунев. Собственной персоной!
Он садится на траву. Машет перед собой жилистым кулаком.
— Во! Еще есть сила! А это что? — он рвет комбинезон, под которым тельняшка.
— Инженеры молодые! А Сингапур? Индийский океан? А? Я, брат, много повидал! Окунь — рыба колючая. Ха-ха! Один дурак обварился смолой, Окунева к следователю. А он, Окунев, то есть я, бумажку раз, вторую два: «Был болен и на объекте не присутствовал». Каково? Я бумажками обложусь, возьми, попробуй! Ха-ха! Впрочем, пойдем в избу. Сейчас Матреша обедать даст. Я не жрал пятьдесят лет и три года…
По дороге к деревне он толкует:
— А девок этих гони. Они, курвы, хитрые, непослушные. Всех баб гони к чертовой матери!
Вошли в избу. Окунев потребовал яичницу. Прилег на лавку. И вскоре спит, поджав ноги, подложив под голову кулаки.
— Слава тебе господи, — говорит хозяйка, — угомонился. Когда тверезый, человек добрый. А выпьет — бросается на всех…
Поселился я в избе Татьяны Сергеевны Родионовой, одинокой женщины, живущей со своим хозяйством: корова, поросенок, телка, куры и огород. С той откровенностью, какую можно встретить только в деревне, за час она рассказывает о себе всю подноготную. На деревне ее зовут Гришчихой, потому что мужа звали Григорием. Умер муж во время войны «от живота». Призвали его служить. Не отслужил он и месяца, как был отпущен домой. Привезла она его со станции на санях. Два месяца он пролежал в кровати, ничего не ел, а потом помер. Меня поражает и то, как умер муж, и та простота, с которой рассказывает Сергеевна. Над кроватью мужа висела жердь, на ней — сушили белье. Вернулась однажды Сергеевна из Вязевки, куда ходила за солью. Вошла в избу и упала на колени: живой скелет висел на жердине, обвив ее руками и ногами.
— Так мне легче, Татьянушка, не пугайся, родная. Так не болит нутро, — бормотал муж.
И умер висящим на жердине.
— Услышала я — грохнуло что-то, кинулась от печки, а он вот так-то лежит: голова на кровати, ноги на земле…
Дочь есть у Сергеевны, звать Галиной. Окончила Галина зоотехническую школу под Ленинградом, вышла там замуж. Живет у мужа где-то за «Тифином».
— Говорила все мне: «Не пойду за деревенского, не пойду за деревенского!» А за такого и вышла…
В избе три комнаты. В первой комнате печь, стол, залавок, бочка для помоев. Над бочкой висит на цепочке глиняный горшок с носиком — рукомойник. Во второй комнате стол, в углу большая икона с лампадкой. Кровать, на которой я буду спать. В третьей комнатушке маленькая печка, она топится зимой на ночь. Кровать Сергеевны.
— А сколько вам лет, Сергеевна?
— Мне-то? Да сколько же… Седьмой десяток поди пошел. После нонешнего успенья и пойдет…
В этот вечер поговорить с Окуневым не удается. Очнувшись, он выпил ковш браги, ошалел окончательно. Представилось ему, будто он не в избе, а в палатке. И в расположение части прибыл командир полка. С остервенелым лицом Окунев выбежал на улицу и заорал на всю деревню:
— Рота-а-а! Стройся-я!
Белея тельняшкой, пробежал вдоль воображаемого фронта.
— Рота моя-я! Слушай мою команду! Смиррр-но! Налево равв-айсь!
И, прижав руку к бедру, побежал, вдруг вытянулся, замер и отрапортовал.
Утром я пью молоко, он является. Садится на лавку. Через стекла очков смотрят на меня увеличенные голубые глазки.
— Вот я акт принес о передаче…
Акт написан красивым почерком.
— Молока хотите?
— Спасибо. Я позавтракал… Я был пьян вчера… Из начальства никто не приезжал?
— Нет.
Он оживился.
— Черт, перехватил вчера…
В акте указаны несколько тонн цемента, много кирпича, шифер, кровельное железо. Побывали у свинарника, у коровника. В наличии нет и половины того, что есть в акте.
— Где ж это все? — Я провожу пальцем в акте.
— Часть в дело пошла. Часть растащили. Знаете — воруют. Народ здесь, — он отмахнулся обеими руками, — жулики!
— Надо ж было актировать.
— Знаете, для акта свидетели нужны. Допустим, я бы нашел их, да не успел… А теперь, знаете, когда человек уходит, ему не списывают… Меня вот загнали сюда, а в Кедринске семья… Трое детишек.
Он жалок. Хоть бы здоровым, толстым был, с распухшей от водки физиономией, я бы обозлился тогда. Но он сух, как сучок. А личико чуть ли не с мой кулак. Вспоминаю, что видел его как-то в Кедринске в компании трех карапузиков. Дети…
— Ну, ладно… Я беру на себя треть. Остальное, как хотите, так и списывайте…
Под вечер он ушел в Кедринск. Нахожу избу, где живет тракторист, и с четырьмя рабочими едем в Кедринск за инструментом. Вечер я провел у Федорыча. От него узнал, что никакое бюро не решало послать меня в колхоз. Просто Гуркина вызвали в райком, потребовали ответа: почему так медленно подвигается стройка в деревне? Преследуя ту же цель, ради которой лгали и каменщик Борцов, и Ванька Герасимов — в данный момент выкрутиться, — Гуркин сказал, что да, до сих пор дело шло худо. Но теперь пошло лучше. И он добавил туда людей и послал молодого инженера. Вернувшись в Кедринск, Гуркин все это и проделал.
Утром я сталкиваюсь с Гуркиным у конторы.
— Ты почему не поехал? — набрасывается он.
Чувствую, что краснею. Глаза мои уставились в какую-то точку на физиономии Гуркина. Сейчас размахнусь и влеплю затрещину. Но он делает шаг назад.
— Черт знает что! Зайди ко мне в кабинет…
Нагружаем с рабочими инструменты на сани и уезжаем в деревню.
Глава одиннадцатая
Теперь понимаю Федорыча, когда он говорит, что не выносит тишины. Начинается сенокос, деревенские покидают избы чуть свет, уезжают на дальние лесные поляны. В семь часов я завтракаю. В избе тихо до звона в ушах. Выйду на крыльцо — тишина. Безоблачный голубой купол неба. Два коршуна кружат невысоко. За избами бархатная зелень огородов, за ними лес. Ручей на другом конце деревни, а слышно, как он журчит. Направляюсь к избам, в которых живут рабочие, присланные Гуркиным. Все они молоды, еще никто из них не служил в армии. Но многие побывали в колониях. Судьба собрала их в Кедринске. Им бы и работать там, например, рядом с бригадой Жукова. Но Гуркин отправил их сюда, потому что прораб Еремин просто захотел избавиться от этой компании. Только бригадиру их Бойченко лет сорок. От отсидел за что-то срок. Прежде работал шофером. Теперь должен сколько-то отработать где угодно. И если получит хорошую характеристику, ему могут вернуть права. Ему нужна характеристика, и он послушен. Внимательно выслушивает меня всегда, бросается выполнять указание. Кричит на своих «орлов». Он презирает работу, которую приходится выполнять. Хотя не говорит об этом, но ребята это чувствуют.
Свой авторитет Войченко поддерживает рассказами о своей прошлой жизни. Много, много врет. За глаза рабочие называют его трепачом. Поселился он отдельно от бригады, в избе одинокой вдовы Дарьи.
В Кедринске ребята жили в общежитии. Ясное дело, деньги они считать не умеют. Часто перед получкой голодали. Здесь каждый платит хозяйке за питание и жилье двести пятьдесят рублей в месяц. Деньги вносят вперед. Ежедневно сыты. Каждый мечтает к осени приодеться.
У длинноволосого Чикарева, зубоскала и клоуна, имеются только драные штаны военного образца, фуфайка да ботинки.
В смысле расходования денег я сам порядочный разгильдяй. Но тут становлюсь в позу, читаю наставления. Деревенские прозвали бригаду чикинцев от прозвища Чикарева — его зовут Чикой.
Жизнь в деревне им пришлась по душе. И самый мощный козырь, который пускаю в ход для поддержания дисциплины — угрожаю отправкой в Кедринск.
Настроение — вот что руководит всей бригадой. Сегодня они могут горы свернуть. А через день вялы, скучны. А вокруг сколько соблазнов! В лесу созревает малина, в ручье водится форель. Рядом Вязевское озеро, в котором так приятно искупаться. А соседняя деревенька Тутошино издавна славится красивыми девушками веселого нрава. Там часто устраиваются беседы. Иногда кто-нибудь из чикинцев возвращается из Тутощина под утро. Какой из него днем работник? И не могу же я целыми днями торчать надсмотрщиком возле них. Надо побывать у пилорамы, которая в Вязевке и которая стара, расхлябана. Возле нее убивают время трое моих рабочих и колхозный слесарь. Пилорама то и дело ломается. Энергию подают с какой-то шведской ГЭС. Вечером, когда в избах горят лампочки, пилорама «не тянет».
Потом надо сходить в Заветы к коровнику и в лес, где рабочие заготовляют бревна. По договору колхоз должен обеспечить строителей лесоматериалом. Но его нет.
Познакомился с туземным начальством.
Клинцы, как и другие деревеньки, разбросанные по лесу, числятся отдельной бригадой. Бригадиром работает Иван Аленкин, подвижный, рыжеватый тридцатилетний малый. Встретился я с ним возле его новенькой избы, обшитой тесом.
— Вы бригадир?
— Я.
Мы присели на бревно. И в это время из окна высунулась рыжая худая женщина и закричала:
— Вспомнишь, Ванька, со своим Барановым осенью мои слова! Вспомнишь! В Зябиловке рухнет свинарник, я первая на вас в суд подам!
Это кричала жена Аленкина. Она работает зоотехником. Надо думать, слова ее относились и ко мне. Аленкин молчал, и я спросил:
— Как дела в колхозе?
— Так себе…
— А в бригаде?
— Ничего.
— На денежную оплату перешли?
— Да.
— Как же выходит?
— Пока неизвестно. Наверное, как у всех…
— А как у всех?
— Всяко. У кого как… Ты партийный?
Я взглянул на него.
— Нет.
— Почему?
— Еще не успел вступить.
Он ударил себя по коленке, выругался. И стал бранить клинцовских девчат, которые у меня работают. В бригаде рабочих рук не хватает, а они не хотят работать.
— Если будут лениться, прогони их.
Я спросил, есть ли поблизости строевой лес.
Близко нет. Здесь место болотистое. Почему же бревен не заготовили зимой? Да кто же будет заготовлять? Народа нет, времени нет. Но ведь по договору колхоз должен поставить лес. Мало ли что! Если нет, так что сделаешь!
Он спросил о моей зарплате. Потом мы помолчали и разошлись.
О председателе первые сведения получил от хозяйки. Я спросил, не знает ли она, когда он приедет из города.
— Да кто ж его знает! Он когда как: то на день уедет, то на три. Может, уж приехал да в какой-нибудь бригаде застрял.
— Он местный?
— Нет. Третий год как приехавши из Ленинграда. Говорят, норовит обратно, да не пускают. Говорят, корову продает, корова у него хорошая. Купил он ее у Саньки Морозовой. Санька погорела, перебралась в Новогорск к сыну, корову ему продала. Да вот теперь продает. Но кто купит за три тыщи?
Зябиловский тракторист Васька давал ему две, тот не продал.
— Чего ж он уезжать хочет?
— Так чего же… Небось не сладко тут: женка его там, детишки там, фатера там. А он один здесь.
Через день встретился с председателем. Я сидел в правлении, пытался дозвониться в контору. Сделать это не просто. Вначале дают сорокинскую почту, она — кедринскую, кедринская — коммутатор треста, коммутатор — контору. Что-нибудь в этой цепи обязательно занято, но вот соединили с конторой, и голос секретаря Маши ответил: «Из начальства никого нет на месте».
К правлению подкатила двуколка. По крыльцу взбежал высокий мужик в хромовых сапогах. Прошел к себе в кабинет, потребовал по телефону зябиловскую бригаду, выругался и умолк. Прохожу к нему, представляюсь.
— Слышал, слышал, — говорит он, протягивая руку, — Окунева убрали. Давно пора. Что, бездельничают твои люди? — Он барабанит по столу длинными сухими пальцами.
— Работают.
— Работают! Я бы их всех разогнал давно!
— Вы не выполняете договорных условий.
— Условия, условия, — он поднялся, — ну пойдем, посмотрим, как хоромы строятся. Эй, Иваныч, придет Кирилл, пусть жеребца не ставит в конюшню. Зыков заявится за деньгами — не давай ни копейки. Скажи, что я запретил.
Мы побывали в Клинцах, в Заветах. Шли обратно в Вязевку, Баранов остановился на пригорке, окинул взглядом озеро, лес, деревню.
— Черт возьми, как хорошо здесь летом! Помню, приехал сюда, думал, какая благодать! Рыбу можно разводить, уток. Покосов сколько!
— Ну и что же?
Он посмотрел на меня.
— Да ничего. Вы, горожане, ни черта не понимаете… Послушай, — изменил он тон, — может, искупаемся? Третий год живу здесь, а в озере ни разу не купался.
— Давайте.
Мы искупались, но купание не взбодрило его. Наоборот, он как-то ссутулился, стал молчалив.
Около пекарни Баранова ожидал зябиловский бригадир Николай. Председатель пожал мне руку, пригласил к себе, и мы разошлись.
Вечером я писал письма. Потом читал Лескова. В Вязевской библиотеке имеются почти все книги наших классиков. Книги стоят спрессованными рядами. Я решил прочитать их. Но странно: чтение не доставляет мне удовольствия. Я пропускаю строчки, мельком пробегаю по страничкам, потом возвращаюсь обратно. Бросаю книгу и начинаю ходить по избе.
Теперь я часто встречаюсь с председателем. Бывает, сижу за столом. За окном уж темно. Хозяйка спит. Вдруг слышится под окном «трр». Баранов входит в избу, ставит на стол бутылку водки.
— Что, все бумагу переводишь? А я вот застрял в Змеевке, заехал к тебе. Принимай гостя.
Я достаю из печи чугун с кипятком, завариваю чай. Сидим, подолгу беседуем. Лампочка горит неярко. Тени наши колышатся на серых стенах. Папиросный дым окутывает нас. Баранов то и дело вскакивает, ходит по избе, рассуждая.
Глава двенадцатая
До приезда сюда он работал на заводе начальником цеха. Родился он в деревне где-то под Воронежом, еще ребенком уехал из деревни вместе с родителями и больше там не бывал. Но считал себя деревенским, «земляным», как говорили на заводе. Два года назад Баранов откликнулся на призыв партии, решил поехать в деревню, поднимать разваленное хозяйство. Перед отъездом прочитал для порядка несколько романов из сельской жизни. Накупил брошюр о хозяйстве северных областей, приобрел «Справочник по законодательству для колхозника». Опыт работы с людьми у него был богатый. Рисовалось в мечтах, как он приедет, воодушевит, организует людей. Когда говорили, что за три года он должен поднять хозяйство, он внутренне улыбался: за три года! Он за год поднимет! И вот приехал сюда. Провели собрание, ему вопросов почти не задавали. Проголосовали и разошлись. В первые дни побывал во всех шести бригадах, разбросанных по лесу. Снял двух спившихся бригадиров. Потом взялся за бухгалтерские дела, в них обнаружил такой беспорядок, что ужаснулся. Например, по ведомостям были выплачены деньги братьям Егоркиным за изготовление трех саней. Изготовили сани в конце января. В марте их списали вместе с сеном и одной лошадью: перевозили сено через озеро, лед проломился. Сани, сено и одна лошадь утонули, люди спаслись и спасли двух лошадей. А в мае те же Егоркины получили деньги за ремонт «утопших саней, извлеченных из озера братьями Иваном и Федором Егоркиными с помощью тракториста Шапошникова И. В., который при этом был пострадавши через то, потому что берег у места потопления жидкий, трактор начал тонуть. И Шапошников И. В. проявил смелость и находчивость в спасении государственного имущества: он, будучи больным от рождения, нырнул в ледяную воду, отцепил от трактора трос. За что и выдано ему единовременное вознаграждение в размере двести (200) рублей».
— Где же эти сани? — поинтересовался председатель, глядя на сизую, лисью физиономию бухгалтера Вертечкова. Тот ответил женским голосом:
— Сани были отданы в Зябиловку.
— Зачем их в мае ремонтировали?
— В Бекетовом овраге снег лежал до июня, по нему возили сено с лесных полян.
За бригадиром зябиловским был послан нарочный. Бригадир явился спустя сутки, он ездил в Синьково на похороны сестры.
— Саней нету, — прохрипел бригадир, — двое сгорели при пожаре, а третьи развалились. Третьи-то есть, они лежат за огородом Лыскова. Но они негодны…
С неделю рылась в бумагах ревизионная комиссия во главе с председателем. Хищения были налицо. Но все было так дико запутано, что распутать оказалось невозможно. Вертечков был снят с работы, его место занял бывший счетовод Иваныч. Баранов ехал сюда, думая выявить лодырей. Ожидал, что здесь составится против него оппозиция из любимчиков предшественника. Но никакой оппозиции не оказалось. А лодырь и дебошир здесь один на весь колхоз — пятидесятишестилетний Ефим Сковородников, прозванный на деревне Полковником. По ночам Полковник ловит сетями в озере рыбу, сплавляет ее бабам за водку. Пьяным бегает по деревне и кричит:
— Кто? Кого? Полковника? Я до всего дойду! Мы еще посмотрим! Вы думаете, кто такой Ефим Сковородников! — И стучит себя кулаком в грудь.
Жена начинает урезонивать его, он гоняется за ней с ремнем, покуда не свалится. Тогда полковничиха связывает мужа, поливает холодной водой. Лупит по щекам, приговаривая:
— Ну-ка, замахнись теперя! Ну-ка, черт худой, жид проклятый, замахнись-ка ремнем, душа окаянная!
А в трезвом состоянии Полковник сидит у окна, пьет чай, кряхтит от боли в пояснице, в животе, в ногах.
Полковничиха исполняет несколько должностей: ухаживает за колхозными свиньями, убирает в правлении и в продуктовом магазине. Ей лет сорок пять, но выглядит старше, худая двужильная баба. О самых простых вещах не поговорит нормальным голосом. А кричит, напрягаясь так, что жилы вздуваются на шее. Однажды уехал Баранов в Новогорск, нужно было задержаться на три дня. Шофера Никиту отправил в деревню. Тот загулял у родственников. На ферму надо было привезти из сорокинского сельпо отруби. Двое суток кормили свиней травой. Вернувшись из города, Баранов сидел в кабинете. Полковничиха хоть и не прошла к нему, но в другой комнате кричала на все правление:
— Начальство, видишь ли, большое! Агромадное начальство! Скоро гадить в огород будут на машине ездить, а скотина хоть подохни!
Он только скрипнул зубами: не разобравшись, не ори! Эх, если б так на заводе поступила какая, мигом бы приструнил!
Да и другие бабы хороши… Шутят, смеются, а попробуй задень какую, матом обложит, как и мужик не сумеет. Заведутся между собой, готовы глаза друг другу выцарапать. Как-то среди дня схватились передо магазином Валька Шаталова, молодая интересная вдова, и жена завхоза Люба.
— Ты б…., ты курва, ты проститутка оборванная! — кричала Люба, трясла вскинутыми кулаками, — ты под моего мужика сама лезешь, да он не хочет тебя загаженную!
Баранов стоял в кабинете. Не подходя к раскрытому окну, смотрел на женщин. Неловко было крикнуть им, чтоб разошлись, не позорились. А одерни их, на тебя же набросятся. Хоть бы разнял кто из своих!
— А вот хочет, — плевалась словами Шаталова, — хочет, дура ты, хочет! Сам приходит. Он с тобой, шкурехой, два года уже не спит, а захочу и совсем бросит!
Собрался народ.
— Ах, дуры!
— Так, так ее! — подзадоривали мужики неизвестно какую сторону.
— Меня бросит? — била себя в грудь Люба. — Меня поменяет на тебя?!
Шаталова кривлялась, уперев руки в бока:
— Да, тебя. Ты знаешь, куда он меня целует? Сказать? Хочешь скажу?
Жена завхоза вдруг побледнела, схватила что-то с земли, ударила Шаталову по голове. Та завопила. Поймав своего врага за волосы, свалила на дорогу. А Люба продолжала бить ее по лицу. Била она старой, истертой подковой с остатками гвоздей…
Рассказав об этом случае, Баранов умолк. Смотрел в стакан. Под покоробленными обоями шуршали тараканы. Прошли под окном чикинцы.
— Чем же кончилось? Судились?
— Какой там! Завхоз избил жену, вот и весь суд…
У Шаталовой шрам под виском остался…
Кроме Полковника есть еще в Вязовке явный антиобщественный элемент — семидесятилетняя Акиньевна. В списках сельсовета она числится: «Акиньевна, нетрудоспособная, 70 годов. Старуха». Запись была сделана лет восемь назад. Живет Акиньевна одна в дряхлой избушке. Держит в избе кур в клетках, даже летом не пускает их на улицу. Занимается перепродажей водки. В любое время суток можно постучать к ней, купить бутылку водки, заплатив немного дороже, чем в магазине. У старухи можно и выпить. В распутицу, когда деревня отрезана от сельпо бездорожьем и в магазине водки нет, а у Акиньевны запасы истощились, она впрягается в где-то добытую почти новую детскую коляску с мягкими рессорами, отправляется в деревню Вешкино, до которой километров пятнадцать. Мужиков там мало, городских людей не бывает, и в магазине всегда есть водка.
Сыплет мелкий дождик, на дороге грязь такая — молодой устанет, пройдя пару километров. А старуха тащится, набросив на голову клеенку, согнувшись под прямым углом, тыча перед собой палкой.
— Тебя как звать-то? — остановил ее однажды на улице Баранов.
Старуха с трудом разогнула шею. Взглянула на него маленькими, зоркими глазками.
— Чай не знаешь? У любого спроси и скажут…
— Когда кончишь водкой торговать?
Старуха заулыбалась. Прошамкала:
— А ты, желанный, положи мне пензию. Махонькую определи. Я и угомонюсь. Смерть-то не берет, а исть охота.
— Нельзя торговать, бабка…
Потом пожалел, что заговорил с ней. То ли в его голосе она уловила добрую нотку, то ли подлец какой-то подшутил над ней. Раз пять приходила в правление. Станет на середине комнаты, обопрется о костыль, стоит, шевелит губами провалившегося рта.
— Зачем пришла в правительство, Акиньевна? — спросит кто-нибудь.
— Пензия не вышла, желанный?
— Еще нет. Тебя на том свете давно ко столу ждут, а ты тут спотыкаешься…
Прошлой зимой возвращался однажды Баранов со шведской ГЭС. Была пурга. Вечер застал его в дороге. Около Косого мостика чуть было не сбил жеребцом облепленную снегом старуху, тащившую санки. Посадил ее в сани. Тяжелую корзину поставил у себя в ногах.
— Ты чья? К кому собралась? — крикнул он сквозь вьюгу под балахон старухи, ударяя вожжей жеребца и, приглядевшись, узнал Акиньевну. В корзине ее была водка…
— Тебя, Акиньевна, сам председатель теперь возит, — смеялись на деревне, — можно и вывеску на избе повесить!..
С особой горечью говорит председатель о том, как незаметно промелькнуло его первое деревенское лето. Подкралась осень, и наступила пора уборки урожая. Картофель, брюква, морковь, капуста — уродились замечательные. С рассвета дотемна носился он из бригады в бригаду по разбитым дорогам. Людей не хватало, уборка шла медленно. Потом зарядили дожди. Здесь, в Клинцах, убрали тогда весь картофель. Под снегом остались только две поляны овса. Картофель ссыпают в погреба, устроенные прямо в поле. И вот когда открыли зимой первый погреб, ударило из темного зева ямы горячей гнилью. На сорок сантиметров от пола была в яме вода! В других ямах творилось то же самое. Даже на семена не хватило картошки, пришлось занимать в других бригадах, покупать у самих же колхозников. И хоть утверждали клинцовцы, что когда ссыпали картошку, сухо было в ямах, не верилось. Сыпали-то перед морозами, дождей уже не было.
Значит, и не смотрели, куда ссыпали…
Пробовал Баранов сойтись поближе с бригадирами. Для решения вопросов не вызывал их в правление.
— Во время этих совещаний веет в воздухе официальщиной. Все только слушают меня. Сами говорят мало, друг друга подталкивают локтями…
Как-то под вечер приехал в Клинцы к Аленкину. Сказал бригадиру, что завтра с утра нужно поговорить с людьми. Остался ночевать. Сидели за столом. Зина накрыла стол. Тихо говорил приемник. Прослушали последние известия, выпили бутылку водки. Аленкин послал соседского Федьку за второй к Акиньевне. Покуда говорили о сугубо личных делах, обменивались новостями, обсуждали международные проблемы, Иван был разговорчив, весел. Потом Баранов спросил в упор:
— Уходят люди от нас. Как же быть? Вот умрут старики, опустеет твоя деревня…
Иван взглянул на председателя, сморщил в задумчивости губы по-старушечьи. Сказал убежденно:
— Нагонят!
— Кого нагонят?
— Да людей.
— Откуда?
— Да из города! — твердо, зло ответил бригадир.
И пропало желание сидеть, разговаривать с ним.
Ястребовский бригадир Паличев Яшка торопливо, жадно пил водку во время разговора. Отмалчивался. На все отвечал: «Это не наше дело, Михалыч. Наше дело маленькое. Прикажут — делаем по возможности. А что там будет, где нам понять». Совершенно опьянев, взял с печи гармошку, играл, пел песни. Жена его, видимо, желая повеселить гостя, сплясала…
Остальные бригадиры оказались не лучше.
Удивил Баранова тутошинский бригадир Кирсанов, которого он впервые в тот вечер увидел в домашней обстановке. Кирсанов собирался в Новогорск погостить у брата. Был по-городскому одет. Изба заставлена современной мебелью, да такой, что и в Ленинграде не сыщешь. Жена бригадира, сероглазая, стройная красавица, вертелась перед зеркалом со щипцами в руках.
— Алексей Михалыч, — напрямик заявил Кирсанов, — я по-честному скажу тебе, чтоб ты не строил насчет меня планов: здесь я не жилец, скоро уйду в город.
И через два месяца уже работал в новогорской милиции…
— Да что Кирсанов, — дышал мне в лицо председатель, бледнея, хватаясь дрожащей рукой за край стола, — в городе у него родственников полно, ну и устроили. А это как назвать? Прокатилась вдруг по Вязевке волна хулиганства. Началось все с Николая Куркова. Ты его не знаешь, он давно в городе. Напился он пьян, ввалился в правление и потребовал денег авансом. Пригрозил кнутом Иванычу, Аленкину толкнул. Та кричать, сбежался народ. Драка. Куркова судили, дали ему три года. А спустя год он вернулся. Этаким фертом заявился в правление. «A-а, — говорю, — приехал, выходи работать». — «Это ж с какой стати я буду у вас работать? Вы меня в тюрьму загнали, а я теперь работай?»
И повертел в руках паспорт… Слушай дальше: неделя не прошла, как девятнадцатилетний Лукьянов устроил драку в сельсовете. Передали дело в суд. А на следующий день порезали ястребовского бригадира, порезали ночью, и не знали, кто это. А днем в новогорскую милицию явился Ванька Круглов, заявил, что он ударил ножом бригадира, что был выпивши, давно имел зуб на него. Обоих судили. Судья спрашивает: «Вы признаете себя виновными?» — «Вполне. И не жалеем об случившемся». Каково? Дали им по три года. И не было обычных в таких случаях слез родственников. Пострадавших не упрашивали простить. А родственники Лукьянова даже на суд не явились! И почему ж так? Как ты думаешь? А?.. Сами шли в тюрьму! Понимаешь?! Натолкнул их на эту мысль Курков. Собрал в своей избе, угостил вином и, этак бахвалясь, рассказал, что в тюрьме жить можно. Если хорошо будешь работать, отпустят раньше срока. И тогда где хочешь, там живи и работай — паспорт запросто получат.
Глава тринадцатая
Голова у Баранова отказывалась соображать. Ни о чем не хотелось думать. Но не думать нельзя. А там пришла зима, осенние хлопоты улеглись. Дни стали короче, темнело рано. И озеро, и лес, и деревня завалены снегом. В Ленинграде рядом с ним была жена, которую он любит, дети. Много знакомых, друзей. Там он не знал одиночества. Теперь же хотелось быть одному. В Ленинграде он газеты не читал — просматривал, моментально улавливая суть той или другой статейки. Теперь же прочитывал газеты от строчки до строчки. Печь он не топил, часто и плиту забывал разжечь. Сидит за столом в шапке, в полушубке, наброшенном на плечи. Отложит газету, смотрит в стену перед собой. Вот потянулся рукой за зеркальцем, взглянул на себя. Увидел худую физиономию, обросшую щетиной, круглые, провалившиеся глаза. Да, сорок лет уже! Скоро пятьдесят… Потом старость… Жизнь будет прожита. «Как ты прожил ее?» Дай бог каждому так прожить, как он до приезда сюда: он не помнит ни одной сделки с совестью. Молодым ушел на войну, потом кончил училище. Офицером прошел до Берлина, ни разу не струсил. Нападал на него при бомбежке животный страх, умел сдерживать, давить его. В конце войны женился. Наступила мирная жизнь. Некоторые приятели его, отвоевав, оставив армейскую жизнь, изменились. Один обзавелся домом, закупорился в нем, как в раковине, другой бросился, не считаясь со средствами, добиваться видного положения в обществе. Из таких, сколько он знает, ничего не добились, начали пить, брюзжать. Он же оставался самим собой, ничего особенного для себя не хотел. Работал, отдавал все силы. Уважение рабочих, начальства выросло как бы само собой. Бывали, конечно, неприятности. Но все они смазывались общим ходом жизни. А здесь?..
Баранов бросал зеркальце, вставал, ходил по избе из угла в угол. Прежде он не рассуждал на отвлеченные темы, в самоанализ не ударялся. Теперь думалось о многом, мысли сбивались, путались. Хотелось их выровнять, чтоб связывались одна с другой, текли, текли и, наконец, вылились бы во что-то определенное. Но останавливался перед промерзшим окном, смотрел, и мысли сбивались. Вон избы, огоньки. Кто-то прошел под окном, скрипя снегом. Пробежала собака. Чья она? Белое, гладкое озеро, за ним темнеет лес. Луна затянута серой пеленой. И больше ничего… Вон виднеется угол кузова машины, занесенной снегом, промерзшей до винтика. Большую часть года простаивают, ржавеют из-за бездорожья машины. Баранов резко оборачивался. Ложился спать. Засыпая, думал о жене, о первой встрече с ней. Но почему-то чаще всего вспоминался приезд с женой в Ленинград после демобилизации. Отец Вари, старый профессор истории, умер во время блокады. Мать, седая, согнувшаяся и полусумасшедшая от голода, потрясений старуха, водила дочь и зятя по большой квартире, заставленной старинной мебелью, завешанной коврами. Шептала, указывая костяными пальцами:
— Это, Варенька, тоже дорого стоит, могли бы дать и десять буханок хлеба, да я берегла. Теперь много больше дадут. За библиотеку папину институт предлагал много денег, а я не взяла — пусть тебе, Варенька…
А Варя была уже беременна и часто плакала, глядя на мать.
Черт знает зачем вспоминалась полуграмотная старуха с опухшим властным лицом — нянька, которую взял в помощь жене по совету директора завода. Директор говорил, что нянька хоть и дорогая, но опытная. И директор шепотом произнес имена людей, у которых бывала старуха.
Недели две жила у них эта нянька. Пила много чаю, таинственно тихим голосом рассказывала: у каких людей ей приходилось нянчить детей. Как к ней относились, сколько и каких давали подарков. Баранов вскоре спровадил старуху…
Уже засыпая, он улыбался: вспоминал детей — мальчика и девочку. В школе, наверное, говорят товарищам, что их папа поднимает сельское хозяйство. Ему там трудно — повторяют слова матери…
Наконец он засыпал. Но через час-полтора глаза снова открывались. «Как старик сплю», — мелькало в голове. Поднимался, доставал из стола водку, выпивал залпом стакан, нюхал хлеб, жевал листок кислой капусты. Водку покупал не здесь, привозил из Новогорска. Иначе пронесется по деревне:
— Председатель пьянствует! Вишь ли, при народе даже с бригадирами редко выпьет, а сам, запершись, глушит!
Ведь пронеслась молва: Баранов б….н. А из-за чего? Была недолгая связь с одной молодой женщиной, пекарем Настей Порозняковой. Приехала она из Сорокина, где разошлась с мужем. Стала жить с матерью, работать пошла в пекарню. Баранов тогда не столовался ни у кого. Обедал где придется. Зашел как-то с бригадиром в избу Насти, мать ее, Матвеевна, подала гостям щей. Понравилась Баранову чистота в избе, опрятность самой хозяйки — подавала тарелки, не макала пальцы во щи. Стал он ходить к Матвеевне обедать, ужинать. Ужинать приходил поздно, иногда перед полночью. Сбрасывал у порога грязные сапоги, плащ. В одних носках шел к столу. Возбужденный сумасшедшим днем, обжигался горячими щами, нервно дергал плечом, поглядывая на Настю, которая вместо матери хлопотала у печки. Была она румяна, бойка. Проворно работала полными белыми руками. Постоянно улыбалась загадочной улыбкой. Чувствовалось, что она только что из теплой постели… Тот день был дождливый. А вечером обрушилась на деревню гроза с ливнем. После ужина не хотелось ему уходить из чистой комнаты, из тепла в грязь, дождь. Представил свои пустые комнаты, жесткую кровать. Захотелось вдруг немножко уюта, нежной, мягкой женской ласки. И будто угадав чувство председателя, Настя сказала, улыбнувшись:
— Куда вам идти-то в такую слякоть, Алексей Михалыч? Оставайтесь у нас переночевать. Чай никто ведь не ждет в поповской избе?
— А мать где? — спросил он дрогнувшим голосом.
— Нету. Она в Клинцах у тетки Ани. Видать, и заночует у нее.
Она постелила ему на своей кровати, сама легла в соседней комнате. Заснуть он не мог. За стенкой скребся, отчаянно метался ветер, выло в трубе. Он ворочался, курил. Из головы не выходило, что вот совсем недавно в этой кровати лежала молодая, красивая, свободная женщина. Сейчас она лежит за тонкой перегородкой. Должно быть, не спит. О чем она думает? Вдруг Баранов сел, свесил ноги. В дверях стояла Настя.
— Что не спите, Алексей Михалыч? — спросила она тихо. — Вам худо?
Баранов встал, протянул руки.
— Я и то думаю, — сказала она, — вдвоем теплее будет…
Когда забеременела Настя и нельзя уж было скрыть этого, она уехала обратно в Сорокино.
Баранов перестал столоваться у Матвеевны. Думал, о его связи с Настей никто не знает. А не знали, может, только двое: совершенно глухой старик Серебряков да Акиньевна, живущая обособленно от всей деревни. И судили деревенские спокойно: председатель из себя видный мужик. Настя холостая. Что же им оставалось делать?
Но по бригаде расползся слух, будто Баранов до баб страшный охотник, редко какая вдова миновала его. А сколько еще слухов распространилось о нем!
Первые три года колхоз должен выплачивать председателю зарплату — полторы тысячи рублей в месяц, независимо от доходов. Доходы не росли. И Баранов брал только тысячу. Пятьсот рублей оставались в кассе. Вначале деревенские не поверили этому. Но Иваныч подтвердил:
— Да, полтыщи не берет!
И пополз слух, будто у Баранова тесть и теща — важные профессора. Получают уйму денег, девать их им некуда. Жена присылает председателю деньги не переводами, а в конверте.
— Вложит в конверт несколько сотенных и пошлет вместе с письмом, чтоб не забывал ее…
— Дивья такую бабу иметь…
Летом приезжала жена с детьми. После их отъезда заговорили, будто Баранов собирается покинуть деревню. К этому времени он уж купил корову: решил обзавестись хозяйством, жить, как все колхозники. Зашептали: и корову председатель продает.
Однажды к нему в избу пришел зябиловский тракторист, предложил за корову две тысячи рублей. Баранов выпроводил незваного покупателя.
Тракторист сообщил людям:
— Не продает Баран. Говорит: «Я купил за три тыщи, а ты мне две даешь? Не отдам».
Бабы обмозговали новость, решили, что, конечно, продавать дешевле, чем купил, невыгодно. Выгоднее зарезать корову, мясо свезти на базар, шкуру выделать, продать. Такое рассуждение приписали Баранову. Гадали: когда он покинет деревню и каким окажется новый председатель.
— Как же быть? Что делать? Задавал я себе вопросы, — рассуждает Баранов. Мы сидим с ним на берегу озера в кустах. Вечереет. Озеро тихо, гладко. — На Медвежьих полянах трава выбухает такая, что ляжет корова и рогов не видно. А весной скотина голодает. Кормим березовыми ветками. Навел порядок в бухгалтерии, а толку мало. Начали нестись куры, а яиц нету — сами же куры их поедают. Телята пьют молока много, а покуда не выгнали их на пастбище, сорок голов погибло от поноса. И виновных нет! Нет виноватых, черт возьми! Вот в чем штука. Все возмущаются, все кого-то винят, чего-то ждут… Собирал партийные собрания, съезжались те же бригадиры. Каждый поддакивал: да, дело плохо идет, нужно работать лучше. Брали обязательства, а потом столько приводилось причин в оправдание невыполненных обязательств, что разведешь руками, да и все… Веришь, Борис, прочитаю в газете о целине и думаю: почему не поехал туда? Хотелось, видишь ли, поближе к семье быть. А там же работа! Там нужна энергия, воля, желание работать. Там ежедневно видишь плоды своего труда. А здесь…
Побывал он в соседних колхозах, в «Искре» и «Заре». В «Заре» дела еще хуже, чем у него. Председателем там Никовский — копия бригадира Аленкина, только постарше. Сидит, ждет указаний из района. Выпивает понемногу.
— Людей, людей нету, — говорил Никовский, — что без них сделаешь? Которые и есть, работать не хотят…
Сидит, ждет, когда его снимут.
— В следующую посевную меня, пожалуй, тряхнут, да и скорей бы. Пойду механиком…
В «Искре» председатель то ли дурак, то ли негодяй: громадный рост, голос внушительный, на месте не сидит, на всех орет. Бригадиры рапортуют ему в письменной форме, конечно, врут много. По их бумагам он составляет свою сводку, везет ее в район. И там он шумит, требует помощи, дает обещания. Пишет в районную газетку статейки под рубрику «Вести с полей».
— Работаем, работаем, подтягиваемся! — бубнил он Баранову в лицо. — Нюни нам некогда распускать…
А хозяйство искровское должно государству больше, чем восходовское — восемь миллионов рублей. При Баранове завезли трестовские машины удобрения. Свалили их за деревней несколькими кучами. До весны пролежали удобрения, вешние воды унесли их в болото…
Первое время Баранов часто ездил в район. Потом почти перестал ездить туда. Звонили из райкома. Просил своих сказать, что его нет, уехал в бригаду…
Домой уходил рано. Запирался в избе, садился за стол. Вошло в привычку: раскрыть книгу, пробежать несколько строчек и потом думать. В эти минуты он был уже не председатель, не бывший начальник цеха, а просто человек. И думалось легко, свободно. А как хорошо, когда легко, свободно думается! И в это время в мыслях не было никаких желаний, ни постановлений, ни решений, ни указаний. Мысли его тянулись к вязевским, клинцовским, заветовским людям.
Вот живет по соседству с Акиньевной красноносый сгорбленный старик Сидорыч Молочков. Прежде жил. Молочков с внучкой. Внучка вышла замуж, перебралась в Заветы. В избе у старика голо, хоть шаром покати. Зимой и летом спит Сидорыч на печи. С утра до вечера бродит от избы к избе. Там выпьет чаю, там съест тарелку щей. А для Полковника он — любимейший гость: Молочков всю жизнь проработал на лесоразработках, теперь получает пенсию, которую и пропивают. За свою жизнь Молочков повидал множество людей, пережил множество разных случаев. Любит рассказывать. И на деревне слывет очень умным человеком. Заглянет в правление, сядет на лавке и сидит молча, покуда кто-нибудь не спросит о чем-либо. У магазина присядет на порожке и, если тепло, тоже сидит часами, мигая красными веками без ресниц. Деревенские обращаются к нему с различными вопросами.
— Будут ли в нынешнем году грибки, Сидорыч?
— Должны быть. Вот дождик пройдет, и должны быть…
— Сажать картошку или подождать маленько?
— Дня три еще подождать надыть, — отвечает Сидорыч, — землю самый раз парком прохватит.
— Агрономша сказала — сажайте.
— Ну и сажайте, коли сказала…
Агроном — Екатерина Зиновьевна — живет в деревне десятый год. Мужик ушел от нее, оставил с тремя детьми. Четвертого, говорят, заполучила от предшественника Баранова.
Что она делает в хозяйстве? Получает какие-то брошюры, предписания, мешочки с зерном. Пишет глупые, но нужные кому-то отчеты. И что бы ни делала, голова ее занята детишками, своим хозяйством. Посидит, посидит в правлении и бежит в свою избу. Хитрить научилась: скажет, что поехала в Заветы, а сама дома белье стирает. Заговоришь с ней, часто моргает, крутит свои пальцы, хрустя суставами…
В Вязевке есть больница, сельсовет, почта, два магазина, пекарня, клуб, правление. В этих учреждениях городского типа работают вязевские люди. Часть вязевских мужиков устроились в лесничестве. А земля-то требует ухода. Весной-то посеяли, а осенью убирать было некому. Клинцовские, заветовские люди не желают работать на вязевской земле.
— Мы со своей еле управляемся, — говорят они, — а вязевские по часам работают!
— В белых халатиках!
— По часам работают, а сенокос, огороды имеют!
— И пензию опосля получают!
— Но вы же ходите в больницу? — говорит председатель. — В магазине печеный хлеб покупаете?
— А нешто мы не работаем? Мы не по часам работаем!..
…Да, работают… Но откуда же эта бедность, будь она проклята?! А не бедность, так убожество! Возле пилорамы живет Захаров Василь Василич, могучий мужик, инвалид войны. Изба у него крепкая, хозяйство солидное. Два сына его, отслужив в армии, остались в Кедринске. Живет он с двумя дочками, которые часто навещают братьев. Говорят, одна из них, Катька, уже нашла в Кедринске за пять тысяч рублей жениха: для проформы выйдет замуж. Получит паспорт и разведется с мужем. Бедна ли их семья? Нет. Когда банк задержит деньги или не хватает для полного расчета с колхозниками, бухгалтер Иваныч берет взаймы у Захарова по восемь, десять тысяч рублей. А зайди в избу Захарова: темно, обои на стенах облуплены. Кровать хозяина без простыней. Едят все из одной миски…
Глава четырнадцатая
И прожгла однажды Баранова жестокая мысль: не знает он деревню! Живет она лет четыреста, а может, и больше — кто знает? Во всяком случае печи для обжига извести сорокинского заводика существовали уже при Петре Первом. Известь готовили для постройки церквей, монастырей. Сотни лет жила деревня. Пахотной земли мало и сейчас, а тогда, конечно, еще меньше было. Люди разводили скот, драли лыко, собирали грибы, ягоды. Варили деготь, жгли уголь. Зимой везли все это в далекий, тихий монастырский город — в Тихвин. Молились и молятся богу. Молятся по-разному. В Вязевке мирские люди, здесь ходили в церковь, венчались. А в Клинцах, в Заветах — староверы…
Узнал Баранов, что на берегу озера в нынешней школе жил когда-то помещик, которому принадлежала эта нищая и богатая земля. Жили богато в Вязевке только четыре двора. Какие-то Завалиновы, они держали кабаки. Шматковы торговали скотом. Заеловы и Стручковы — лесом… Помнят старики помещика Володина, жившего за Вязевкой у пруда. Ему принадлежали пруд, водяная мельница. Жил Володин в простой избе. На мельнице заправлял делами нанятый мужик, а он шатался по лесу с ружьем, пьянствовал с мужиками. После революции Володин, оставшись без мельницы, бродил пьяным по деревням. Его никто не трогал. И в одну зиму он замерз на дороге.
Кабаки Завалиновых превратились в магазины. У Шматковых забрали табун лошадей. Года два бились мужики с землей — как ее разделить? Здесь поляны близко, да трава плохая. За Могильным хутором клевера хорошие. А к Жигалевским полянам надо через болото пробираться. И не делили землю, косили сообща. Потом делили сено.
Волостной совет размещался в Вязевке. Председателем был некий Пружанов, приехавший из Череповца. Мужики только пожали плечами, когда Пружанов назначил своим помощником девятнадцатилетнего Ефимку Сковородникова, нынешнего Полковника. Отец Ефимки был здоровым мужиком, но хозяйства не имел. Драл лыко, собирал, сушил грибы, снабжал помещика рябчиками, форелью. И вот сын его стал помощником Советской власти!
Трагической оказалась сходка, о которой до сих пор помнят, когда Пружанов, собрав народ, объявил, что бога нет. Религия — это буржуазный пережиток. Церковь закрывается. Иконы в избах надо снять. Для подтверждения отсутствия бога Ефимка нагадил в церкви и было объявлено: церковь превращается в общественный нужник. В ужасе жители разбежались по домам.
Нагадили Пружанов с Ефимкой на бога? Нет! Они нагадили на Советскую власть, на темные головы людей, поколения которых жили куском хлеба, картошкой да религией. Спустя год после этого собрания Пружанов перебрался в уезд, место его занял Ефимка. Баранов пытался представить: что мог натворить тут Сковородников? Но как ни напрягал мозг, путного в голову ничего не приходило.
За короткий срок на вековую темноту обрушились чрезвычайные новости. Убрали царя, которого и помещики считали чуть ли не господом богом. Прогнали помещиков, перед которыми деды и прадеды ломили шапки. Пришла Советская власть — бога нет! Неужто и его тюкнули? А потом поползли слухи о коллективизации. Чего только не шептали друг другу! Избы снесут, построят длинные сараи из железа. Баб, мужиков, девок поселят вместе. Детишки будут общие, хозяйство объединят… В избах ночами горели лампады, бились бабьи поклоны: пронеси, господи!
Перед войной приступили к организации коллективных хозяйств. Каждая деревня — отдельный колхоз. Не желающим вступить в колхоз давали «твердое задание» — отсылали на лесоразработки как саботажников. Уездное начальство говорило, что жить будет лучше. Но почему лучше? Все доводы вязли, тонули в простейших рассуждениях:
— Где ж богачество будет? Петр Скородумов с бабой своей встают до света, работают дотемна. А Зинаидовы продирают глаза к полдню. Своей корове сена наготовить не могут!
Потом пришла война. Всю войну был в Вязевке председателем некий Золотарев, уехавший потом в Ленинград со своей семьей. В эти места немцы не дошли, их задержали у Тихвина. В Клинцах, в Вязевке и в других деревушках одну зиму был расположен госпиталь. Бойцам отдали всю скотину, картошку… Но зачем вспоминать, что принесла война в деревню и что вынесла из нее. Не стало мужиков. Нет скота. Бабы лопатами вскапывали огороды, поля. Голодали. А после войны за одиннадцать лет здесь побывало тринадцать председателей!
— Тринадцать! — шептал Баранов, узнав эту новость, и по-бабьи повторял: — Боже, боже мой!..
Что это? Разврат властей? Вредительство?
— Да одно частное хозяйство, если в нем каждый год менять хозяина, через несколько лет погибнет, зачахнет… Как бы между прочим я расспрашивал о бывшем председателе, — Баранов улыбается слабой улыбкой больного, — из тринадцати в памяти людей остались несколько. Большинство не оставило никакого следа. Был председатель, уехал и все тут…
Помнят деревенские какого-то Зарудного, видимо, он был из хохлов. Высокий, «просто громадный», с коротко остриженной головой и бычьей шеей, Зарудный остался в памяти человеком, обладающим чрезвычайной силой.
— Что твой Зарудный, — говорят теперь на деревне, отличая сильного человека.
Зарудный мог выпить за один присест две бутылки водки. И не пьянел, а только краснел лицом немного. Однажды на мостике провалились сани с сеном. Мимо проезжал Зарудный. Подошел к возу, «…добрался рукой до полоза саней, уперся вот так-то, растопырив ноги, напрягся и вывернул сани».
Баб водил на работу строем. Как рявкнет: «Бабы, смиррр-но!» — во всех избах слышно было.
Помнят Шкапелика Ивана Ивановича, тихого, вежливого человека. Никогда не ругался. Кто попросит у него денег взаймы, если есть, давал, а долг никогда не требовал. Лунатиком жил около года. Ходил всегда пешком. Жил он у Полковника. По вечерам читал книжки, писал что-то. Сидит, сидит над бумагами, закроет глаза и шепчет:
— Да, да… Видимо, я просчитался… ошибка вышла.
— В чем ошибка, Иван Иваныч? — спросит Полковник, надеясь высказать свои какие-то познания, которыми он гордился.
— Это я так… про себя.
Во сне разговаривал, махал руками. Полковничиха побаивалась: вдруг он припадочный?
Шкапелик приобрел невод за свои деньги.
Мужики вначале полазили в озере и забросили рыболовство. Сети куда-то исчезли. Когда Шкапелик уехал, появились сети у Полковника и у заветовского бригадира. И оба некоторое время рассказывали на деревне, как они копили деньги, как покупали сети в городе.
Память о себе оставил Боровиков — при нем проводили электричество, думали, делается это благодаря председателю: он пил с монтерами, выплачивал им деньги, хлопотал насчет проводов. А преемник Боровикова сказал, что тот никакого отношения к электричеству не имел. Занимается этим делом организация «Сельэлектро», у которой есть план. По плану очередь дошла до Вязевского сельсовета…
Побывал здесь даже московский грузин по фамилии Кутубидзев. Он внес в деревню невиданное до тех пор оживление, о котором до сих пор деревенские вспоминают с удовольствием.
После собрания Кутубидзев не раздумывал, где бы ему поселиться. Задал вопрос бухгалтеру Вертечкову, стоявшему рядом с новым хозяином:
— Где тут живет продавщица из магазина?
— Из какого? — ласково осведомился бухгалтер. — У нас их два.
— Из продуктового.
В продуктовом работала жена бухгалтера Раиса. Конечно, в избе Вертечкова нашлась кровать с пухлой периной. Кутубидзев не повторял вариантов своих предшественников, в расспросы, в беседы не ударялся. Предшественников не бранил. Вызвал в кабинет бригадиров, сказал им:
— Вот что, друзья мои. Я честный человек и говорю вам открыто: здешнего сельского хозяйства я плохо знаю. Но освоюсь быстро. Единоличие власти в процессе работы отдаю каждому из вас. Все вопросы решайте сами. Мне будете докладывать в установленные сроки. Смотрите у меня! Партия дала мне задание, кто не выполнит моих предписаний, — он оглядел соколиным взором бригадиров, — тогда узнаете. Я церемониться долго не буду…
Приехал Кутубидзев после уборочной, из-за которой полетел его предшественник. А с первым снегом впервые появилась компания хохлов: все здоровые, мордастые. В новых полушубках, валенки обшиты кожей. Приехали хохлы на своих лесовозах, поселились в избе Молочкова. Нагрудные карманы у них были набиты денежными аккредитивами. У каждого справка: дана правлением колхоза такому-то в том, что ему доверяется заключать договоры с организациями, частными лицами. Производить расчет как наличными, так и по безналичному расчету.
«Восход» продал на корню восемь тысяч кубометров строевого леса. Это по документам. Сколько было вывезено на самом деле, никто не знает. В лесу, в деревне кипела работа. Украинцы не тянули с оплатой, рассчитывались ежедневно.
Работали днем, ночью. Ревели эмтээсовские тракторы. Один трактор с прицепленным к нему громадным треугольником, сколоченным из бревен, патрулировал по маршруту Вязевка — станция Кедринская, расчищал для лесовозов дорогу от снега.
В руках мужиков шелестели червонцы. Раиса чаще ездила в сельпо — полки с вином быстро пустели. Акиньевна сбилась с ног — то и дело среди ночи стучали в дверь:
— Акиньевна, открывай гостиницу!
К апрелю исчез с лица земли Дальний сосновый бор. По документам мачтовые звонкие сосны прошли деловой древесиной третьего сорта по восемьдесят рублей за кубометр. Сколько на самом деле уплатили украинцы, никто не знает. Об этом даже не задумывались люди. Были довольны тем, что получили за повалку, трелевку, погрузку леса.
— Я не то, что другие, — распространялся обросший бородкой Кутубидзев, — вы ничего не получали на трудодень. Я вам заплачу по десять рублей!
После посевной Кутубидзев уехал.
Потом руководил хозяйством некий Сторублевцев. Помнят его из-за звучной фамилии.
Потом какой-то Кириенко. А перед Барановым был Иван Захарыч Стольников, он сейчас работает в Кедринске начальником снабжения СУ-4. При Стольникове и было произведено укрупнение колхоза. Тогда и вошли в «Восход» Клинцы, Ястребовка, Тутошино…
Баранов метался по холодной избе: загадили деревню! Да, да! По документам в колхозе две тысячи гектар пахотной земли, столько же сенокоса. Но где все это? Клинцы скоро обрастут кустарником. Да что земля! Людей искалечили! В тех же Клинцах живет, например, Мотя Раевская: шесть человек детей, старуха-мать живет, не слезая с печи. Завшивела. Ест, что сунут ей на печь. А не сунут, так и так. Дети Мотины не похожи друг на друга. Самая старшая Маруся, ей лет двадцать. Красива, глаза с поволокой. Говорят, она копия Моти, такой же красавицей была Мотя в молодости. Остальные дети мал-мала меньше. Один мальчик краснорыжий, другой черноволосый, с горбатым носом — вылитый Кутубидзев.
— Где насобирала столько, Мотя? — спросил ее Баранов как-то.
Та ответила с улыбочкой, но невесело:
— Под кустами! Одного здесь, другого там!
А сама тощая, морщинистая, глаза неспокойные. И работает неспокойно: ухватится за одно дело, не окончив, бросает начатое, берется за другое. Пошлет бригадир сено грести, бежит и гребет. А дома грязь, с печи тянет вонью: старуха все просит вымыть ее, а времени нет на то у Моти. Да и не обращает внимания на просьбы старухи. Закрутилась баба, замоталась, выскочила из колеи и ошалела. О-о! Какими же дети будут? Маруська ее и три подруги спят и видят во сне город. Уходили работать на известковый заводик, загружали известь в печи. Покуда было тепло, спали в сарае, чтоб не платить за жилье. С холодами перебрались в избу, спали в маленькой комнатушке на кожухах, платили старухе-хозяйке по десять рублей в месяц. Их уволили с завода, живут они дома. На работу палкой не загонишь. Лет пятнадцать люди ничего не получали по трудодням. Пятнадцать лет, день в день работать и ничего не получать за это. Раздать бы всем паспорта, сжечь избы — идите! Идите куда угодно! А самому пулю в лоб и пропади оно все к чертовой матери!
Но вот не выполнили его указания в Ястребовке: не возили навоз на поле, а уехали за сеном, за дровами в лес. И мелькнула жуткая мысль, которую мигом отогнал. Как ребенок, порадовался, что никому не узнать, какие мысли мелькают в голове. А мелькнуло страшное: взять бы человек десять парней с чужой стороны, посадить их на лошадей, дать в руки плетки и пусть ездят, проверяют работу — мигом бы вытянули хозяйство!
Подумалось такое, когда гнал во всю прыть жеребца из Ястребовки, давя челюстями мундштук папироски. В Вязевке придержал жеребца у магазина, пробежал за зеленые двери. Купил две бутылки водки, засохшего сыру. Засветло заперся в избе, сидел пил. Взгляд тянулся к висевшей на стене двустволке. Очень просто… упереть стволы в подбородок, нажать курки. Все исчезнет… Ходил по избе. Постоял у окна. Вглядываясь в сумерки, затряс головой, поморгал. Протер запотевшее от дыхания стекло: где-то что-то горит. На востоке над лесом застыл желтый полушар зарева. Пошатываясь, Баранов спустился по скрипучим порожкам во двор. Стоял, расставив шире ноги, чтобы не качаться, смотрел. Где же горит? По дороге прошел человек, Баранов узнал тракториста Ямочкина.
— Василий, — крикнул он, — что может гореть в той стороне?
Тракторист задержался.
— Это не пожар, Алексей Михалыч, — сказал он. — Это зарево от Кедринска. Там теперь в ночную смену работают…
«Вот оно что… Дня мало. Скоро суток не хватит. У-у, грабитель! — погрозил вдруг председатель кулаком зареву, и у него слезы выступили из глаз, — грабитель! Людей высосал из деревни. Ночь, мрак ему мешает — осветить ночь! Долой мрак! Ему расти надо, набираться сил, потом грабить землю. Да, да! Сотни лет на него работают ученые, изобретают машины. Потом усаживают их вот здесь в лесу, и машины грызут землю. И этот обоснуется, начнет грести громадными ковшами руду, известняк, отправлять в свое вечно голодное механическое чрево. Переварит, бросит своим родителям — еще делайте таких, как я? Еще! Нас мало, делайте нас больше! И мы сожрем все, что накопила земля за миллиарды лет. Мы сами есть результат творчества и грабежа человека, значит, мы должны, призваны грабить землю. А ты, Баранов, ты ласкай ее, оберегай ее. Помни: твоя жизнь — только постоянное творчество, ты лишен права грабить. Ограбив сегодня, завтра будешь сидеть голодным!
А он будет грабить и процветать и гордиться награбленным. Думаешь, он на этом остановится? Нет! Он разрастется, он сотрет с лица земли лес, Вязевку, как стер Кедринку. А потом, отвернувшись от ограбленной земли, начнет грабить воздух, реки, океаны…»
Баранов очнулся на рассвете. Он лежал в сенях, входные двери были закрыты. Чувствуя тошноту, боль в голове, добрался кое-как до кровати. И свалился трупом. Ему снились какие-то громадные ковши с острыми зубьями. Колоссальных размеров гусеницы неведомых экскаваторов, которые полчищами подвигались со всех сторон к деревне. Вдруг они взревели, бросились на избы. Хрустели бревна, ковши рыли ямы, сваливали в них раздавленные избы. Бабы, мужики, детишки стояли поодаль на бугре, они плясали, хлопали в ладоши, обнимали друг друга. Полковник бегал между чудовищными машинами и кричал: «Что? Кого? Вы еще узнаете, кто такой Ефимка Сковородников!»
Потом бабы веселой гурьбой пошли куда-то. Экскаваторы исчезли. Где-то запел женский приятный голос. Кто-то звал Баранова по имени, но он прилег на какую-то прохладную синеватую траву, удивился ее запаху. Ему стало хорошо, покойно, и он уснул. Когда открыл глаза, увидел, что вокруг удивительно светло, чисто. Стоят белые койки. Над ним склонилось лицо женщины, он узнал больничного врача Цейхович. Он понял, что находится в больнице.
— Тихо, тихо. Лежите спокойно. Вы больны.
— Как я попал сюда?
— Вас принесли.
— Когда?
— Пять суток назад.
— Вы шутите?
— Нет, — она покачала головой, — с больными я редко шучу.
— Чем я болен? — спросил он.
— Вы истощены. И у вас небольшое нервное потрясение. Теперь, кажется, все прошло. Только лежите спокойно.
Цейхович вышла. Пожилая сестра Осиповна принесла бульон. Она рассказала: в прошлую субботу он весь день не был в правлении. Захаровна из нижнего этажа стучалась к нему. Старуха решила, что он уехал. Но никто не видел, чтобы он уезжал. Ветеринар Соснин и старик Молочков взломали дверь: он лежал на полу без сознания и с ружьем в руках.
— Отощал ты, Алексей Михалыч, — говорила Осиповна. — Столовался бы у кого… Три раза Моисеевна тебе кровь вливала. Господи, что творится на белом свете!
Через три дня Баранова выпустили на волю.
В деревне было тихо. День был солнечный. Серебрилась мелкая рябь на озере. Голова немного кружилась, его слабо покачивало. Полковничиха выпустила к воде свиней. Сама стояла, подоткнув юбку, держала ладонь над глазами, смотрела куда-то за свинарник. Заметив председателя, проследила за ним, покуда он не скрылся в избе.
В избе было прибрано. Пришла Захаровна, постояла в дверях и сказала:
— Алексей Михалыч, вы бы обедать спустились ко мне… Мне продукты выписали… Я готовить вам буду. Ветеринар так сказал.
— Хорошо, Захаровна. Спасибо!
Вечером навестили бригадиры и пришел ветеринар. Коротко доложили о делах, посидели, переглянулись и ушли.
Вечер провел он за столом. Он писал.
Во всем теле была слабость, да он и не чувствовал своего тела, но мыслилось легко, свободно, и перо торопливо набрасывало мысли на бумагу. На следующий день он опять писал. В те дни он как-то отстранился от дел, посматривал на все со стороны. Деревенских поразила весть, что председатель попал в больницу от истощения. При встрече с ним тихо здоровались, потом удивленно смотрели ему вслед. Делами никто не тревожил.
Писал Баранов о том, что узнал здесь. Получалось что-то вроде историкопсихологического трактата. Написал он о Пружанове и ввел термин пружановщина. О Сковородникове, о тринадцати председателях, о Моте Раевской. Все, что он узнал, осмыслил, надо вылить на бумагу, вынести на всеобщее обсуждение. Говорить об этом в беседах — толку мало. Разговор останется разговором с одним, десятью, с сотней людей. Слова быстро забываются, смысл их может быть неправильно истолкован. К тому же этот вопрос касается не только его хозяйства, а многих. Мгновенно, одним махом решить вопрос нельзя. За год-два можно прорубить тоннель в горах, построить шахту, завод, ГЭС. Разработать карьер и добыть пуды золота, тонны руды, угля. Но вернуть людям любовь к земле, веру в нее, в свой труд — одним махом невозможно. Гадилось постепенно, так же постепенно нужно выправлять положение. Не нужна громкая кампания, писал он, а надо выправлять спокойно, без громких фраз, обещаний. Ибо обещания приводят к тому, что люди привыкли думать: стоит где-то там сказать слово и все появится. А люди ни на кого надеяться не должны, они должны верить только в себя…
Глава пятнадцатая
Исписал две тетрадки, перепечатал на машинке и отвез в редакцию новогорской газеты. Домой возвращался удовлетворенным. Казалось, вынул из груди что-то тяжелое, давившее все время и мешавшее дышать. Он предчувствовал наступление какого-то нового периода в работе. Возможно, ему будут возражать о наболевшем, тогда можно будет скорей найти выход из создавшегося положения. Сам он решил, прежде всего, просить у государства долгосрочный кредит. Как больному вливают в организм кровь, так и в деревню нужно влить средства, чтобы она свободней, глубже начала дышать. Надо только обдумать: куда, сколько и как влить.
Редактора газеты я знаю. Он бывал в Кедринске, заглядывал в городок. Мы с ним выпивали на рыбалке. Ему уже за сорок. Когда-то в молодости он писал стихи и, конечно, считал их великолепными. Даже напечатал несколько стихотворений в газете. Потом учился в Москве на курсах редакторов. Толкаясь в редакциях журналов, он понял, что стихи его посредственны. А талант если и есть, то не ахти какой. Что поэтом стать нелегко, нужно много-много работать. А где гарантия удачи?
По окончании курсов он женился. Работал в нескольких районных газетах, потом его направили в Новогорск. Он любит литературу, много читает, собрал солидную библиотеку. Изредка пишет передовицы в свою газету. Печатает под псевдонимом стихи. Раза два-три в год публикует «Записки деда Мазая», в них он крючком сатиры поддевает Марфу Нетудыидущую за клубнику; тракториста Рулькина-Непахавшего за пьянство.
Редактор знает, что газету его читают от случая к случаю. Однажды знакомый его, ездивший по области, привез пачку районных газет. Посмеиваясь, передал их редактору. Содержанием и видом газеты были одинаковы: необычайно серьезны, скучны и однообразны. Казалось, будто выпущены они одной новогорской редакцией. Только какой-то шалун переменил названия их, перетасовал заметки. Редактор посмеялся с товарищем, даже сказал какой-то каламбур. И потом добавил:
— Вы заметили, дорогой мой, что чем бессмысленнее должность, занимаемая человеком, тем больше он желает казаться серьезней? Это людская слабость, и надо мириться с ней! — он весело развел руками.
Редактор понимает, что каждая мелочь, созданная разумом человека, имеет свое одно определенное назначение. В душе он не верит, что газета его несет на своих плечах бремя истинного назначения своего. Хотя бы потому, что каждый выходящий номер совершенно не волнует ни сотрудников, ни его самого. Возможно, газета такая вовсе не нужна людям. Взглянуть глубже, даже вредна как в нравственном, так и в материальном отношении. Ну и что ж… «Не мы одни. Не мы первые, не мы последние».
Получив рукопись Баранова, редактор прочитал первую страничку. Закурил. Я так и вижу: глядя в стену, за которой стучала машинистка, подумал. Затем перечитал страничку, надел очки на свою кругленькую маленькую физиономию, угнездился удобнее в кресле и стал читать дальше. Вечером он принес рукопись домой и еще раз ее перечитал. Если бы он не видел автора, подумал бы, что статья написана каким-то юнцом, впервые окунувшимся с головой в жизнь: в ней было столько искренности, прямоты, сколько человеку с положением и солидному не подобает иметь. Но в то же время статья написана с полным знанием дела. Материал подан скупо, сжато.
Жена редактора тоже прочитала рукопись. И опять я вижу, как она, закурив, бросила свою изящную левую ножку на правую, пустила вверх струю дыма и сказала:
— Да, Дима, черт знает что творится. Что ты думаешь с этим делать? — она кивнула на рукопись.
— Посмотрим…
А спустя два дня редактор сидел в кабинете секретаря райкома Холкова, которого я тоже знаю. Внешне он напоминает Гуркина. Носит он широкие костюмы, когда сидит за столом, члены его тела необычно подвижны, когда он сердится, лицо его краснеет. И в разговоре с людьми, когда вопрос касается чего-нибудь существенного, он всегда произносит одну и ту же фразу:
— Ну хорошо. А вы что предлагаете?
Эта стандартная фраза произносится с различными оттенками в голосе, от чего и зависит смысл ее.
— Он принес один экземпляр? — спросил секретарь.
— Один. Видимо, второй оставил у себя, — сказал редактор.
Оба подумали об одном и том же: если оттолкнуть автора от новогорской газетки, он сунется в область. А то и в Москву пошлет. Поднимется шум. Начнут копаться по всему району. Положим, большого дела не создадут, зачем мусор из избы на людях выметать? Но секретаря тряхнут: он руководит районом шестой год. Где был? Куда смотрел? И главное: по шее-то дадут, но все-то остается по-прежнему! Холков сам ужаснулся, прочитав рукопись. До этого он читал о всяких недостатках. Даже в центральной газете протянули однажды район. Но писалось так, как и в прошлом году, и в позапрошлом. Казалось, через двадцать лет будут писать точно так же: так-то ржавеют под снегом сеялки, жатки. Урожай картофеля остался под снегом. А ниже сообщается, что вот, мол, у соседа совсем иначе. Этот же идиот собрал все в кучу, сжал время, вывернул все наизнанку… Эх, лет десять назад сунулся бы он со своей писаниной — загнал бы в такую дыру, забыл бы, как ручку брать в руки!
Трудно стало работать. Трудно. Скорей бы на пенсию… Так подумал секретарь и сказал:
— Вот что: придержи это, а там посмотрим… Время покажет…
Как и Ванька Герасимов, каменщик Борцов, начальник Гуркин, Холков придерживается той же политики: в данный момент как-то отвертеться.
Две недели Баранов ждал появления статьи в газете. Не выдержал, явился в редакцию. Редактор принял его как старого знакомого. Усадил в кресло, с любовью смотрел на автора.
— Да, еще не напечатали, — горестно говорил редактор, — видите ли, наша газетка мала. А у вас листа два печатных будет… Почему вы раньше не зашли?
Баранов пожал плечами.
— Я ждал. Со дня на день ждал… Какой же выход? Знаете, это же очень важно! Чрезвычайно важно! Не только в экономическом отношении. Экономика — это уже результат. Последнее время я много думаю над этим вопросом. Ведь то, что мы назвали культом личности, не только уничтожило тысячи грамотных, вполне сознательных людей, имеющих твердые убеждения. Но этот культ оставил после себя массу крупных и мелких чиновников, тупых и пошлых. Он создал десятки тысяч Моть Раевских, сотни тысяч Марусь, их подруг. Но это слишком большой вопрос. И я скажу о наших делах. Ведь что получается: всюду неполадок уйма, а все сидят, молчат. Ждут, когда вызовут в райком да по шапке дадут. Ну я хоть первый начну, — Баранов засмеялся, потер руки, будто ему стало зябко, — хорошо! Сначала о себе сказал, потом соседа какого-нибудь потереблю, он рассердится, да и примчится к вам. Заволнуются все. Хорошо! А то сидят, как сурки…
— Да, да, — улыбался редактор. Он сказал, что на днях собирается в область, похлопочет насчет бумаги, которой нехватка. И постарается напечатать статью.
А в середине декабря Баранова и других председателей вызвали в область. Привез Баранов в деревню новость: обязательные поставки отменены. Колхозу выдали средства на строительство коровника и свинарника. Райком обязал Кедринский стройтрест построить эти помещения.
— А как же статья? — спросил я Баранова.
— Не знаю, — отмахнулся он, — надоело ездить в редакцию. Да и некогда.
— Сколько же колхоз должен теперь государству?
— Четыре с половиной миллиона.
В этот вечер мы засиделись до часа ночи, я предложил Баранову переночевать у меня.
— Нет, нет, — отказался он, — я решил привить себе привычку: где бы ни быть, а спать дома. Иначе разболтаешься…
Он уходит. Слышно, как он говорит что-то жеребцу. Протарахтели колеса. Я ложусь спать. Долго думаю о председателе, о деревне. Потом мысли крутятся вокруг своих забот. У каждого свои заботы, радости и печали. Радостей у меня мало. Началось воровство. Склад плотники устроили за деревней на выгоне, поближе к дороге. Там стоял когда-то сарай, от него остались столбы. Мы сделали крышу и под ней складываем цемент, шифер и прочее — покуда погода сухая, нужно завезти весь материал. В основном воруют шифер, лист которого котируется на черном рынке от семи до десяти рублей. Я купил себе тульскую двустволку, шляюсь с ней по лесу. По несколько раз за ночь хожу к складу. Стою у штабеля кирпича, прислушиваюсь к шорохам. Дни стоят жаркие, безветренные, а ночи прохладные. Начался сенокос. Поблизости не косят, но воздух насыщен запахом увядшего клевера. Смотрю в сторону кедринского зарева, так поразившего когда-то председателя. К утру зарево исчезает. Из оврага ползут сивые облака тумана вдоль деревни. По пояс в тумане иду в избу. А утром замечаю: из крайней стойки шифера изчезли десять листов. В ответ на мои жалобы Аленкин пожимает плечами. Баранов прямо сказал:
— Борис, я ничем не могу помочь. Это твое дело. Мне бы хоть свое добро сохранить.
Докладывал о воровстве Самсонову, он разрешил нанять сторожа. Я оповестил клинцовцев. В деревне четыре мужика: сосед мой, шестидесятилетний Сергей Никандров, попросту дедка Серега, его ровесники — Ваня, Федя, Яша. Никто из них не согласился сторожить. Бабы интересуются:
— Сколько платить будешь, Борис Дмитрич?
— Четыреста рублей в месяц.
Качают головами: деньги хорошие, на дороге их не найдешь. Прикидывают, сколько и чего можно приобрести за эти деньги в магазине. Решились сторожить Мотя Раевская и ее соседка старуха Васьчиха. Приходят ко мне вечером в избу. Васьчиха останавливается у порога, как-то испуганно смотрит на меня. Мотя решительно подходит к столу, ударяет по нему ладонью.
— Идем сторожить к тебе, Борис, только без обману?
— Какой может быть обман, Мотя?
— Все по закону?
По закону.
— Сегодня и приступать?
— Приступайте…
Но через три дня приходится уволить сторожей: разгоняя свой страх громкими разговорами, песнями, они бродят вокруг склада только до рассвета. Спешат топить печи, справляться с хозяйством. Утром третьего дня я недосчитался пятнадцати листов шифера.
— Вы должны быть у склада до семи часов утра. Ну хотя бы до шести. Ровно в шесть я к вам буду приходить и тогда расходитесь.
— Не можем. Лучше уж уволь нас, Борис Дмитрич, и денег твоих не надо. Сколько страху-то натерпелись!
Деревенские смеются мне в лицо:
— Борис Дмитрич, ты бы ружо им дал! Как же это Васьчиха без ружья!
Выручил дедка Серега, который часто заходит к Сергеевне. То в хлеву что-нибудь поправит, то в избе. Работает он конюхом, несколько раз за ночь ходит на конюшню. Он высок, сутул, но еще крепок.
— Дедко, возьмись ты сторожить, — прошу его, — тебе, что, деньги не нужны?
Он улыбается:
— Ишь ты, Борис, как рассуждаешь. А подумай о другом: ты-то уедешь, а я останусь. Он-то (вор) память будет иметь, ай нет?
Договорились: сам дедко ловить вора не будет. Как заметит его, скажет мне, и я расправлюсь с ним. Воровство моментально прекратилось. Все пометки, которые делаю химическим карандашом на листах, на кирпичах, вижу каждое утро. Дедко Серега стал чаще заходить в избу вечерком, и мы с ним беседуем. Особенно оживленно и долго протекает беседа, когда старик маленько загуляет.
— Что ты все пишешь? — заявляет он, вырастая в дверях, весело улыбаясь маленькими глазками. — Полно кляузами заниматься! Идем выпьем да побеседуем. Разругался я нынче со своей старухой, — он отчаянно машет рукой, — ну их всех, Дмитрич, мы одни с тобой можем понимать разговор! Танька, — кричит он Сергеевне, — готовь нам закуску! У нас есть вот тут! — он вынимает из кармана бутылку водки. — Пошевеливайся, шевелись, старуха!
И дедко пытается ущипнуть хозяйку за бок.
— Ох ты, идол, — укоряет его Сергеевна, кивая головой и улыбаясь, — уж пора бы забыть такие повадки!
— Это ж почему нам забывать такие повадки, а? Я еще в Тутошино сходить думаю…
До укрупнения колхозов дедко был председателем Клинцовской артели. Часто вспоминает о своей работе.
— …Теперь-то председателю дивья! — рассуждает он. — Теперь ему что! Живи да и только.
— Чем же ему лучше теперь?
— Да как же ты спрашиваешь об таком, Боренька, нонче совсем другое. Меня, бывало, вызовут в район: «Тудыть твою мать, кулацкая душа, чтоб было сделано!» Да кулаком по столу, да грозят тюрьмой. Ну, вернешься сюда и гоняешь народ без роздыху. Ну и делали, баловства никакого, хоть и не получали ничего за работу… Встану чуть свет, выйду с избы: глядь в один конец — крайняя Федина изба видна, гляжу в другой — изба Дарьи на прицеле. И все у меня на виду, и все меня видят. Все я знал! И в грамоте разбирался. Сколько надо соток отмерять, могу мигом обмерять сено, пойдем, гляну на стожок и хоть на пуды, хоть на центнеры тотчас переведу. Документы вел согласно закону. И до тонкостей знал, где, какое сено, кому сколько надо, чтоб без обиды… А теперь что? Председатель ездит по бригадам командиром, бригадирам дает задания и едет то на совещанию, то еще куда. Да все торопится, спешит. И наторопился: у кого изба тесом обшита? У кого покрашена краской масляной? Вот ты приезжий, скажи мне, у кого? У Ваньки. А у меня как было? Танька! — кричит он.
— Чего, старый, шумишь? Помолчи-то! — отвечает из своей комнаты Сергеевна.
— Ответь вот для него, для Дмитрича, брал ли я хоть клок сена тайком для своего хозяйства?
— Да полно тебе, угомонись!
— Нет, ты ответь, карга старая! Ответь как перед судом!
Сергеевна вдруг решительно входит в комнату и говорит, будто кланяясь:
— Да уж правда, Боренька, уж этого никогда не случалось! И сам-то выйдет на пожню и косит с нами. А чтоб взял чего, этого и понятия не имел.
Толстые сизые губы старика изображают в это время букву О, глаза его смотрят в потолок.
— А у Ваньки своя политика, — продолжает он, — к Дарене таскался по ночам, и у той до самого лета чердак клевером забит. Мы все знаем! Вот он и грамотный, и слово скажет, какое нужно. А я начну, бывало, там выкладывать обстоятельно, без архивов, смеются. А потом: «Что ты мелешь? Ты давай процент! Ты темный, ты неграмотный!» Ну вот он и грамотный: в прошлом годе ссыпали зерно в амбаре, а оно сгорело.
— Почему же?
— Пол был гнилой, просел под тяжестью. От земли сырь пошла…
— Что ж, не видели, что пол гнилой?
— Так ведь бригадир всему указ.
— Ну ты-то видел, дедко? Скажи мне — знал?
— Видеть не видел, знать не знал. А я бы на гнилой пол не ссыпал бы.
— Сказал бы об этом?
— Бригадир должон знать! — ударяет он кулаком по лавке. — Бригадир — знай! Дай наряд, пошли человека лес заготовить. Запиши все это, оплати. Так-то. Не хочешь смотреть, не желаешь быть хозяином, а мечтаешь начальствовать — начальствуй. Но и с других не спросишь хозяйственности. Раз ему укажи, другой — он губы развесит, до смерти начальствовать будет. Да еще за указание обидится. Вот как. А я тебе, Дмитрич, расскажу старую сказку… В давние времена жил один мужик. И вот сидел он однажды на лавочке перед избой со своим сынком. Сынок в годах был, хорош собой, и матушка над ним все охала, ахала, не знала, чем накормить, как от неведомых напастей сохранить. К вечеру дело шло. И едут через деревню купцы. Тогда еще купцы были. Мужик и говорит сыну: «Пойди-ка, сынок, узнай, с чем едут купцы». Побежал сын, приносит известию: везут-де гречиху да овес. «А по какой же стоимости они продают?» — «Не знаю, — отвечает сынок, — я не спросил». — «Ну так побеги, спроси».
Побежал сын. А купцы уж за деревню выехали, по лесу едут. Смеркаться стало. В те времена бога почитали, чертей боялись. «Гречиха по рублю пуд, овес по четвертаку», — приносит сынок известию. А сам запыхался, язык на боку, от страхов лесных глаза на лоб лезут. «Как же они продают: оптом, либо наразвес можно купить?» — «Не знаю, я не спросил». — «Ну так беги спроси. Беги».
А купцы-то уже верст пять проехали…
Старик хитро ухмыляется, шарит в карманах закурить, не находит, берет у меня папироску.
— Вот так-то бегал, бегал сынок. Взмок. От страхов зуб на зуб не попадает. А в следующий раз уж знал, о чем надо справиться у купцов… Вот оно как, Дмитрич, смекаешь? А ты: «Чего не сказал?» Обо всем разве скажешь? Вот и Федя Стойков, он член ревизионной комиссии. Много чего знает Федя! Много! И документ может представить при надобности. А сидит Федя и молчит. Почему? Да потому, что надо сейчас Феде лошадь, бери да езжай, надо лесу, иди да руби. А попробуй Федя побуянить насчет правды — шалишь, ничего Феде не будет…
— А председателю теперь дивья, — продолжает дедко, помолчав, — деньги вот дают на постройку, корма присылают. А что толку? Хозяйство в долгу, как в шелку. А два года назад вышла как-то заминка, кормов не прислали, за одну весну половину коров под нож пустили. Куда это годится? И поделом: не потакай, не нянчись, но и не указывай, каким манером детей зачинать. Вот оно что бы я сказал начальству… А то вот получилось: колхоз должен государству пять мильонов. Пять мильонов! Шутка сказать! А где они? У меня? У ней, у Таньки? У Моти? В колхозе? Нигде нету. И спросить не с кого. С Баранова? Он недавно приехал, одно время был замотавши, что чуть с голоду не помер, чужую кровь ему дополняли.
— Ты же говоришь, что председателю теперь дивья?
Тут старик вскакивает, хватает ртом воздух, будто задыхается. Начинает кричать о каких-то телегах, о болотах с пеньками, без пеньков, о сенокосах с выездами, без выездов. Я не понимаю его, но молча слушаю, покуда не приходит его жена Аннушка. Худая, лицом похожая на Акиньевну, она заходит в избу с улыбочкой. Быстро по-мышиному осматривает всех. Некоторое время, продолжая улыбаться загадочной улыбкой, смотрит на мужа.
— Ну полно, полно, пора и честь знать, — говорит она, — свою избу остудил совсем. Идем домой…
Глава шестнадцатая
А чуть свет старик является в избу. Спать ложусь я поздно, утром спать охота — нет мочи. Он лезет холодной рукой под одеяло, трясет меня за ногу, ворчит, улыбаясь:
— Все самые ленивые девки давно уж поднялись, а начальник спит… Спит начальник…
Какого черта ему надо?.. Зачем поднимает в такую рань? Ах, дьявол старый!
Я сажусь. Покуда одеваюсь, выслушиваю чрезвычайные новости: бабы уехали сегодня к Дальнему бору, всех лошадей он пригнал из лесу, только один жеребенок запропастился… Высокие голенища сапог старика влажны, холодны. От него пахнет лошадьми, травой, лесом. Вскоре иду через деревню к лесу, потом по ржаному полю. Утром колосья ржи покрыты росой, и похоже, будто они затянуты паутиной. Там и здесь вдруг паутина исчезает, и темные полосы устремляются к лесу — это убегают зайцы. После купанья в озере пью молоко. Потом начинается то, что называют рабочим днем. Весь день я занят, времени мне не хватает, но к концу дня, уставший, я не испытываю никакого удовлетворения. От свинарника спешу к пилораме. К полдню попадаю в Заветы, затем иду в лес. Летом заготовляют бревна здесь только остолопы: лошадью их нужно вытащить за ручей и болотце к Деляниному холму. Только сюда может добраться трактор. Нужно достать лошадь. А она вчера была, а сегодня на ней какой-то дядя Матвей уехал за сеном. Приходится отыскивать другую. Потом опять иду в Вязевку, звоню в контору. Нужно как бы невзначай нагрянуть к чикинцам, чтобы они не подумали: «Ага, ушел с утра, до вечера его не будет, можно что-нибудь предпринять…»
Предпринять же они могут что угодно и даже самое невероятное.
В Тутошино живет с матерью придурковатая девятнадцатилетняя девица Клава. Природа наградила ее красотой, стройностью Молдаванки. При желании парни подпаивают ее, насилуют в лесу. Однажды она набрела на свинарник. В истрепанной юбочке, измазанной малиной, и босая, она походила вокруг чикинцев, посматривая на них. Те принесли из магазина вина, пряников. Увели дурочку за овраг, где никто не бывает, бегали туда по очереди. На следующий день она опять пришла.
— Боря, — говорит мне Сергеевна утром воскресного дня, — угомонил бы ты своих разбойников.
— В чем дело, Сергеевна?
Будто не знаешь?..
Собираю чикинцев в избе. Они усаживаются на лавке, на полу, принимают беспечные позы. Худой, серолицый Шевырев — тайный и хитрый зачинщик проказ — косится на меня. Смотрит в окно. Я знаю, к чему они приготовились, — к ругани. Я прочитал на их лицах, не знающих детства, беспечность, равнодушие ко всему на свете и к самим себе. Такое равнодушие часто видят судьи. «Будь что будет», — говорят эти лица. Да, вот такими они бы сидели сейчас и на скамье подсудимых.
— Ребята, — сказал я, и голос мой дрогнул.
Я мало узнал от хозяйки о Клаве. И я говорю что-то вообще о жизни, о семье. О том, что ждет эту девушку в будущем, и о пьяном цыгане, зачавшем ее. Я сам путаюсь в своих рассуждениях. И когда кончаю, дрожащими пальцами достаю папиросу, на меня смотрят удивленные и даже расстроенные лица. Я выхожу на улицу. Вот изба Дарьи. Сворачиваю. Войченко сидит за столом, перед ним закуска и вдова.
— Вон! Вон отсюда, сволочь! — кричу я. — И если не уйдешь, я подам на тебя в суд. Слышишь?
Пьяный от возбуждения, я иду к себе в избу, беру ружье. Долго брожу по лесу. На берегу болотца расстрелял с пятнадцати шагов спичечный коробок. И особенно приятны были тяжесть оружия, гром выстрелов и фонтан грязи, взбитый пулей, которой был заряжен последний патрон, лежавший всегда отдельно от других в боковом кармане. В сумерках подхожу к деревне. На дороге замечаю Полковника, он что-то несет в руках, плюется во все стороны и рассуждает сам с собой. Он пьян.
— Привет Полковнику, — кричу я почему-то весело, — куда мотор завел?
Он подошел. Осторожно приглядывается.
— A-а! Строителям привет! Нужда мотором крутит, Дмитрич, не возьмешь? За десятку отдам.
В корзинке под травой громадная щука. Я забираю ее. В избе ожидает меня дедко Серега: сидит на лавке, и покуда я мою руки, ужинаю, молча и подозрительно посматривает на меня.
— Какие новости, дедко?
Он качнулся.
— Беда, Дмитрич…
— Что такое?
— Воры придут…
— Когда?
— Ночью нынче.
— Кто ж это?
— Не знаю.
— С чего ж ты взял?
— Известно. Едри их мать. Будут сегодня, Боря…
Мне кажется, старик по каким-то особым причинам не желает сообщать, откуда к нему поступила такая информация. Ну и пусть не говорит. Это его дело. Договариваемся: чтобы не вспугнуть воров, окна в моей комнате будут светиться, как обычно, допоздна. Я лягу спать, потом через хлев, огородами проберусь к складу… И в начале второго я уже у склада. Ружье заряжено холостыми патронами. Воры угадали ночь: на небе ни звезд, ни луны. Хорошо хоть ветра нет. Где-то потявкала собака. Собак здесь в деревнях мало, зимой их поедают волки. Зарево от огней Кедринска кажется сегодня особенно ярким. Чу! Нет, это просто показалось. Закурить бы. Сколько я буду сидеть в этой деревне… Инженер Картавин стоит на страже социалистической собственности. Приклад к ноге. Вот так… Не работа, а черт знает что. Пилорама совсем почти не работает. В каком-то «Красном пахаре» установили новую мощную пилораму, когда она работает, забирает всю энергию. Надо сходить в этот колхоз, договориться, чтобы работать по очереди. Эти переходы отнимают столько времени. А время, выработка рабочих — это деньги. Выработка и деньги. План. Ха-ха! Мне тоже дали план, для проформы. Везде должен быть план, хотя бы липовый. Какой дадут фонд зарплаты? Если не выйдет по тридцать рублей по кругу, брошу все и уйду. Рабочие не виновны. Черт возьми, сапоги уже разбились. Вторая пара… Я приседаю, взвожу курки. Две тени промелькнули со стороны леса. Одна маленькая, другая побольше. Вот они. Маленькая тень взяла лист шифера, второй. Исчезает в сторону леса. Вторая стоит и не шевелится. На секунду закрываю глаза, огненный столб из двух стволов разрывает темноту. Под моим телом фигурка обмякла, как травинка. Не чувствуя никакого сопротивления, выворачиваю руку, веду пленника в избу…
Сергеевна стоит в дверях, я сижу на скамейке, дедко Серега у порога. Возле печи стоит человек. Он в фуфайке в сапогах; из-под шапки выбились светлые волосы и косички. Это девушка. Она бледна до зелени. Она вся дрожит и прижала руки к груди. Мне даже неловко, помял я ее изрядно. Целы ли хоть руки у нее?
— Катька, да как же ты решилась ночью-то? — глаза Сергеевны выражают неподдельный ужас. Она крестится. — И пошла ночью, глупая! Из Тутошина не побоялась итить?
Я должен быть строгим.
— Отвечай, кто с тобой был?
— Катька, скажи все, — советует Сергеевна, — начальник добрый, расскажи все, и он простит.
У девушки вдруг закатываются глаза. Вскрикнув, она падает на колени:
— Матушка! Ма-а-а-ту-у-шка! Родная моя! Не виновата я, Гришчиха! Не виновата!
Я боюсь, как бы с ней чего не случилось. Втроем успокаиваем девушку. Вливаю ей воды между дрожащих белых губ. Таких белых губ я никогда не видел. Сергеевна уводит девушку к себе, успокаивает ее…
Она и в самом деле не виновна. Еще при Окуневе ходила с дядей Витей к свинарнику. Брали и цемент, и кирпич, и шифер. Окунев часто пил водку у дяди Вити, разрешал ему ночью брать материал.
— Он говорил, чтоб только деревенские не видели…
— С кем ты была сегодня?
— С братеней Васькой.
— Дядя Витя послал?
— Да… Нет… Сегодня нет. Сегодня он уехавши в Новогорск. Он говорил, что ему не хватает на крышу шиферу. Мы с Васькой пошли сами.
— А до этого с кем ходила?
— С дядей Витей. Он говорил, что вы все знаете и бояться нечего…
Уходим с ней на выгон.
— Васька! Васька! — зовет девушка. — Васька, иди сюда! Иди, лядящий!
Маленькая фигурка выплывает из темноты. Освещаю фонариком пухлую ребячью физиономию.
— Принесите шифер на место. И чтоб больше ни шагу сюда…
На другой день Баранов, я, ветеринар Соснин — он же секретарь партийной организации — едем верхами в Тутошино. Председатель и Соснин в седлах. Подо мной костлявая спина старого мерина с разбитыми ногами и шеей. Он целыми днями бродит вокруг деревни, и Полковник поймал его мне к случаю.
— Не ожидал, не ожидал от Бахмачева, — говорит Баранов, — хороший тракторист и вот тебе…
Местные жители все белобрысы или рыжеваты. Полных здесь нет. Полненькие только взрослые девушки и молодые женщины, которые чем старше, тем становятся суше и суше. Бахмачев явно не из местных: прямые жесткие волосы, косой разрез темных глаз, короткая могучая шея. Мы спешиваемся у его калитки, он что-то работает топором. Вгоняет топор в бревно, угрюмо наблюдает за нами.
— Принимай гостей, Виктор Николаич. Приглашай в избу.
— Не ждал гостей в такую рань. Заходите.
— Ждала не ждала, а дала — мужа не вспоминай, — шутит Соснин.
В избе никого нет. Рассаживаемся за столом. Бахмачев сел в сторонке.
— В город, что ли, собрались? — говорит он.
— Вот что, Виктор Николаевич, — Соснин закурил, — остановка у нас вышла на свинарнике — материалу не хватает. Пришли к тебе за помощью… Постой, постой… Я вот их уговорил не обращаться в милицию пока. По-хорошему решим давай: ты нам все отдашь, мы отблагодарим тебя при народе по всей форме — и квиты. Для пояснения: Катьку с братишкой вчера захватили на складе.
— А я при чем тут? — тракторист встал. — Чего вы хотите?
— Отвечай сразу: вертаешь все сам или милицию вызывать?..
Через полчаса возле избы Бахмачева собралась толпа, к ней подходят новые лица.
— Помер, что ли, кто?
— Где горит-то?
— Витю курочат…
Четверо парней выносят со двора мешки с цементом, шифер, кирпич, стекло.
Вскоре три груженые подводы тянутся в Клинцы…
Вечером я сижу за столом в горнице. Передо мной чистые бланки нарядов. Только для сторожа наряд готов. Для него все просто: пятнадцать шестьдесят умножить на двадцать четыре рабочих дня.
Старик молча сидит на лавке, на лице его важность, он оправдал свою должность.
— Вот здесь распишись, дедко!
— Где?
— Вот здесь. Вот…
Пальцы его корявы, не гнутся, покрыты черными морщинками. Он рисует что-то похожее на воробья.
— А я-то сомневавшись был насчет вора, Дмитрич, — говорит он, кладя ручку.
— Почему сомневался?
— Да иду мимо повертки, слышу, в малиннике толкуют про шифер, про склад наш. Я в кусты, а неизвестные бежать от меня. И будто не мужики бежали. А она и вышла проверка в самую точку… Что ж, делом будешь заниматься?
— Да, дедко, надо…
Он уходит. В журнал работ мне не нужно смотреть. Я прекрасно знаю, что сделано и что делают рабочие. Да и не в этом дело, а в том, что мне надо выдумать какие-то работы, которые якобы сделаны. Конец месяца, и рабочие уже толкуют: по сколько мастер выведет?
Чикинцы, как я уяснил, понятия не имеют о фонде зарплаты, о расценках. Они считают, сколько дней работали «дотемна». Толкуют о воде, появившейся в жижесборнике, и как они, по колено в грязи, выбрасывали эту грязь ведрами… По тому, как они уставали, они считают, что заработок должен быть приличным.
— Меньше тридцати пяти не должно быть, — толкует Чикарев, — а валун попался тогда, сколько возились с ним?..
Кстати, об этих валунах. Их здесь много разбросано природой на полянах, в лесу. Прихожу однажды среди дня к свинарнику. Чикинцы перекуривали, о чем-то спорили. Увидев меня, смолкли. Я присел, закурил.
— Борис Дмитрич, — спросил Чикарев, — откуда эти камни берутся?
— Валуны? А ты не знаешь?
— Да вот Швыря говорит, что они растут как вроде картошки.
Я посмотрел на него: ни тени улыбки на лице.
— Ты с чего взял такое, Шевырев?
— Слышал где-то, — ответил тот беспечно.
Я рассказал им о происхождении валунов. Слушали внимательно. После того разговора в избе и изгнания отсюда Войченки они стали внимательней к моим словам. Интересовались мной не только как начальником, но и как человеком.
— Вы правда в институте учились и закончили его?
— Правда.
Молчание.
— А чего же вы здесь с нами, а не в городе?..
Из них только один Двояков не побывал в колонии и острых столкновений с милицией не имел.
Он откуда-то из Владимирской области. Родители его умерли. Повинуясь общему стремлению — уйти в город, мальчишкой он удрал из деревни. Скитался по стране. Побывал в детских домах, нигде не прижился. Наконец попал в Ленинград и с помощью милиции очутился в Кедринске. Он задумчив. Иногда, кажется, он хочет о чем-то спросить, да не решается. Я предложил чикинцам выбрать его бригадиром, те согласились. В тот же день, когда говорили о валунах, Двояков задал неожиданный вопрос:
— А вот скажите: Ленин был умный?
— Конечно, умный. — Я мельком взглянул на него.
— Я не про то… Как бы это… Он учился?
— Учился. И хорошо учился.
— Ну вот он умный был, а если б не учился, он все равно был умным, остался и был бы таким?
Вот оно что! В этой крупной голове, покрытой курчавыми рыжеватыми волосами, копошатся мысли, сводившие в прошлом с ума изобретателей вечных двигателей, базарных мыслителей, странников: если человек от рождения умен, ему образование не нужно, он своим умом до всего дойдет. Я толковал Дроякову, что такое ум, что такое знания.
Глава семнадцатая
В Заветах рабочие старше чикинцев. Есть там пожилой землекоп-бетонщик Кирьянов. Он слывет знатоком финансовой стороны дела, наизусть знает расценки многих видов работ. Он рассказывает товарищам, что вырабатывают они крайне мало в этих условиях.
— Теперь все от фонду зависит, — распространяется он, — да от мастера, — как он сумеет извернуться. Но заплатят! Иначе нельзя. Иначе мы все снимемся и уйдем отсюда. Мастер выведет. А нет, пойдем к Гуркину. Он не поможет, мы к управляющему. А управляющий мужик крутой, начальников гоняет из кабинета как мальчишек. Он Гуркину по шее, Гуркин мастеру… А зачем им это все? Выведут!
И я вывожу. Особенной изворотливости здесь не требуется. Фонд мне еще не известен. Я кладу на человека тридцать рублей в день, вывожу общую сумму. Затем начинается самое отвратительное: обосновываю сумму, делаю описание «выполненных» работ. Пишу я черт знает что, по возможности близкое к возможной действительности. Если б то, что описываю, было сделано, свинарник давно бы готов был. Немудрено, что настроение у меня падает. В сущности, я жулик, ворую у кого-то деньги. А раз я ворую, то, мысленно оглянувшись, думаю, что и все вот так воруют, то есть обкрадывают сами себя. Все правовые, социальные институты кажутся мне фикцией, нужной теоретикам.
Я разговаривал по этому вопросу с главным инженером. Он сказал: «Трудности есть во всяком деле, а у строителей их особенно много». Но что такое трудности? Они могут быть и у человека умного, и у дурака, и у ребенка. У целой компании людей, не умеющих работать, мало знающих, мало думающих от неумения думать или нежелания. Поди тут разберись! И каждый норовит выставить щит с подписью: «Трудности». И копошится за этим щитом…
А в избе тихо-тихо. Окна открыты, но все равно душно. Земля насытилась за день теплом солнца, теперь отдает его воздуху. И ползет в окно странный, сладкий какой-то ночной воздух сенокосного времени. Сергеевна поворачиваясь во сне, застонала. Что-то шепчет. С сенокоса она возвращается поздно. Управится с хозяйством, подолгу молится, стоя на коленях перед иконой, часто отвешивает поклоны, да через раз — со стуком лба об пол. И шепчет:
— Не сожги, не погуби, отгони, господи…
Просит у бога здоровья дочери, внучку, корове, телушке. Просит не отнимать у нее силу. А если заберет, пусть уже и смерть присылает…
За день Сергеевна устает, но до молитвы держится бодро. Помолившись, вся слабеет. Кряхтя, охая поднимается с колен и ложится спать. Спит неспокойно. То и дело вскрикивает, шепчет. Вдруг приснится, будто телушка подавилась картошкой: лежит телушка на поле у картофельного бурта, сучит ногами по земле, глаза закатила. А она бегает вокруг, кличет мужиков, но поблизости ни души. А то снится ей: хватает она сено из какой-то дыры, бросает его охапками за изгородь. Ей жарко, труха забивает глаза, лезет под кофту. Голос покойного мужа кричит оттуда: «Скорей, скорей, Танька, ужо постановление выйдет!» И она, чувствуя, что силы кончаются, хватает охапку побольше, но сено горой валится на нее, придавливает. Смерть. Вскрикнув, Сергеевна просыпается. Проводит ладонью по лицу. Чувствует на пальцах что-то липкое, теплое. Сунув руку под подушку, достает скомканную, хрустящую и в темных пятнах тряпицу. Шепча: «Господи, ох, господи, опять пошла», утирает кровь.
— Боренька, ты не спишь еще? — слышу я ее голос.
— Нет, Сергеевна.
Она шаркает босыми ногами по полу за моей спиной. Черпает ковшом холодную воду из ведра. Жадно пьет. Крестясь и причитая, проходит обратно к постели.
— Ложись, Боря, полно глаза-то портить, завтра день будет.
Она жалеет меня! Зубы мои стискиваются. Я хватаю ручку и быстро чиркаю по нарядам, почти не думая. На следующий день сижу в конторе перед нормировщицей, которая проверяет расценки. В описаниях работ она замечает лишь две неточности. Потом наряды несут на подпись к главному. Главный смотрит на итоговую цифру, сравнив ее с цифрой, означающей выделенный мне фонд, пишет: «Утверждаю». Затем наряды попадают в бухгалтерию. Через неделю рабочие получают зарплату. Дорога держится, и кассир Машенька приезжает на машине. Я встречаю их на дороге, вначале едем в Заветы. Рабочие здесь всех возрастов, живут все в одной громадной избе, построенной еще во время войны военными. Не успеют все получить деньги, а ходоки уж возвращаются из магазина. Во дворе потрошат поросенка. Различность возрастов создает ту веселую атмосферу, когда старик становится ребенком, мальчишка старается быть важным.
С машиной что-то случилось, шофер копошится в моторе, и мы задерживаемся.
— Борис, маленько с нами, — приглашает Кирьянов.
— Машенька, Машенька, пожалуйста, вот сюда… И никаких, никаких… Все общество наше вас просит. Смотри, какие ребята!..
Я выпиваю стакан водки, слушаю о том, как свалили громадную ель, как она чуть было не убила Федосеева. Сегодня дважды завяз в трясине трактор. Сегодня заготовили кубометров восемь, не больше. Двадцатипятилетний плотник Федосеев, рослый, сильный и красивый, подсаживается ко мне. Он говорит, что два года не был в отпуске, надо съездить домой в деревню. «Ну, так пиши заявление», — говорю я. «Да вы напишите, вам ничего не стоит написать». — «А самому лень, что ли?» — «Да я не знаю, как писать». — «Не болтай, — говорю я, — сядь и напиши. Вот тебе ручка, вот бумага». — «Не пишите, не пишите ему, пусть сам!» Плотники хохочут. «Да в чем дело?» — спрашиваю я. «Он не умеет писать». — «Верно, Борис Дмитрич, я неграмотный». — «Он в одном только грамотный: у Моти Сидоркиной расписывается по ночам!» Хохот. «Уже так расписывается, что она обед ему приносит. Сегодня в лес приносила, а он расписался под кустом.» «Тише вы, здесь девушка». — «Машенька, ты бы к нам чаще ездила со своей сумкой…»
Я прошу Федосеева сесть рядом. Он родом из Тамбовской области, до войны в школу не ходил, пас скот. Потом наступила война и уж совсем было не до ученья. А после ему стыдно было говорить людям, что он неграмотный, и никому не говорил. Читать научился сам кое-как, буквы знает. Но пишет очень плохо. А в армии служил? Служил. Там, когда нужно, ребята за меня писали…
Вот еще один экземпляр, думаю я, ну и здоров, черт возьми. «И везде удавалось скрыть свою неграмотность?» — «Везде, ха-ха-ха! Везде, Борис Дмитрич! Я стыдился, дурак. А теперь, вот когда некуда деться, и стыд пропал…»
— Машина готова, можно ехать, — говорит вошедший шофер, — а то ночь застанет в дороге.
Мы едем в Клинцы, где чикинцы ждут нас с нетерпением. Получив деньги, они спешат в магазин. Вечером я из деревни ни шагу. Чикинцы и девчата танцуют возле амбара под гармошку. Я стою среди них, потом иду к себе и постоянно прислушиваюсь — не доносится ли шум драки? У каждого из них имеется пика — остро отточенный медицинский скальпель, либо стальная пластинка. Оружие свое они тщательно скрывают от меня, божатся, клянутся, что у них ничего нет. Как это ни странно, но между деревенскими ребятами и чикинцами существует скрытая вражда. Здесь живет легенда о жестокой драке, случившейся три года назад, когда впервые приехали строители в Тутошино. Завязалась драка из-за девчат. Молодежь окружающих деревенек объединилась. Дрались камнями, топорами, свинчатками. Захватывали пленных, выкупали, обменивались ими. Генеральное сражение произошло на берегу озера. Закончилось оно убийством одного из деревенских, нагрянула новогорская милиция, кое-как навела порядок.
Звуки гармошки на некоторое время затихают. Вот слышен говор, смех; кто-то затянул песню. Гурьбой чикинцы проходят под окном, они направились в Тутошино…
Глава восемнадцатая
Приходит очередное воскресенье. Я колю во дворе дрова, складываю их в поленницу.
— Фють, фють, — раздается свист за моей спиной.
Оглядываюсь — Маердсон. Он в белой рубашке, в светлых брюках, скалит в улыбке свои белые ровные зубы. От неожиданности я даже краснею немного.
— Жора, ты как сюда попал?
— Кончай крестьянствовать, пошли на озеро. Все наши приехали, новогорские. Народу тьма. Девчата тоже там, меня за тобой погнали.
Я давно не видел друзей, спрашиваю, как дела.
— Что дела, дела идут, никуда не денутся, — отмахивается Маердсон, — на берегу там одна, откуда она приехала, понятия не имею… Попа, грудь, а глаза — м-м, — стонет он, закатывая глаза, — все отдал бы, и мало было б…
В кустах стоят машины, а весь этот берег усеян людьми. Новогорский горторг здесь, еще какие-то организации. Вот наш трест. Здравствуйте. Привет колхознику! Картавин, приехали к тебе в гости! Вон Жиронкина. Она знает, что у нее фигура великолепна, даже в общежитии любит как бы случайно и вскрикнув мелькнуть перед мужским глазом полуобнаженной. Она где-то успела загореть. В стороне от всех прохаживается у самой воды. Трусики уж больно узки. «Привет, Рита!» — «Ой, колхозничек, какой ты стал! Девчонки, посмотрите на него, он черный, как негр!» — «Здравствуй, Козловская, Машенька. Здравствуй. Эй ты, библиотекарь, здоров!» Латков отрывается от книги, подает руку.
— Скотоводу привет.
Девчата тарахтят. Без одежды Козловская кажется особенно худенькой, стройной, как девочка, и непохоже, что она побывала замужем, вот только морщинки у глаз. В такой обстановке мы никогда не встречались. Все они мне кажутся немного другими, чуть-чуть незнакомыми. Алябьева, всегда ласковая со всеми, добрая, уже возится в сумках.
— Борис, на гостинец, — говорит она.
— Яблоко? Бог ты мой, сто лет не ел яблок!
— Это болгарское.
— Господи, кто это, ребята? — Козловская даже присаживается на корточки, с ужасом смотрит на заведующего Новогорским горторгом Бугача. Громадный, заплывший жиром. Вывалив над трусами брюхо, он движется косолапо у самой воды, вдруг валится в нее, барахтается, поднимая волны. И страшно, дико рычит от удовольствия. А над резвящимися горторговскими женщинами возвышается розовая колонна жира — продавщица из продуктового магазина. Она стоит неподвижно, уперев одну руку в бок, другой подносит что-то ко рту и лениво жует. Стайка ребятишек задержалась позади нее, изумленными глазенками смотрят на диво. Полковник, успев уже продать приезжим рыбакам рыбу, натолкнулся на колонну, огибая ее, несколько раз оборачивается.
— Полковник, нет ли рыбы? — кричу я.
Он подбегает семеня. Присел и осклабился.
— Кто это такая, Борис? Едрить твою в доску, ее надо под ястребцовского жеребца подпустить!
Все искупались, девчата организовали закуску.
— Где же Мазин? — удивляюсь я.
— Он совсем испортился, — говорит Алябьева, — совсем.
— Он на другом фронте, — подсказывает Латков.
— И с кем спутался! — Маша подает мне бутерброд. — А слушать о ней ничего не хочет.
— Кто она?
— А, не стоит говорить. Везет же таким бабам! С Груздевым жила, с шофером из а-тэ-ка жила. Да всех не пересчитаешь. И вот Петька втюрился. Глупо.
— Черезов приехал, — сообщает Латков.
— Николай? Когда? Он мне ничего не писал. Как он?
— Плохо.
— Он не ходит, — сказала Рита, — все-таки что-то с позвоночником. Ездит в коляске. Его санитар привез.
— Жалко парня. Он красивый. Все девки наши были влюблены в него.
Так, так… Сегодня уеду в Кедринск, думаю я.
— Я был у него, — говорит Латков, — держится ничего, бодро. Говорит, что через год, полтора встанет на ноги. Врачи ему так сказали.
— Врачи все врут. В таких случаях они всегда врут. Человек ждет, ждет, потом свыкается со своим положением и живет. Для этого и врут.
— Я бы покончил с собой, — заявляет Маердсон.
— Полюбуйтесь, — говорит Латков. Он указывает глазами на компанию, где сидит управляющий. Худое тело старика нашего бело, он в длинных трусах. Перед ним крутится, то приседая, то вскакивая, умильно улыбаясь, начальник отдела труда и зарплаты Позднышев.
— Сволочь, — Латков морщится и отворачивается.
Этот Позднышев бездельничает целыми днями в своем кабинете. Когда к нему приходит с вопросом рабочий, он поджимает губы, сводит брови. Откидывается на стуле и сурово спрашивает:
— Ну, что у вас?
А когда его вызывает начальство, его будто током бьет. Мельком смотрится в зеркальце, которое носит в кармане. И к начальнику входит на цыпочках. Черт знает что!
— Мальчики, я хочу малины.
— Сейчас пойдем, Рита.
Потом мы идем в лес, в густой малинник.
— А медведи здесь есть, Борис? — Рита рядом со мной.
— Есть. Много. Они страшно злые.
— Ой, смотри, сколько малины! Иди сюда…
«В какой я деревне живу». — «Близко?» — «Рядом». — «Ты в избе живешь? Можно посмотреть твое жилище?» — «Конечно. Пойдем». — «Это не очень далеко?» — «Да нет же, вот здесь за дорогой, там овраг, ручей и деревня. Хозяйка одинока, и сегодня она на сенокосе». — «Она молода?» — «Очень. Ей шестьдесят лет». — «Ха-ха! Ты скучал здесь? Правда, скучал?» — «Сюда, сюда сворачивай… Вот и деревня… Моя изба. Проходите, мадам, прошу вас…» — «Господи, как ты здесь живешь? Никогда не была в избе. Окошечки. Печки. Это что?» — «Умывальник». — «Боже мой, сколько мух! И темно… Кто вот здесь спит?» Я взял ее на руки и положил на кровать… «Здесь жестко. Это с непривычки. Ты скучал обо мне?» — «Очень». — «Войти может кто-нибудь?» — «Нет, я запер дверь.» — «Ох, Боренька, подожди, вот так. Милый мой…»
Я стою у окна. На дороге прыгают воробьи. Сколько их? Один, два, три, четыре…
— Борис, ну, может, так… Ведь многие сходятся и живут. А любовь потом приходит…
— Рита…
— Ну, не буду, не буду. Иди сюда. Сегодня мы последний раз. встретились. Иди сюда. Я уезжаю.
— Куда?
— Это неважно. Сначала на юг, в Крым съезжу, а там видно будет…
— Ты хороший, Борис, наклонись, — она провела рукой по моим волосам, — ты будешь вспоминать меня? Будешь, я знаю…
Вскоре мы уходим к озеру. Поздно вечером уезжаем в Кедринск.
Квартира Николая на втором этаже. Свет в окне горит. Дверь не закрыта. Он в коляске, которая движется при помощи ручного рычага. Мы здороваемся, как будто ничего не случилось. Я ставлю на стол бутылку, закуски.
— Тебе можно, Николай?
— Вполне.
Он при помощи рук, одним рывком взбирается на стул. Поправляет ноги руками.
— Почему ты мне ничего не писал об этом?
— Я сам не знал, — усмехается он, — будь здоров!
Я шел к нему и заранее бодрился, чтобы и разговаривая с Николаем быть бодрым. Но он коротко и живо говорит о себе: в позвоночнике потревожен нерв, через год там должно набраться какой-то жидкости, потом зарастет, и все наладится.
— А пока, — он задирает штанины и показывает кости, обтянутые кожей. И набрасывается на меня с вопросами о деревне. Он внимательно слушает, сидя на стуле или перебирается в коляску. Покачивая головой, неслышно катается, то и дело задавая вопросы. Когда я рассказал, что и Баранова заставили прошедшей весной посеять кукурузу и на площади в девяносто гектаров ничего не выросло, он тихо произносит:
— Да, старые песни: усердие все превозможет, заставь дурака богу молиться, он и лоб разобьет. Как это страшно! Я слышал об этом. Но говорят как-то со смешком. С особым смешком, от которого пахнет юродством. Да, да. Я теперь читаю много, думаю… Вот и ты говоришь об этих диких вещах с какой-то издевкой над самим собой.
Не юродство ли это, приглаженное образованием? Юродство — древнейшая черта характера русских. «Я вот недавно читал, — кивнул он на стопку книг, лежащих на окне, — как люди, покрытые язвами, искалеченные, с бездумной радостью, паясничая, захлебываясь восторгом, глумились сами над собой перед толпой. И все это от их бессилия. Впрочем, ладно, — он засмеялся, — ты когда едешь в деревню?»
— Ухожу завтра утром. Кто у тебя убирает?
— Внизу шофер живет. Я с ним меняюсь квартирой. Буду на первом этаже жить. Его сестра приходит ко мне.
Он снова забрался на стул.
— У меня к тебе просьба, Борька… Передай Краевской, что я приехал.
— Зачем?
— Мне надо.
— Она сучка.
Он морщится.
— Не надо так. И не паясничай: я больше тебя знаю. Передашь?
— Хорошо.
В гостинице мое место уже занято. Я остаюсь ночевать у Николая. Разговаривали почти до утра. И странно то, что, когда, позавтракав с Николаем, я ухожу от него, я не испытываю неловкости здорового человека перед калекой: он бодр, впереди меня выезжает на лестничную площадку, энергично пожимает руку.
…Познакомился с двумя молоденькими учительницами, они живут в домике рядом со школой. Двухэтажная, бревенчатая школа стоит на отшибе от Вязевки на берегу озера. Сейчас она пустует. Через школьный двор вьется тропинка, сокращающая путь между Клинцами и Вязевкой.
— Вот полюбуйся, — сказал мне однажды Баранов, когда мы проходили через двор. Я оглянулся, но никого не увидел. — Второй год живут, а окна газетками завешивают. И на кой черт таких присылают сюда?
Комнатка учительниц не велика, но когда заходишь, она кажется просторной. Потому что стены голы. Обстановка студенческая: две кровати, две тумбочки, стол, табуретки. Одежда подруг хранится в чемоданах и на вешалке под простынью. Одну учительницу звать Лениной, вторую Галей. Ленина воспитывалась в детдоме. Душой и внешностью она совсем девочка. Во время моего первого визита в домик говорили о школьниках, о воспитании. Ленина с ужасом на лице рассказывала о том, что творится в ее классе. Она покраснела и вышла из комнаты, сунув мне в руки записочки, отобранные у школьников, и сказав:
— Прочтите. Это ученики пятого класса.
На бумажках были написаны похабные стишки.
— Ходила к их родителям, — говорила Ленина, — те и не удивились ничему. А при мне как загнут, загнут на детей… Я и не хожу больше…
Бранила местных учителей. У всех у них семьи, хозяйство. Ни минутки в школе не задержатся, проведут уроки и разбегаются по домам. Тетради с проверки возвращают ученикам засаленными, в пятнах. Директор школы Гальянов требует от учителей завышения оценок, ведет себя грубо. Учителя молча с ним соглашаются. Ленина пробовала восстать. Сами же учителя сделали ей внушение: «Ты вот выйди замуж, нарожай детей, обзаведись хозяйством. Тогда посмотрим, какую песенку запоешь». А для учительницы Гайдабуровой, правой руки директора, сено — он, зерно — она.
— Я не знаю, как я тут буду работать, — складывает Ленина свои тонкие ручки на груди, — уехать бы. Но куда пойдешь?
Галя старше своей подруги. О школьных делах говорить не любит. Вспоминает Москву, где жила, училась, где остались ее подруги. Даже в магазин она ходит в туфельках на высоких каблучках, с подведенными бровями. И красивое лицо ее постоянно выражает неприступность, гордость и презрение к окружающему. Зашел разговор о деревенских парнях, она брезгливо поморщилась.
— Такие грубияны, хамы… Фу!..
В Заветах живет молодой парень Гришка Миловзоров — плакатно-красивый блондин. После армии он скитался по городам, нигде не ужился с начальством. Вернулся в родные края и ведет жизнь деревенского забулдыги. Портит девок, таскается по вдовам, которые поят, кормят его.
Приехав сюда, Галя ходила в клуб, там и встретилась с Миловзоровым. Теперь сама удивляется: откуда у нее взялось столько сил, что вырвалась из рук Миловзорова, когда тот провожал ее. Недели две Гришка вел вечерами осаду домика. Хрипел за дверью:
— Выходи, Галина, все равно я не отстану. Я жениться на тебе хочу, слышишь?
Пришлось обратиться к участковому Верейскому. Но едва стемнеет, она все равно никуда не ходит одна…
Возвращаясь в Клинцы, я иногда захожу к учительницам «на огонек». Однажды Галя сказала:
— Пойдемте я вас провожу немного…
Вечер был тих и сух. Уже ползли сумерки из леса. Мы пошли по тропинке, бежавшей в сторону от Клинцов. И вдруг тропинка растворилась по поляне.
— Вот это моя полянка, — сказала Галя, останавливаясь передо мной, — правда хорошая?
— Хорошая. Еще не скошена почему-то…
Глядя мне в глаза, она подошла вплотную, вскинула руки мне на плечи и вдруг разрыдалась. Я оторопел.
Потом, утирая ее слезы, что-то говорил и шептал. Мы присели.
— Не плачь, не плачь, — говорил я, — в чем дело?
— Не знаю…
И опять плакала и говорила, сжимая мои руки своими сильными тонкими пальчиками, что она никудышная. Ничего она не знает, всего боится. Всю жизнь она готовилась к какой-то трудной, прекрасной жизни.
— А здесь пошлость, пошлость и больше ничего!
Потом она повела меня дальше в лес, показала сгнивший частокол, за которым домик, сложенный из серых камней, без крыши, с окнами, похожими на бойницы.
— Это монастырек был, — сказала она.
— Почему ты так думаешь?
— Мне так хочется. Я бы сейчас ушла в монастырь. Не смейся. Откуда это у меня, не знаю. Но вот проберусь сюда, стану и стою у стены. Вот здесь. Представляю тихих монашек. Все они в черном, и музыка играет. Нежная, грустная, чистая…
Она вздрогнула.
— Да, был бы монастырь, ушла бы от этой пошлости. Все лгут, лгут.
— Оставь такие мысли, Галя. Все это пройдет. Жизнь чертовски сложна. Ты только со школьной скамьи…
— Ах, какой я ехала сюда, Борис, — говорила она, не слушая меня, — ну ладно, — она улыбнулась, — оставим все это…
Разошлись мы поздно, она просила, чтобы Ленина ничего не знала о нашей встрече.
— Она совсем еще девочка, пусть ничего не знает…
А через неделю Галя уехала в отпуск, не простившись со мной. Ленина живет одна. С вечера запирается, читает книги. Хотела съездить в Тамбов, где находился ее детдом, писала туда. Из горсовета ответили, что детдом переведен куда-то на юг. Без подруги Ленина стеснялась встречаться со мной, боясь разговоров. И я к ней не захожу…
Глава девятнадцатая
В четверг я заглянул утром в правление. Бухгалтер Иваныч подает телефонограмму: Гуркин вызывает меня срочно в контору, на попутной машине доезжаю до Сорокина, от Сорокина пешком. С начальником сталкиваюсь в коридоре конторы.
— A-а, сын, заходи. Заходи, заходи… Экий вы народ пошел обидчивый… все к Самсонову да к Шусту ходишь, а ко мне ни шагу. Садись за стол, пиши докладную о состоянии дел… М-м… Составь список нужных материалов.
— И то и другое я писал уже не раз, — угрюмо говорю я.
— Пиши, пиши, да побыстрей! Приехали из райкома. В два часа планерка в тресте. И ты будешь присутствовать.
Он хватается за голову, берется за телефонную трубку, но никуда не звонит.
— Кто приехал, Холков?
— Нет. Второй секретарь Замятный, зоотехник, еще кто-то… Черт! Самсонов как знал — уехал в командировку! Пиши.
Он куда-то уносится.
В четырнадцать ноль-ноль сидим с ним за длинным столом, покрытым зеленым сукном. Вон Замятный, зоотехник Варварова. У нее узкое лицо, огромные глаза, окруженные синевой. Она курит и кутается в пуховый платок. Рядом с ней завотделом по строительству в колхозах Иванов, мой ровесник. Я встречался с ним в деревне. Мы киваем друг другу.
Голый череп управляющего поднялся над торцом стола.
— Все собрались. Гуркин, твой мастер здесь?
— Я здесь.
— Начнем…
— Товарищи, — Замятный провел по столу ладонью, — к нам поступили сигналы о том, что строительство свинарника в деревне Клинцы и коровника в деревне Заветы опять затягивается. На носу осень, товарищи. Вы понимаете, чем это грозит? Были постановления, решения, брали обязательства. А дела подвигаются туго. Почему? В чем дело?
Молчание.
— Ну, говори ты, — кивает управляющий на Гуркина.
Гуркин встает.
— Согласно постановлению бюро парткома и решению, принятому на бюро райкома от второго июня сего года, мною были выделены дополнительные бригады рабочих в колхоз. Мы завезли туда весь необходимый материал, начиная, так сказать, от гвоздя и кончая шифером. Мы устроили там складской пункт. Руководит там инженер Картавин, — Гуркин кивает в мою сторону. — За последний месяц выполнено работ на сто пятнадцать тысяч рублей, что по сравнению с прошлыми месяцами есть значительный скачок, так сказать. В процентном отношении…
Он говорит как по написанному. Говорит долго, приводит цифры выполнения. Наконец обрушивается на Баранова, который срывает работу тем, что не дает лесоматериалов.
— Я отослал туда лучшую из лучших бригад бетонщиков! — входит он в раж, — там самые лучшие бригады плотников! Дальше, товарищи, так продолжаться не может. Не может! Люди начинают простаивать, выработка падает. Нужно что-то предпринимать.
Он садится, свирепо озирается, утирая лицо платком.
Замятный обращается ко мне:
— Что вы скажете?
— Нужно вначале заготовить пиломатериалы, — говорю я, — потом присылать две бригады хороших плотников. Они за полтора месяца все там сделают.
— Как же заготовить эти лесоматериалы? Вы же знаете — колхоз не в состоянии сейчас это сделать.
— Этого я не знаю. Пилорама там ни к черту не годится. Ее давно пора сдать в утиль. Энергии там тоже нет.
Управляющий берет трубку, вызывает своего заместителя Брунштейна.
— Ты появился, Марк Осипович? Зайди ко мне.
Толстый Брунштейн, узнав, в чем дело, изумляется:
— Как же так? Что ж это такое? Я сам лично посылаю туда слесаря. Я отослал туда запасные пилы, я достал новый шкив! Почему вы до сих пор молчали? — Это он ко мне.
— Я не молчал. Я докладывал начальнику, обращался в партком.
— Ну почему вы не обратились ко мне?
— У меня есть начальство. И к вам, кажется, никто из мастеров не обращается с такими вопросами.
— Гм…
Управляющий спрашивает меня, сколько выпиливают за смену досок. И этим вопросом выправляет неверный ход Брунштейна. Заговорили о пилораме, об энергии, о ГЭС. Все говорят много, громко, все возмущаются.
Если б сейчас была весна, возможно, основной вопрос опять бы погряз в разборе мелочей, причин. Но…
— Если мы не придем к какому-то решению, придется ставить вопрос на бюро райкома, — Замятный оглядел всех. — На бюро разговор будет серьезный.
Молчание. Управляющий говорит то, что мог бы сказать и полтора года назад:
— Что ж… Придется везти доски отсюда. Повезем в лес дрова.
Все оживились. Брунштейн протягивает мне блокнот, говорит, чтобы я написал, каких и сколько нужно досок.
— Завтра же начнем возить. Дорога как там? Завтра я сам приеду…
На следующий день приползают к складу шесть лесовозов с досками. Пришла новая бригада плотников. Расселив их, веду к свинарнику. И мне весело, я уже вижу конец работы. Но что это?
В деревню въехал «козел» управляющего. Шофер Николай вылез из машины, озирается. Я спешу к нему.
— Садись, Борис, поехали!
Едем в машине, и Николай рассказывает, что «Восходу» еще выделили деньги на строительство птичника, овощехранилища. В колхозе «Красный пахарь» надо строить мастерские и коровник, в «Искре» — два свинарника, а в «Заре» — телятник и коровник. Начальство все в райкоме, его послали за мной…
А в десятом часу вечера прохаживаюсь в маленькой комнатке, составляющей, наверное, сотую часть объема двухэтажного длинного дома — бывшей солдатской казармы. Здесь живут рабочие разных профессий. В длинном коридоре, разделяющем дом на две половины, у дверей, стоят помойные ведра, детские горшки. Когда кто-нибудь проходит, поднимается туча мух, перегородки между комнатами обшиты сухой штукатуркой. Не надо напрягать слух, чтобы узнать, что творится у соседей. Соседи слева от меня молодожены, справа живет пожилой плотник с семьей. Я смотрю в окно.
«Картавин там освоился в местных условиях, о нем хорошо отзываются, он и будет вести работу».
Это говорил Гуркин, за ним Холков. Составили график. Построить нужно быстро. Холков сказал, что обязательно включат в план тресту колхозную стройку. Если так, то ничего, но когда это включат?
Дверь распахивается. Входит Маердсон, за ним все остальные. Приехал в коляске Николай. Даже Федорыч здесь. Маленькая комнатка, где я изредка буду только ночевать, — солидный предлог для солидной выпивки.
— А ты, братец мой, проспорил, — Федорыч берет меня за плечо и с детской радостью сообщает: — Штойфа-то тю-тю, нету! Убрали!
— Куда ж его? — смеюсь я.
— В сметный отдел перевели. Я говорил тебе…
Маердсон замер со стаканом в руке.
— Тише…
У соседей слева что-то скрипит ритмично и со скрежетом. Стон. Вздохи. Глухой голос, шепот и шлепанье босых ног.
— Спокойно, ребята, за будущего гражданина! Не надо шуметь.
Федорыч еще не знает, какой я ему устроил подвох. Подсаживается ко мне, рассказывает о делах в городке.
— Жуков у тебя работает? Никуда не перевели?
— Нет, — качает прораб головой.
Я говорил с Холковым и с управляющим. Жуковцев и еще одну бригаду плотников обещали прислать ко мне.
Глава двадцатая
Сергеевна стоит на коленях перед кроватью. Из-за пазухи выкладывает деньги на одеяло. Рядом лежит фанерка и кусочек мела. Деревня готовится к какому-то своему празднику. Съедутся отовсюду родственники, гости. Сергеевна побывала в Новогорске, продала яйца, масло, зеленый лук, два куска телячьей кожи собственной выделки. Она неграмотная. Письма от дочери я ей читаю и перечитываю. Пишу письмо под ее диктовку.
— Боренька, ты не бежишь нонче вечером никуда? — спросит она.
— Нет, — говорю я, зная, в чем дело, — я сегодня совершенно свободен. А что?
— Письмецо бы написать Галине…
И вечером мы пишем. Первое время я писал только с ее слов. И писали мы каждое письмо подолгу. Она то и дело сбивалась, повторялась. Теперь поступаем так: она рассказывает мне о том, что хочет сообщить. Потом сидит, молча смотрит на меня. А я пишу.
— Гладко-то, гладко-то, — качает она головой, улыбаясь, прослушав написанное мной, — и про телушку-то написал! Ох, Боренька, да откуда же ты узнал, о чем я вчерась вечером думала?
— Вы же мне говорили…
— Когда же? Ох, память-то совсем растерялась…
Нашептывая что-то, она раскладывает деньги по купюрам: рубли в одну стопку, пятерки в другую. И мелком пишет палочки на фанерке различной величины. Когда все деньги разложены, она обшаривает себя всю, не затерялся ли где рубль. Смотрит на фанерку. Думает, думает, разом поднимется с колен, вздыхает. Задача решена.
— Сколько выручили, Сергеевна?
— Пятьсот сорок четыре рубля.
— А не ошиблись?
— Как же ошибиться, Боря? Чай не листья, а деньги!..
Запрятав деньги в сундук, она проходит к печке.
— Боря, помоги вздынуть, — просит она.
Я поднимаю бочонки на печку. В одном сусло для пива, в другом затворена бражка. Водки куплено пять бутылок, они запрятаны в сундуке. Водка и пиво для дорогих гостей, бражка — для всех, кто зайдет в избу во время праздника.
— Что празднуете, Сергеевна?
— Ильин день.
— Название я уж слышал. Но что отмечают этим?
— Да как же… Каждый год праздник этот, Боренька. Это давно ведется. И отцы наши праздновали. Вот погоди, на второй неделе, в субботу, съедется народ. Галина приедет с мужем. Что народу-то будет!..
Баранов ездит по бригадам, предупреждает:
— Бабы, смотрите: праздновать только один день!
— Хорошо, Алексей Михалыч, нам-то что? Нам гостей наугощать, а больше нам ничего и не надо!
— В сахмый разгар сенокоса этот праздник, — возмущается председатель, — каждый день дорог. Российское хлебосольство припутывается, гости, видишь ли, наедут, угощать их надо!
Он просит меня отослать рабочих в Кедринск накануне праздника.
— Устроят поножовщину, пойми ты!
Я бы отослал их, но это не в моих силах. Все наслушались о празднике: в любую избу заходи кто хочет, садись за стол, ешь, пей, гуляй… В двух банях у ручья гонят самогон. На бугре под сосной дежурят с утра до вечера два подростка: следят, не появится ли участковый Верейский. Он работает около года, до него здесь был некий Василий Демьянов, любивший выпить. С деревенскими жил мирно. Верейский же строг, говорят, у него «внутри какая-то болезнь», потому не пьет спиртного и за самогон строго наказывает.
Ко мне прислали жуковцев и бригаду женщин-разнорабочих, среди них Молдаванка. Еще больше потемневшая лицом, она работает в одном белом платье.
— Никуда от нас не денетесь, Борис Дмитрич!
На второй же день сошелся я с ней утром на берегу озера, она тоже пришла купаться.
— И вы купаетесь? Будем вместе!
Она стала стягивать через голову платье, я пошел прочь.
— Куда же вы, Борис Дмитрич, я вас не утоплю!..
Бригаду Жукова разделил на две партии. Одна работает в Заветах, другая здесь. Работа идет полным ходом, и мне, собственно, делать совершенно нечего. Можно познакомиться с другими колхозами. Если там есть материалы, я останусь здесь, если нет — уеду в Кедринск.
Центральная деревня «Красного пахаря» Хомутовка в семи километрах от Вязевки. Не доходя километра до Хомутовки, я увидел возле дороги каток, каким укатывают дороги. Грязь кончилась. Дорога засыпана песком, смешанным с гравием, и отделана с обеих сторон кюветами. Лес оборвался. Картофельное поле тянется далеко-далеко. На поле нет ни одного кустика. Деревня. С удивлением вижу, что все избы обшиты тесом, во дворах садики, чего нет в других деревнях. Огородов нет, похоже, будто поле подступает прямо к избам. Правление покрыто шифером. Старичок, похожий на вязевского бухгалтера Иваныча, говорит, что председатель Волховской у себя дома.
Волховской безобразно толст. В ситцевой косоворотке, обтягивающей пухлую спину, он принимает меня в своем домашнем кабинете. Стол завален книгами, брошюрами, счетами.
— Садись, садись, — хрипит он, оглядывая меня маленькими заплывшими глазками. Достает из стола смету.
— Я знаю, как вы строите… М-м-м, — ему даже говорить тяжело, — но я строю не за дядины деньги, а за свои… Лес и доски у меня заготовлены. Стоимость их учтена в смете, так что или сразу нужно смету переделать… А если времени нет, вот у меня составлен акт на возврат денег… Девяносто тысяч рублей там. Как сделаем? Мне все равно: что заплачу, а потому заберу. А можно и не канителиться…
— Давайте по акту вернем деньги при расчете. Возиться со сметой…
— Ну и добре. Варька! — кричит он, не оборачиваясь к двери.
Появляется девушка лет семнадцати.
— Пойди, дочка, позови Алексея.
И мне:
— Это у меня свой строитель будет. Он тебе все покажет. С ним решайте все вопросы.
Волховской зашелестел бумагами.
Я выхожу на крыльцо. Вернулась девушка.
— Сейчас придет…
Алексею лет двадцать. Он ведет меня за правление, здесь стоит новая пилорама иркутского завода с мощным мотором; обе рябухи ведущие. Два штабеля досок, тут же свалены бревна. Я молча хожу за проводником. Место для постройки мастерских и коровника уже выбрано.
— Подвесную дорогу пустим вот сюда, — толкует Алексей, — тамбуры к выгону, а окна молокосливной в сторону деревни будут глядеть.
Я поинтересовался, кем он работает в колхозе.
— Сейчас к строительству прикреплен. Буду с вами работать. У меня отец плотничал. Я с вашими людьми поработаю, чертежи научусь понимать. Потом сами строить будем.
— Ну, давай посмотрим…
Расстилаем на траве чертежи.
В этот день из Кедркнска приходит бригада Поспелова. Я направляю ее в Хомутовку. В бригаде восемнадцать плотников.
Впервые за свою практику выписываю бригаде аккордно-прогрессивный наряд.
На другой день иду в «Искру».
Узкая лесная дорога приводит меня в деревеньку Горбово. Перед правлением стоит белый жеребец, запряженный в двуколку. Когда я подхожу, из правления выбегает рослый мужик в кожаной куртке. Крикнув что-то за спину, садится в двуколку. Лицо его красно. Это председатель Бурунов, писавший заметки в газету под рубрику «Вести с полей». Я жестом задерживаю его, он выслушивает меня. Ударяет вожжой по жеребцу.
— Это теперь меня не касается, — бросает он со злостью, — здесь новые хозяева. А ну пошел!
И жеребец уносится крупной рысью.
В правлении полно народу, накурено. Пробиваюсь к столу и от бухгалтера узнаю: Бурунова сняли с работы. Колхоз подал на него за какие-то махинации в суд. Вместо Бурунова выбрали Самойлову Пелагею Митрофановну. Сейчас она в районе. Документы для строительства пришли, но где именно строить надо, еще не решили. Нужно ждать Самойлову. Досок нет, пилорамы нет. В лесу есть заготовленные бревна, их надо вывезти.
— Придется ждать…
— Да…
Колхоз «Заря» находится в противоположной стороне. Туда я прихожу день спустя. Договор подписан Никовским, но вместо него уже работает председателем Стожков Иван Ефимович, он из местных. Он ведет меня по лесной тропинке из центральной деревни Шибаево в забытую богом деревушку Сосково и говорит спокойно и сильно окая:
— По теперешнему положению я, конечно, обязан предоставить вам и лес, и все прочее, но у меня ничего нет. Да и где ж я возьму? У нас есть сосновый бор за болотом. Но заготовлять лес хорошо зимой… Я могу сказать вам, что такой большой коровник нам и не нужен. Никовский же в районе был, не я… Кого же содержать в таком помещении? Так что вы меня извините, но только у меня ничего нету… Я бы кузню хорошую построил, — тихо заканчивает он.
— Почему в Сосково решили строить?
— Да ведь как вам сказать… Тут сенокосы богатые, много травы пропадает. И пруд в самой деревне, вода близко. Чистая, хорошая вода. Ключи здесь у нас бьют.
Пришли в Сосково.
Три улицы образуют разомкнутый треугольник. В середине его заросший квадратный пруд.
— Где же будем строить? — спрашиваю я лениво.
Стожков озирается.
— Да вот… места много…
— Надо к воде ближе…
— Да.
— Ну здесь, что ли? — Я делаю шаг от камыша, пятясь задом, показываю, в каком направлении вытянется строение.
— Да, да. Давайте так…
Он соглашается, но выражение лица его и голос таковы, будто он только что очнулся от обморока и не понимает, что именно происходит вокруг…
На обратном пути я покупаю в Шибаево большую бутылку вина, кусок сыра. Бреду по дороге, прихлебываю из бутылки. Вдруг нахлынуло на меня, растворилось во мне чувство безразличия ко всему. Вот только эта зеленая чаща леса с обеих сторон, сладкий воздух, какие-то птицы поют. Рябчик сорвался с ветки. Они всегда с таким шумом срываются, а далеко не улетают, садятся близко. Напрасно ружье не взял… Кто я такой здесь? Нужен ли я здесь? Нет, ну серьезно, спрашиваю я громко, останавливаюсь, на кой черт я ходил к Стожкову?
Я отвел руку назад, прицелился, и бутылка разбилась о ствол ели. Потом я ползаю в малиннике. Потом, добравшись до Вязевки, покупаю водки, иду к Баранову. Он почему-то молчалив, но это не имеет значения. Мы с ним чокаемся, и я спрашиваю, знает ли он, что такое инженер-строитель? Знаю, говорит он. Ни черта ты не знаешь, ты председатель. Инженер строит города! Заводы. Он мыслит. Ты знаешь, Михалыч, когда инженер смотрит в чертеж, он читает целую поэму! А я должен строить у тебя из воздуха сарай на две тысячи куриных голов. Когда начну его строить? Когда дашь лес. Давай еще выпьем. Я сегодня пью, завтра буду пить, а приедет Гуркин, я ему дам по роже. Хотя нет, я его не трону. Я буду пить, а меня отсюда уберут. Понимаешь?.. Не валяй дурака, это самое последнее дело… А я самый последний инженер! Я здесь хожу в день по тридцать километров и больше ничего… А я хочу работать… Я сегодня уйду в Кедринск, Михалыч, у меня там есть девушка… В таком виде ты перед ней явишься? Ну и что ж, она славная, она… Ты обедал сегодня, спросил он, садись, похлебай щей. Не хочу я щей, я пойду домой. Думаешь, я пьян? Нет. Я пойду. Ну пока…
Я пришел в Клинцы и сел писать докладную Гуркину. Я написал много и лег спать. Утром перечитал написанное, порвал и написал снова. Я сообщил о состоянии дел и попросил, после сдачи объектов в Клинцах и в Заветах, перевести меня в Кедринск. В противном случае я подам заявление об увольнении меня из СУ.
Докладную отсылаю с нарочным, который везет на подпись главному инженеру аккордные наряды Поспелова. Этот же нарочный приносит мне ответ Гуркина.
«Товарищ Картавин, — пишет он, — вы являетесь молодым специалистом в Советском Союзе и как вам не стыдно, получив загробленные средства на высшее образование, которое представлено партией и правительством, не выполнять долга перед родиной. Я узнал, что ты комсомолец, и тем более непонятно твое нытье перед трудностями, встающими на путях. А также занятия с докладными записками, которые являются развитием бумажной бюрократии, что недопустимо в твои годы при нашей действительности. Лучше бы надо подтягивать сознательную дисциплину, а то, как мне сообщили, после получки рабочие твои пьянствовали, а ты не только их не отвлекал от этого, а сам с ними выпивал. Чтобы такого не было больше. И представь в контору процентовку по коровнику и кровле свинарника. Почему задержка в этом? Вот что надо делать, а не писать бумаги. А также дай знать о дне сдачи — приемки объектов…»
Глава двадцать первая
Накануне праздника в Вязевку приезжают кинопередвижка, артисты. С ними два поэта и лектор. Лектор, сухой, длинный человек с громадным портфелем и очень подвижный. Отыскал завклубом брата Полковника Василия.
Устраивают сцену. Артисты прогулялись к озеру, потолкались в промтоварном магазине. Часам к восьми собрался народ в клуб. Лектор объявил программу: сегодня будет прочитана лекция на тему «Современность и религия», выступят поэты, артисты; покажут первую часть двухсерийного фильма. Завтра артисты дадут еще концерт и покажут вторую часть фильма.
Сказав об этом, лектор зачем-то скрывается за кулисы, моментально появляется и уже другим, более официальным тоном около часа говорит о религии, о том, кому она нужна и для чего. Едва лектор скрылся, на середину сцены вышел рослый и здоровый парень в черном костюме. Он вскинул руку вверх, произнес:
— «Россия»! Стихи.
Помолчал, глядя в потолок, встряхнул стриженой головой. Читает он громко и не торопясь. Но поймать, прочувствовать смысл слов трудно. До всех долетают строчки, которые он особенно громко выкрикнул:
Они ругают все И всех бранят, Но сало русское едят!Парень прочитал еще стихи о земле, на которой выросла какая-то чудесная яблоня. И как мозолистые корявые руки гладили тонкую кожицу яблони, как это было ей приятно. И она одарила эти руки замечательными плодами. Зимой же мороз набросился на яблоньку, хотел уничтожить ее. Но… И тут поэт опять возвысил голос:
…Металась вьюга злей и злей, — Она согретая стояла Теплом тех грубых мозолей!И хотя последовали еще три веселые басни, осталось впечатление — он чем-то недоволен. Выступил еще поэт, худенький, видом робкий мальчик. Но, читая стихи, тряс головой, почти кричал и топал ногой. Читая какое-то длинное стихотворение, он почему-то вдруг умолк. В зале подумали, что он забыл, и кто-то хихикнул. Но тут же мальчик опять вскинул голову и докричал до конца. Потом выбежала на сцену маленькая, стройная женщина в черном трико, за ней мужчина и тоже в трико, но в красном. Публика охнула… После этой пары очень полная женщина пропела под гармонь несколько русских народных песен. Потом показали фильм о баптистах, которые довели девушку до самоубийства.
В потемках публика расходится, обмениваясь впечатлениями.
Голос Полковника кому-то толкует о фильме:
— Это шпионы все подстроили. И этот, который был с девкой связавшись, — контра. Я знаю. В Тихвине, помню, были такие, они против хлебной поставки шли. Их к стенке ставили…
Ночь я провел на сеновале: приехали дочь и зять Сергеевны. Я бы всегда спал на сеновале, но петух не дает спать своим криком.
Утром во всех избах шумно. Льется из ковшей брага в стаканы. Смех, говор, крики. К Сергеевне пришли дедко Серега, Аннушка, Аленкин, человека четыре совершенно неизвестных людей. Дедко Серега обнимает меня, лезет целоваться.
— Пей, Борис Дмитрич! Ноне праздник! Вся Россия гуляет! — кричит он. — Вот мы, как с тобой, о? Сработались? Ни гвоздика у нас не пропадает в строительстве?
Я о чем-то разговариваю с Галиной, с мужем ее, который держится чинно, то и дело отряхивает с бортов пиджака крошки, приглаживает рукой волосы. Окна в избе открыты, и я все время прислушиваюсь, не доносится ли шум драки. Кое-как удается выбраться на воздух. Меня беспокоят чикинцы. Захожу в их избу — пусто. У солдат тоже нет. Кто-то подсказывает:
— Они у Моти на чердаке.
На чердаке такая картина: стоит ведро с брагой, стаканы, закуска. Вокруг импровизированного стола чикинцы. Из темных углов доносится сдавленный женский смех, мелькает красное лицо Маруси Раевской.
Я спускаюсь на пол, зову Двоякова. Говорю ему, чтобы немедленно собрал все пики и отдал мне. Голова его исчезает. Тихо. Появляется косматая голова Чикарева.
— А потом отдадите?
— Быстро давайте сюда, иначе завтра всех отправлю в Кедринск.
Десять острых, как бритва, пик выбрасываю в уборную. На душе покойней.
Взять бы ружье, побродить по лесу, но покинуть деревню не решаюсь. Жуковцы собрались все вместе, сидят за столом. Бригадир играет на гармошке, два деревенских парня отбивают русскую.
— Данилыч, — шепчу я бригадиру, — ты смотри, в случае чего, разнимай…
— Знаем, знаем, Дмитрич… Садись-ка сюда…
В полдень вся улица запружена народом. Тут и милицейские работники, и солдаты, и железнодорожники, пожарники, продавщицы из кедринского магазина — все, кто покинул деревню, приехали на праздник. Все хмельны. Смех, крики, пляски. Компания баб во главе с Мотей Раевской, в обнимку и качаясь, почти бегут по улице. Лица их красны, потны, они улыбаются и дикими голосами выкрикивают слова какой-то песни. Вдруг круто сворачивают и вваливаются в избу Сергеевны.
— Гришчиха, тудыть твою мать, полно одно только начальство потчевать! Угощай нас, загулявших баб! Где твой начальник? Плясать будем! И-их! Их! Их!..
Когда уже стемнело, я пробираюсь к своей избе. Брага, и водка, и вино, и пиво сделали свое дело. Голова моя кружится, земля поднимается на меня. Только бы добраться до сеновала. Но чьи-то фигуры окружают меня, они дергаются, хохочут. Кто-то тянет за руку. Я хочу вырваться, сознание проясняется, и я узнаю Молдаванку. С ней несколько подруг.
— К нам зайдите, Борис Дмитрич!
— Пойдемте!
Меня усаживают за стол. Я залпом выпиваю стакан водки вместе с девушками. Голова моя распухает, сам я делаюсь необычайно широким. Вдруг уменьшаюсь, трясу головой. Мелькают колени, руки, стучат каблуки — четыре женщины пляшут. Напротив меня в углу под иконой сидит разнорабочая Суворова, перебирает струны гитары, поблескивая золотым зубом, поет, ни на кого не обращая внимания:
Ах, мама милая, Ты не ругай меня. За то, что в жулика Я влюблена. А эти жулики — люди свободные, А на ногах носят да прохоря…— Мастер, пляши с нами! — кричит Молдаванка. — С холостыми бабенками.
Передо мной дрожат ее раскинутые руки. Она быстро и легко отбивает чечетку. Резко садится рядом, губы ее почти касаются моего лица.
— Чего грустишь? Зачем ты грустный! Ведь нравлюсь я тебе, да? У тебя есть здесь подружка? Нету? — От этого шепота я моментально трезвею. Пошатываясь, выхожу в сени…
Глава двадцать вторая
Праздник длился два дня. Вот чрезвычайные новости. Секретарь сельсовета Вахрушев перебил в своей избе посуду, изрубил мебель. Старик-отец пытался унять сына. Тот выбросил его в окно. Старик лежит в больнице. Секретаря связали, заперли в колхозную кладовую. Кинопередвижку кто-то угнал за Тутошино, машина застряла в кювете.
— Ну, кончилась вальпургиева ночь, — говорит Баранов, — отвеселились…
Мы обошли вокруг свинарника. Плотники заканчивают последние перегородки, прибивают дверцы. Чикинцы заканчивают отмостку. Девчата белят стены.
— Когда вызываем комиссию?
— Через недельку. Давай на двенадцатое число…
Я сообщил своему начальству, Баранов — в райком.
В назначенный день приезжает сам Холков. С ним зоотехник Варварова, Иванов, главный пожарник района и наш Самсонов. Торжественно комиссия обходит сначала вокруг свинарника. Рабочих я уже отослал в Заветы. На всякий случай оставил двух жуковцев и чикинцев. Последних оставил, потому что иначе поступить не смог: ведь свинарник — это их первое дело, принявшее законченную форму. Нужно сказать, что, как только строительство сдвинулось с места и дело двигалось к окончанию, они подтянулись. Только, кажется, у Шевырева осталось безразличие к работе, но и оно внешнее. Живя с клинцовцами, для которых «каменный» свинарник с шиферной кровлей, с выкрашенными краской дверьми, побеленный, с отдельной кормокухней с печами есть нечто из ряда вон выходящее, очень важное и нужное, чикинцы заразились этим взглядом на свое строение. И по тому, как они расспрашивали о комиссии, как бросались исправлять какой-нибудь брачок, я понял, что им важна оценка комиссии, и они хотят присутствовать во время сдачи-приемки. Живописной кучкой они расположились на траве под высоким тополем. Старая рабочая одежда на них изорвалась до предела. Я им выписал спецовки, кое-что каждый из них приобрел для выходного дня. Но им нравится щеголять в прежнем наряде. Посмотреть на них глазом постороннего человека — это компания каких-то бродяг.
Заметив их, Холков задерживает шаг, спрашивает меня тихо:
— А это кто такие?
— Мои рабочие.
На фронтоне прибит силуэт поросенка, вырезанный из фанеры, и на нем выжжено: «1957 год». Это дело рук Чикарева. Холков снисходительно улыбается. Аленкин продемонстрировал работу подвесной дороги. Комиссия вошла внутрь помещения. Холков ударяет ладонью по жердям перегородок:
— Каково, Алексей Михалыч? Дворец у тебя, а? На веки вечные построен. Теперь давай хозяйничай, не подкачай.
Баранов что-то отвечает. Пожарник заглядывает в топки печей, что-то нюхает. Забирается на чердак, спустившись, говорит секретарю, что надо бы опробывать печки. Строители часто портачат в дымоходах. Чикинцы моментально растопляют. Тяга хорошая. Свинарник принимают с оценкой «хорошо».
Перед отъездом комиссии я говорю Холкову о положении дел в «Заре» и в «Искре».
— Да, это скверно, — говорит он, забираясь в машину, — мы обсудим этот вопрос. Решим.
На следующий день — заселение свинарника. С утра почти все клинцовцы ожидают на бугре стадо, которое должны перегнать из Зябиловки. Свинарки во главе с Мотей Раевской одеты в синие ситцевые халаты, в резиновые сапоги. Они взволнованы.
— А может, нонче не погонят? — сомневается Мотя.
— Погонят, погонят…
Наконец из лесу показалась пятящаяся задом женщина в коротком рыжем полушубке. В руках она держит кастрюлю, то и дело сует ее под нос громадной поросной свинье. Та движется за кастрюлей, а за ней по тропинке и гуськом тянется все стадо. За стадом человек тридцать зябиловских людей. Свиньи грязны, худы. С длинными мордами, как у борзых собак. У некоторых хребты изогнуты дугой, кожа плотно обтягивает позвонки. Я никогда не видел таких худых, страшных свиней, даже во время войны. У дверей свинарника стадо скучилось.
— Нажимай! — раздались крики. — Со всех сторон! Разом!
Поросная свинья замерла в дверях, насторожилась. Задрала рыло, громко хрюкнула и шарахнулась назад. За ней все стадо.
Около часа люди бились с животными, но загнать не могут.
— Не ндравится им твой дворец, Дмитрич!
— Несите веревки! Веревки давайте! Будем затаскивать по одному. Сами не пойдут.
— Не пойдуть. Мотька, тащи веревки из кладовой!
Появляются веревки. Началось сражение.
Первой затаскивают поросную свинью. Аленкин продергивает веревку у ней под брюхом, человек восемь наваливаются на нее, тянут за ноги, за уши. Чья-то рука ухватилась за хвост, и я думаю, что сейчас хвост оборвется. В воздухе стоит рев и визг. К концу дня свиньи затащены, лежат в стайках. Зарывшись мордами в солому, тяжело дышат. Беда случилась только с одним поросенком. Худой — кожа да кости — и горбатый, он вырвался из людского кольца, по-заячьи поскакал прочь и свалился в овраг. Он поломал передние ноги, и его прирезали.
Потные, усталые и возбужденные люди расходятся по домам. А утром, когда я завтракаю, в избу приходят свинарки во главе с Мотей.
— Борис Дмитрич, не надо нам машины. Устройте нам котел, — заявляет Мотя, — такой котел, как и в Зябиловке!
— Какой машины не надо?
— Запарника этого с мометрами. Мы боимся его. Котел нам устройте.
— Да вы что, бабы?
Я объясняю, насколько кормозапарник удобней котла.
— Вчера же вам объясняли, как обращаться с ним. Чего же вы молчали? Баранову почему не говорили?
— Да вот молчали, а теперь не хотим. Он может взорваться от пару.
— Кто вам сказал?
— Да сам же председатель вчера говорит: «Глядите за мометром, не пропустите момент, а то взорвется».
— Ну пойдемте, я вам покажу еще раз. Не взорвется он.
— Не надо нам показывать, — Мотя топает ногой, — не надо и все! Дайте нам котел. Не хотим мометров. Или нехай бригадир увольняет нас от этого дела. И сапог нам не надо, и халатов не надо.
— Не надо, не надо, — заговорили остальные.
— Хорошо… Я поговорю с Барановым…
Днем установили в кормокухне громадный котел, привезенный из Зябиловки.
Председатель ругается:
— Черт знает что! Всякое терпение может лопнуть! Спутник запустили в космос, а тут манометра и термометра боятся! Чего ты улыбаешься?! — с ненавистью смотрит он на меня…
Через неделю три поросные свиньи, потрясенные затаскиванием, опоросились мертвыми поросятами.
Аленкин и дедко Серега закопали их в овраге…
Подкралась осень. Моросят дожди. На дорогах непролазная грязь. Даже трактор, тащивший сюда сани с кирпичами, застрял. Он зарылся по радиатор в грязь и простоял в лесу сутки, покуда его не вытянули двумя тракторами.
Я превратился в «ответственное лицо». Как инженер я совершенно здесь не нужен, как организатор тоже. Я здесь должен находиться, потому что, если что-либо случится, нужно кого-то призывать к ответу и наказать. Ну и, конечно, я должен закрывать наряды. Плотники заняты своим делом только у Волховского. Работают они с утра и дотемна. Если они не собьют взятый темп и к двадцать пятому числу закончат стены коровника, у них получится заработок — рублей по сто сорок в день на человека. Это с учетом прогрессивки. Жильем и питанием поспеловцы довольны. Волховской расселил их по два человека в избе. Выписал им мяса, молока. Мясные блюда получают они и утром, и в обед, и вечером. Алексей работает с ними. Когда копали ямки под столбы и траншею для фундамента молокосливной, он собрал человек пятнадцать деревенских парней. И траншея была готова за два дня. Хотя грунт попался каменистый. К стройке прикрепили лошадь, на ней подтаскивают бревна. Представляю, как засуетятся в бухгалтерии, когда туда попадут наряды Поспелова. Возможно, пришлют комиссию для проверки.
Коровник в Заветах уже заселен. И все рабочие, по распоряжению управляющего, переданы колхозу. Они косят овес, копают картошку. Им идет средний заработок, ну и, конечно, командировочные. В колхоз прислали еще студентов из Ленинградского технологического института. Для постороннего, равнодушного человека все это ничего особенного не представляет. Я делаю простой подсчет. Получается, что себестоимость картофеля не меньше стоимости апельсинов, которые привозили из-за границы.
Шестеро студентов работают в Клинцах. Две девушки живут в избе Сергеевны, я уступил им кровать. Обе проучились по одному году. Обе румяные, с пухлыми щечками и симпатичные. Едой хозяйки брезгуют. С отвращением поглядывают на ее тарелки, ложки. Едят только батоны, привезенные с собой, консервы и пьют чай из своих чашек. Я для них — представитель лесной глуши, темный, не знающий городских радостей человек, который задумчиво слушает их лепет о концертах, фильмах. О том, что я учился в Ленинграде, я не говорю им.
Помню, когда я учился, мечтал поскорей окончить институт. Покидал его без особого сожаления. А тут в один из вечеров вдруг очень даже взгрустнулось. Заглянул в домик учительниц. Встретила меня Ленина; личико припудрено, в новом цветастом платье, в котором стала еще тоньше. И под которым едва-едва обозначились груди. Она всплеснула руками:
— Это вы! Что так долго не заходили? Галя вам привет передает, спрашивает, как вы здесь поживаете. И просит передать вам, что она ни о чем не сожалеет. Я не поняла ее. Наверное, что-нибудь не так хотела выразить.
— Почему она не приехала до сих пор?
— Она и не приедет. Прислала директору справку, что больна, просит выслать ей документы.
— Вот как…
Ленина была возбуждена, поставила самовар. Вскоре пришел в домик сын ветеринара Соснина. Мы пили чай, я болтал что-то, Ленина смеялась. Соснин молчал, и я оставил их наедине. На другой день встретил Ленину, когда она бежала от школы к домику.
— Лениночка, — крикнул я, — когда свадьба? Меня пригласишь?
Она засмеялась, сказала «хорошо, обязательно» и убежала…
Славная девушка.
Глава двадцать третья
Оказавшись «ответственным лицом», которое начальство может вздуть за чей-либо проступок, естественно, я поставил перед собой вопрос этического характера: что мне делать, то есть как вести себя?
Если исходить из того, что я все-таки строитель, то должен с утра уходить в Хомутовку. Запыхавшись, появляться там, проверять работу, о которой я заранее знаю, что она хороша. Что-нибудь советовать плотникам, возмущаться какими-нибудь недостатками, без которых невозможно ни одно дело. И о которых плотники знают лучше меня. К полдню я отправляюсь обедать. Потом буду звонить в контору зачем-нибудь. Наконец уеду в Кедринск. Сердясь и возмущаясь, побываю в парткоме, в конторе, заведомо зная, что толку с этого никакого не будет. Делать я ничего не буду, но буду занят, и в глазах окружающих буду выглядеть деятельным, напористым малым. И если случится что-нибудь, начальство не вздует меня, а пожурит.
Можно мне и здесь носиться как угорелому по бригадам, где работают рабочие. Проверять людей по списку. Уяснять, почему нет Иванова, Сидорова, отчитывать их. Самому бросить картошку в ведро. И спешить в другую бригаду и там бодрить людей делом, словом. И опять же: почему я должен подбадривать людей? На основании чего? То, что если картошка останется в земле и сгниет, — ясно любому ребенку. Но почему мои рабочие должны копать картошку? Эпоха, когда людей заставляли работать при помощи горловых связок и палки, прошла. Голые приказы пусть остаются в армии, указами, предписаниями пусть руководствуются юристы. Мысль, логика, расчет — вот после чего начинается работа. Но где логика, расчет, когда траншеи, ямы под фундаменты, выкопанные рабочими, залиты водой, оползают. Выкопав картошку, рабочие вернутся к траншеям, ямам. Будут копаться в грязи, зная, что затраченный ими труд пропал даром. Где логика и расчет? А следовательно и работы нет, а есть бессмысленная затрата сил. Как все объяснить людям? Можно, конечно, ничего не объяснять, плюнуть на все рассуждения и работать вместе со всеми. Я так и делаю: неделю убираю овес в Заветах, неделю копаю с рабочими брюкву, морковь в Вязевке. Сейчас копаем в Клинцах картошку. А вечером — тоска. Читать я ничего не читаю, равнодушен ко всему. Схожу к дедке Сереге, к Аленкину. И там, и там выпью. К Баранову тащиться по грязи не хочется. В сырой темной мгле поброжу у склада. Влюбиться, что ли? Вот в эту юную румяную студенточку. В какую? Их две. А все равно, положим, в Сашу. Рассказать, кто я есть. Привести внешность в порядок, пустить пыль в глаза… Не я, так кто-нибудь другой все равно обманет… Жениться? Построить себе избу, обзавестись хозяйством, послать ко всем чертям трест и жить в деревне. Буду здесь вершить строительные дела… Иногда, покуда Сергеевна не «забралась на насест», как она говорит, ложась спать, слушаю ее рассказы. Оказывается, старуха Васьчиха слывет колдуньей. Она может поссорить мужа с женой, приворожить мужика к девке и наоборот, посадить килу.
— Может, все может, Боренька, вот ты улыбаешься, небось не веришь, а все так и есть…
Года три назад «навела страсть» Васьчиха на семидесятилетнего Ваню Пашичева. Повадился он ходить в Тутошино к одной молодухе, а та принимала его. Свел Ваня молодухе теленочка ночью, а на деревне пустил слух, будто волки съели теленка. Деньги носил своей сударушке, из сундука вещи старухины стали пропадать. Старуха билась, билась с мужем. И срамила его перед народом, и в избу не пускала по целым суткам — ничего не помогало.
— Только огонь поможет, — подсказала старухе колдунья.
Это значило: надо поджечь избу Ивановой сударушки. Дело было летом, погода стояла сухая. Стала ежедневно ходить старушка в тутошинский магазинчик за чем-нибудь с лукошком в руках. А в лукошке лежала жестяная баночка с горящими угольками. Так-то выследила, когда в избе своей соперницы не было никого, вскочила в сени, взмахнула ручкой. И баночка улетела на чердак, где было сено. Шесть соседних изб сгорело тогда, хорошо хоть застрахованы были…
— И-и, Боренька, куды как горазна Васьчиха на такие дела! Вот же и Посмитину Якову Иванычу она все подстроила, говорят, об этом деле даже в газете печатано было…
Посмитин — тряпичник. Ездит на телеге по деревням, собирает, меняет на нитки, иголки, платки — кости и тряпки.
— Бабки, бабки! Тряпки, тряпки! — вдруг раздается среди дня призыв на деревне.
Помолчит Посмитин и снова:
— Бабки, бабки! Тряпки, тряпки!
Сам тряпичник рослый, жирный, руки и шея у него пухлые. Свернет лошадь с дороги, остановится. Женщины, старухи, ребятишки несут припасенное добро. В передке телеги безмен, но Посмитин им редко пользуется, больше доверяя глазу и руке. Встряхнет узелок с костями, прищурит глаз.
— Три пятьсот. Не меньше.
И сунет старухе либо катушку ниток, либо десяток пуговиц.
— Яков Иваныч, мне бы платок бы…
— Для платка мало принесла. Нет ли рваной какой фуфайки? Неси — вот этот платочек получишь…
Ребятишкам сует в руки истрепанные журналы «Огонек»…
Среди деревенских Посмитин слывет жутко богатым человеком. Под Новогорском у него свой дом. В огороде выращивает только редиску, лук. Снимает несколько урожаев и продает на базаре. Говорят, он купил себе «Москвич». А теперь покупает «Волгу». И вот этот Посмитин влюбился в девушку, жившую в Зябиловке. Ему лет пятьдесят, а ей было двадцать с небольшим. Он так, он этак к ней — девка ни в какую.
— Не хочу видеть тебя, вдовца старого, и все!
— Яков Иваныч и подольстился к нашей Васьчихе, Боренька. То, бывало, у Сереги обедает, у Вани, а тут к ней зачастил. Денег ей дал, темного ситцу раздобыл ей и посулил пятьсот рублей, ежели она приворожит Маньку. Что уж Васьчиха делала, мы не знаем. А только не прошло и месяца, как увез Посмитин Маньку. А пятьсот рублей, которые посулил, и не отдал-то! Как сейчас помню: проезжал Яков Иваныч через деревню, Васьчиха выбежала из избы и кричит:
«Ну гляди, толстомордый, кровь за кровь! Обида моя напастью к тебе обернется!»
Так оно и вышло. Не прожила Манька у него и года, как начала беситься. Ночь придет, она запрется в комнате и не пускает его к себе. Он на работу, она с кавалерами из соседей беседы устраивает. Он ее бить, а она в милицию. Повоевали, повоевали, да и разошлись… Теперь, как он приедет в деревню, Васьчиха и запирается либо уходит куда…
Глава двадцать четвертая
Но кончились и дожди. Мороза еще нет, а везде подсохло, лес поредел, в нем стало светлее. Светлее стало и в избах. С утра светит солнце. Чистая, нежная и грустная осень.
Поспеловцы, несмотря на то, что месяц был дождливый, заработали у Волховского по сто сорок два рубля в день на человека. Это солидные деньги, такого заработка даже на промплощадке не знают. Шуст увидел наряды с такой суммой, схватился за голову, бормотал:
— Срезать, срезать надо. С деньгами сейчас худо. Очень худо. Рублей по семьдесят сделай им, остальные деньги перебросим другим бригадам.
Я отказался срезать. Он погрозил пальчиком:
— Ты как чужой, Борис. Смотри, в коллективе так не поступают. А то споткнешься и никто не поддержит.
Управляющий распорядился помочь колхозам в заготовке леса.
Вновь принимаемых на работу людей Гуркин отсылает ко мне. Происходит это так. В один из дней в коридоре конторы прогуливается фигура в летнем потертом пальто, в разбитых начищенных сапогах и в серой кепке. Лицо у человека худое, глаза быстрые, цепкие. На тонкой шее большой кадык и такое впечатление, будто под пальто нет ни пиджака, ни рубашки на теле. Появляется Гуркин, извещая об этом всех конторских работников громовым голосом.
— Вы ко мне? — говорит Гуркин незнакомцу.
— Да.
— Пройдемте в кабинет. В чем дело?
— Я насчет работы.
— Вы кто? Что вы умеете делать?
Незнакомец мнется.
— А вам кто нужен? — говорит он.
— Гм… Мало ли кто! Все нужны. Плотники нужны, каменщики.
— Я плотничать умею.
— Покажите документы.
Незнакомец подает новенький паспорт.
— И все? — говорит Гуркин.
— Да.
— Не успел, значит, еще приобрести трудовую. Ну, здесь приобретешь. Мне нужны люди в колхоз. Мы там строим.
Незнакомцу это не по душе. Но за окном осень, скоро завернут холода.
— Я согласен.
— Оформим вас землекопом-бетонщиком, а там видно будет. Идите в отдел кадров. Только смотри, чтоб работать как положено.
Через час новый рабочий уже ознакомился с достопримечательностями Кедринска и задержался на базаре, где человек пять женщин торгуют картошкой, черникой, луком. А в крытом помещении два старика разложили на столах поношенные сапоги, шапки, плащи, какие-то железяки, которые бог весть кому нужны. Поговорив со стариками, новый рабочий показывает им золотые дамские часики. Что-то доказывает, бьет себя в грудь. Часы покупаются за полцены. И под вечер в моей избе появляется незнакомец. От него тянет перегаром, он возбужден, развязен. Городит мне небылицы: там-то работал плотником, в Москве два года столярничал на строительстве домов. Я заметил: подобные типы непременно говорят, будто они работали в столичном городе. На худой конец упомянут Харьков, Новосибирск. По их мнению, это должно поднять их в глазах местного начальства. Что совершенно ошибочно. Федорыч, например, с презрением относится к людям больших городов, угодивших сюда.
В уголке направления незнакомца я замечаю маленькую галочку, поставленную в отделе кадров. Она поясняет все. Направляю новичка в лес к Жукову. Работать с ним — первая ступенька к новой трудовой жизни. Но бывает, Жуков говорит мне:
— Дмитрич, вот этот Быстров не годится. Убери его от греха…
Приходится отсылать новичка обратно в Кедринск…
Вот приходят сразу восемь человек: все одинакового роста, стриженые, крутоплечие, крутолобые. Когда идут они, движения их плавны, будто заучены. «Братья» — мелькает в голове, всегда смотришь на них. Меня отыскали они возле правления.
— Гражданин, то есть товарищ начальник, мы к вам, — говорит кто-то из восьмерых.
— В чем дело?
— Вы здесь самый главный начальник или есть постарше?
Их смутил мой молодой вид.
— Я главный.
Все кивнули, заулыбались.
Происходит разговор.
— Мы очень хорошие работники. Вот направление из конторы. Но прежде чем работать, нам надо отдохнуть. Мы совершили длинное путешествие.
— Это устроим. Кто у вас бригадир?
Переглядываются.
— У нас нет бригадира.
— Нужно выбрать.
— Он нам не нужен. Мы все бригадиры. Так уж подобрались.
— Кто это сказал?
— Я.
— Фамилия?
— Корнев.
— Вот ты и будешь бригадиром. Мы с тобой пойдем жилье искать. Остальные пусть подождут.
Компания рассаживается на траве. Острят по поводу деревни. Один ложится на спину, закладывает руки под голову, читает нараспев:
В стране лесных озер Синеют небеса… Друзья, мы отдых Обрели недолгий: Свободных птиц, Поющих, голоса Зовут, зовут меня на Волгу.Три дня «братья» отдыхают, потом приступают к работе. А через неделю кто-то обокрал магазин в Заветах. Унесли всю водку, несколько ящиков консервов. Приехал следователь Моргунов с милиционером. Собака след не взяла. Никто не поймет, как произвели кражу: окна, двери, замок на дверях — все не тронуто. Сделали обыск у самой продавщицы, еще в нескольких избах. «Братья» живут у Молочкова. Старик говорит, что в эту ночь они никуда не ходили. Деревенские считают, что магазин ограбили чикинцы, которые пришли в восторг, когда узнали, что милиции не удалось разведать вора.
— Чиста работка! — восхищается Чика. На ногах у него сапоги с обрезанными голенищами. Вся бригада купила себе охотничьи сапоги с голенищами до паха. С неделю ходили, отвернув голенища, с трудом переставляя ноги.
— Зачем вы деньги угробили? — говорю я. — Ведь тяжело в таких сапогах?
Вечером они обрезали голенища, кожу продали сапожнику. Деньги пропили у Акиньевны. Следователь покидает деревню, наказав мне, Баранову, Соснину присматриваться: не появятся ли где следы украденного…
В «Заре» плотники заготовляют лес. Оказалось, что колхозу принадлежит не сосновый бор, как говорил Стожков, а делянка у самой границы района. Рядом с делянкой стоит изба, она пустовала. В ней жил когда-то лесник. Лесника загрызли зимой волки, семья его уехала в Новогорск. Изба крепкая, печь в ней новая. От ближайшей деревни до делянки километров восемь. Плотники остеклили окна в избушке, стали в ней жить. Стожков обязался возить им продукты. Километрах в четырех от делянки живет лесничий Островский с дочерью Верой. Прежде он жил в Ленинграде, работал в лесном институте. У дочери что-то неладно со зрением. Совсем маленькой она пережила блокаду, во время которой умерла ее мать. Училась Вера в музыкальной школе. Уже тогда она начала плохо видеть. Отец водил ее к профессорам. Никто не мог помочь, зрение ухудшалось. Островскому посоветовали оставить на время Ленинград, пожить с дочерью где-нибудь в сельской местности, где воздух чист. Он принял Войловское лесничество. Поселился в лесу. Познакомился я с этой семьей так. Надо было уточнить границы колхозной делянки. Никто в «Заре» не знал их, я отправился к лесничему. Заросшая кустарником просека приводит меня к поляне: домик, окруженный изгородью, сарай. Во дворе ни души. Навстречу мне прошла от сарая громадная овчарка, улеглась на дорожке у калитки. Обратный путь отрезан. Из-под крыльца выкатился большой коричневый клубок. Он распадается: медвежонок и щенок уставились на мои резиновые сапоги. Переглянувшись, они снова схватываются. В горнице никого. Чисто. На стене карта, малокалиберка. На полу у дивана громадная медвежья шкура. Кто-то заиграл на аккордеоне в другой комнате.
— Кто дома? — спросил я громко.
Выходит худенькая черноволосая девушка. Кладет аккордеон на стол. Подойдя почти вплотную, вглядывается в мое лицо. Резко отворачивается.
— Вам кого?
— Мне лесничего.
— Папы нет дома, он на обходе. Он очень вам нужен?
— Очень.
— Тогда подождите. Он скоро придет обедать. Нет, нет, ружье не ставьте в угол. Давайте я повешу… В угол ставить нельзя. Недавно зашел к нам новогорский охотник. Поставил свое ружье сюда. Сели к столу. Вдруг — бах! Все заволокло дымом. Бросились к порогу, а медвежонок сидит, держит ружье, удивленно озирается. Вот, смотрите.
Она указала на обои, иссеченные дробью.
— Мог бы убить кого-нибудь.
— Да. И, знаете, нисколько не испугался. Теперь, как заберется сюда, сразу в угол лезет. Папа для него палку лыжную становит туда. Уж он ее и так, и этак крутит — не стреляет! — Девушка тихо смеется.
Я присел на стул, хозяйка на диване.
— Давно он у вас живет? — спросил я.
— Кто?
— Медвежонок.
— Месяца три. Как снег выпадет, папа его уведет.
— Куда?
— И не спрашивайте. Мы третий год здесь живем. Этот Мишка у нас второй. Первого папа увел в лес, должно быть убил.
— Зачем он уводит?
Она улыбнулась, закатила рукав кофточки.
— Вот смотрите.
На тонкой смуглой руке от кисти до локтя протянулись три шрама.
— Это только в книжках они добрые, — сказала она, — может, и есть такие. А нам попался злой. Как подрос, трех кур у нас съел и вот здесь еще метку мне оставил, — она провела рукой по бедру.
— Вот такой шрам остался. Вам зачем папа нужен?
Я рассказываю. Приходит пожилой, сухощавый человек, напоминающий Штойфа, только шире в плечах и здоровей видом.
— У тебя гость, Вера. А я иду и думаю, почему ты не играешь. И Дамка дежурит у калитки. Вы ко мне?
— Да.
Я рассказал, в чем дело. Мы пообедали, сходили к делянке. Островский указал просеку, по которой можно будет вывозить бревна. Я остался ночевать у лесничего. У Веры режим: ложится спать она ровно в девять, а чуть свет уже на ногах. Когда я проснулся утром, в домике никого не было. На столе ждал меня завтрак. Выйдя на крыльцо, я увидел девушку, она возвращалась из лесу с малокалиберкой в руках. Следом за ней бежала овчарка.
Вера помахала рукой:
— Выспались? А мы уже с Дамкой свои владения обошли. Позавтракали?
— Да. Что так рано гуляете?
— Мы каждое утро с Дамкой гуляем. У нас свои владения. Вы уходите?
— Ухожу.
— Я провожу вас…
У начала просеки она остановилась.
— Можно мне задать вам вопрос?
— Хоть десять.
— Только вы должны правду сказать.
— Обязательно.
— Вы заметили во мне какую-нибудь странность?
— Нет, — соврал я.
Она вздохнула.
— Ну вот… и вы лжете. Зачем? Зачем? — повторила она вопрос упавшим голосом.
Я сказал правду: меня удивило то, что она, обращаясь ко мне, либо щурит глаза, либо очень широко раскрывает.
— И только?
— Только.
— Дайте честное слово.
— Честное слово.
Она как-то внутренне засмеялась. Мы медленно шли по тропинке. Разговорились. Вера поведала мне всю историю приезда сюда.
— Сейчас вы лучше видите?
— Не знаю. Кажется, лучше. Знаете, когда думаешь об одном и том же, следишь за собой, ничего толком не заметишь. Папа утешает меня и, конечно, правду не скажет. А вы вот в походке моей ничего не заметили? Значит, дело к лучшему. Раньше я ноги высоко поднимала, когда ходила. Вот так. Все казалось, будто впереди ямка.
Мы три раза прошлись туда и обратно по просеке. Расставаясь, я обещаю бывать у них часто. Но часто бывать не приходится. Начали работать и в «Искре». На переходы уходит масса времени, гораздо больше, чем летом. На дорогах всюду грязь. От дождя плащ мой разбухает, коробится. Ходить тяжело. И путь, скажем, от Хомутовки до Вязевки кажется длиннее, чем он есть на самом деле. Мне надо бы лошадь под седло, но такой нигде не достать. В трестовском конбазе все рабочие лошади. Баранов и Стожков говорят, что у них нет тоже. И я им верю. А Волховской прямо заявил:
— Не дам. Не дам лошадь гонять напрасно.
— Почему же напрасно?
— А потому: вы им построите, угробите деньги, а они через год все эти строения загадят. Я знаю. Вон в Тутошине поставили коровник три года назад. На что он похож? Со стороны смотреть не хочется. А внутрь зайти стыдно. Не дам, не дам, лучше не проси…
И ночевать приходится, где застанет ночь.
Несколько раз спал у Полковника. Изба у него большая, детей нет. В горнице чисто, приемник имеется. Всякий раз он был пьян. Прыгал передо мной, размахивал кулачками. Я все стараюсь понять, что он хочет доказать, чем недоволен. Но никак не пойму.
— Ты, Дмитрич, не смотри, что стар, болен и не у дел власти, — кричит он, — есть еще рука в укоме. И в губком тропиночку знаем! Захочу — всю деревню переверну, а докажу свое. Докажу, какая она тут есть контра! До всех доберусь!
И бежит в сени, стреляет из пальца в сырой навозный ночной мрак:
— Пах! Бух! Бух!
Ночевал и в Сосково. Но там остаюсь на ночь неохотно, когда уж очень устану. А на улице темень. И бригадир, и жена его принимают меня как какое-то начальство. Суетятся. Детишек загоняют на печку, велят им не шуметь. Хозяйка, подав ужин, станет у печи, стоит, поджав губы, готовая броситься исполнить любое мое желание. Бригадир сидит напротив меня, почтительно смотрит, как я ем его картошку с тушеным мясом. Странно! Ведь я для них подрядчик, они хозяева положения. Но не понимают этого. Не знают, откуда взялись деньги на постройку коровника. И не знают, зачем он им нужен.
— Какую же скотину будете держать в коровнике? — спрашиваю я.
— Так ведь как вам сказать… Нам это еще неизвестно. — Бригадир сводит брови, неожиданная мысль осеняет его: — Должно пригонят откуда-нибудь. Либо по дворам заставят собирать.
— Кто же будет собирать?
— Да ведь это как сказать… Всяко может быть, ежели что… Ну не коров, а телят, к примеру…
Не знаю, как мужчины, а многие пожилые женщины верующие. По каким-то дням недели собираются молиться в большой избе, построенной отдельно от других изб. Даже поп заглядывает сюда. Приезжает откуда-то на таратайке. Поп маленький, жилистый, с длинными руками.
С удовольствием ночую в Хомутовке. Чаще всего в избе старика Ивана Ефимовича Рыпачева, прозванного на деревне Рыпычем. Живет он со старухой, сын женился, построил себе избу на другом конце деревни; дочь живет у мужа через дорогу. Рыпычу пошел седьмой десяток, но он бодр и разговорчив.
— A-а, — встречает он меня, — опять начальника ночь прихватила. Раздевайся, раздевайся. Беседу составим. А то мне надоело со старухой браниться…
Сбрасываю плащ, сапоги. Сажусь на лавку и вытягиваю уставшие ноги.
Приходит Алексей, вникающий в грубые тонкости строительного дела. Чтобы он поскорей усвоил суть чертежа, я посоветовал ему снять на кальку чертежи мастерских. Покуда я ужинаю, Рыпыч и Алексей преподносят новости.
— Ну, показывай, — говорю я Алексею, отодвигая тарелку, — давай посмотрим…
Он раскладывает чертежи, измятую кальку.
— Где Волховской сегодня?
— Уехал куда-то.
Сам Волховской со мной почти не разговаривает. Видит во мне лишь подрядчика, который здесь, завтра уедет. Даже о строительстве не любит говорить со мной.
— Я тебе выделил человека, с ним все решай. Алексей на все уполномочен.
От Рыпыча узнал: у Волховского есть два сына. Оба военные, оба генералы.
Старший, артиллерист, служит в Министерстве обороны. Второй — летчик, он где-то на Кавказе. Волховской управляет хозяйством с сорок второго года. В деревне живет легенда о том, как лет десять назад председатель выгнал из Хомутовки какого-то районного начальника.
— Толкал, толкал этого начальника в грудки. За Косой мостик затолкал и говорит: «Вот граница моей земли и чтоб больше сюда ни шагу. Перед партией я сам ответ будут держать».
Волховского арестовали, вмешались сыновья, его освободили. И с той поры в «Красный пахарь» начальство не ездит.
— Да и то сказать, — говорит Рыпыч, — чего нас теребить? Хотя мы и не так хозяйствуем, как другие. Мясо в столовую новогорского завода поставляем мы. С государством расчет у нас полный. Вот только баловством не занимаемся: кукурузу, пшеницу не сеем, от них урожая нету…
То, что я вижу, слышу здесь, не видел, не слышал нигде. Земля колхозная разделена между членами артели, закреплена за ними. Весь урожай с участка колхозника — его личная собственность. По уставу, выработанному артелью, колхозник вносит плату в кассу правления за услуги, которые оно предоставляет для обработки земли, ведения хозяйства. Выражения «частный сектор» здесь не услышишь. Не слышал я слова «сотка», землю делят десятинами, гектарами. Молодняк, племенной скот в отдельных хозяйствах не содержат, для них имеются общественные помещения, там работают люди, состоящие на службе у общества. В каждом хозяйстве штук по сорок гусей, много кур. Даже ближние лесные поляны засеяны клевером. Скотину до полдня пасут в лесу, затем гонят ее на клевер.
На полях выращивают картофель (очень много, он дает большие урожаи), кормовую морковь, брюкву, сеют овес, а ржи очень мало. Хлеб родится плохо, часто получается так: не успеет колос созреть, зарядят дожди, хлеб пропадает.
Во всех бригадах на каждые два-три двора имеется котел или кормозапарник. Устроены они в сараях, которые называют парками. В избах хозяйки готовят пищу только для себя, для скотины в парках. Печи под котлы в парках устроены в земле, котел расположен низко. Вдоль парков тянется дорога, по ней два раза в сутки проезжают водовозки. Ковшами через воронки и лотки заливают котлы водой. Парки облегчают уход за скотом настолько, что даже Рыпыч со старухой кормят к зиме четырех кабанов, столько же яловых коров. Дойную корову они не держат: у старухи болят пальцы в суставах; молоко берут у дочери. Сарай у Рыпыча, длиной метров в пятьдесят, покрыт тесом. Под сараем печка, борова внутри. Когда надо топить печь, сушат на жердях овес, клевер.
В следующем году Волховской собирается провести в Хомутовке водопровод. Деньги в колхозе есть, но труб никак не достать.
Овес, картошку давно убрали. Как и в других колхозах, здесь есть бригадиры. Но они не собирают на работу людей. Здесь не бригадир требует чего-то от людей, а наоборот. Вечером колхозники совещаются, что-то решают. Бригадиры идут к председателю. Я ни разу не видел, чтобы Волховской вмешивался в дела крестьян.
Участки их не разделены межами, границы участка помечаются вешками. Перед посевной колхозники договариваются, где, что каждый будет сеять, сажать. Получается так: если я посеял овес на этом участке, сосед мой рядом сеет овес и так далее. И обработка земли машинами не усложнена. Лошадей содержат в общественной конюшне. Каждый колхозник работает на одной и той же лошади, ее он может держать у себя во дворе. Когда отводит в конюшню, сдает ее старшему конюху. Каждая лошадь имеет свой номер, кличку. У конюха есть журнал, который проверяется ветеринаром.
Я присматриваюсь к жизни людей в Хомутовке, расспрашиваю об этой жизни Рыпыча, Алексея. Стараюсь познать все тонкости ведения хозяйства, но это невозможно. Нужно жить здесь, быть крестьянином. Многое надо не понимать, а чувствовать…
Утром я прохаживаюсь в сарае Рыпыча. Он привез на тачке месива свиньям. Вываливает месиво в лоток, лопатой подгоняет его под перегородку.
— А коров почему не выгнал сегодня в стадо, Иван Ефимович?
— Уже не погоню больше. Пусть стоят до морозов, пусть отяжелеют…
Смотрю на аккуратный лоток, на тачку. На корявые пальцы старика, испачканные месивом. Как первобытно, просто все! И Рыпыч, и тачка, и вот эти жирные до отвращения свиньи! Одной даже лень подняться на ноги, и она старается дотянуться рылом к корыту. И все ж все пока что без техники, о которой кричат взахлеб наши газеты. Что же будет, когда Волховской разбогатеет настолько, что и механизацию начнут применять?
— Послушай, Иван Ефимыч, восходовский председатель Баранов не приезжал к вам?
Старик поставил лопату к стене.
— Был. Приезжал один раз…
Старик рассказывает, как Баранов приехал, посидел с полчаса у Волховского, говорил ему о своих делах. Волховской слушал молча. Потом сказал:
— Я ничем не могу помочь вам. В стране нашей много сельскохозяйственных институтов, академий. Туда обращайтесь.
На том разговор окончился, Баранов больше не появлялся в «Красном пахаре».
Мы выходим из сарая. Курятся парки. Прошла куда-то компания девушек. В Вязевку сегодня должна приехать зачем-то зоотехник Варварова. Отправляюсь туда.
Глава двадцать пятая
Я завшивел. Узнаю об этом так. В потемках притащился в Клинцы. Ужинаю. Сергеевна отчитывает меня за то, что я отбился от дома. Она говорит, что она не какая-нибудь городская, которая может брать с постояльца деньги ни за что ни про что. Раз уж плачу я деньги, то должен обедать, ужинать здесь.
— Не ругайтесь, Сергеевна…
Мне надо выписать несколько нарядов. Сажусь за стол в горнице. Студенты уже уехали. Спина, плечи, ноги стонут от дневных переходов. Глаза слипаются. Пальцы левой руки тянутся к голове, скребут ее. Вдруг застываю: на белую страничку журнала упала вошь. Лежит на спинке, шевелит ножками. Этого только не хватало. Уничтожив ее, озираюсь, будто кто-то может стоять за спиной. Прошу своего сторожа истопить завтра баню. Старик давно приглашал меня помыться с ним. Но вымыться как следует здесь не удается. Дедко так натопил свое допотопное заведение, что дышать нечем. А когда он, кряхтя от удовольствия, вылил на раскаленные камни ведро воды, я кубарем скатился с полка. Сунул голову в бочку с холодной водой. Кое-как обмылся и ушел в кедринскую баню. Там же остригся наголо. Покуда стригся, все следил за глазами парикмахерши, она, кажется, ничего не заметила.
В тот же день, предупредив Гуркина, еду в райком хлопотать насчет лошади. Гуркин сказал, что управление будет платить за нее.
Замятного в райкоме нет, уехал в область. В приемной Холкова полно людей. Пожилая, с очень серьезным, даже строгим видом секретарша докладывает обо мне секретарю, тот принимает меня без очереди. Расспрашивает о делах в деревне. Покачивает головой, чмокает губами.
— Надо, надо будет как-то уладить все это…
Через полчаса еду в автобусе в коневодческий совхоз «Грива». В кармане лежит записочка от Холкова к директору совхоза Семипалатинскому. До совхоза километров сорок. Потом около часа я плутаю в березовом леску, покуда какая-то старушка с тяжелой корзиной за плечами указала нужное направление. И тропинка вывела меня к четырем кирпичным домикам, за которыми метрах в двухстах стоит ряд длинных конюшен. Небольшой табун жеребят пронесся к реке. Стайка ребятишек указывает мне домик директора, говорят, что он дома, обедает.
Директор вполне соответствует своей фамилии. Громадный, плечи шириной с метр. Круглая голова коротко острижена. Он сидит за столом, ест деревянной ложкой прямо из кастрюли. Ноги его вытянулись из-под стола далеко. На столе хлеб, бутылка водки. Выслушав меня, он кивает на стул:
— Садись. Пообедаем.
— Спасибо. Я не хочу.
— Видишь, как приходится обедать… Баба в Питер укатила по своим делам, а я холостую.
Он вздохнул тяжко, утер губы полотенцем и взял записочку Холкова.
— Черт знает что! Покосы обрезали у Семипалатинского, а лошадь дай! Ты когда был у секретаря?
— Сегодня.
— Кто платить будет?
— Управление. Трест.
— A-а. Ну тогда ладно. Что вы там строите?
Я сказал.
Директор поморщился, сплюнул на пол.
— Черт их знает. Строят, строят им, а все без толку. А я вот второй год бьюсь — надо две конюшни поставить, и не пробить. Я, видишь ли, богат, то есть рентабелен. Ну, и сиди, выкручивайся сам. Ну, пошли…
Он поднялся и едва головой не уперся в потолок.
В Кедринск возвращаюсь верхом на высоком вороном жеребце. Ноги у него длинные, а туловище короткое, голова огромная. Получил от директора устную характеристику жеребца: звать его Зайцем, он страшно умен. Если буду с ним ласков, привыкнет ко мне быстро и будет ходить за мной, как собака.
Дедко Серега отвел для Зайца отдельную стойку в конюшне. Выписываю у Волховского шесть мешков овса. Первое время Заяц относится ко мне недоверчиво. Когда седлаю его, поджимает ноги, кладет уши, скалит зубы. Угощаю его кусочком сахара. И через неделю он привыкает ко мне. Приеду на объект и нужно задержаться. Зайца не привязываю. Он либо бродит за мной, либо, заметив клок сена, стоит жует, поглядывая то и дело в мою сторону.
Рабочий день мой растянулся. Успеваю побывать и в деревнях, и в лесу. А в Кедринске бываю редко. Будь лошадь у меня раньше, кажется, скакал бы туда каждый вечер. Теперь нет. Компания наша распалась. Специалисты покинули гостиницу, им всем предоставили комнаты, квартиры. Маердсон и Мазин взяли себе на двоих двухкомнатную квартиру. Рукавцов и Латков — по однокомнатной. Жиронкина съездила к Черному морю, познакомилась там с кем-то. Собирается ехать в Свердловск, где выйдет замуж за нового знакомого. «Это наша последняя встреча, Борис, — говорила она, — ты будешь меня вспоминать? Я знаю, что будешь». Вот и все. Вот так оно и бывает. Выйдет там замуж. Будет любить своего мужа. «Я люблю мужа своих детей». Где я это слышал? И Козловская выходит замуж. В Окново приехал на побывку молоденький морской лейтенант. Встретил ее в парке. Через неделю «предложил ей руку». «Что ж, Борис, попробую еще раз. Терять мне нечего. Может, все хорошо будет»… Славные девчата. Мы были хорошими друзьями. Но им этого мало. Им нужны мужья. Когда-нибудь и я стану мужем. Кто будет она? Где она сейчас?
Маердсон женится в сорок лет. Он знает, он уверен, что в сорок лет будет главным инженером треста. И тогда он женится. Говорит, что выберет себе здоровую молодую женщину. И женится. Все ясно и просто…
Я еду из Завет в Хомутовку. Заяц идет шагом. Не подгоняю его, поводья опущены. Вот жеребец останавливается, вскидывает голову! Прислушивается. Я осматриваюсь, тоже прислушиваюсь. Никого нет. Чмокаю губами. Четко, твердо простучали подковы по Косому мостику. У поспеловцев не задерживаюсь.
— Людей надо еще? — говорю бригадиру.
— Не нужно, Борис. И маляров не присылайте, мы сами все сделаем. Гвозди вот кончаются.
Я даю ему записочку к сторожу.
Плотники закончили крышу, стелют полы. Они опять взяли аккордный наряд. Опять заработок будет большой. Шуст схватится за голову: «Срезать!»
За деревней сворачиваю на просеку, ведущую к лесорубам. Обгоняю двух женщин с корзинами в руках. Знаю: они несут плотникам выстиранное белье. Знаю и то, что двое из плотников с приходом женщин работать не будут. Тут уж ничего не поделаешь. Завтра загляну к ним. Возле ручья дергаю повод. Овчарка издали узнает меня, приветливо машет хвостом.
— Хозяйка дома, Дамка?
Вера готовит обед на плите. Она продолжает называть меня на вы.
— Папа уехал в Новогорск. Вы его не встречали?
— Нет.
— Вы уже освободились?
— Да, Верочка. Сегодня уже свободен. Пойдем обходить владения?
Она кивает, и, едва заканчивает стряпню, отправляемся. Километрах в двух от домика есть озеро, прозванное Хитрым. Оно глубокое, берега не илистые, как у прочих здешних озер. А твердые, вековые ели вплотную подступают к воде. Случись лето жарким, сухим, вода из озера исчезает. Исчезает не постепенно, а за неделю, полторы. Когда-то давно к озеру приходили купаться деревенские. Однажды, за сутки до исчезновения воды, утонул мальчик. Труп ловили сетями, не поймали, а когда вода исчезла, утопленника не оказалось на дне. Деревенские рассказывают всякие небылицы об этом озере. Островский установил: оно связано под землей с Вязевским озером. Вязевское озеро широко, испарение там велико. В сухую пору уровень воды быстро понижается. По принципу сообщающихся сосудов вода из Хитрого озера уходит в Вязевское.
Одну из толстых елей на берегу озера я отесал, она стоит белая. Метрах в двадцати от нее я устроил барьер, мы стреляем с Верой в мишень. Для нее белый ствол — мутно-светлая полоса. Потом обходим вокруг озерца, собираем клюкву.
— Я все-таки купаюсь в озере летом, — говорит Вера, — страшно, но купаюсь. Вода теплая, прозрачная. Вы до следующего лета будете здесь, Борис?
— Не знаю.
— Сейчас еще хорошо здесь. Зимой хуже. Зимой я одна не остаюсь в домике, боюсь. Зимой у нас живет Матвеевна из Соскова. Хорошая старушка. Господи, чего она только не расскажет!
Вера задумчиво улыбается. Улыбка исчезает с ее лица. Некоторое время мы молчим. Вдруг она смеется, хлопает ладошками, передает какой-нибудь рассказ Матвеевны. Переходы от грусти к веселью у нее чрезвычайно резки, часты. Приятно удивила меня ее доверчивость ко мне, искренность, с которой задает вопросы, отвечает на мои.
— Вы женаты, Борис?
— Нет.
— Часто ездите в Кедринск. Конечно, у вас там есть знакомая девушка.
— Знакомых много. А одной нет.
По выражению глаз, по едва заметному движению головки ее замечаю, что она не сомневается в честности моего ответа. И он приятен ей.
Уже когда темнеет, шурша опавшей листвой, медленно идем к домику. Заяц коротким ржанием встречает меня. Тихо, глухо вокруг. Пахнет сыростью, увядшими листьями. Начинает моросить дождь. А в домике уютно, тепло. За все время, сколько Вера прожила здесь, она раза три бывала в деревне, да и то с отцом. Жизни деревенских людей она не знает. Я рассказываю ей о Полковнике, о своей хозяйке, о работе. Она слушает внимательно, задает вопросы. Уезжать мне не хочется, но ехать надо.
— Когда теперь заглянете к нам, Борис?
— Когда перестанешь выкать, Верочка.
— Нет, серьезно?
— Завтра. Завтра приеду обмерять бревна на делянку…
Заяц легкой рысью уносит меня по просеке.
По работе меня теперь тревожит только одна мысль: как бы чего не случилось. А случиться может только в Вязевке, где «братья» и чикинцы. Происшествий пока что нет. Похожу между бригадами. Иду в правление. Баранов в кабинете. Отношения между нами изменились. В гости ко мне он не приезжает, подолгу не беседуем. Встречает меня председатель сухо.
— А, это ты. Садись. — И копошится в каких-то бумагах.
— В Кедринск не собираешься, Алексей Михалыч?
— Нет.
Сегодня свадьба Козловской, я собираюсь в Кедринск. Нужно отвезти Шусту процентовку. Кладу ее на стол.
— Подпиши, Михалыч. Тут одна земля. Лишнего не брал.
Я ни разу не обманул Баранова, он подписывает.
В Клинцах Сергеевна дает наказ: надо купить сахару, соленой рыбы, дешевых конфет — подушечек. Только с ними она пьет чай.
Прихватив сумку овса, еду не по дороге, а напрямик через лес, где нужно пересечь два болота, разделенных перешейком, на котором стоят три избушки. Одна пустует, возле нее несколько могилок. Крайняя аккуратно всегда убрана, обнесена оградкой и с памятником. На нем под стеклом фотография мужчины в пиджаке. И под фотографией стихи на металлической пластинке:
Жена и дети, вы прощайте, Над вами мира благодать. Меня к себе не ожидайте, А я вас буду ожидать.Проходя здесь пешком, я каждый раз задерживался у могилы. Перечитывал стихи. От них холодок бегал по спине. Какая жестокость! Жену и детей ожидать в могиле, постоянно им, живым, твердить об этом! Ведь наверняка покойник еще при жизни сам заказал граверу написать стихи. Может, это просто глупость, неумение высказать что-то иное.
В двух других избушках живут старики с внучатами; молодых нет, они работают в Кедринске. Я заходил в избушки, пил молоко, говорил, кто я, почему хожу здесь. Но каждый раз замечал в окне либо за кустом лица старухи, бородатого деда, которые с удивлением, внимательно смотрят мне вслед…
Еще деревенька Свистово. Железнодорожный переезд. Стройка. Зайца привязываю возле сарая моего соседа. После бани переодеваюсь, иду к Николаю. После сапог туфли кажутся тапочками. Морозит. Ноги, все тело обхватывает холодком. Костюм и плащ кажутся кисейными, и сам я, легок, тела не чувствую. Николай, когда захожу к нему, катается по комнате в коляске.
— А, колхозник появился! Козловскую пропивать примчался?
— Да.
— Я уже поздравил ее, — Николай забирается на диван.
— Колхозничку привет! — из кухни вышла Краевская. На ней фартучек, вся она по-домашнему.
— Немного посидишь с нами? — она накрывает стол. — На свадьбу еще успеешь…
Узнаю, что Люся совсем ушла от Краевского.
— Наверное, придется уезжать отсюда, — Николай закурил. Смотрит, прищурясь, на облачко дыма. — Можешь представить: Краевский не дает ей проходу. Даже сюда приходил, старался убедить меня, что я и Люся — не пара. Что это у нас увлечение временное. Ты знаешь, каким он выглядел на работе. А тут: волосы растрепаны, руки дрожат… И предлагал мне деньги, большие деньги. Совсем спятил…
Люся вышла в кухню. Оттуда послышались всхлипывания. Через дверной проем вижу ссутулившуюся ее спину, дрожащие плечи. Кто-то позвонил. Я открываю дверь — Краевский. Пальто, пиджак расстегнуты.
— Хозяева дома?
— Дома.
Старик снимает калоши, не раздеваясь, проходит. Я смотрю на Николая, он машет рукой, мол, уходи. Ну и ну. Вот еще одна драма.
Квартира Рукавцова этажом выше. Поднимаюсь к нему, стучусь, покуда не выходит соседка.
— Вани нет дома. Вообще он редко бывает в своей квартире…
Мазина и Маердсона застаю. Маердсон бреется, возле него вертится Мара Матросова. Мазин на диване, у него на коленях темноволосая толстуха с горбатым носом. Атмосфера в квартире немного накалена: приятели не хотели приглашать своих подруг на свадьбу, не говорили им о ней. Те пронюхали и осерчали.
— Нет, подумаешь, инженерша замуж выходит, а они нас не хотят брать! Жора? — Матросова внимательно смотрит в лицо Маердсону.
— Мы быстро, скоро вернемся, девочки, — отбивается Жора, — вы ждите нас здесь.
— Какое свинство! Подумаешь!
На столе магнитола, бутылки. Маердсон сбрасывает халат, облачается в костюм, мы поспешно уходим. По дороге приятели, сердясь, обсуждают, от кого подруги могли узнать о свадьбе.
Жених настоял, чтобы свадьбу отпраздновали не в общежитии, как хотела невеста, а в его избе. Когда мы приходим, народу уже битком.
Хозяева рассаживают гостей. Мы с Мазиным забираемся в дальний угол, отсюда видно всех. Козловская в белом воздушном платье, сшитом опять же по настоянию жениха. Жених в гражданской одежде. Белобрысый, розовощекий юноша. Козловская бледна, щурится больше, чем обычно, что-то отвечает на шутки, едва улыбаясь. Поблизости от нее Жиронкина, Алябьева, Латков. Она выискивает глазами своих, встречается с моим взглядом, брови ее вздрагивают, она едва заметно кивает.
Начался пир, который закончился утром.
Молодых проводили в отведенную комнатку. Несколько человек спят на полу, двое под столом. Жиронкина должна была уехать к жениху в Свердловск неделю назад, но ее задержала свадьба Козловской. Провожаю Риту к девятичасовому поезду. Прохаживаемся по перрону.
— Хорошо, что ты один провожаешь меня, — тихо говорит она.
Я молчу. На свадьбе я много выпил, но я абсолютно трезв. Надо бы что-то говорить, но я ничего не могу сказать.
— Тебе долго ехать, Рита?
Она не отвечает. Печальное, грустное что-то наворачивается в груди. И до прихода поезда ходим мы молча. Вот и он подполз, вот шестой вагон. Поезд стоит три минуты. Я поспешно, как-то по-воровски, целую влажные глаза, целую гладкий выпуклый лоб. Глаза ее растерянно и быстро осматривают мое лицо. «Поезд трогается», — говорит проводник. Подсаживаю ее в вагон, нахожу место. Уже на ходу спрыгиваю. Иду за вагонами, они обгоняют меня.
На станции тихо. Бреду в город. В своей комнате сижу на кровати некоторое время неподвижно. Нашариваю рукой под койкой бутылку с вином. В этот день в деревню не поехал. Снес в контору процентовку. До вечера сижу над материальным отчетом. Когда кончаю его, приходит в контору Латков. Говорит, что сегодня он женится на Алябьевой, чтобы я был к восьми у него. А через день еще побывал на одной свадьбе. Вернувшись, объехал объекты, везде спокойно, никаких чрезвычайных происшествий. Хотел вечером ехать к лесничему, но после выпитого на свадьбах настроение скверное, голова побаливает. Вечером сижу в своей избе, ем картошку, запиваю капустным рассолом. В избу приходит Чикарев. Он в новых сапогах, в новом костюме, волосы прилизаны. Скалит в улыбке белые плотные зубы.
— Куда так вырядился? — говорю я.
— Борис Дмитрич, мы приглашаем вас на свадьбу.
— Кто это мы?
— Я и Маруся.
— Раевская?
— Да. — И он хохочет.
— Ты женишься?
— Я, — опять хохочет.
Черт знает что.
— Когда же свадьба?
— Сегодня. Сейчас приходите.
— Чего же раньше не сказал?
— Так вас не было здесь. Придете?
— Обязательно. Спасибо, что пригласил.
Он уходит. Вот это номер. Еще один номер в житейской программе. Марусе за двадцать, ему скоро только восемнадцать. Да и какой из него муж?
Магазин уже закрыт, что же им подарить? Из ценностей у меня одни часы, ладно, подарю их. Вошла Сергеевна, бросила к печи охапку дров.
— Боренька, Чика никак на свадьбу звал?
— Да, Сергеевна.
Она что-то бормочет.
— Вы о чем?
— Да так… Ох, беда, беда…
В избе Моти дымно, душно. На полу у стен примостились мальчишки. За столом сидят все чикинцы, клинцовские девчата, Молдаванка с подругами, дедко Серега, Филипп, Ваня. Печка ради такого праздника покрашена серебристой краской. С печи свесилась седая голова старухи с желтым опухшим лицом. Мотя снует вокруг стола, подливает в стаканы бражку из ковшика. Мне, как почетному гостю, сама Маруся наливает стакан водки из припрятанной бутылки. Закуска — квашеная капуста, картофель, политый сметаной. Мне бы надо что-то сказать во здравие молодых, я встаю, поднимаю стакан. Я улыбаюсь, но слов подходящих не нахожу.
— Горько! — произношу спасительное слово.
— Горько! Горько! — ревут голоса.
Молодые встают, целуются. Дедко Филипп произносит тихо:
— Гуж… Крепок гуж…
— Виктор Васильевич мой муж, — отвечает Маруся.
— Пшена, — говорит Ваня. — Посыпать пшена.
— Мария Яковлевна моя жена, — вторит Чикарев.
Заиграли на гармошке, начали плясать. Я пробрался к выходу. Небо усыпано звездами. Пахнет морозом. Кто-то вышел следом за мной. Это Мотя. Она подходит ко мне почти вплотную, таинственно шепчет:
— Борис Дмитрич, я к вам с вопросом…
— Что такое, Мотя?
— Закона против этого не вышло никакого?
— Ты о чем?
— Да вот Маруська-то теперь свободно паспорт получит? Задержки не выйдет?
— Нет, задержки не будет.
Она перекрестилась.
— Слава тебе, господи! А то у всех есть зацепка в городе, а у нас только нету. Теперя будет…
Я закурил, поплелся по деревне. За деревней тропинка вывела меня на дорогу. Здесь она суха и сереет широкой волнистой лентой. Шуршит подмерзший песок под ногами. Где-то хлопнул выстрел. Кто может стрелять ночью? Проходя через школьный двор, заглянул в окно Ленины. Через занавеску ничего не видно, но слышны мужские голоса, смех Ленины. Заходить к ним не стоит.
Баранов дома, он сидит за столом, набросив на плечи полушубок, что-то пишет. Кивает мне, продолжает писать. На столе, на подоконнике банки, кастрюля с молоком. Он не знает, куда девать его. Просил Захаровну, чтобы она забирала молоко, но та по каким-то соображением не берет.
Баранов кладет ручку, запечатывает листок бумаги в конверте.
— Домой написал… Возьми там в столе. И стаканы там же.
Рассказываю о свадьбе в Клинцах. Председатель слушает молча, молча выпивает, подперев подбородок рукой, молча смотрит в стену, жуя капусту.
Глава двадцать шестая
Неожиданно выпал снег. Вечером небо было чисто, даже намека на тучи не давало. Ночью они наползли откуда-то. И к утру навалило снега столько, что, когда я выглянул в окно, не узнал избу Вани. Она нахлобучила громадную белую шапку и села по окна в сугроб. У нас возле крыльца надуло тоже огромный сугроб. И я с полчаса с удовольствием разгребал его лопатой. Дедко Серега говорит, что у них снег ложится гораздо позже. Этот снег непременно растает. За зайцами можно будет охотиться с еловым ружьем, то есть с палкой.
— Зайцы-то в хитрость ударятся: рядом с тобой притаится в лунке, уши положит, а сам-то белый! Тут его и лупи…
Но проходит неделя, вторая. Оттепели нет, даже радио не обещает ее. Снега выпадает больше и больше. От дороги деревенька кажется какой-то более сиротливой, но в то же время она стала уютнее, чище. Дым из труб поднимается по утрам высокими столбами. Резвей, бодрее бегают к ручью девчата, женщины. А мороз крепчает. Вязевское озеро затягивается ледком. Скоро по нему будут ездить. По традиции первым проедет по слабому льду Полковник. Каждый год совершает пробную поездку он, а люди приходят на берег смотреть. Лед потрескивает под копытами, под санями прогибается, образуя позади саней волну. А Полковник держит в одной руке вожжи, широко расставив ноги. Другой рукой помахивает кнутом. Он уже под хмельком. А когда сани вылетят на другой берег, в них падают несколько парней, мужиков, и Полковник мчит в Тутошино к магазину. От магазина компания отправляется в чью-либо избу отмечать счастливый проезд.
Я «отбился от дома», как говорит Сергеевна, окончательно. Редко обедаю дома и часто не ночую — свободное время провожу в домике Островского. Деревня есть деревня. Пошли разговоры, что, мол, Картавин к лесничевой дочке повадился ездить. Днюет, ночует там. Полковничиха встретилась возле правления:
— Что-то, Дмитрич, к нам и носу не кажешь. Галины-то нет, к слепой подался?
И улыбалась многозначительно. Уж, кажется, откуда бы знать Полковничихе о моих встречах с учительницей. Даже Ленина ничего не знает, а вот деревенские знают. Думается, заберись в самую глушь лесную, поцелуй там ствол ели, через день об этом будут судачить. У Веры лыжи есть, я тоже купил себе отличные финские лыжи, валявшиеся в магазине под хомутами. Часто путешествуем с Верой по лесу.
Подъехав к домику, я пускаю Зайца к сараю, где стоят сани, возле них кобылка лесничего. Отряхнувшись от снега, иду в домик.
Вадим Петрович либо сидит за столом, что-то считает, пишет. Либо его нет, он на обходе. Вера в пуховом свитере, в мягких валенках. Она встречает меня без возгласов и не суетится. Но по ее глазам, по лицу и какой-то едва заметной поспешности в движениях мне ясно: приезд мой приятен Вере. Мы беседуем некоторое время и отправляемся в лес на лыжах. Ветви елей прогнулись от тяжести снега, тихо. Где-нибудь мелькнет белка, сорвется рябчик. Выскочит из-под куста заяц, я вскину ружье, бабахну ему вслед. Захватив покрасневшие щеки ладошками, Вера следит за мной, попал я или нет. И каждый раз, когда промазываю, искренне радуется:
— Убежал, слава богу, зайчишка…
Но без нее подстрелю и принесу, радуется вместе со мной удаче, помогает снять шкурку.
Волчьи следы пугают ее, и я на них не указываю. В четырех местах поставлены капканы. Проверяем их. Она любит стрелять, но только не в живое существо. Например, в консервную банку или в ржавое ведро, найденное на берегу Хитрого озера. Обычно возвращаемся в домик уже в потемках. Вадим Петрович сидит за столом, поглядывает на нас поверх очков. Вера снимает свою меховую шапку, курточку, обшитую мехом. Падает на диван.
— Знаешь, где сегодня были, пап? За избушкой, где колеса от телеги валялись. Помнишь?
Рассказывает, что удалось нам увидеть.
Заехали с ней как-то в избушку к рабочим. Те ужинали. У печки возилась молодая сосковская женщина. Нас угостили чаем. Рабочие выпивали, я выпил с ними. Кто-то предложил выпить «за молодых». Шутка пробежала мимо ушей Веры. Вернувшись домой, она рассказала о нашем визите отцу, упомянув о тосте. Внешне Вадим Петрович похож на Штойфа, только крупней немного. А когда дочь смеется, чем-то приятно возбуждена, он напоминает мне Околотова в те минуты, когда дочь его смеялась, слушая мои рассказы. И еще я приметил: когда мы с Верой в комнате, Вадим Петрович хоть и сидит над бумагами, но почти ничего не делает. Изредка тайком, осторожно и внимательно следит за мной. Он неразговорчив. Сообщив что-нибудь из лесной жизни, уходит спать.
— Ну, дети, вы как знаете, а я на боковую. Ты, Верочка, нарушила свой режим, а я уж не буду…
Тихо играет приемник. Вера подбирает на аккордеоне полюбившуюся мелодию. Я лежу на диване с книгой в руках. Вера ничего не читает, она дала себе клятву еще год, полтора не носить очки. Если уж зрение не выправится, тогда вооружится ими. Ей надоест играть, откладывает аккордеон.
— Верочка, иди, почитаем.
Она садится рядом, сидит, поджав ноги, кутаясь в пуховый платок. На секунду отрываясь от строчек, поглядываю на нее. В ее темных зрачках отражается свет лампы. От теней глаза кажутся больше, печальней. Сама она делается как-то меньше, тоньше. И это уже не взрослая девушка, кажется мне, а девочка. Порой читаю вслух, но мысли мои далеко от смысла строчек. Какова жизнь! Вот сидит милое, молодое прекрасное существо, доброе и ласковое ко всему. Загнанное в эту глушь и даже читать не может! Хочется приподняться, погладить ее по головке, сказать что-то ласковое. И какая сила в ней: не хнычет, не убивается, не жалуется на судьбу. Может, это равнодушие к этой судьбе? Нет. Тогда б она не воспринимала с живостью ребенка любую новую жизненную мелочь. Не слушала б с таким вниманием то, что читаю.
— Постойте, постойте, Борис. Я забыла или пропустила, где впервые Куприн увидел Олесю?
Я листаю обратно. Нахожу это место, с удовольствием перечитываю. Время уже за полночь перевалит, а мы читаем. Вера несколько раз снимает нагар с фитиля лампы. Но вдруг я кладу книгу, Вера настороженно с испугом смотрит на меня, прислушивается.
— Ва-а-у-у-уу, — доносится завывание. Это волки. В сарае залаяла Дамка. Страха нет, но неприятный холодок пробегает по спине. Я улыбаюсь, говорю тихо:
— Опять пришли…
— Опять…
— У-у-р-рр…
И не понять, то ли ветер воет, то ли вой отдалился.
Беру ружье, заряжаю патронами с пулями. Потихоньку выхожу на крыльцо. Ветра нет, тихо и темно.
— У-у-у-у…
Опять там, правее от сарая, у самой опушки мелькают желтенькие огоньки. Зажмурясь на секунду, бью в их сторону из обоих стволов. Возвращаюсь в комнату. Вера стелит мне на диване. Вскоре спим…
Поговаривают, будто волков развелось много, а зайцев, дичи стало мало. Волки голодны, злы, наглы. Собак, которых не запирают на ночь, таскают прямо из деревни. В какую деревню ни заедешь, всюду говорят о волках. Частенько я и ночью путешествую здесь, но волков не встречаю. Но вот выпадает неделя, когда мне дважды приходится столкнуться с ними. Нужна подпись Баранова на процентовке по птичнику, председателя нет, уехал в Новогорск. Шуст прислал нарочного за процентовкой, он дожидается у меня в избе. Вечером узнаю, что Баранов вернулся. Спешу в Вязевку. От председателя иду по избам, где живут рабочие, собираю у них командировочные удостоверения, их надо переслать в бухгалтерию.
Днем мороз был градусов двадцать пять, к ночи стало холодней. Луна затянута мутной пеленой. Звонко, резко потрескивают столбы, изгороди, бревна изб. Огибаю озеро. Надо подняться на бугор, затем тропинка бежит через картофельное поле. Спускается в овраг к ручью. Через него мостик — два обледеневших бревна, по которым нужно быстро пробежать, иначе сорвешься в ручей. Потом опять бугор, а там уж видны огоньки клинцовских изб. Жик, жик — скрипит под ногами снег. Вот я пробегаю по мостику и застываю. Инстинктивно хватаюсь за плечо, ружья нет. Перочинный ножик — жалкое оружие! — но достаю его: по гребню бугра наперерез мне плавно, привидениями скользят шесть длинных волчьих фигур. Я беспомощен, я слаб. Только что был сильным человеком, но стоит сейчас этой одной твари заметить меня — и конец. Налетят, сшибут и разорвут. Ветер в мою сторону. В мою сторону ветер. Ветер будет на меня, это хорошо. Так я шепчу. Ну, бегите же, скорей пробегайте. Скорее. Надо носить с собой ружье. Последняя тень задержалась, стала короче. Я вижу два огонька, они смотрят: дерево я или нечто живое? Еще секунда, еще и я сорвусь с места, брошусь вперед, буду что-то орать, свистеть — вот что мне остается. Я уже качнулся, но огоньки исчезают. Все шесть волков огибают деревню, исчезают. Делаю шаг, второй. Бегу. Дыхание перевел лишь возле избы Васьчихи.
Это случилось в среду. В пятницу в деревню приехали Варварова, Иванов, сам Самсонов. Весь день разъезжаю с ними по деревням. В последнюю очередь посетили Заветы. Отсюда начальство уезжает, едва начало смеркаться, я задерживаюсь: водозабор для подачи воды в коровник сделали осенью у самого ручья, вытекающего из болота. Теперь ручей промерз, вода пошла где-то под снегом в другом месте. Покуда отыскали ее, стемнело. Бригадир предложил переночевать у него. Я бы остался. Но по дороге навстречу нам мчится в санях Полковник.
— Дмитрич, ты? — кричит он. — Садись! Эх, вороные! — визжит он, хотя в сани запряжена косматая лошаденка, пегая от инея. — Разудалые технические!
Я падаю в сани, и вскоре мы несемся уже по белой лесной дороге. Полковник в шубе, от него несет водкой, табаком.
— Где был? — кричу я.
— У Василисы! У сестры Василисы! Она малого женить собирается. Поедем на свадьбу, Дмитрич! Самогону нагнали, пива наварили! Э-э-эх!
Лошадь вдруг вскидывается на задние ноги, шарахается в стороны. Я вылетаю в сугроб. Метрах в пятидесяти от нас пронеслась громадная тень. Трещат кусты. Доносится какое-то повизгивание. Следом за громадной тенью мелькают по дороге одна за одной несколько маленьких.
— Лося гонят, — хрипит Полковник, — мать честная! Волки лося гонят, Дмитрич, вот случай-то! Ты с ружьем?
— Нет.
— Держи!
Он сует мне в руки топор. У самого в руках ружье.
— Бежим скорее, Дмитрич, они уже догоняют его. Пара штук наши.
— Куда ты?
— Бежим. За мной, за мной!
Путаясь в полах шубы, вприпрыжку Полковник бежит по дороге. Я не раз слышал здесь сказку о том, как волки гоняют лосей. Загнав зверя в глубокий снег, набрасываются и рвут. Но покуда гонят его, он отбивается мощными задними ногами. Там, где шла гонка, люди находят трупы волков. За одного волка платят пятьсот рублей. Старик сворачивает в лес, я за ним. Что-то темное ползет впереди Полковника. Грохочет выстрел.
— Нехай здесь лежит, — задыхается старик, — еще будут. Они его нагнали. Еще будут. — Он спешит дальше.
Бежать за ним надоедает, но не могу бросить старика.
— Полковник, стой! Куда тебя черти несут?!
Он исчезает в ельнике. Снег до колена. Поляна. Старик мелькает на ней и снова исчезает. Проваливаюсь в какую-то яму, ноги чувствуют воду. Загребаю руками снег, ползу на животе. Выбираюсь на твердое. Пробегаю метров сто и спохватываюсь — топора в руках нет. Ладно. Опять лес, теперь уже густой, в нем темно. Кажется, что бегу по свежему следу, но приглядываюсь — следы старые, притрушены снегом. Останавливаюсь, долго прислушиваюсь. Хоть бы выстрелил! Ведь загрызут же волки. Теперь чувствую, что ноги выше колен мокры. На мне короткая фуфайка, поверх нее натянут плащ.
— Полковни-ик! — кричу я.
— А-ва-ва-ва! — отвечает эхо.
Где-то справа и далеко хлопнул выстрел. Сворачиваю и бегу. Спина вспотела, а ноги начинают мерзнуть; коленям, ляжкам холодно. Опять проваливаюсь. Потом наталкиваюсь на свежие следы, ведущие в обратную сторону. Бегу по ним. Какое-то поле. Поднялся ветер, подбородок, щеки сводит морозом, а ног уже не чувствую. Развести громадный костер? Достаю спички, они сырые. Сколько времени я бегаю, не знаю. Взяв за ориентир луну, решаю бежать в одном направлении, куда-нибудь выбегу. От бега спина теплее стала, но вдруг останавливаюсь, запускаю руку в ширинку. Этого еще не хватало! Только этого не хватало, шепчу я, хватаю снега и начинаю тереть. Тру долго. Когда закололо, защипало, запихиваю в брюки рукавицу. Бегу. Вот под ногами твердо. Оглядываюсь, я на дороге. Слева что-то темное, это лошадь. Хоть бы не испугалась, думаю я, хоть бы не ускакала. Надо подать голос, но изо рта выползает только: «тл-тл-тл».
Мешком валюсь в сани. Медленно отматываю вожжи. До Вязевки должно быть не более четырех километров, но еду, еду, а по бокам лес. Вот мелькнула изгородь, изба, за ней вторая. Окна не светятся, значит, уже поздно. Сознание у меня работает прекрасно, а ногами пошевелить не могу. Возле избы Полковника лошадь остановилась. Выбираюсь из саней. Падаю, ноги сделались резиновыми и не держат. На четвереньках забираюсь на крыльцо, наотмашь бью по двери. Вот меня подхватывают под руки Полковничиха, еще кто-то. Теплый воздух избы паром обдает лицо.
— Да это Борис Дмитрич! — голос Полковничихи. — Родный, что с тобой? Где набрался так-то? Никак обмерз?
Меня раздевают. Стягивают сапоги. Перед глазами таз со снегом. Кто-то трет лицо, ноги. Вдруг вспоминаю про Полковника, рассказываю. Потом мне стало тепло, покойно, я вижу какой-то цветущий сад. А на земле снег, и на снегу стоит самовар. Две девушки в легких платьицах пьют чай…
— Дмитрич, Дмитрич!
Раскрываю глаза. Полковник смотрит мне в лицо. Он скалит два своих желтых передних зуба.
— Очухался? Вставай. Сейчас мы самый раз прогреемся…
За столом сидят Молочков и ветеринар Соснин. Ноги и лицо у меня горят, они намазаны гусиным жиром. Выпиваю стакан водки с чаем. Полковник притаскивает из сеней, держа за хвосты, двух волков.
— Тыща, Дмитрич. Половина твоя…
Узнаю: оказывается, я пробегал в лесу всю ночь, в деревню приехал под утро. Полковничиха сбегала к Молочкову, тот поднял Соснина. Они долго искали Полковника, оглашая лес криками, выстрелами. Едва вернулись на дорогу, увидели Полковника, волочившего по дороге за хвосты волков.
— Куда же ты делся, Полковник?
— Хе-хе, — скалит он два своих желтых клыка. Разве он где пропадет? Он нигде не пропадет. Он пристукнул второго волка, как и я, сбился со следа, угодил в какой-то овраг, из которого не мог выбраться. У него имелась бутылка самогона. Разложил костер, сидел, ждал меня.
— Молодые вы все еще… Молоды тягаться с Полковником?
Он подает мне очередной стакан.
— Еще пуншику пропусти.
Пунш — крепкий, сладкий и горячий чай наполовину с водкой. Лицо мое горит, кажется, будто оно распухает. Обмороженные щеки не позволяют даже поморщиться. Под говор мужиков забываюсь. Покуда дремлю, Полковник и Молочков поссорились.
Пересказав десятый раз о ночном происшествии, Полковник ударил себя в грудь, заявил, что он, Полковник, «ежедневно, еженощно» добывает себе деньги сам. Вот и за волками гнался, не убоялся смерти. Теперь получит тысячу рублей. Не то что некоторые; идут себе определенного числа на почту, получают по книжечке денежки. Это был намек на Молочкова, получающего пенсию. Захмелевший пенсионер не остался в долгу.
— Мы эту пенсию горбом заработали, — сказал он, ударив ладонью по затылку, — не то что некоторые другие…
— Что другие? — окрысился Полковник.
— А то.
— Что? Ну? Это ж ты об чем? — Полковник убрал руки за спину. Широко расставил ноги в растоптанных валенках. Жена его прошла с ведром в сени, бросив на ходу:
— Полно вам! Опять сцепились, кобели старые!
Я очнулся, лежу, наблюдаю за стариками.
— Собаками мы не были, — свирепо прошептал Молочков, — людей не разоряли, по лесам не гоняли. А ты, собака, в лес меня загнал, семьи решил, а теперь пенсии завидуешь? Позавидуй, что ж. У государства губа не дура, никому зря денежки не дает.
— Не дает? — взвизгивает Полковник.
— Не дает.
Лицо Полковника гримасничает, он часто, часто кусает губы. Сжав кулачки, бегает по избе, вдруг замирает.
— А отчего ж ты там не остался? Почему? Дознаться бы надо нам.
— Отработал свой век и приехал.
— Куды?
— В гнездо родное.
— A-а! В гнездо! По часам работал, а теперь и огород, и сенокос, и молочко дешевое? А не изволите ли обратно — с базара да с магазина пенсией питаться? А? В очередях и прочее?
— Это туда, где твой Семен с Фенькой-то? Сынок и дочка твои?
И Полковника будто что-то ужалило в поясницу. Присев, колотит кулачками по острым своим коленкам.
— Да, у городе мои дети. В голове у них мозг есть. Через то нужны там.
— А ты б заявил, посоветую тебе, сынка куда следует: мол, контра, из колхоза убег. Представьте его на поселение. А? Скольких ты упек таким манером? И сынка с дочерью туда же! Чего ж ты, Ефим?
— А! Дети мои в глазу сидят!
Полковник бросается на Молочкова, старики схватываются, кряхтят, приговаривая:
— А ты, собака, семьи меня решил!
— Мои дети в глазу сидят?
Соснин разнимает их, уводит Молочкова.
Некоторое время Полковник бегает по комнатам. Успокаивается на кровати. Вернулась Полковничиха. Ставит на лавку ведро с водой.
— Что, буянили, кобели?
— Да. Они часто так?
— Почитай, на месяцу раза два. Как нажрутся хмельного…
Днем пришла врач Цейхович. Осматривает меня, говорит, что дня через три можно выйти на воздух.
— Больничный нужно вам?
— Нет, не надо.
Вечером дремлю, а ночью сна ни в одном глазу. Полковник тоже выспался днем, бродит из угла в угол, что-то бормочет. Несколько раз уходит куда-то. Наконец возвращается с таинственно-воровским выражением на лице. Глядя на дверь, за которой спит жена, на цыпочках проходит к столу.
— Дмитрич, держи-ка, — подает он стакан.
От запаха самогона меня воротит.
— Не хочу, Полковник.
— Ну, бог с тобой, а мы сейчас…
Едва бутылка опустела и посуда убрана, он громко крякает, просит у меня папироску. Начинается знакомое мне представление.
— Еще так-то дак ух, как горазны все, Дмитрич, — снует он возле меня, то и дело поддергивая штаны, — посмотришь, просто одно великолепие в порядке вещей. А ума нет. Нету ума. Ум-то понять трудно, невозможно при обстоятельствах. Куда! Сила нужна. Ежели, например, оно не так поворачивается, ты его за рога и вороти, вороти! Правильно я говорю?
— Да ты о чем? Хоть раз растолкуй, о чем говоришь? — прошу я.
— A-а! Не понять? — он хитро подмигивает, стучит себя по лбу. — Вот здеся надо иметь. Да. А я все о том же, о том самом!
И он плетет, плетет черт знает что. На вопрос: «Правильно я говорю?» я уж киваю молча, лишь бы не кричал, не стрелял из пальца.
Но вот я начинаю дремать, и в словах Полковника улавливаю какой-то смысл. Прислушиваюсь. Он вспоминает прошлое. Когда-то он носил портупею и была у него шапка-кубанка. Штаны-галифе оттягивал шестизарядный бульдог. Вся деревня боялась его, Полковника! Никто не смел перечить ему! Скажет слово — шабаш! В любой избе рады были угостить его, а от девок отбою не было. И вот подгадила ему эта учительница, чтоб ей повылазило! Стерва, она приехала сюда и поселилась в домике при школе. Была она красива и чрезвычайно горда. Как ни подъезжал к ней Ефим со своей вежливостью, она не обращала на него внимания.
Как-то приехал в деревню хороший знакомый его из города, увидел учительницу и говорит: «Да это ж Ольга Корсакова, она же из дворянок. Ты, Ефим, проследи за ней».
Ефим намотал это на ус, вечером явился в домик к учительнице. Положил на стол бульдог, учинил допрос насчет ее прошлого и родителей. Припугнул основательно. Пообещал держать все в секрете, ежели она согласна иметь с ним любовь. Учительница вспылила, выгнала его и той же ночью ушла в город. Через три дня приехали укомовские работники, сняли Ефима с должности. Отобрали бульдог. И с той поры начальство будто забыло о нем. Даже на его письма и доносы не обращало внимания.
— И кабы из-за чего, Дмитрич, а то из-за бабы какой-то жизнь моя перевернулась…
Спустя сутки я покидаю избу Полковника. Он настойчиво сует мне деньги:
— Это твои, это твоя половина, Дмитрич.
— Не надо, не надо.
— Ну бог с тобой. Выпить захочешь, завсегда приходи гостем.
Проехал по объектам. Везде спокойно, люди работают. Зима даже чикинцев сделала спокойными, рассудительными. Чикарев после женитьбы остепенился. И на работу ходит в новых валенках, в аккуратной фуфайке. Бригада его перебралась жить в Вязевку, он живет в Клинцах. Мы с ним иногда вместе возвращаемся вечером домой.
— Ну, а как новая семейная жизнь? — спрошу его.
Скалит свои белые зубы.
— Кончим строительство, здесь останешься?
Удивленно смотрит на меня и закатывается еще больше, качая головой…
Проходит неделя, вторая — никаких происшествий.
Дважды побывал здесь Гуркин.
— Приехал, сын, к тебе… Как тут дела идут?..
Уезжая, добродушно ворчал:
— Давай, давай, сын, проворачивайся…
Даже посидели с ним за столом, выпили две бутылки водки. Водку вливает он в себя стаканами, как в бочку.
Вообще с начальством наладился контакт. Поспеловцы опять заработали большие деньги — по сто пятьдесят рублей в день на человека. Шуст предложил срезать по тридцатке: в управлении с фондом зарплаты туго. Для порядка я поупрямился и срезал. Расчет всегда можно сделать так, что рабочие не заметят грабежа. Себя утешаю: деньги взял не себе, сделал это не по своему желанию. Любой прораб, скольких я знаю, поступил бы так же. Я не карьерист, к деньгам равнодушен. Но вдруг получил премию, и это обрадовало меня. Премия дана не за мою работу, за выполнение плана по управлению. Ну и что ж? В том, что дело здесь продвигается медленно, я не виновен. И премия как раз говорит об этом. Как бы там ни было, к весне я разделаюсь с деревней, получу в Кедринске прорабство. Я буду прорабом. А расти по службе надо.
Маердсон в Кедринске уже назначен старшим прорабом. В тресте поговаривают, что он растет и, когда женится, остепенится, возможно, пойдет быстро в гору. Приятно, когда так говорят о тебе.
Но хоть у меня и контакт с начальством, я взял за правило: каждую неделю надо писать докладные на имя Гуркина. На тот случай, если в верхах серьезно заговорят о строительстве в деревне. Поднимется шум, начнут искать виноватого. Но его-то нет, а он должен быть. И его найдут, им окажется «стрелочник», то есть я. Но я не дамся. Со своей кипой бумаг я отобьюсь от кого угодно.
Стал я много читать. И меня больше интересует то, о чем говорится в книге, нежели окружающая жизнь. Она, эта жизнь, есть что-то само собой разумеющееся, не зависящее от меня. Течет и течет широким потоком, по которому нужно плыть озираясь, чтобы не зацепиться за корягу или не наскочить на мель.
Чувствую, как странно я жил до сих пор. Испытывал какую-то неудовлетворенность. Порой наваливалась тоска, места себе не находил. Будто искал что-то важное, очень нужное. Лежащее где-то поблизости, но пока что невидимое. Глупо. Глупо искать что-то невидимое, пропуская мимо жизнь. Она дается один раз, прожить ее надо без ошибок. Да, да. Человек общества не должен ошибаться. Общество может позволить себе такую роскошь. А вместе с ним уж и я. Вина за ошибку ляжет на миллионы таких, как я. Результат ее распылится, унесется временем в прошлое, и никто в отдельности не пострадает. Нужно меньше рассуждать, а знать свои обязанности. И для их исполнения выработать какие-то принципы. Например, утром я говорю себе: сегодня должен сделать то-то и то-то. И если, скажем, в Вязевке не окажется свободных лошадей с санями для вывозки бревен к дороге, я напишу об этом в докладной. Даже потребую от Баранова справку «в том, что колхоз не в состоянии» и так далее. И уже теперь, когда я, сытый, румяный и сильный, выезжаю утром из Клинцов на объекты, настроение у меня прекрасное. Мне тепло, уютно в своем полушубке. И кажется, будто так же тепло, уютно и вот этим кустам, деревьям, избам, заваленным снегом…
«Братья» вдруг покидают деревню. В обеденный перерыв бригадир их находит меня в правлении. Подает пачку заявлений для подписи.
— Почему вы уходите? — спрашиваю я.
— Так… Холодно здесь, глухо. Махнем куда-нибудь на юг.
— Ну что ж…
Бригада сдает инструменты, спецовки. В этот же вечер уходит в Кедринск. На следующий день она уже в пути, поезд уносит ее куда-то. А спустя сутки, вечером, в Клинцы прибегает нарочный от Баранова. Говорит, чтобы я шел немедля в правление.
— Зачем?
— Что-то с Молочковым случилось.
— Да я при чем?
— Не знаю. Рабочие ваши что-то сделали Молочкову. — И мальчишка несется обратно.
Седлаю Зайца.
В правлении народу битком. Шумно. За столом, в центре, сидит Молочков, лицо его красно и распухло. Даже глаз не видно. Когда он хочет разглядеть что-то, пальцами раздвигает веки.
Участковый Верейский, Баранов и Соснин сочиняют протокол. Оказывается, накануне отъезда «братьев» Молочков заметил, как они выносили из его сарая банки с консервами. Он простодушно поинтересовался, откуда взялись эти банки.
— Сие есть великая тайна, — ответили ему.
Тотчас привязали старика к кровати, оставив свободной левую руку, которой он слабо владеет. Уж не таясь, принесли водки, сыру. Устроили пир, угощали старика. Один из «братьев» читал стихи, потом трое разыграли у печки какую-то пьесу. Утром повесили на двери замок, а по деревне пустили слух, будто Молочков ушел в Заветы к внучке. Двое суток старик звал на помощь, пил водку и пел песни. Выручила его Акиньевна, учуявшая странные звуки, доносившиеся из избы соседа.
Вот протокол составлен, я тоже должен подписать его. Подписываю: ни на меня, ни на управление тень не может упасть, ибо «братья» у нас уже не работают.
— Борис Дмитрич, ты куда сейчас? — Это говорит мне Баранов.
По его голосу и глазам понимаю, что он хочет пригласить меня к себе на вечерок. Совсем недавно он сторонился меня, а я с удовольствием поговорил бы с ним. Теперь не хочется. Зачем? Целый вечер видеть перед собой худое, обросшее лицо с круглыми провалившимися глазами. Слушать о том, что кормов опять не хватит в этом году. И в марте придется кормить скот березовыми ветками. Значит, часть коров надо пустить под нож. А молодняк будет болеть и гибнуть. А ведь под снегом много полян осталось нескошенными. А государство обещало дать кормов. Но на Украине случилась засуха, уродило худо. И государство ничего не дает. Будет он говорить о том, как народ приноровился уходить в город: детей уже с десяти лет отсылают к родственникам, знакомым. Дети ходят в городские школы, потом получают паспорта. И в деревне остаются те, кто поленивей, глупее, нерасторопней…
Я буду чокаться с Барановым, смотреть на него и думать о чем-нибудь своем. Скучно. Ему уже скоро пятьдесят. Пора бы кончить рассуждать. По-моему, либо уезжай отсюда, либо действуй как-то.
Выработай какие-то принципы, соответствующие действительности, и действуй вовсю. Хоть ори на всех, штрафуй людей за любой проступок, ну как хочешь поступай, но действуй. Или надо ехать к Волховскому, подружиться с ним… Впрочем, какое мне дело до его образа жизни. Каждый должен знать свои обязанности.
— Еду домой, Алексей Михалыч, — отвечаю я председателю, — наряды надо закрывать.
Но еду я не в Клинцы. У развилки придерживаю Зайца. Махнуть в Кедринск?
Восьмой час. Маердсон и Мазин, конечно, уже чем-то заняты. Навестить Николая нет особого желания. Краевский покинул Кедринск. Люся осталась навсегда с Николаем. Живут они славно. А вот ехать к ним не хочется. Николай много читает, даже ведет какие-то записи. Когда заявишься к нему, набрасывается с вопросами о работе, жизни деревни. Да с таким видом, будто ему страшно интересно, важно, очень нужно знать всякие житейские мелочи. Потом ударится философствовать.
Рассуждать, спорить, я думаю, нужно тогда, когда предчувствуешь какой-то результат спора. Философствовать можно о том, что тебе хорошо известно, чем ты живешь. Николай же толкует на отвлеченные темы. Последнее время начинает обычно с утверждения: просвещение, то есть образование, еще не дает права человеку называть себя культурным. Можно быть технически грамотным, создавать уникальные машины и оставаться скотом.
Мы уже не студенты. И нужно бы разговаривать спокойней. Он же то и дело выпрыгивает на диван из коляски, затем снова садится в нее. Катается и слова не произносит, а будто выплевывает в меня, будто я в чем-то виновен.
— Человека воспитывают традиции! — кричит он. — У нас есть революционные традиции, военные, а интеллектуально-этических традиций нет, они только зарождаются. Мы должны вырабатывать их в себе! Их создают поколения!
И сразу набрасывается на литературу. Дескать, современная литература в своей массе трактует вечные вопросы о добре, зле, любви с точки зрения участкового милиционера. Бьет муж жену, скандалит, пьет — он негодяй. Живет тихо, мирно, не шатается по улицам под звуки собственной песни — хороший человек. Отношение к действительности, продолжает он, — коренной вопрос в любой современности. Любая современность, если она прогрессирует, — борьба. И вот кому и с кем у нас бороться — это неизвестно. Например, у нас появилось много книг, в которых крошат на чем свет стоит директоров — карьеристов, бюрократов. На последней странице писатель обязательно прихлопнет негодяя. Но писатель не участковый милиционер. Он врач, ему нужны причины. Да и какое ему дело до директора, когда при любом заводе имеются профкомы, завкомы, то есть общественность, которой ума не занимать, и она без писателя разнесет в клочья любого негодяя. Если же сидит такой негодяй и его не несут по кочкам, значит, общественности нет. А вокруг него сидят просто чиновники. И в первую очередь их надо гвоздить, а не директора…
Вот так он будет рассуждать, кричать. А я буду смотреть на него и думать: «Это ты, братец, философствуешь потому, что ты калека и делать тебе нечего. А намотался бы целый день, как я, по деревням, небось не пел бы таких песен».
Понятно, мне надоест слушать друга. Я буду подавлять зевки, прислушиваться, как Люся стучит посудой на кухне. Вот она накрывает на стол, на нем появляется графин с водкой. Я оживляюсь. Но и за столом оживление недолго владеет мной. Люся по-прежнему приветлива со мной, даже ласкова. Я чувствую, что присутствие мое приятно ей. Она, так же как и Николай, в разговоре со мной искренна. И вот это-то меня смущает: я и ей не могу отвечать искренностью. Когда-то в Москве ее обманул курсант военного училища. У нее был ребенок, она сошлась с военным моряком. И этот, по ее словам, оказался негодяем. Потом встретился пожилой Краевский. Теперь она покинула его. Женщина с таким прошлым не внушает мне уважения к себе. Я авансом уже не верю ей. «Пройдет год-два, — думаю я, глядя в ее красивые глазки, на ее свежие красивые губы, — встретишь ты кого-нибудь и бросишь Николая».
Сидеть у людей за столом, беседовать с ними, шутить, а думать о них бог знает что — гадко…
Дергаю правый повод, Заяц сворачивает на просеку. Еду к лесничему. В этот вечер мне стало ясно окончательно, почему меня тянет в этот домик.
За чаем я рассказал между прочим, что в субботу в Кедринске состоится открытие Дома культуры. Заводоуправление наняло оркестр, будет много народа.
— Вы поедете? — спросила меня Вера.
— Да, Верочка, пожалуй…
Вера больше ничего не спросила. После ужина уводит отца в спальню, о чем-то шепчется с ним. Когда он возвращается, я сижу на диване, смотрю газету. Она присела рядом.
— Вы обязательно поедете, Борис?
— Куда, Верочка?
— На открытие.
— Обязательно.
— Знаете… а меня не могли бы вы взять с собой?
Я отложил газету.
— Конечно, Вера! Поедем! Вадим Петрович?
— Да, да, — кивает он. — Поезжайте. Зайца оставь мне, а в моих санках поезжайте.
Весело обсуждаем этот вопрос. Остановимся у меня в комнате. На вечере долго не задержимся, уйдем пораньше, к полночи успеем вернуться. Если же погода испортится, ночью не поедем, переночуем у меня.
— Ох, господи, я давно собиралась съездить в Кедринск!
Вера исчезает в спальне, вскоре появляется в туфельках, в узком черном платье. Волосы собраны пучком на затылке. Не глядя на нас, она прошлась по комнате. Останавливается передо мной.
— Ну, как?
Я увидел перед собой не милую красивенькую девочку, а взрослую девушку. Замечаю, как осторожно взглянул на меня Вадим Петрович. Мне становится неловко, будто меня уличили в чем-то гадком. Чтобы скрыть смущение, я потягиваюсь, даже стараюсь зевнуть.
— Очень, очень хорошо, Вера.
— Вот так я и поеду. Хорошо? Только знаете, Борис, давайте отрепетируем глаза. Надо, чтобы они не очень щурились и не очень раскрывались.
Остаток вечера занимаемся репетицией.
— А так?
— Чуть пошире открой.
— Так?
— Так хорошо.
Когда отец и дочь затихли в спальне, я лежу на диване, заложив руки под голову. Я понял, что люблю Веру. Но каково ее отношение ко мне? Долго я лежу, прислушиваюсь к тишине. Спит ли она? Нет? Засыпаю с мыслью, что завтра пораньше разделаюсь с делами, приеду в домик, когда Вадим Петрович еще будет в лесу. Но пораньше приехать не удается. Волховской не пожелал, чтобы зимой сделали малярные работы в коровнике. Принимает его без малярки. Он, Алексей и еще четверо мужиков — комиссия. Все они прекрасно знают, как велась работа, но для порядка несколько раз обходят молча вокруг строения. Топчутся у кормушек, измеряют ширину стойла. Наконец приходят в молокосливную. Здесь собрались все поспеловцы возле печки.
Волховской опускает свою тушу на скамейку. Мужики присаживаются напротив.
— Ну, так что? — говорит Волховской, помолчав, глядя на членов комиссии.
Алексей переступил с ноги на ногу и молчит. Мужики переглянулись.
— Какие будут замечания?
Молчание.
— Что ж молчите? Семен?
Семену лет пятьдесят. Он снимает зачем-то шапку, приглаживает волосы ладонью. Снова покрывает голову.
— Да что ж, Николай Никитич, что ж тут говорить… Все сделано согласно проектам.
— Проектам, проектам! Нравится коровник? Принимаем?
Семен усмехнулся.
— Так ведь и денежки заплачены. Чай не даром сделано. А перегонять скотину надо из старого. Там пол совсем просел.
— Значит, принимаем?
— Ну как же…
— А с какой оценкой? Ему, — председатель кивает на меня, — в акте оценку поставить надо.
— Хорошо сделано, чего ж…
— Ну так и решили. Пойдемте акт писать. А вы, ребята, в двенадцать приходите в правление. Колхоз дает обед в честь, так сказать, окончания строительства коровника. — Это он говорит плотникам.
Члены комиссии разом оживились. Еще раз осмотрели коровник, спешат распорядиться о перегоне скотины.
Женщины и девушки несут к правлению кастрюли, тарелки. Узнаю, что колхоз зарезал для угощения кабана и теленка. Акт подписываем в избе Волховского. А ровно в двенадцать я сижу в правлении за столом между Волховским и Алексеем. Двое парней наливают из огромной бутыли в графины спиртное, девушки расставляют графины на столе, Волховской поднимается, он благодарит строителей за хорошую работу. Надеется, что плотники проработают в колхозе еще и так же хорошо. В ответном слове я говорю: строители, конечно, хорошо поработали. Однако если б колхоз не приготовил материалы, не помогал бы нам, то стройка затянулась бы.
Все выпили. Минут десять спустя Волховской наклоняется ко мне:
— Пошли, Картавин, в мою избу. Здесь нам теперь делать нечего. А там поговорим.
Мы уходим. В избе председателя никого нет, но стол накрыт.
— Убежали, должно быть, к Насте… Садись…
У него две взрослые дочери, а матери нет, она умерла три года назад. Дочки в том возрасте, когда отец, как наставник в некоторых вопросах, не пригоден. Он поговорил со своей сестрой Настей, и та просвещает дочерей. Волховской улыбается.
— Ну, мы и одни как-нибудь посидим…
Я спрашиваю, чем там угощают плотников — самогоном?
— Крепкая штука?
— Очень.
— Нет, это не самогон. — Он задумывается, глядя в окно. Вдруг жирное тело его трясется от смеха. Ударяет ладонью по столу.
— Ладно, начну с этого…
Его колхоз не играет ни в какие бирюльки с государством. С государственными учреждениями у них чисто деловые отношения. Колхоз никогда у государства ничего не просил и не просит. Но и себя грабить не позволит. В сорока километрах отсюда расположен небольшой спиртзавод. Колхоз поставляет ему почти по себестоимости продукты. За это заводик отпускает «Красному пахарю» спирт и тоже по себестоимости.
— Считай, у меня пятьсот дворов. Каждый двор на праздник обязательно купит литр водки, который стоит в магазине пятьдесят рублей. В году пусть десять всяких праздников. Это, значит, за один год из колхоза уплывет двести пятьдесят тысяч рублей.
Волховской молча посмотрел на меня.
— Одна такая сделка с заводиком оставляет в моем колхозе двести тысяч рублей в год. Да. — Он опять трясется от смеха. — Ну это ладно… Я вот о чем хочу с тобой поговорить…
Этот человек предлагает мне остаться жить в его колхозе. На первых порах я буду получать те же деньги, что и в тресте. А там видно будет. Продукты у него дешевы. Если женюсь, колхоз построит мне избу. Он, Волховской, давно мечтает о таком специалисте, как я. Чистый годовой доход колхоза колеблется от восьмисот тысяч до миллиона. Нужно связать деревни хорошими дорогами, создать несколько строительных бригад, разработать генеральный план центральной деревни, которую надо построить вместо Хомутовки. Провести водопровод, построить плотину… Придется, конечно, нанимать людей со стороны. Работа большая, заниматься ею должен человек с образованием.
Часа два я слушаю этого удивительного человека.
— И заметьте: вы будете полным хозяином, — он складывает руки на животе, — вот я и высказался. Это в основных чертах. Суть, думаю, вам понятна, объяснять детали сейчас не буду. Ответа сразу не прошу. Подумайте. А теперь, извините, я пойду прилягу. Что-то тяжело стало. А вы один угощайтесь.
Прижав ладонь левой руки к груди, он уходит в другую комнату.
— Только серьезно подумайте…
Сижу один. Наливаю в стакан. Пью. Вот это да. Вот это предложение. Надо подумать. Действительно, надо серьезно подумать. Поеду сейчас в Вязевку, потом загляну в «Искру». По дороге решу этот вопрос. Плохо, что много выпил. Пожалуй, в таком состоянии нельзя принимать решений. А заманчиво. Среди леса, в глуши, выстроить деревню-городок. Воображение рисует этот городок с чистыми улицами, домиками. Канализация, водопровод… Впрочем, ладно, подумаю после. Пошатываясь, выхожу во двор. В правлении поют, играет радиола. С трудом забираюсь на Зайца. Выехав за деревню, чувствую, как сильно кружится голова. В таком состоянии нельзя ехать к рабочим. И к Вере не нужно ехать в таком виде. Еду в Клинцы. Всю дорогу не выходит из головы предложение Волховского.
Ночью мне снится, будто я уже пожилой и почему-то бородатый вожу какую-то делегацию из деревни в деревню по отличным дорогам, обсаженным какими-то причудливыми плодоносными деревьями. Показываю конюшни, плотину. Захожу с восхищенными незнакомцами, щелкающими аппаратами, в светлые дома. В каждом доме хозяйка приветливо нас встречает, приглашает к столу. И все улыбаются… Но проснувшись утром следующего дня, полежав и подумав, решаю отказаться от предложения Волховского. В двадцать пять лет запереться в лесу? Нет, пожалуй, не стоит. Рано. Да и к чему. И вчерашние мысли кажутся мне несерьезными, детскими.
В субботу, в начале третьего, собираемся с Верой в Кедринск. Вадим Петрович запряг в сани свою кобылку. Застеливает полость саней медвежьей шкурой.
Над головой небо чисто, но с северо-запада наползает темное облако. Часто именно оттуда налетают метели. Вера укладывает в сумку свое платье, туфельки, еще что-то. Надевает валеночки, шубку.
В сенях Вадим Петрович задерживает меня.
— Борис Дмитрич, — он тихо шепчет, — я попрошу вас: присмотрите за Верочкой. Поберегите ее.
По просеке мы проехали шагом. Через Хомутовку пролетаем так, что сани в разбитой колее то и дело идут вразнос. Потом мчимся в туннеле, образованном стволами деревьев, их ветвями, заваленными снегом. А вырвавшись из туннеля, попадаем в настоящее снежное месиво. Здесь пурга. Покрываю Веру медвежьей шкурой, смотрю в глаза девушки, они слабо улыбаются.
— Не страшно? — кричу я.
Губы ее шевелятся, она качает головой. Промелькнула человеческая фигура, стоящая у дороги. Мне кажется, это Полковник. Теперь не видно ни леса, ни неба. Лишь у самого Сорокина вырываемся из снежного месива. На шоссе спокойно. Гудят машины. Я не ожидал, что, как мальчишка, почувствую неловкость, оставшись наедине с Верой. Буду отыскивать тему для разговора. Молча распрягаю лошадь, молча уходим с Верой в дом.
— Вы здесь и живете? — говорит она, останавливаясь на середине комнаты, оглядывая стены.
— Да. Собственно, не живу, а изредка ночую. Замерзла?
— Нет.
Помогаю снять шубку.
— Ты будешь переодеваться?
— Да. Утюг есть у вас?
Приношу от соседа утюг.
— Переодевайся, а я сейчас…
— Вы куда?
— В магазин. Я быстро. Надо поужинать.
Ей надо освоиться, пусть подольше побудет одна. Иду в самый дальний магазин. Вернувшись, застаю ее сидящей на койке. Она переодета.
— Это что?
— Это вино, это водка. Здесь закуска. Отметим с тобой удачный приезд.
Я рассказываю о своих соседях, о том, как и где жил до получения этой комнаты.
Водка развязала мой язык, к тому же я выбрал спасительный шутливый тон в разговоре, и это выручает. По дороге в Дом культуры мы весело болтали. У дверей толпа — слишком много желающих попасть на открытие. Но Маердсон сегодня ходит в дежурных, он проводит нас через черный ход.
Горят огромные люстры, гремит оркестр. Должно быть, Вера забыла про глаза, про репетиции с ними. И когда знакомлю ее с товарищами, когда танцуем, улыбка не сходит с ее лица. Но вот в перерыве между танцами я делаю глупость. Мы поднялись на балкон, прошлись вдоль перил. Подходят Латков и Маша. Я оставляю Веру с Машей, ухожу с Латковым покурить. Возвращаясь, вижу, как Маша что-то рассказывает Вере, указывая рукой в зал. Когда молодожены уходят, Вера берет меня за руку, сильно сжимает. В глазах у нее слезы.
— Что такое, Вера?
— Уедемте отсюда, Борис.
— Да что случилось?
— Мне плохо.
Покуда одеваемся, она крепится. На улице разрыдалась. Дрожа и всхлипывая, глотая слова, говорит, что она слепая. С людьми быть ей нельзя. Ей говорят, показывают, она кивает, но ничего не видит. Успокоилась Вера только когда уложил ее в постель.
— Напрасно меня взяли, — сказала она, печально улыбнувшись, — вы где будете спать? Не уйдете?
— Нет, Верочка, не уйду. Я вот здесь себе постелю.
Лицо ее осунулось, побледнело. В глазах была слабость. Когда она уснула, губы ее продолжали что-то шептать. Я сидел за столом, смотрел на нее. В горле у меня застрял комок, на глазах были слезы. Долго сидел неподвижно. Потом допил водку и лег спать. На улице светало.
Проснулись мы поздно, часов в одиннадцать. Я приготовил чай, мы позавтракали и уехали в деревню.
Прошло шесть лет. Кедринск я покинул весной того года. С Верой мы поженились в феврале. Помню, как она, я, Вадим Петрович, Маердсон и Мазин ездили в Новогорский загс. На обратном пути нас захватила метель, мы сбились с дороги, долго плутали по лесным просекам. И к домику приехали в полночь. Домик светился; было шумно, весело. Наверное, со дня его сотворения он не знал такого веселья. Да и я, пожалуй. Среди ночи метель улеглась. Вадим Петрович, гости тоже уснули. Мы с Верой оделись, вышли из домика, долго ходили, хрустя снегом, по дорожке от домика до просеки. От любви и вина я был сам не свой. Я не чувствовал, что я старше Веры, я был мальчишкой.
Месяц мы прожили чудесно. Работа в деревне подходила к концу; я начал хлопотать о квартире в Кедринске. Вадим Петрович собирался осенью вернуться в Ленинград писать какую-то научную работу. Как вдруг случилось несчастье. Однажды Вадим Петрович не приехал из леса обедать. А под вечер пришел плотник из бригады Жукова. Сообщил, что Вадим Петрович в вязевской больнице. Вот что случилось. Километрах в пяти от Хомутовки, на просеке, он наскочил на волчью свадьбу. Лошадь понесла. На повороте легкие санки опрокинулись. Вадим Петрович вылетел в снег, но вожжи не выпустил, боясь остаться на съедение волкам. Только в Хомутовке он разжал пальцы. Лицо его было изуродовано, одна нога сломана. А главное — разбит череп. Пролежал он в больнице две недели, никого не узнавал. Его отвезли в кедринскую больницу, там он скончался. Похоронили мы его на вязевском кладбище.
После этого жить в лесу Вера не могла. Я срочно передал объекты молодому мастеру, перебрался в Кедринск, где получил квартиру. Но Вера и здесь тосковала. Вернувшись с работы, я заставал ее сидящей на диване. Обхватив колени, положив на них подбородок, она молча смотрела перед собой. При моем появлении она оживлялась, весь вечер была весела. Слушала музыку по приемнику, играла сама. Но дни она проводила в одиночестве. Она сильно исхудала.
Я взял отпуск, мы побывали в санатории, у моих родных.
Когда вернулись в Кедринск, она слегла в постель.
Врачи предлагали ей лечь в больницу на исследование, так как никакой болезни в ней не находили. Вера наотрез отказалась. Гуркин продлил мне отпуск, и я не оставлял Веру одну. Но она, как говорится, таяла на моих глазах. Умерла она в одно воскресное утро. Оно было солнечное, теплое. Я ушел на кухню сварить кофе, а когда принес его, она уже не дышала. Страшно вспоминать об этом…
Живу я сейчас в средней полосе России. Работаю главным инженером строительного управления. Я женат, у меня двое детей. Уже точно известно, что осенью меня назначат главным инженером треста. Каждый год я езжу в Кедринск и в Вязевку. Кладбище в Вязевке возле соснового бора. Я приношу цветы на две могилки, окруженные железной оградкой. Подкрашиваю ее. Посидев на скамеечке, ухожу в деревню. Баранова здесь давно нет, он уехал в Ленинград. О нем вспоминают так:
— А вот тот, которому кровь чужую дополняли.
Или:
— Да который с Настей-пекарем-то жил…
После Баранова побывало здесь четыре председателя. Теперь этот пост занимает ветеринар Соснин. Он располнел, лицом немного распух. Жалуется:
— На двести вязевских дворов у меня приходится всего пятьдесят три работоспособных человека!
Акиньевна померла, изба ее заколочена и скоро развалится. Молочков помер. Он замерз зимой по пути в Заветы. Получив пенсию, выпил и отправился в Заветы к внучке. На полпути присел под сосной, отхлебнул из бутылки и заснул вечным сном.
Полковник жив. Он все тот же. Вставил себе челюсти, мечтает прожить еще лет двадцать. Как и шесть лет назад, будучи под хмелем, бегает по деревне, стучит себя в грудь. Грозит чем-то односельчанам.
В Клинцах стало еще тише. Хозяйка моя, Сергеевна, года два назад погорела. Говорит, будто виновата в этом Васьчиха. Но доказательств нет, и Васьчиха спокойно живет. Сергеевна поселилась в избе Вани, который помер. Сергеевна живет с его старухой.
Жив и дедко Серега, он еще крепок, только больше ссутулился. Жива и Мотя Раевская. Маруся ее живет в Кедринске, работает на заводе. Чикарев бросил ее: отслужил срок в армии и уехал куда-то на восток.
Аленкин по-прежнему бригадирствует. Год назад с ним случился грех: выехал с Яшей сеять овес. Да кто-то приметил: ездят они по полю с пустой сеялкой. Заговорщиков накрыли. Оказалось, они семенной овес пропили. Полгода Аленкин ходил в разжалованных, но потом его снова поставили бригадиром, послали в область на курсы.
Пожив день-два в деревне, еду в Кедринск. Это уже настоящий город, завод дымит круглые сутки. Много детишек, молодежи. Останавливаюсь я у Николая. Люся работает на заводе. Он ходит с костылями, хорошо управляет машиной: у них своя машина. Работает Николай инженером в ремонтно-строительной конторе. У них ребенок — девочка.
Федорыч умер два года назад. После работы зашел в прорабскую, выпил перцовки, положил голову на стол и больше не поднял ее.
Маердсон и Мазин уехали куда-то под Котлас, там новая стройка. Латковы здесь. Околотов с женой уехали на родину в Белгородскую область, куда направили работать после окончания института их дочь.
О ком еще сказать? Молдаванку я не встретил ни разу. Видимо, она уехала вместе с трестом, который перевели куда-то в Кулунчу. А может, она путешествует где-нибудь.
Переночевав у Николая, я уезжаю домой. А через год опять еду в эти места на несколько дней. Жена не понимает, что может меня тянуть сюда. Я ей не объясняю.
— Хочется, — говорю я.
1
От автора: роман написан еще в 1965 г., но все мои попытки напечатать его не увенчались успехом.
(обратно)




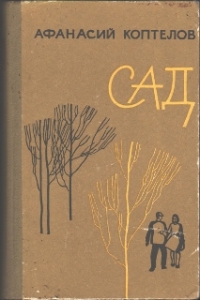





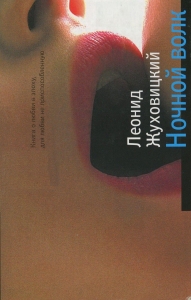
Комментарии к книге «Армия без погон», Владимир Дмитриевич Ляленков
Всего 0 комментариев