Джордж Элиот Адам Бид
Перевод с английского журнала «Отечественные Записки», 1859–1860
© Издание, оформление. ООО Группа Компаний «РИПОЛ классик», 2017
Книга первая
I. Мастерская
Египетский чародей с одною только каплею чернил, которую он употребляет как зеркало, предпринимает открыть всякому нечаянному посетителю обширные видения прошедшего времени. То же самое предпринимаю и я относительно вас, читатель! С каплею чернил на конце моего пера я представлю вам просторную мастерскую мистера Джонатана Берджа, плотника и строителя в деревне Геслоп, в том виде, в каком она находилась восемнадцатого июня, в лето от Рождества Христова 1799-е.
Послеобеденное солнце сильно пекло пятерых работников, трудившихся над дверьми, оконницами и панельными обшивками. Запах соснового леса, распространявшийся от кучи досок, собранных за открытою дверью, смешивался с запахом кустов бузины, цвет которых, белый как снег, виднелся у самого открытого окна, находившегося с противоположной стороны мастерской; косые солнечные лучи светились сквозь прозрачные стружки, поднимавшиеся от твердого рубана, и ярко освещали тонкие нитки дубовой панели, которая была прислонена к стене. На куче этих мягких стружек устроила себе удобную постель обыкновенная серая овчарная собака и лежала, уткнув нос между передними лапами и по временам нахмуривая брови, чтоб бросить взгляд на самого высокого из пяти работников, вырезавшего щит в средине деревянной каминной доски. Этот работник обладал сильным баритоном, покрывавшим звук рубана и молотка; работник пел:
Awake, my soul, and with the sun The daily stage of duty run; Shake off dull sloth…[1]В это время понадобилось снять мерку, что требовало более сосредоточенного внимания, и звучный голос изменился в тихий шепот; но вдруг он раздался с новою силою:
Let all thy converse be sincere, Thy concience as the noonday clear[2].Таким голосом могла обладать только широкая грудь; а широкая грудь принадлежала мускуловатому человеку футов шести росту. Его спина была так пряма, голова покоилась на плечах так ровно, что когда он приподымался для того, чтоб лучше обозреть свою работу, то походил на стоящего вольно солдата. Рукав, засученный выше локтя, обнаруживал руку, которая, очень вероятно, могла б выиграть приз, назначаемый за подвиг, доказывавший силу, между тем как длинная гибкая кисть руки с широкими кончиками пальцев, казалось, годилась бы для художественных занятий. По своему высокому росту и крепкому сложению Адам был саксонец и оправдывал свое имя[3]; но черные, как смоль, волосы, цвет которых выступал еще более при светлом бумажном колпаке, и проницательные черные глаза, резко оттеняемые выдававшимися вперед и подвижными бровями, свидетельствовали и о присутствии кельтической крови. Он имел большое лицо с крупными чертами, которое нельзя было назвать красивым; но когда оно было спокойно, то имело выражение лица добродушного, честного человека.
С первого взгляда легко было узнать, что следующий работник был брат Адама. Он был почти одного с ним росту, у него были те же черты лица, тот же цвет волос и такое же сложение; но это самое фамильное сходство делало еще очевиднее замечательное различие, существовавшее в выражении лица и в фигуре обоих братьев. Широкие плечи Сета были несколько сгорблены, глаза серые; брови выдавались вперед не так, они не были столь подвижны, как брови брата; в его глазах выражалась не проницательность, а доверие и кротость. Он сбросил свой бумажный колпак, и вы видите, что его волосы не густы и не жестки, как у Адама, а тонки и волнисты, так что вы вполне можете различить очерк его лба, выдающегося над бровью.
Ленивцы были уверены, что всегда получат от Сета какую-нибудь медную монету; но они никогда не обращались за тем же к Адаму.
Концерт инструментов и голоса Адама был наконец прерван Сетом. Последний, подняв дверь, над которою трудился с напряженным прилежанием, поставил ее к стене и сказал:
– Ну, вот, я на сегодня кое-как и покончил с моею дверью.
Все работники оставили работу и взглянули на говорившего. Джим Сольт, дюжий рыжеволосый детина, известный под именем рыжего Джима, перестал строгать, и Адам с чрезвычайным удивлением обратился к Сету:
– Как, неужели ты думаешь, что кончил дверь?
– Конечно, – может быть, сказал Сет в свою очередь с удивлением, – чего же еще недостает в ней?
Громкий смех, которым разразились другие три работника, привел Сета в смущение. Адам не участвовал в общем хохоте; но на лице его все же появилась легкая улыбка, и он более мягким тоном, нежели прежде, сказал:
– А ты и забыл панели.
Все снова залились хохотом. Сет ударил себя руками по голове и покраснел до самых ушей.
– Ура! – воскликнул небольшого росту живой малый, которого звали Жилистый Бен, выскочив вперед и схватив дверь. – Мы повесим дверь в конце мастерской и напишем на ней: «Работа Сета Бида, методиста». Послушай, Джим, подай-ка сюда горшок с красной краской.
– Стой! – сказал Адам. – Перестань дурачиться, Бен Кренедж! Ты сам, может быть, сделаешь когда-нибудь такую же ошибку, как же ты будешь смеяться тогда?
– Ну, поймай-ка меня в этом, Адам! Еще пройдет довольно времени, пока моя голова будет набита учением методистов, – сказал Бен.
– Зато она часто бывает наполнена винными испарениями, а это еще хуже.
Несмотря на то, Бен взял уже в руки горшок с красною краской и собирался писать свою надпись, рисуя предварительно букву С по воздуху.
– Полно, говорю! – воскликнул Адам и, положив свои инструменты, шагнул к Бену и схватил его за правое плечо: – Оставь его в покое, или я вытрясу твою душу из тела.
Бен содрогнулся в железных объятиях Адама; но, несмотря на свой небольшой рост, он был очень задорен и не думал уступить. Левою рукою он вырвал кисть из обессиленной правой руки и сделал движение левою рукою, как будто желал совершить ею свой подвиг. В одну секунду Адам повернул его кругом, схватил за другое плечо и, толкая перед собою, так сказать, пригвоздил его к самой стене. Но тут вступился Сет:
– Оставь, Адам, оставь. Бен только шутит. Ведь он имеет право смеяться надо мною… Я сам должен смеяться над самим собою.
– Я до тех пор не оставлю его, пока он не даст мне обещания, что не тронет двери, – сказал Адам.
– Полно, Бен, – сказал Сет убеждающим тоном. – Не станем заводить ссоры из-за пустяков. Ты знаешь, Адам непременно захочет поставить на своем. Ты скорее повернешь телегу в узком месте, нежели заставишь Адама уступить. Скажи, что ты более не тронешь двери, и кончи эту историю.
– Я вовсе не боюсь Адама, – сказал Бен. – Но перестаю только по твоей просьбе, Сет!
– Вот это умно с твоей стороны, Бен! – сказал Адам, смеясь и выпуская жертву из своих объятий.
Затем все они возвратились к своим работам; но Жилистый Бен, уступив в физической борьбе, решился отмстить за свое унижение насмешками.
– О чем же ты думал, Сет? – начал он. – О красивом личике пасторши или ее речи, что ты забыл о панели?
– Приди и послушай ее, Бен, – сказал Сет добродушно. – Она будет говорить проповедь сегодня вечером на Лугу; может быть, ты тогда и призадумаешься о себе самом и выкинешь из головы эти грязные песни, до которых ты такой страстный охотник. Может быть, ты сделаешься верующим, а ведь это будет самым лучшим дневным заработком во всю твою жизнь.
– На все придет свое время, Сет! Я успею подумать об этом, когда буду вести оседлую жизнь: холостякам незачем хлопотать о таких важных заработках. Может быть, я стану свататься и ходить в церковь в одно и то же время, так, как ты делаешь, Сет; но ты не захочешь, чтоб я стал верующим и втерся между тобою и хорошенькою проповедницею и увез ее.
– Это не страшно, Бен, я уверен, что ни мне, ни тебе не удастся привлечь ее. Ты только приди и послушай ее, и тогда ты не будешь отзываться о ней так легкомысленно.
– Хорошо, я, пожалуй, приду послушать ее сегодня вечером, если не будет хорошего общества в «Остролистнике». На какой текст будет она проповедовать? Ты, может быть, расскажешь мне, Сет, если мне не удастся прийти вовремя. Не будет ли она проповедовать на следующий текст: «Кого пришли вы видеть? Пророчицу? Истинно, истинно, говорю вам, и более, нежели пророчицу… необыкновенно красивую молодую женщину»?
– Послушай, Бен, – мрачно произнес Адам, – оставь в покое слова Библии: ты уж зашел слишком далеко.
– Что-о, да разве ты уже обратившийся, Адам? Я думал, что ты глух к проповедям женщин.
– Нет, я не обращаюсь ни к чему. Я ничего не говорил о проповедях женщин; я говорю: оставь Библию в покое. У тебя есть собрание грязных шуток – не так ли? – которое ты считаешь чрезвычайно редким и которым ты очень гордишься? Ну, ты и трогай своими грязными пальцами эту книгу.
– Да ты стал таким же святым, как Сет. Я думаю, что ты отправишься сегодня на проповедь. Мне кажется, ты был бы отличным регентом певчих. Но я не знаю, что скажет пастор Ирвайн, когда узнает, что его большой фаворит Адам Бид сделался методистом.
– Не беспокойся, пожалуйста, обо мне никогда, Бен! Я так же намерен сделаться методистом, как и ты… разумеется, я думаю, что ты, скорее всего, обратишься к чему-нибудь дурному. Мистер Ирвайн очень хорошо понимает, что ему незачем вмешиваться в дела людей касательно религии. Он не раз говорил мне, что эти дела касаются их самих и Бога.
– Да, конечно; несмотря на то, он, однако ж, не очень то любит ваших диссидентов.
– Может быть. Я не очень-то люблю густой эль Джош-Тода, но я не мешаю тебе напиваться этим элем и делать глупости.
За этим ударом Адама последовал хохот; но Сет весьма серьезно заметил:
– Нет, нет, Адди, ты не должен сравнивать веру какого-либо человека с густым элем. Ведь ты знаешь, что учение диссидентов и методистов основывается на тех же началах, как и господствующая религия.
– Нет, Сет, я никогда не насмехаюсь над верою, которую исповедует кто-нибудь, какова бы она ни была. Пусть каждый поступает сообразно с своею совестью, вот и все. Я думаю только, что было бы лучше, если б люди, слушаясь своей совести, твердо держались своей церкви: им пришлось бы тогда учиться в ней многому. Но, с другой стороны, можно быть уж чересчур набожным; на этом свете мы должны заботиться еще о многом, кроме Евангелия. Посмотри на каналы, на водопроводы, на орудия, употребляемые в каменноугольных копях, на аркрейтовы[4] мельницы в Кромфорде. Человек, по моему мнению, должен, кроме Евангелия, знать еще что-нибудь для того, чтоб уметь строить все эти предметы. Но послушай-ка некоторых из этих проповедников!.. подумаешь, что человек всю свою жизнь не должен делать ничего, как только лежать с закрытыми глазами и следить за тем, что происходит внутри него. Я знаю, что человек должен иметь слова Божие в сердце и что Библия есть слово Божие. Но что сказано в Библии? Там сказано, как Бог вдохновил работника, строившего скинию Завета, для того, чтоб он произвел всю резную работу и предметы, которые должна была сделать искусная рука. Вот каким образом смотрю я на это: дух Божий везде и всегда, в будни и в воскресные дни, в великих делах и изобретениях, в произведениях художеств и ремесел. И Бог дарует помощь нашему уму и рукам так же точно, как и нашей душе, и если человек делает работы вне своих рабочих часов – строит печь для своей жены для того, чтоб избавить ее от ходьбы в пекарню для печения своего хлеба, или роется в своем крошечном садике и сажает две картофелины вместо одной, – то таким образом он делает больше добра, и он так же близок к Богу, как если б он бегал за проповедником, молился и стонал.
– Прекрасно сказано, Адам! – сказал рыжий Джим, который в то время, когда говорил Адам, перестал строгать и подвинул вперед свою доску. – Такой отличной проповеди я давно уже не слышал. Она заставила меня вспомнить, что моя жена целый год надоедает мне и просит, чтоб я выстроил ей печь.
– В том, что ты сказал, много справедливого, Адам! – важно заметил Сет. – Но ты сам знаешь, что многие лентяи, слушавшие проповедников, которым ты приписываешь столько ошибок, именно от этого стали трудолюбивыми. Ведь по вине проповедника пустеет пивная, и если человек станет верующим, то он от этого не станет хуже работать.
– Иногда только он забывает, что к дверям нужна панель, не так ли, Сет? – сказал жилистый Бен.
– Ну, Бен, теперь ты будешь острить надо мною всю жизнь. Но религия в этом нисколько не виновата – виноват был Сет Бид, который всегда занимается тем, что болтает всякий вздор. Религия не исцелила его, и тем более мы должны сожалеть о нем.
– Не сердись на меня, Сет, – сказал жилистый Бен. – Ты прямой, добрый, веселый малый, все равно, помнишь ли ты о панелях или нет; но ты не должен щетиниться при всякой пустой шутке, как это делают некоторые из вашей братии, хотя они и считают себя умными.
– Сет, – сказал Адам, не обращая внимания на насмешку, направленную против него, – ты не должен сердиться на меня. Я вовсе не метил на тебя в том, что я говорил несколько минут назад. Один смотрит на вещи так, а другой иначе.
– Нет, нет, Адди, я знаю очень хорошо, что ты не сердишься на меня, – сказал Сет. – Ты похож на свою собаку Джин, которая иногда полает на меня, а потом опять станет лизать руки.
Все молча работали несколько минут до тех пор, пока церковные часы не пробили шесть. Еще не успел замереть первый удар, как рыжий Джим бросил свой рубан и достал свой камзол; жилистый Бен оставил винт ввернутым до половины и кинул отвертку в свою корзинку с инструментами; Тэфт, по прозванию немой, который, согласно со своим прозвищем, сохранял молчание в продолжение всего предыдущего разговора, бросил в сторону молоток, который только что собирался поднять; Сет также выпрямил свою спину и уже протянул руку к бумажному колпаку. Один лишь Адам продолжал работать, как будто не случилось ничего. Но, заметив остановку инструментов, он взглянул и с негодованием сказал:
– Послушайте-ка. Я не могу оставаться спокойным, если вижу, что люди бросают свои инструменты в ту самую минуту, когда только что часы начинают бить, как будто они не находят в работе никакого удовольствия и боятся лишний раз ударить мо лотком.
Сет, видимо, смутился и медленнее стал приготовляться уйти, но немой Тэфт, прерывая молчание, сказал:
– Э, Адам, ты говоришь, как молодой человек. Тебе теперь двадцать шесть лет, а когда тебе стукнет сорок шесть, как мне, тогда ты не станешь так рваться к работе ни за что ни про что.
– Вздор, – сказал Адам все еще сердитым тоном. – Право, мне кажется, тут дело вовсе не в летах. Впрочем, я не думаю, что человек в твои лета должен быть вял. Я с негодованием вижу, если кто-нибудь опускает вниз руки как убитый, лишь только раздастся первый удар часов, как будто он не гордится своею работою и не находит в ней никакого наслаждения. И точильный камень будет вертеться несколько времени после того, как ты отойдешь от него.
– Ну, уж довольно, Адам! – воскликнул жилистый Бен. – Оставь каждого идти своей дорогой. Ты вот несколько минут назад находил ошибки в проповедниках, а ты сам очень любишь проповедовать. Ты, может быть, лучше любишь работать, нежели играть, а я лучше люблю играть, нежели работать. Это приходится тебе по вкусу… от этого тебе только больше дела.
С этою выходною речью, которую он считал весьма действительною, жилистый Бен накинул на плечо свою корзинку и вышел из мастерской, быстро сопровождаемый немым Тэф-том и рыжим Джимом. Сет медлил и пристально смотрел на Адама, как бы ожидая, что он ему скажет что-нибудь.
– Ты сперва зайдешь домой, а оттуда уже пойдешь на проповедь? – спросил Адам, взглянув на брата.
– Нет, я оставил шляпу и платье в квартире Билля Маскери. Я не приду домой раньше десяти часов. Может случиться, что я провожу домой Дину Моррис, если она пожелает этого. Ты знаешь, что ей не с кем будет прийти от Пойзер.
– В таком случае я скажу матери, чтобы она не ждала тебя, – сказал Адам.
– А ты сам не пойдешь к Пойзер сегодня вечером? – спросил Сет несколько робким голосом, собираясь выйти из мастерской.
– Нет, я пойду в училище.
До этого времени Джип лежал на своей удобной постели. Заметив, что другие работники стали уходить, он поднял голову и пристально следил за Адамом. Но лишь только последний успел положить в карман свою линейку и отвернуть передник набок, как Джип вскочил с своего места, подбежал к своему господину и стал пристально смотреть ему в лицо, терпеливо ожидая чего-то; если б у Джипа был хвост, то он, без всякого сомнения, замахал бы им, но, лишенный этого средства выражать свои ощущения, он, подобно многим другим почтенным лицам, таким образом, по определению судьбы, казался флегматичнее, чем он был на самом деле.
– Что, ты уж ждешь корзинки, Джип, а? – сказал Адам, и в голосе слышалась та же мягкость, как в то время, когда он говорил с Сетом.
Джип прыгнул и тихонько залаял, как бы желая выразить:
– Конечно.
Бедняжка, в выражении своих чувств он не имел большого выбора.
Корзинка заключала в себе по будням обед Адама и Сета. Ни одно из официальных лиц, участвующих в какой-нибудь процессии, не обращает так мало внимания на своих знакомых, как делал Джип, когда он, с корзинкой, следовал по пятам за своим гос подином.
Выйдя из мастерской, Адам замкнул дверь, вынул ключ и снес его в дом, находившийся на другой стороне дровяного двора. То был низенький домик, покрытый гладкою серою соломой, с светло-желтыми стенами, имевший при вечернем свете весьма приятный вид. Оправленные в свинец окна были светлы и без пятнышек, ступенька перед дверью – чиста, как булыжник при отливе моря. На ступеньке стояла чистенькая старушка в полотняном темно-полосатом платье, с красным платком на шее и в полотняном чепчике; она разговаривала с пестрыми домашними птицами, которые, казалось, были привлечены к ней обманчивою надеждою на получение холодного картофеля или ячменя. Зрение старухи было, по-видимому, очень слабо, потому что она узнала Адама только тогда, когда он сказал:
– Вот ключ, Долли! Положите его, пожалуйста, в дом.
– Положу непременно. Не хотите ли, однако ж, войти, Адам? Мисс Мери дома, и мастер Бердж возвратится тотчас, он будет рад, если вы останетесь с ним ужинать, за это я ручаюсь.
– Нет, Долли, благодарю, я иду домой. Доброй ночи.
Адам, сопровождаемый по пятам Джипом, быстро и большими шагами удалился с дровяного двора и вышел на большую дорогу, которая проходила от деревни вниз по долине. Когда он достиг подошвы покатости, пожилой всадник, у которого был привязан сзади чемодан, остановил лошадь, поравнявшись с ним, и обернулся, чтоб проводить продолжительным взором плотного работника в бумажном колпаке, кожаных штанах и в темно-синих шерстяных чулках.
Адам, не подозревая приятного впечатления, которое произвел на всадника, скоро пошел по полям и запел гимн, весь день не выходивший у него из головы:
Let all thy converse be sincere, Thy conscience as the noonday clear; For God's all-seeing eye surveys Thy secret thoughts, thy works and ways.[5]II. Проповедь
Около трех четвертей седьмого в деревне Геслон, во всю длину ее небольшой улицы от Донниторнского Герба до кладбищенских ворот, обнаружилось необыкновенное движение; жители оставили свои помещения, побуждаемые к тому, очевидно, не одним лишь желанием понежиться на вечернем солнце. Донниторнский Герб стоял у входа в деревню, и небольшой хуторный и усадебный дворы, находившиеся сбоку и указывавшие на то, что к гостинице принадлежал изрядный участок земли, обещали путешественнику хороший корм как для него самого, так и для лошади. Это могло служить ему утешением в том, что поврежденная временем вывеска не позволяла ему хорошенько ознакомиться с геральдическими изображениями древней фамилии Донниторн. Мистер Кассон, хозяин гостиницы, уже несколько времени стоял у дверей, держа руки в карманах, становясь то на пятки, то на цыпочки и покачиваясь; его взоры были обращены на неогороженный участок, где на середине помещался клен, который, как было известно хозяину, был местом назначения мужчин и женщин важного вида, время от времени проходивших мимо его.
Личность мистера Кассона вовсе не принадлежала к числу обыкновенных типов, которые не заслуживают описания. С первого взгляда она, казалось, главнейшим образом состояла из двух сфер, относившихся друг к другу так же, как земля и луна, то есть нижняя сфера, казалось на простой взгляд, была в тринадцать раз больше верхней, которая, естественно, отправляла должность простого спутника и подчиненного. Но этим и ограничивалось сходство, потому что голова мистера Кассона вовсе не была сателлитом меланхолического вида – или «запятнанным шаром», как непочтительно отозвался о месяце Мильтон; напротив, голова и лицо были весьма гладки и имели совершенно здоровый вид; лицо, состоявшее главнейшим образом из круглых и румяных щек, между которыми нос и глаза образовывали такую незначительную связь и перерывы, что о них почти не стоило и упоминать, выражало радостное довольство, смягчавшееся только сознанием личного достоинства, которым была проникнута вся фигура. Это чувство достоинства нельзя было считать чрезмерным в человеке, находившемся целые пятнадцать лет в должности дворецкого «фамилии» и, в своем настоящем высоком положении, по необходимости часто имевшем дело с подчиненными. В последние пять минут мистер Кассон обдумывал в уме проблему: каким образом удовлетворить своему любопытству и отправиться на Луг, не лишаясь своего достоинства? Он уже отчасти разрешил задачу, вынув руки из карманов и вдвинув их в проймы своего жилета, затем наклонив голову на одну сторону и приняв вид презрительного равнодушия ко всему, что могло попасться ему на глаза, как вдруг его мысли обратило на себя приближение всадника, того самого, который незадолго перед тем останавливал свою лошадь и продолжительным взором провожал нашего знакомца Адама и который теперь подъезжал к дверям Донниторнского Герба.
– Возьми лошадь за узду и дай ей напиться, человек! – сказал путешественник парню в грубой блузе, вышедшему со двора при звуке лошадиного топота – Что у вас такое в вашей деревеньке, хозяин? – продолжал он, сходя с лошади. – У вас какое-то особенное движение.
– Да проповедь методистов, сударь! У нас распространился слух, что молодая женщина будет проповедовать на Лугу, – отвечал мистер Кассон дискантовым и удушливым голосом с некоторым жеманством. – Не угодно ли вам, сударь, войти и не прикажете ли чего?
– Нет, я должен ехать дальше в Дростер. Мне нужно только напоить лошадь… Но что же говорит ваш пастор о том, что молодая женщина читает проповеди прямо у него под носом?
– Пастор Ирвайн не живет здесь, сударь, он живет в Брокстоне, вон там за холмом. Дом священника здесь совсем развалился, сударь, так что господину нельзя жить в нем. Он приходит проповедовать по воскресеньям после обеда, сударь, и оставляет здесь свою лошадь. Это, сударь, серая лошадка, которую он высоко ценит. Он всегда оставлял ее здесь, сударь, еще в то время, когда я не был хозяином Донниторнского Герба. Я не здесь родился, сударь, как вы легко можете узнать по моему произношению. В этой стороне, сударь, выражаются чрезвычайно странно, так что господам весьма трудно понимать их. Я, сударь, вырос среди господ, привык к их языку, когда еще был мальчишкой. Как, думаете вы, произносят здесь люди «hevn't you?»[6]. Господа, известно, говорят: «hevn't you?», ну, а здесь народ говорит: «hanna yey». Так, как они говорят здесь, сударь, это называется диалект. Я слышал, что сквайр Донниторн не раз говорил об этом: это, говорил он, диалект.
– Так, так, – сказал чужестранец, улыбаясь. – Я очень хорошо знаю это. Но я не думаю, чтоб у вас тут было много методистов… в вашем земледельческом местечке. Я даже предполагал, что трудно найти между вами методиста. Ведь вы все фермеры, не правда ли? А ведь методисты имеют мало влияния на это сословие.
– Нет, сударь, здесь в окрестности живет множество рабочих. Здесь живет мистер Бердж, которому принадлежит лесной двор, вот этот; он занимается постройками и починками, и у него много работы. Потом неподалеку отсюда находятся каменоломни. Нет, в этой стороне есть много работы, сударь! Потом, здесь есть славная куча методистов в Треддльстоне… Это ярмарочный город, милях в трех отсюда… вы, может быть, проезжали через него, сударь! Их набралось теперь здесь несколько десятков на Лугу. Оттуда-то наши рабочие и набираются этого учения, хотя во всем Геслоне только два методиста: это Вилл Маскри, колесник, и Сет Бид, молодой человек, занимающийся плотничною работою.
– Следовательно, проповедница из Треддльстона, не так ли?
– Нет, сударь, она из Стонишейра, около тридцати миль отсюда. Но она приехала сюда погостить к мистеру Пойзеру на мызе… Это вот их риги и большие ореховые деревья, все прямо на левой руке, сударь! Она родная племянница жены Пойзера, и Пойзеры будут очень недовольны и огорчены тем, что она так дурачится. Но я слышал, что когда в голову этих методисток заберется такой вздор, то их нельзя удержать ничем: многие из них делаются совершенно сумасшедшими со своей религией. Впрочем, эта молодая женщина с виду очень кроткая. Так, по крайней мере, мне говорили, сам я ее не видел.
– Жаль, что у меня нет времени и что я должен ехать дальше: мне хотелось бы остаться здесь и посмотреть на нее. Я удалился с своей дороги на целые двадцать минут, желая осмотреть ваш дом в долине. Он, кажется, принадлежит сквайру Донниторну, не так ли?
– Да, сударь, это охотничье место Донниторна, совершенно так. Славные дубы, сударь, не правда ли? Я уж должен знать, что это такое, сударь, потому что жил у них дворецким целые пятнадцать лет. Наследник всего этого теперь капитан Донниторн, сударь, внук сквайра Донниторна. Он будет совершеннолетним к нынешней жатве, сударь, вот тогда уж будет праздник на нашей улице. Ему, сквайру Донниторну, принадлежит вся окрестность здесь, сударь!
– Да, прекрасное местечко, кому бы оно там ни принадлежало, – сказал путешественник, садясь на лошадь. – И здесь водятся также красивые, стройные ребята. Я встретил парня, какого мне еще не удавалось видеть в жизни, с полчаса назад у подошвы холма… плотник, высокий, широкоплечий малый, черноволосый и черноглазый. Он был бы отличный солдат. Нам нужен такой народ, как этот малый, чтоб бить французов.
– Знаю, сударь, про кого изволите говорить, это был Адам Бид… готов побожиться, что это был он… сын Матвея Бида… все здесь знают его. Он чрезвычайно сметливый, старательный парень и удивительно силен. Ей-богу, сударь… извините, что я говорю таким образом… он в состоянии пройти сорок миль в день и поднимет около шестидесяти стонов[7]. Его очень любят здешние господа, сударь, капитан Донниторн и мистер Ирвайн очень заботятся о нем. Но он немного задирает нос и важничает.
– Ну, прощайте, хозяин! Мне надо ехать.
– К услугам вашим, сударь! Прощайте.
Путешественник пустил свою лошадь скорою рысью по деревне; но когда он доехал до Луга, то очаровательное зрелище, представившееся ему с правой стороны, странный контраст, образуемый группами поселян и собранием методистов близ клена, а больше всего, может быть, желание увидеть молодую проповедницу искушали его до такой степени, что он остановился и подавил в себе страстное желание совершать свой путь как можно скорее.
Луг находится в конце деревни, и там дорога расходилась по двум направлениям: одна вела вверх на холм, мимо церкви, другая прелестными извилинами шла вниз по долине. С той стороны Луга, которая была обращена к церкви, помещались непрямою линией крытые соломой избы и доходили почти до кладбищенских ворот; с другой же, северо-западной стороны ничто не препятствовало наслаждаться видом прелестного волнистого луга, лесистой долины и мрачной массы отдаленных гор. Богатая, волнистая область Ломшейр, куда входила деревня Геслоп, граничит с мрачным предместьем Стонишейр, голые холмы которого господствуют над областью. Так иногда вам случается увидеть, что красивая, цветущая здоровьем и молодостью девушка идет под руку с неуклюжим, высоким, смуглым братом. В два или три часа езды путешественник проезжает открытую, лишенную деревьев область, пересекаемую полосами холодного серого камня, вступает в другую, где его путь лежит извилинами под кровом лесов или извивается по волнистым холмам, покрытым рядами деревьев, высокою луговою травою и густою рожью, и где при каждом повороте встречаешь старую дачу, расположенную в долине или на вершине покатости, или дом с целою цепью сараев и кучею золотистых стогов, или старую колокольню, виднеющуюся над множеством деревьев и крыш, покрытых соломою и темно-красными черепицами. Такое зрелище, какое мы изобразили в последних двух строках, представляла церковь деревни Геслоп нашему путешественнику, когда он стал подыматься по отлогому откосу, который вел на веселую вершину. Находясь близ Луга, он мог сразу вполне обозреть все другие типические черты очаровательной страны. На самом горизонте виднелись обширные, конической формы массы холмов, походившие на исполинские ограды, назначенные для защиты этой хлебной и полевой области от резких и свирепых северных ветров. Холмы находились в небольшом отдалении и потому не были одеты в пурпуровый таинственный цвет; на их темных зеленоватых откосах ясно виднелись овцы, о движении которых, конечно, можно было только догадываться. Время текло своим чередом, а эти массы не отвечали никаким переменам, всегда оставались мрачными и пасмурными после утреннего блеска, быстрого света апрельского полудня, прощального малинового сияния летнего солнца, заставляющего созревать плоды. Непосредственно за ними глаз отдыхал на ближайшей черте повисших лесов, разделявшихся широкими полосами пастбищ или полосами хлеба, еще непокрытых однообразною лиственною завесою последних летних месяцев, но все-таки показывавших жаркий цвет медового дуба и нежную зелень ясеневого дерева и липы. Затем следовала долина, где леса были гуще, как будто они торопливо скатились вниз на покатости с полос, оставшихся гладкими, и поместились здесь для того, чтоб лучше защитить высокий дом, возвышавший свои стены и посылавший свой слабый голубой летний дым в их сторону. Впереди дома был обширный парк и довольно большой чистый пруд; но волнистая покатость поляны не дозволила нашему путешественнику видеть их со стороны деревенского луга. Вместо этого он видел первый план картины, который быль также очарователен: ровные солнечные лучи проникали, подобно прозрачному золоту, между наклоненными стебельками пушистой травы и высоким красным щавелем и между белыми зонтиками цикуты, испещрившими густую загородь. Лето было в той поре, когда звук точимой косы заставляет нас с сожалением смотреть на осыпанные цветами луга.
Он мог бы увидеть другие красоты ландшафта, если б немного повернулся на седле и посмотрел на восток, за пастбище и лесной двор Джонатана Берджа, по направлению к зеленым хлебородным полям и ореховым деревьям близ мызы; но ясно было, что живые группы, находившиеся близ него, интересовали его более. Здесь были все поколения деревни, начиная с дедушки Тафта, в темном шерстяном колпаке, который был сгорблен в три погибели, но, казалось, был еще довольно живуч и мог держаться на ногах немало времени, опираясь на свою короткую палку, до грудных детей, вытягивавших маленькие круглые головки в стеганых полотняных шапочках. Постепенно прибывали новые лица – поселяне с тяжелою походкой, которые, поужинав, выходили посмотреть на необыкновенную сцену тупым бычачьим взором, желая услышать, каким образом другие будут объяснять сцену, но сами не решаясь сделать какой-либо вопрос. Все, однако ж, старались не смешаться с методистами на Лугу, ожидавшими проповеди, потому что никто из них не допустил бы взвести на себя обвинения, будто он пришел послушать «проповедницу»: все они пришли только для того, чтоб увидеть, «что тут будет происходить». Мужчины главнейшим образом собрались около кузницы. Но не думайте, чтоб они образовывали толпу. Поселяне не толпятся никогда: они не знают, что значит шептаться; они, по-видимому, так же неспособны тихо выражаться, как корова или олень. Истый крестьянин поворотится спиною к своему собеседнику, бросит вопрос из-за плеча, как бы думая убежать от ответа, и в самом разгаре беседы отойдет от вас два-три шага в сторону. Таким образом, группа, находившаяся близ дверей кузницы, вовсе не была сомкнута и не образовывала плотного забора перед Чадом Кренеджем, самим кузнецом, который, опираясь на дверной косяк и скрестив черные дюжие руки, по временам разражался страшным ревом хохота над собственными остротами, видимо предпочитая их насмешкам Жилистого Бена, отказавшегося от удовольствий «Остролистника» для того, чтоб увидеть жизнь в новой форме. Но оба рода острот заслуживали одинаковое презрение мистера Джошуа Ранна. Кожаный фартук и подавленная угрюмость мистера Ранна никого не оставляли в сомнении, что он был деревенский башмачник. Выпятившиеся подбородок и живот и вертящиеся большие пальцы более тонким образом заставляли незнакомых, чужих людей предполагать, что они находятся в присутствии приходского дьячка. Старым Джошкой (так непочтительно называли его соседи) начинало овладевать негодование; но он до этих пор произнес только густым, но сдержанным басом, походившим на достраивание виолончели: «Сетона, царя аморейска, ибо милость его во веки; Ога, царя вазанска, ибо милость его во веки» – изречение, которое, казалось, имело очень мало отношения к настоящему случаю, но которое, как и всякая другая аномалия, было естественным следствием, как вы, читатель, увидите. Мистер Ранн внутренно поддерживал достоинство церкви пред лицом этого соблазнительного вторжения методизма, и так как это достоинство, по его мнению, могло быть поддержано только его звучным голосом, то очень естественно, что первой идеей его было привести цитату из псалма, который он читал в последнее воскресенье после обеда.
Так как женщины были любопытнее мужчин, то они собрались на самой границе Луга, где они лучше могли рассмотреть костюм, походивший на костюм квакеров, и странное поведение методисток. Под кленом стояла небольшая тележка, которая была взята у колесника и должна была служить кафедрой; около нее были расставлены несколько скамеек и стульев. Некоторые из методистов сидели на них с закрытыми глазами, как бы погруженные в молитву или в размышление. Другие продолжали стоять, обратившись к поселянам лицом, на котором выражалось меланхолическое сострадание, что чрезвычайно забавляло Бесси Бренедж, живую дочь кузнеца, называемую «Чадова Бесс». Она удивлялась, почему эти люди строили такие скучные физиономии. Чадова Бесс была предмет особенного сострадания, потому что волосы, зачесанные назад и прикрытые на самой макушке головы чепчиком, показывали украшение, которым она гордилась больше, нежели своими румяными щеками, именно две большие круглые серьги с фальшивыми гранатами. Эти украшения были предметом презрения не только методистов, но и ее родной кузины и тетки Тимофеевой Бесс, которая с истинно родственными чувствами часто выражала опасение, чтоб эти серьги не довели ее до чего-нибудь дурного, в душе своей желая совершенно противного.
Тимофеева Бесс, сохранившая девичье прозвище между своими короткими знакомыми, уже давно была женою Рыжего Джима и обладала порядочным запасом драгоценностей, составляющих принадлежность замужней женщины. Из них достаточно будет упомянуть о плотном грудном ребенке, которого она качала на руках, и о здоровом пятилетнем мальчике в коротких, по колено, штанах и с голыми красными ногами, на шее у которого висела ржавая молочная кружка наподобие барабана и которого особенно обегала небольшая собачка Чада. Эта юная масличная ветвь славилась под именем Бен Тимофеевой Бесс. Бен Тимофеевой Бесс имел весьма любознательный нрав и не стеснялся ложным стыдом. Он вышел из группы женщин и детей, расхаживал между методистами, смотрел им прямо в лицо, открыв рот, и в виде музыкального аккомпанемента ударял палкой в молочную кружку. Но когда одна из пожилых женщин с важным видом наклонилась к нему и в увещание хотела взять его за плечо, то Бен Тимофеевой Бесс сначала лягнул ее изо всей мочи, а потом дал тягу и искал убежища за ногами своего отца.
– Ах ты щенок этакой! – сказал Рыжий Джим с некоторой отеческою гордостью. – Если ты не будешь держать палку спокойно, то я отниму ее у тебя. Как ты смеешь так лягаться?
– Подай его сюда, ко мне, – сказал Чад Кренеджу. – Я его свяжу и подкую, как лошадь… А! мистер Кассон, – продолжал он, увидя трактирщика, медленно подходившего к группе мужчин, – как поживаете? Что, вы также пришли стонать? Говорят, люди, слушающие методистов, всегда стонут, как будто они повреждены внутренне. Я буду рычать так, как рычала ваша корова намедни ночью, – вот тогда проповедник уверится, что я на истинном пути.
– Я советую вам не делать глупости, Чад! – сказал мистер Кассон с некоторым достоинством. – Пойзеру не будет приятно, если он услышит, что с племянницею его жены обращаются непочтительно, хотя он сам, может быть, не очень-то доволен, что она взялась читать проповедь.
– Ну, да ведь она и недурна собой, – сказал Жилистый Бен. – Что до меня, то я очень люблю проповеди хорошеньких женщин: я знаю, что они убедят меня гораздо скорее, нежели проповеди безобразных мужчин. Мне вовсе не покажется странным, если я сделаюсь методистом сегодня же вечером и стану ухаживать за проповедницей, как Сет Бид.
– Ну, Сет, кажется, задирает нос слишком высоко, – сказал мистер Кассон. – Не думаю, что ее родня останется довольна, если она станет смотреть на простого плотника.
– Полно, так ли? – сказал Бен высоким дискантом. – Какое же дело родне до этого?.. Это не касается до них ни на волос. Пусть себе Пойзерова жена задирает нос и забывает прошлое, но Дина Моррис, рассказывают, бедна… работает на мельнице и едва в состоянии содержать самое себя. Статный молодой плотник, да к тому же методист, как Сет Бид, был бы для нее хорошею парой. Ведь Пойзеры заботятся же об Адаме Биде как о своем родном племяннике.
– Вздор, вздор! – сказал Джошуа Раин. – Адам и Сет два совершенно различные человека; им обоим не сошьешь сапога на одной и той же колодке.
– Может быть, – сказал Жилистый Бен презрительно. – Но для меня Сет лучше, хотя бы он был методистом вдвое больше теперешнего. Сет обезоружил меня совершенно: я дразнил его сегодня все время, что мы работали вместе, и он терпел мои шутки, как ягненок. Притом же он смелый малый: мы однажды ночью шли с ним по полям и вдруг увидели горящее дерево, которое приближалось к нам; мы думали, что леший хочет подшутить над нами, и уже собрались бежать, как Сет, не задумываясь, бросился вперед так же смело, как констебль. А! да вот он вышел от Билля Маскри; да вот и сам Билль с таким кротким видом – подумаешь, что он не смеет ударить гвоздя по шапочке, боясь испортить его. А вот и красивая проповедница! Ей-ей, она сняла свою шляпку. Я пойду поближе.
Несколько человек последовали примеру Бена, и путешественник на лошади также приблизился к Лугу, в то время как Дина – впереди своих подруг – довольно быстро подходила к телеге, находившейся под кленом. Когда она проходила мимо высокого Сета, то казалась очень небольшого роста; но когда она поместилась на телеге, где ее нельзя было сравнять ни с кем, то ее рост, казалось, был выше среднего женского, хотя в действительности не превосходил его. Этим она была обязана своей тоненькой фигуре и простенькому черному платью. Чужестранец пришел в изумление, когда увидел, как она приблизилась к телеге и взошла на нее: его изумила не столько женская грациозность ее появления, сколько совершенное отсутствие в ее наружности мысли о себе. Он представлял ее себе иначе, он предполагал, что она станет выступать мерными шагами, что ее наружный вид будет проникнут важною торжественностью; он был уверен, что на ее лице увидит улыбку сознательной святости или грозную горечь. Он знал только два типа методистов: восторженных и желчных. Но Дина шла так просто, как будто отправлялась на рынок, и, по-видимому, вовсе не думала о своей наружности, как маленький мальчик: в ней не было заметно ни особенной краски на лице, ни трепета, которые говорили бы: «Я знаю, что вы меня считаете хорошенькою женщиною, которая еще слишком молода для того, чтоб проповедовать»; она не поднимала и не опускала век, не сжимала губ, не держала так рук, как бы для того, чтоб выразить: «Но вы должны смотреть на меня как на святую». Она не имела никакой книги в руках, которые были без перчаток; она опустила руки и несколько скрестила их перед собою, когда остановилась и своими серыми глазами смотрела на народ. В глазах не было заметно ни малейшей проницательности; они, казалось, скорее проливали любовь, а не старались заметить, что происходило вокруг; судя по их мягкому выражению, все мысли их владетельницы были обращены на то, что предстояло ей совершить, и внешние предметы не имели на нее никакого влияния. Она стояла, обратившись левою стороною к заходившему солнцу, от лучей которого защищали ее покрытые листьями сучья, при мягком свете нежный колорит ее лица, казалось, имел какую-то спокойную яркость, подобно цветам вечером. Она имела небольшое овальное лицо равной прозрачной белизны, контур щек и подбородка напоминал форму яйца, у нее был полный рот, по которому, однако ж, можно было заключить о ее твердом характере, ноздри ее были очерчены изящно, лоб низок и прям, окруженный гладкими локонами светло-русых волос. Волосы были просто зачесаны за уши и прикрыты дюйма на два от бровей квакерскою сеточкою. Брови такого же цвета, как волосы, были совершенно горизонтальны и очерчены твердо, ресницы не темнее бровей, длинны и густы – одним словом, ничто не было смазано или не окончено. Лицо ее принадлежало к числу таких, которые заставляют вспомнить белые цветы с легко подрумяненными чистыми лепестками. Вся красота глаз заключалась в их выражении; они дышали такою простотой, такою искренностью, такою истинною любовью, что перед ними не могли не смягчиться ни грозный неодобряющий взор, ни легкая насмешка. Джошуа Ранн продолжительно кашлянул, как бы прочищая горло для того, чтоб лучше переварить новые мысли, которые теперь представились ему. Чад Кренедж снял кожаную шапочку, прикрывавшую макушку, и почесал в голове, а Жилистый Бен удивился, откуда бралась у Сета смелость даже подумать ухаживать за проповедницей.
«Что за милое существо! – подумал незнакомец. – Но вот уж природа никогда не думала сделать из нее проповедницу, я уверен в том».
Он, может быть, принадлежал к числу людей, предполагающих, что природа имеет театральные свойства и, с целью облегчить искусство и психологию, «сочиняет» свои характеры, так что в них нельзя ошибиться. Но Дина начала говорить.
– Друзья! – сказала она ясным, но негромким голосом. – Помолимся о благословении. – Она закрыла глаза и, несколько опустив голову, продолжала тем же мерным голосом, как бы разговаривая с кем-то, находившимся в недалеком от нее расстоянии: – Спаситель наш от грехов! Когда бедная женщина, отягощенная грехами, подошла к колодцу для того, чтоб достать воды, она нашла тебя сидящим у колодца. Она не знала тебя, она не искала тебя, ум ее был помрачен, жизнь ее была нечестива. Но ты заговорил с нею, ты коснулся ее, ты показал ей, что ее жизнь лежала открытою перед тобою, и между тем ты готов был дать ей благословение, которого она никогда не искала. Иисусе! Ты находишься среди нас, и ты знаешь всех людей: если здесь есть люди, подобные той бедной женщине, если их ум омрачен и жизнь нечестива, если они пришли, не ища тебя, не желая научиться, яви им ту же беспредельную благость, которую ты явил ей. Вразуми их, Господи, отверзи им слух, чтоб они поняли мои слова, открой перед их умом их грехи и заставь их жаждать спасения, которое ты готов ниспослать им. Господи! Ты всегда находишься с избранными твоими: они видят тебя в ночное бдение, и душа их пылает внутри их, когда ты глаголешь им. И ты приближаешься к тем, которые не знали тебя, отверзи им глаза, да увидят тебя… да увидят тебя, плачущего над ними и говорящего: «Вы не хотите прийти ко мне и получить жизнь…», да увидят тебя распятого на кресте и говорящего: «Отче, прости им, они не ведают, что творят», да увидят тебя приходящего со славою судить их. Аминь.
Дина снова открыла глаза, замолчала и обратила взор на группу поселян, которые между тем ближе придвинулись к ней с ее правой стороны.
– Друзья! – продолжала она, несколько возвысив голос. – Все вы были в церкви и, я думаю, должны были слышать эти слова, читанные священником: «Дух Божий на мне, ибо он помазал меня возвестить Евангелие нищим». Эти слова произнес Иисус Христос… Он сказал, что пришел «возвестить Евангелие нищим». Не знаю, думали ли вы когда-либо об этих словах, но я расскажу вам, когда я услышала их в первый раз. В такой же вечер, как сегодня, как я была маленькой девочкой, тетка моя, воспитавшая меня, взяла меня с собою послушать доброго человека, проповедовавшего народу, который собрался на поле, как мы теперь здесь. Я очень хорошо припоминаю его лицо: он был человек очень старый и имел очень длинные седые волосы, его голос был очень мягок и приятен. Такого голоса мне не удавалось слышать в жизни до того времени. Я была маленькой девочкой и почти ничего не знала, и этот старик, казалось мне, так отличался от всех людей, которых я только видела до того времени, что я спрашивала себя: не сошел ли он с неба проповедовать нам? – и сказала: «Тетушка, он опять возвратится на небо сегодня вечером, как на картинке в Библии?» Этот человек Божий был мистер Веслей, который провел всю свою жизнь, делая то, что делал наш Господь… проповедовал Евангелие нищим… Он преставился в вечность восемь лет тому назад. Я узнала о нем побольше уже несколько лет спустя, но в то время я была глупою, безрассудною девочкой и помню только одно изо всей речи, которую он сказал нам. Он сообщил нам, что «Евангелие» означает «благовестие», то есть добрую весть или радостную весть. Вы знаете, Евангелие значит то, что говорит нам о Боге Священное Писание.
Размыслите же об этом! Иисус Христос снизошел истинно с небес, подобно тому, как я, будучи неразумным ребенком, думала о мистере Веслее, и сшел для того, чтоб сообщить благие вести о Боге нищим. Я и вы, дорогие друзья, нищие. Мы были воспитаны в бедных избах, выросли на овсяном хлебе и вели грубую жизнь; мы не находились долго в школе, не читали много книг и знаем только то, что происходит около нас. Мы принадлежим к числу тех именно людей, которым нужно слышать добрые вести. Ибо те, которым жить хорошо, не слишком заботятся о том, чтоб услышать добрые вести с небес; но когда бедный человек или бедная женщина находятся в затруднительном положении и должны тяжко трудиться для того, чтоб жить, то они рады получить письмо, из которого узнают, что у них есть друг, желающий помочь им. Конечно, мы не можем не знать кое-чего о Боге, если даже и вовсе не слышали Евангелия, добрых вестей, которые принес нам наш Спаситель. Так мы знаем, что все исходит от Бога. Разве вы не говорите почти ежедневно: «Дай Бог, чтоб то или другое случилось» и «мы скоро станем косить траву, лишь дал бы нам Бог хорошей погоды подольше»? Мы знаем очень хорошо, что находимся совершенно в руках Божиих: мы не сами родились на свет, когда мы спим, то не можем сами заботиться о своей жизни; дневной свет, ветер, хлеб, коровы, дающие нам молоко, – все, что мы имеем, мы имеем от Бога. Он даровал нам душу, вселил любовь между родителями и детьми, между мужем и женой. Но разве нам только это и нужно знать о Боге? Мы видим, что Он велик и всемогущ и все, что желает, может совершить; если мы попытаемся думать о нем, то совершенно потеряемся, как в борьбе с необъятною массою воды.
Но, может быть, в вашей голове возникает сомнение: может ли Бог много заботиться о нас, нищих? Может быть, он создал свет только для великих, мудрых, богатых? Ему ничего не стоит дать нам горсточку наших жизненных припасов и нашу скудную одежду; но как мы можем знать, заботится ли он о нас больше, чем мы заботимся о червях и садовых предметах, когда разводим морковь и лук? Заботится ли о нас Бог, когда мы умираем? Дает ли он утешение, если мы увечны, больны или находимся в беспомощном состоянии? Может быть, также он недоволен нами – иначе отчего же быть падежу, неурожаю, лихорадке и всякого рода страданиям и беспокойствам? Потому что вся наша жизнь исполнена беспокойства, и если Бог посылает нам благо, то он же, по-видимому, посылает и горе. Как же это? Подумайте!
Ах, друзья мои! И добрые вести о Боге действительно нужны нам; и что значат другие добрые вести, если нам недостает этих? Ибо все прочее имеет конец, и, умирая, мы оставляем все. Но Бог имеет бытие, когда все прочее уже исчезло. Что станем мы делать, если он не будет нашим защитником?
Затем Дина объяснила, каким образом были принесены добрые вести и каким образом милость Бога к нищим обнаружи валась в жизни Иисуса, проявляясь в его смирении и в его милосердии.
– Итак, вы видите, дорогие друзья, – продолжала она, – Иисус провел почти всю свою жизнь, делая добро нищим. Он проповедовал им вне домов, делал бедных работников своими друзьями, учил их и делил с ними нужду. Он делал добро и богатым, ибо он был исполнен любви ко всем людям; но он видел, что нищие более нуждались в его помощи. Таким образом, он исцелял увечных, и больных, и слепых, творил чудеса для того, чтоб на кормить голодных, ибо, говорил он, ему было жаль их, и он был весьма милостив к малым детям и утешал тех, которые лишились своих друзей, и очень милостиво разговаривал с бедными грешниками, скорбевшими о своих грехах.
Ах, неужели вы не стали бы любить такого человека, если б видели его… Если б он был здесь в деревне? Какое доброе сердце он должен иметь! Каким бы он был другом людям, находящимся в затруднении! Как было бы приятно учиться у него!
Но, дорогие друзья, кто же был этот человек? Был ли он только добрый человек… весьма добрый человек, и больше ничего… подобно нашему дорогому мистеру Веслею, который был взят от нас?.. Он был Сын Божий… «единаго существа с Богом Отцом», как говорит Священное Писание; это означает, что он тот же Бог, который есть начало и конец всего… Бог, о котором нам нужно знать. Итак, любовь, которую Иисус обнаруживал к нищим, есть та же самая любовь, которую Бог имеет к нам. Мы можем разуметь, что чувствовал Иисус, потому что он сшел на землю, приняв на себя плоть, подобную нашей, и говорил такие же слова, с какими мы обращаемся друг к другу. Мы боялись при мысли о том, что Бог был прежде… Бог, создавший мир, и небо и гром, и молнию. Мы никогда не могли видеть его, мы могли видеть только созданное им, и некоторые из этих предметов были страшны так, что мы должны трепетать, думая о нем. Но наш божественный Спаситель открыл нам естество Бога таким образом, как могли понять бедные неученые люди; он открыл нам сердце божие и чувства его к нам.
Но посмотрим же поближе, для чего Иисус сшел с небес. В одном месте он сказал: «Я пришел найти и спасти то, что было потеряно», – и в другом: «Я пришел не для того, чтоб праведных привести к раскаянию, а для того, чтоб привести к раскаянию грешников».
Что было потеряно!.. Грешников!.. Ах, друзья мои, не должны ли вы и я разуметь под этим самих себя?
До этих пор всадника невольно приковывал к месту очаровательный, мягкий, высокий голос Дины, разнообразием своих тонов напоминавший превосходный инструмент, до которого касался художник, не сознававший своего удивительного музыкального таланта. Простые вещи, о которых она говорила, казались новостью: так пробуждает в нас новые чувства мелодия, которую поет чистый голос ребенка в хоре; спокойная глубина убеждения, которою была проникнута ее речь, служила, по-видимому, сама по себе ясным доказательством истины сообщений. Она видела, что вполне оковала слушателей. Поселяне еще более приблизились к ней, и на лицах всех выражалось глубокое внимание. Она говорила медленно, хотя совершенно плавно, часто останавливалась после вопроса или перед переменою мыслей. Она не изменяла своего положения, не делала жестов. Сильное впечатление, которое произвела ее речь, следовало приписать переменявшимся тонам в ее голосе, и когда она дошла до вопроса: «Будет ли Бог заботиться о нас, когда мы умрем?», она произнесла таким жалобным, молящимся тоном, что самые жесткие сердца не могли удержаться от слез. Незнакомец, которым при первом взгляде на Дину овладело сомнение в том, чтоб она могла пробудить внимание своих грубых слушателей, теперь убедился в несправедливости своего сомнения, но все еще не знал, будет ли она иметь власть пробудить в них сильнейшие чувства; а это должно было служить необходимою печатью ее призвания – призвания проповедницы-методистки, – до тех пор, пока она не произнесла слов: «Потеряно!.. грешники!», когда в ее голосе и манерах произошла большая перемена. Она долгое время молчала перед восклицанием, и пауза, казалось, была следствием волновавших ее мыслей, которые выразились в ее чертах. Ее бледное лицо побледнело еще более, круги под глазами стали глубже, как обыкновенно бывает, когда скопились слезы, но еще не падают, и в кротких, выражавших любовь глазах отразились испуг и сожаление, как будто она внезапно увидела ангела-истребителя, парившего над головою собравшегося народа. Ее голос стал глубок и неясен, но она все-таки не делала никаких жестов. И Дина вовсе не походила на обыкновенных высокопарных риторов. Она не проповедовала так, как слышала, что проповедуют другие, а говорила по внушению собственных чувств, воодушевленная собственною простою верою.
Но теперь ею овладел новый поток чувств, ее манеры стали беспокойнее, ее речь быстрее и взволнованнее, когда она стала говорить слушателям о их грехах, умышленном невежестве, о их неповиновении Богу, когда она остановилась на ненавистном свойстве греха, на божественной святости и страданиях нашего Спасителя, которые открыли путь к нашему спасению. Наконец, казалось, что она, страшно желая возвратить на путь истинный потерянную овцу, не могла довольствоваться, обращаясь ко всем своим слушателям разом. Она обращалась то к одному, то к другому, со слезами умиляя их обратиться к Богу, пока еще не было поздно, описывая им крайнюю печаль их душ, потерянных в грехе, питаясь мякиною этого несчастного мира, в большом отдалении от Бога, их Отца, и затем любовь Спасителя, с нетерпением ожидавшего их возвращения.
Между методистами слышались не раз вздохи и стоны во время проповеди, но души поселян воспламеняются нелегко, и все впечатление, которое произвела на них в то время проповедь Дины, выразилось незначительным неопределенным беспокойством, которое снова могло скоро исчезнуть. Никто из них, однако ж, не удалился, кроме детей и дедушки Тафта, который, будучи глух, не мог расслышать много слов и через несколько времени возвратился в свой угол за печью. Жилистый Бен чувствовал, что ему было не совсем-то ловко, и почти сожалел, что пришел послушать Дину: он опасался, что сказанное ею будет каким-нибудь образом преследовать его. Несмотря на то, он очень охотно смотрел на нее и внимал ее речи, хотя и каждую минуту опасался, что она устремит на него свои глаза и обратится к нему в особенности. Она уже обращалась к Рыжему Джиму, который, желая облегчить свою жену, держал в то время на руках грудного ребенка, и дюжий, но мягкосердый человек отер слезы кулаком, как-то смутно намереваясь сделаться лучшим человеком, меньше ходить мимо каменных коней в «Остролистник» и быть опрятнее по воскресеньям.
Впереди Рыжаго Джима стояла Чадова Бесс, которая была необыкновенно спокойна и внимательна с той самой минуты, когда Дина начала говорить. Ее не занимала сначала самая речь. Она сначала была совершенно погружена в мысли о том, какое удовольствие в жизни может иметь молодая женщина, носящая такой чепец, как Дина. С отчаянием оставив это исследование, она стала изучать нос Дины, ее глаза, рот и волосы, спрашивая себя, что было лучше – иметь ли такое бледное лицо, как лицо Дины, или же такие, как у нее, Бесс, полные румяные щеки и круглые черные глаза. Но мало-помалу серьезное настроение всех произвело впечатление и на нее, и она стала вникать в то, что говорила Дина. Нежные тоны голоса, исполненное любви красноречие не тронули ее; но когда Дина обратилась к слушателям с суровым воззванием, то Чадовой Бесс начал овладевать страх. Бедная Бесси была известна как шалунья, и она знала это; если же следовало людям быть добрыми, то ясно было, что она находилась на дурной дороге. Она не могла найти псалмов в своем молитвеннике так легко, как Салли Ганн; замечали, что она часто хихикала, когда приседала мистеру Ирвайну, и ее недостатки в религиозном отношении сопровождались соответственною слабостью в отношении к меньшим нравственным правилам, ибо Бесси неоспоримо принадлежала к неумытому, ленивому классу женских характеров, которым вы смело можете предложить яйцо, яблоко или орехи, не опасаясь отказа. Все это знала она и до этих пор вовсе не стыдилась этого. Но теперь она стала чувствовать стыд, как будто явился констебль и хотел взять ее и представить в суд за какой-то неопределенный проступок. Ею овладел неясный страх, когда она узнала, что Бог, которого она всегда считала столь далеким, был, в сущности, очень близок к ней и что Иисус стоит возле нее и взирает на нее, хотя она и не может видеть его. Ибо Дина имела веру в видимые проявления Иисуса, которая распространена между методистами, и умела непреодолимо внушать эту веру своим слушателям; она заставляла их чувствовать, что он осязательно присутствует среди их и ежеминутно может явить себя им таким образом, что поразит их сердца тоской и раскаянием.
– Посмотрите! – воскликнула она, обратившись в левую сторону и устремив взор на точку, находившуюся над головами собравшихся. – Посмотрите, где стоит наш Господь, и плачет, и простирает руки к вам. Послушайте, что он говорит: «Как часто хотел бы я сзывать вас, как наседка сзывает своих цыплят под крылья; да вы не хотели!..» Да вы не хотели! – повторила она тоном жалобы и укора, снова обратив взор на народ. – Посмотрите на следы гвоздей на его божественных руках и ногах. Ваши грехи были причиною их. Ах, как он бледен и изнурен! Он выстрадал великую тоску в саду, когда его душа изнывала до смерти и большие кровавые капли пота струились на землю. Они плевали на него и били кулаками, они бичевали его, они издевались над ним, они положили тяжелый крест на его израненные плечи. Потом они распяли его. Ах, как велики были его страдания! Его уста были сухи от жажды, и они издевались над ним даже при его предсмертных муках, тогда как он этими высохшими устами молился за них: «Отче, отпусти им, ибо не ведают, что творят». Затем обуял его ужас великого мрака, и он чувствовал то, что чувствуют грешники, которые навеки лишены милостей Божьих. Это была последняя капля в чаше горечи. «Боже мой, Боже мой! – восклицает он. – За что оставил ты меня?»
И все это он понес за вас! за вас… а вы никогда не помышляете о нем; за вас… а вы отворачиваетесь от него; вы и не думаете о том, что он выстрадал за вас. И несмотря на то, он не перестает мучиться за вас: он восстал от мертвых, он молится за вас, находясь одесную отца: «Отче, отпусти им, ибо не ведают, что творят». И он также присутствует здесь на земле, он находится между нами, он и теперь находится близ вас. Я вижу раны на его теле и выражение неоскудевающей любви в его взоре.
После этих слов Дина обратилась к молоденькой Бесси Кренедж, привлекательная молодость и явное тщеславие которой возбуждали сожаление Дины.
– Бедное дитя, бедное дитя! Он так настоятельно призывает тебя к себе, а ты не внимаешь ему. Ты думаешь о серьгах, о богатых и красивых платьях и чепцах, а ты никогда не думаешь о Спасителе, который умер для того, чтоб спасти твою драгоценную душу. Придет время, когда щеки твои покроются морщинами, волосы поседеют, бедное тело твое станет сухим и дряхлым! Тогда ты будешь чувствовать, что твоя душа не спасена, тогда придется тебе стать перед Богом одетою в твои грехи, в дурной характер и суетные помыслы, и Иисус, готовый оказать тебе помощь в настоящее время, тогда не окажет ее: так как ты не хочешь, чтоб он был твоим спасителем, то он будет твоим судиею. Теперь он обращает на тебя взор, полный любви и благости, и говорит: «Приди ко мне, да найдешь жизнь»; тогда же он отвернется от тебя и скажет: «Иди же от меня в огнь вечный!»
Черные, открытые во всю свою величину глаза бедной Бесси стали наполняться слезами, ее полные румяные щеки и губы побледнели, и ее лицо исказилось, как искажается лицо ребенка, готовящегося заплакать.
– Ах, бедное слепое дитя! – продолжала Дина. – А если с тобой случится то же, что случилось с рабою Божьею во дни ее тщеславия. Она думала только о кружевных чепцах и копила деньги, чтоб купить их; она никогда не думала о том, как бы ей сделаться чистою сердцем и праведною; ей нужно было только иметь кружева лучше других девушек. И однажды когда она надела новый чепец и посмотрелась в зеркало, то увидела окровавленный лик в терновом венце. Этот лик обращен теперь к тебе. – При этих словах, Дина указала на точку перед Бесси. – Ах, вырви вон эти глупости! Брось их от себя как жалящих змей. Да они и жалят тебя… они отравляют твою душу… они влекут тебя в мрачную бездонную пропасть, где ты погрязнешь навеки, навеки и навеки, вдали от света и от Бога.
Бесси не могла долее переносить этого: ею овладел неописанный ужас; вырвав серьги из ушей и громко рыдая, она бросила их перед собою на землю. Ее отец Чад, опасаясь, что и до него может дойти очередь (впечатление, произведенное на упрямую Бесс, поразило его, как чудо), поспешно удалился и принялся работать за своей наковальней для того, чтоб снова собраться с духом.
– Проповедуй там или не проповедуй! Людям все равно нужны же подковы, ведь не возьмет же меня дьявол за это, – ворчал он про себя.
Но вслед за тем Дина стала говорить о радостях, которые будут уделом покаявшихся, и своим простым языком описывать божественный мир и любовь, наполняющие душу верующего, каким образом чувство божественной любви превращает бедность в богатство и служит отрадою для души, так что ее не раздражает никакое нечестивое желание, не тревожит никакой страх, каким образом, наконец, исчезает самое искушение к содеянью греха, и на земле начинается жизнь небесная, ибо не проходит никакого облачка между душою и Богом, который есть ее вечное солнце.
– Дорогие друзья, – сказала она в заключение, – братья и сестры, которых я люблю, как тех, за которых умер наш Господь, верьте: я знаю, что значит это великое блаженство, и, потому что я это знаю, я желаю, чтоб и вы разделяли его. Я бедна так же, как и вы, и принуждена снискивать себе пропитание трудами рук своих, но никакой лорд, никакая леди не могут быть так счастливы, как я, если у них в душе нет любви к Богу. Подумайте, что значит ненавидеть только грех, любить каждое существо, не страшиться ничего, быть уверенным, что все ведет к добру, не заботиться о страданиях, ибо такова воля нашего Отца, знать, что ничто – нет, ничто, если б даже была сожжена земля или воды вышли из берегов и затопили нас, – ничто не может разлучить нас с Богом, любящим нас и наполняющим души наши миром и радостями, ибо мы уверены, что все, что он ни велит, свято, справедливо и добро. Дорогие друзья, придите и получите это блаженство, оно предлагается вам, это – добрые вести, которые Иисус пришел возвестить бедным. Оно не походит на богатства этого мира: последние таковы, что, чем больше приобретает один, тем меньше остается прочим. Бог бесконечен; любовь его бесконечна.
Its streams the whole creation reach, So plenteous is the store; Enough for all, enough for each, Enough for evermore.[8]Дина говорила по крайней мере час, и румяный свет заходившего солнца, казалось, придавал ее заключительным словам торжественную силу. Незнакомец, заинтересованный речью, как могло его заинтересовать развитие драмы – во всяком красноречивом слове, сказанном без приготовления, существует очарование, открывающее слушателю внутреннюю драму волнений оратора, – повернул лошадь в сторону и стал продолжать свой путь в то время, когда Дина произнесла: «Споем гимн, дорогие друзья!» Спускаясь по извилинам откоса, он слышал голоса методистов, то возвышавшиеся, то опускавшиеся в странном слиянии радости и грусти, которое принадлежит к размеру гимна.
III. После проповеди
Менее часу спустя Сет Бид шел рядом с Диною по окруженной изгородью из деревьев аллее, которая шла по опушке пастбищ и зеленых хлебных лугов, лежавших между деревнею и мызою. Дина снова сняла свою квакерскую шляпку и держала ее в руках для того, чтоб свободнее наслаждаться прохладою вечерних сумерек, и Сет очень ясно мог видеть выражение ее лица, когда он шел с нею рядом, робко обдумывая то, что он хотел сказать ей. Ее лицо выражало бессознательную тихую важность, погружение в мысли, не имевшие никакой связи с настоящею минутою или с ее собственною личностью, – одним словом, ее лицо имело выражение, которое не может ободрить влюбленного. Самая походка Дины лишала Сета мужества: она была так спокойна и легка, что не нуждалась в помощи. Сет неопределенно сознавал это и подумал: «Она так добра и так свята, что никто не достоин ее, а я и подавно». Таким образом, слова, которые он вызвал в себя, возвращались назад, не коснувшись его губ. Но другая мысль придала ему мужество: «Разве найдется человек, который мог бы любить ее больше и дать ей полнейшую свободу предаваться делам, угодным Богу?» – думал он. Они несколько минут молчали, с тех пор, как перестали говорить о Бесси Кренедж. Дина, по-видимому, почти забыла о присутствии Сета; походка ее сделалась гораздо скорее. Заметив, что им оставалось только несколько минут ходьбы до ворот мызного двора, Сет наконец ободрился и сказал:
– Что, вы совершенно решились воротиться в Снофильд в субботу, Дина?
– Да, – отвечала Дина спокойно. – Меня призывают туда. Когда я была погружена в размышление в воскресенье вечером, то мне представилось, что сестра Аллен, которая больна чахоткой, нуждается во мне. Я видела ее так же ясно, как мы видим теперь это небольшое белое облачко: она, бедняжка, подняла свою исхудавшую руку и манила меня к себе. И сегодня утром, когда я открыла Библию для того, чтоб почерпнуть из нее наставление, то первые слова, попавшиеся мне на глаза, были: «И, узрев видение, немедленно решили идти в Македонию»; если б не это ясное указание воли Господней, я пошла бы туда неохотно, потому что сердце мое сокрушается по тетке и ее малюткам и по этой бедной, заблудшей овце Хетти Соррель. В последнее время я много молилась о ней, и в моем видении я вижу знамение того, что она будет помилована.
– Дай-то Бог! – сказал Сет. – Мне кажется, Адам до того привязался к ней сердцем, что никогда не обратится к какой-нибудь другой; а между тем женитьба его на ней нанесла бы сильный удар моему сердцу, потому что я не могу себе представить, чтоб она сделала его счастливым. Это глубокая тайна, каким образом сердце мужчины обращается к одной женщине, несмотря на всех прочих, которых он видел на свете, и ему легче работать для нее семь лет, как Иаков работал для Рахили, нежели обратиться к другой женщине, которая только и ждет его предложения. Я часто вспоминаю эти слова: «И Иаков семь лет служил для Рахили, и казались они ему только немногими днями: столь велика была любовь, которую он питал к ней». Я знаю, что эти слова оправдались бы на мне, Дина, если б вы мне дали надежду, что я получил бы вас по прошествии семи лет. Вы, я знаю, думаете, что муж отнял бы у вас слишком много мыслей, потому что апостол Павел говорит: «Она же, идущая замуж, печется о предметах мира сего, как бы ей понравится мужу»; вы, может быть, считаете меня слишком смелым за то, что я снова заговорил с вами об этом, тогда как вы сообщили мне прошлую субботу, что вы думаете об этом предмете. Но я опять думал об этом ночью и днем и молился, чтоб меня не ослепили мои желания и чтобы я не думал только, что хорошо для меня, то хорошо и для вас. И мне кажется, что больше текстов можно привести за ваше замужество, нежели вы когда-либо приведете против него. Апостол Павел чрезвычайно ясно говорит в другом месте: «Хочу, чтоб молодые женщины шли в замужество, рожали детей, вели хозяйство, не давали никакого случая врагу упрекать их в чем-либо», и еще: «Двое лучше одного», и это так же хорошо относится к женитьбе, как к многому другому. Потому что мы будем жить одним сердцем и одним умом, Дина! Мы оба служим одному Господину и стремимся к одним и тем же благам; и я никогда не буду мужем, который стал бы объявлять свои права на вас и препятствовать вам в совершении дел, возложенных на вас Богом. Я употребил бы всевозможные усилия, снял бы внутренние и внешние двери для того, чтоб вы имели полнейшую свободу, и вы были бы свободны больше теперешнего, ибо теперь вам самим нужно заботиться о своем существовании, я же довольно силен для того, чтоб работать на нас обоих.
Начав однажды свою речь, Сет продолжал говорить серьезно и даже торопился, как бы опасаясь, чтоб Дина не произнесла решительного слова прежде, нежели он успел излить все доводы, приготовленные им. Его щеки раскраснелись, когда он стал продолжать; его кроткие серые глаза наполнялись слезами, и голос дрожал, когда он произносил последние слова. Они достигли одного из весьма узких проходов между двумя высокими камнями, стоявшими здесь, в Ломшейре, вместо дорожных столбиков, и Дина, помолчав, обернулась к Сету и произнесла своим нежным, но спокойным дискантом:
– Сет Бид, благодарю вас за любовь ко мне, и если б я могла думать о ком-либо больше, нежели как о брате моем во Христе, то, вероятно, думала бы о вас. Но сердце мое несвободно для того, чтоб я могла выйти замуж. Это хорошо для других женщин, и быть женою и матерью – дело великое и благословенное; но «что Бог назначил человеку, к чему Господь призвал человека, так да совершится то». Бог назначил мне прислуживать другим, не иметь ни собственных радостей, ни печалей, но радоваться с теми, кто радуется, и плакать с теми, кто плачет. Он призвал меня возвестить его слово, и он высоко признал мои деяния. По самому ясному лишь указанию свыше могла бы я оставить братьев и сестер в Снофильде, которые удостоены лишь весьма немногих благ этого мира, где деревья находятся в небольшом числе, так что ребенок может сосчитать их, и где бедным весьма тяжело жить зимою. Мне предназначено помогать тому небольшому стаду, быть его отрадою и опорою, усилить его и сзывать туда заблуждающихся; и душа моя полна всего этого с раннего утра и до позднего вечера. Моя жизнь слишком коротка, дело же Божие слишком велико для меня, чтоб я могла устроить себе в этом мире свой собственный приют. Я не была глуха к вашим словам, Сет, ибо, когда я увидела, как вы отдали мне вашу любовь, я думала, что само Провидение указывает мне переменить мой образ жизни и нам обоим сделаться помощниками друг друга; и я обратилась с вопросом об этом к Богу. Но каждый раз когда я старалась мысленно остановиться на замужестве и на нашей жизни вдвоем, то голова моя всегда наполнялась другими мыслями… о тех временах, когда я молилась у изголовья больных и умирающих, и о счастливых часах, в которые я поучала, когда сердце мое было полно любви и слово давалось обильно. И когда я открывала Библию для того, чтоб почерпнуть оттуда наставление, то я всегда попадала на слова, указывавшие мне ясно, где было мое дело. Я верю, Сет, вашим словам: что вы употребили бы все старания, чтоб быть помощью, а не препятствием в моих действиях, – но я вижу, что на брак наш нет воли Божией… Он влечет мое сердце по другому пути. Я хочу жить и умереть без мужа и детей. Мне кажется, что у меня в душе нет места для моих собственных нужд и опасений: в такой степени Богу было угодно наполнить сердце мое только нуждами и страданиями бедных избранных им людей.
Сет был не в состоянии отвечать, и они продолжали идти молча. Наконец, когда они уже стали подходить к воротам двора, он сказал:
– Итак, Дина, я должен найти в себе твердость, чтоб перенести это и покориться воле того, кто невидим. Но я чувствую теперь, как слаба моя вера. Кажется, как будто я уже не могу найти ни в чем радости, когда вас нет. Я думаю, что мое чувство к вам превышает обыкновенную любовь к женщинам, ибо я мог бы быть довольным, если б вы и не вышли за меня замуж, если б я мог отправиться в Снофильд, жить там и быть вблизи вас. Я надеялся, что сильная любовь к вам, которую Бог дал мне, служила указанием нам обоим, но, видно, это дано было мне в испытание. Может быть, я чувствую к вам больше, нежели я должен чувствовать к какому-либо созданию, ибо я невольно говорю о вас, как говорит гимн:
In darkest shades if she appear, My dawning is begun; She is my soul's bright morning-star, And she my rising sun[9].Я, может быть, и не прав, рассуждая таким образом, и должен научиться лучшему. Но скажите, будете ли вы недовольны мною, если судьба устроит так, что мне удастся оставить эту страну и пойти жить в Снофильд?
– Нет, Сет, но я советую вам ждать терпеливо и не оставлять без нужды вашей страны и родных. Не делайте ничего без ясного повеления Господа. Та страна холодна и бесплодна и непохожа на эту Гессемскую землю, в которой вы привыкли жить. Мы не должны торопиться в назначении и выборе нашей собственной участи – мы должны ждать указания.
– Но вы позволите мне написать вам письмо, Дина, если мне нужно будет сообщить вам что-нибудь.
– Конечно, уведомьте меня, если будете находиться в каком-нибудь затруднении. Я постоянно буду поминать вас в молитвах.
Они дошли теперь до ворот двора, и Сет сказал:
– Я не войду туда, Дина. Будьте же счастливы.
Она подала ему руку. Он остановился и медлил и потом сказал:
– Кто знает, может быть, через несколько времени вы станете иначе смотреть на предметы. Может быть, последует и новое указание.
– Оставим это, Сет! Хорошо жить только настоящею минутою, как читала я в одной из книг мистера Веслея. Ни вам, ни мне не следует делать планы: нам ничего более не остается делать, как повиноваться и надеяться. Будьте счастливы.
Дина сжала его руку с некоторой грустью в своих любящих глазах и потом вошла в ворота, между тем как Сет повернулся и медленно отправился домой. Но, вместо того чтоб идти прямой дорогой, он предпочел повернуть назад по полям, по которым недавно шел с Диной, и, кажется, его синий полотняный платок был очень влажен от слез гораздо прежде, нежели он успел опомниться, что уже было время прямо отправиться домой. Ему было только двадцать три года, и он только что узнал, что значит любить… любить до обожания, как молодой человек любит женщину, которая, по его собственному сознанию, выше и лучше его. Любовь такого рода почти одинакова с религиозным чувством. Как глубока и достойна такая любовь – все равно: к женщине, или к ребенку, к искусству, или к музыке. Наши ласки, наши нежные слова, наш тихий восторг под влиянием осеннего заката солнца, или колоннад, или спокойных величественных статуй, или бетховенских симфоний приносят с собою сознание того, что это волны и струи в неизмеримом океане любви и красоты. Наше волнение, достигая высшей степени, переходит от выражения к безмолвию; наша любовь при самой высшей струе ее стремится далее своего предмета и теряется в чувстве божественной тайны. И этот благословенный дар благоговеющей любви, с того времени как существует свет, был присужден слишком многим смиренным работникам, и потому мы не должны удивляться, что эта любовь существовала в душе методиста-плотника полстолетия тому назад: тогда продолжал еще существовать отблеск времени, в которое Весли и его сотоварищи-земледельцы питались шиповником и боярышником корнвельских изгородей и, не щадя физических и нравственных сил своих, сообщали божественные вести бедным.
Этот отблеск исчез уже давно, и картина методизма, которую готово представить нам воображение, не является в виде амфитеатра зеленых гор или глубокой тени широколиственных сикомор, где толпа грубых мужчин и утомленных сердцем женщин впивали веру, которая первоначально образовала их, связала их мысли с прошедшим, возвысила их фантазию над грязными подробностями их собственной узкой жизни и облила их души сознанием сострадательного, любящего, беспредельного присутствия, сладостного, как лето для бездомного нищего. Может быть также, некоторые из моих читателей при мысли о методизме представляют себе не что иное, как низенькие дома в темных улицах, жирных лавочников, дармоедов-проповед ников, лицемерный тарабарский язык – элементы, по мнению не одного фешенебельного квартала, составляющие полную идею о методизме.
Это заслуживало бы сожаления, ибо я не могу представить, что Сет и Дина не были методистами – они были методистами, но, разумеется, не современной формы, которые читают трехмесячные обозрения и сидят в капеллах, имеющих портики с колоннами, а были методистами самого старого покроя. Они веровали, что чудеса могут совершаться и в настоящее время, веровали в мгновенное обращение, в откровения посредством снов и видений. Они бросали жребий и искали божественного указания, открывая наудачу Библию, они буквально толковали Священное Писание, что вовсе не утверждено признанными комментаторами. Мне невозможно также сказать, что они правильно выражались или что их учение отличалось веротерпимостью. Но – если я верно читал священную историю – вера, надежда и любовь к ближнему не всегда находились в безукоризненной гармонии. Благодаря небу можно иметь весьма ошибочные теории и весьма высокие чувства. Сырая ветчина, которую неуклюжая Молли откладывает от своей собственной скудной доли для того, чтоб снести ее соседнему ребенку, надеясь унять его этим лакомством, может быть жалким недействительным средством, но великодушное движение чувств, побуждающее соседку к этому делу, имеет благодетельный отблеск, который не потерян.
Принимая во внимание все сказанное нами выше, мы не можем отказать Дине и Сету в нашем сочувствии, несмотря на то что привыкли плакать над более возвышенною печалью героинь в атласных сапожках и кринолине и героев, ездящих на пылких конях и обуреваемых еще более пылкими страстями.
Бедный Сет! Во всю свою жизнь он сидел на лошади только один раз, когда был мальчиком и мистер Джонатан Бердж посадил его на лошадь позади себя, сказав ему: держись крепче! И, вместо того чтоб изливаться в неистовых упреках против Бога и судьбы, он, идя теперь домой, при торжественном сиянии звезд, решается подавить горе, менее подчиняться своей собственной воле и, подобно Дине, более жить для ближних.
IV. Дом и домашние печали
По зеленеющей долине протекает ручеек, почти готовый разлиться после недавних дождей и окруженный наклонившимися к его воде ивами. Через ручеек переброшена доска. По этой доске идет Адам Бид твердым шагом, преследуемый по пятам Джипом с корзинкой. Ясно, что он идет к крытому соломою дому, с одной стороны которого стоит клетка леса, подымающаяся вверх по противоположному откосу ярдов на двадцать.
Дверь дома отворена. Из нее смотрит пожилая женщина, но она не занята тихим созерцанием вечернего солнечного света – она ожидает, устремив слабые зрением глаза на постепенно увеличивавшееся пятно, которое как она вполне уверилась в последние минуты, был ее любимый сын Адам. Лисбет Бид любит своего сына любовью женщины, которая получила своего первенца поздно в жизни. Она – заботливая, худощавая, но еще довольно крепкая старуха и чистая, как подснежник. Седые волосы опрятно зачесаны назад под белый, как снег, полотняный чепец, обшитый черною лентою, широкая грудь покрыта желтою косынкой, и под ней вы видите нечто вроде короткого спального платья, сшитого из синей клетчатой холстинки, подвязанного около талии и доходящего пониже колен, где видна довольно длинная понитковая юбка. Лисбет высока, да и в других отношениях между ею и ее сыном Адамом большое сходство, ее темные глаза теперь уже несколько утратили свой блеск, вероятно от излишних слез, но ее широко очерченные брови все еще черны, зубы здоровы, и когда она стоит, держа в своих загрубелых от трудов руках вязанье, и быстро и бессознательно занимается этою работою, то держится так же прямо и твердо, как и в то время, когда несет на голове ведро с водою от ключа. В матери и сыне та же фигура и тот же смелый живой темперамент, но не от матери у Адама выдающийся вперед лоб и выражение великодушия и ума.
Фамильное сходство служит нередко источником глубокой грусти: природа, этот великий трагический драматург, связывает нас вместе посредством костей и мускулов и разделяет нас более тонкою тканью нашего мозга, смешивает любовь и отвращение и связывает нас фибрами сердца с существами, постоянно находящимися в разладе с нами. Мы слышим, как голос, имеющий тот же тембр, как и наш собственный, выражает мысли, которые мы презираем; мы видим, что глаза – ах, точь-в-точь глаза нашей матери – отвращаются от нас с холодным равнодушием, и наш последний любимый ребенок приводит нас в трепет, своим видом и жестами напоминая сестру, с которой мы враждебно расстались много лет тому назад. Отец, которому мы обязаны нашим лучшим наследством – механическим инстинктом, тонкою чувствительностью к звукам, бессознательными способностями к художеству, – раздражает и заставляет нас краснеть своими беспрестанными промахами; давно утраченная нами мать, лицо которой мы начинаем видеть в зеркале, когда являются наши собственные морщины, тревожила некогда наши молодые души своими заботливыми причудами и неразумною настойчивостью.
Вы слышите голос такой заботливой, любящей матери, когда Лисбет говорит:
– Наконец-то, Адам! Семь часов уже пробило давно. Ты всегда готов оставаться до тех пор, пока не родится последний ребенок. Ты, я уверена, хочешь ужинать. Где же Сет? Я думаю, шляется где-нибудь по капеллам?
– Полно, матушка! Сет не балует, будь спокойна. Но где же отец? – торопливо произнес Адам, входя в дом и взглянув в комнату на левой стороне, где была мастерская. – Что, готов ли гроб Толера? Вон там стоит и материал так, как я оставил его сегодня утром.
– Готов ли гроб? – сказала Лисбет, следуя за ним и продолжая вязать без прерывания, хотя смотрела на своего сына очень заботливо. – Э, родной, он сегодня утром отправился в Треддльстон и еще не возвращался. Я думаю, что он опять нашел дорогу в «Опрокинутую телегу».
Весьма заметная краска гнева быстро пробежала по лицу Адама. Он не произнес ни слова, сбросил свою куртку и начал снова засучивать рукава своей рубашки.
– Что хочешь ты делать, Адам? – сказала мать с беспокойством в голосе и во взгляде. – Неужели ты опять хочешь приняться за работу, не съевши своего ужина?
Адам, рассерженный так, что не мог говорить, пошел в мастерскую. Но его мать оставила свое вязанье и, торопливо догнав его, схватила за руку и тоном жалобного укора сказала:
– Нет, сын мой, ты не должен идти без ужина. Там твое любимое кушанье – картофель в соусе. Я оставила его именно для тебя. Пойди и поужинай… Пойдем.
– Полно! – резко сказал Адам, освобождаясь от матери и схватив одну из досок, прислоненных к стене. – Тебе хорошо говорить об ужине, когда обещали доставить гроб в Брекстон завтра утром, к семи часам. Он должен был бы находиться там уже теперь, а между тем не вбито еще ни одного гвоздя. Уж мне это по горло – я не могу и глотать пищи.
– Ну, ведь ты не можешь же приготовить гроба, – сказала Лисбет. – Ты вгонишь себя самого в могилу работою. Ведь тебе придется проработать всю ночь, чтоб приготовить его.
– Что за дело, сколько времени и проработаю над ним! Разве гроб не обещан? Разве могут похоронить человека без гроба? Я охотнее лишусь руки от работы, нежели стану обманывать людей ложью таким образом. Я сойду с ума, если только подумаю об этом. Я очень скоро переменю все это. Я терпел довольно долго.
Бедная Лисбет уже не впервые слышала эту угрозу и поступила бы благоразумнее, если б притворилась, что не расслышала ее, вышла бы спокойно вон и помолчала несколько времени. Женщина должна хорошенько запомнить этот совет: никогда не говорить с человеком рассерженным или пьяным. Но Лисбет села на чурбан для обрубки досок и принялась плакать; проплакав до тех пор, пока голос ее стал очень жалостлив, она разразилась словами:
– Нет, мой сын, ты не захочешь уйти и сломить сердце твоей матери и бросить отца, чтоб он разорился. Неужели ты захочешь, чтоб они снесли меня на кладбище, и не пойдешь за моим гробом? Я не буду покойна в моей могиле, если не увижу тебя, когда стану закрывать глаза. Как же им дать знать тебе, что я при смерти, если ты пойдешь по работам в отдаленные места?.. Сет, вероятно, уйдет также после тебя… твой отец не в состоянии держать перо в своих дрожащих руках, да притом же он и не будет знать, где ты находишься. Ты должен простить твоему отцу… ты не должен быть так суров к нему. Он был для тебя хороший отец до того, как он предался пьянству. Он был сметливый работник, научил тебя мастерству, вспомни это, и никогда в жизни не ударил меня и даже не сказал дурного слова… нет, даже когда он бывает пьян. Ты не захочешь, чтобы он пошел в рабочий дом… твой родной отец… а ведь он был статный человек и почти на все руки мастер лет двадцать пять тому назад, когда ты ребенком лежал у моей груди.
Голос Лисбет стал громче и был задушен рыданиями. Такого рода вопли принадлежат к самым раздражающим из всех звуков для того, кому приходится переносить истинное горе и кому надобно действительно работать. Адам с нетерпением прервал рыдания матери:
– Ну, матушка, не плачь и не говори так. Мало мне, что ли, хлопот и без этого? К чему говорить мне о вещах, о которых я и без того думаю слишком много каждый день? Если б я не думал о них, каким образом делал бы я так, как делаю теперь только для того, чтоб все это осталось в порядке? Но я терпеть не могу, если говорят по-пустому: я люблю беречь силы для работы, а не тратить их на пустую болтовню.
– Я знаю, ты делаешь то, чего никто другой не захотел бы делать, сын мой! Но ты всегда бываешь так жесток к твоему отцу, Адам! Теперь сколько ты делаешь для Сета, и все это тебе еще кажется мало, и на меня-то ты тотчас крикнешь, если я скажу, что недовольна мальчиком. Но ты так сердишься на твоего отца, как ты не сердишься ни на кого другого.
– Хуже, я думаю, будет, если я стану говорить мягко и спокойно смотреть на то, что дела идут дурно, не правда ли? Если б я не был строг к нему, он продал бы весь материал, что вон там на дворе, и истратил бы его на пьянство. Я знаю, что на мне лежат обязанности в отношении к отцу, но я не обязан поощрять его к тому, чтоб он очертя голову несся к своей гибели. А зачем же примешивать к этому Сета? Мальчик не делает ничего дурного, сколько я знаю… Но теперь оставь меня в покое, матушка, и не мешай мне работать.
Лисбет не смела более говорить, но она встала и позвала Джипа. Чтоб несколько утешить себя чем-нибудь в том, что Адам отказался от ужина, который она приготовила, надеясь не спускать с любимого сына глаз все время, пока он будет есть, она с необыкновенною щедростью принялась кормить Адамову собаку. Но Джип, приведенный в смущение необыкновенными обстоятельствами, наблюдал за своим господином, нахмурив брови и подняв уши. Когда Лисбет кликнула его, то он посмотрел на нее и с беспокойством шевельнул передними лапами, зная очень хорошо, что она зовет его ужинать, но находился в нерешимости и продолжал сидеть на задних лапах, снова устремив заботливый взор на своего господина. Адам заметил нравственную борьбу Джипа, и хотя гнев сделал его менее нежным к матери, нежели обыкновенно, это, однако ж, не помешало ему позаботиться о собаке, как он заботился о ней всегда. Мы скорее будем ласково обращаться с животными, которые любят нас, нежели с женщинами, которые любят нас. Не потому ли это, что животные безгласны?
– Ступай, мой Джип, ступай! – сказал Адам тоном поощрительного приказания, и Джип, очевидно довольный тем, что мог соединить в одно долг и удовольствие, последовал за Лисбет в общую комнату.
Но едва успел он вылакать свой ужин, как тотчас же возвратился к своему господину; Лисбет осталась сидеть одна, плача над своим вязаньем. Женщины, которые никогда не бранятся и которые незлопамятны, часто имеют привычку постоянно жаловаться, и если Соломон был так мудр, как гласит о нем предание, то я уверен, что если он сравнивал сварливую женщину с постоянным капаньем дождя в самый дождливый день, то не имел в виду злой женщины, фурии с длинными ногтями, язвительной и самолюбивой. Уверяю вас, он подразумевал добрую женщину, видевшую радости только в счастье любимых ею особ, беспокойству которых она содействовала тем, что всегда откладывала им лакомые куски и ничего не тратила на самое себя. Он подразумевал такую женщину, как, например, Лисбет, терпеливую и в то же самое время вечно жалующуюся, отказывающую себе во всем и требовательную, день-деньской перебирающую, что случилось вчера и что может случиться завтра, и готовую плакать и над хорошим, и над дурным. К идолопоклоннической любви, которую она питала к Адаму, примешивался некоторый страх, и когда он говорил: «Оставь меня в покое», то она всегда становилась безмолвною.
Так прошло несколько времени при громком стуке старых суточных часов и при звуке Адамовых инструментов. Наконец он потребовал свечу и глоток воды (пиво пилось только по праздникам), и Лисбет, внося то, что он требовал, осмелилась произнести:
– Твой ужин стоит на столе. Может быть, ты вздумаешь съесть что-нибудь?
– Тебе, матушка, незачем сидеть долее, – сказал Адам ласковым голосом. Гнев его утих за работою, и когда он желал быть особенно ласковым со своей матерью, то говорил своим природным акцентом и на своем природном диалекте, которыми в другое время его речь оттенялась менее. – Я посмотрю за отцом, когда он возвратится домой. Может, он сегодня ночью и вовсе не придет домой. Я буду покойнее, если ты ляжешь.
– Нет, и посижу, пока придет Сет. Он, думаю, вернется теперь скоро.
В это время часы, которые обыкновенно шли несколько вперед, пробили девять, но они не пробили еще десяти, как кто-то поднял защелку, и вошел Сет. Подходя домой, он слышал шум инструментов.
– Что это значит, матушка? – сказал он. – Отец работает так поздно?
– Это работает не отец… ты мог бы знать это очень хорошо, если б голова твоя не была набита церковным вздором… Если кто-нибудь работает тут, так это твой брат. Кто, кроме него, станет тут работать?
Лисбет хотела продолжать, ибо она вовсе не боялась Сета и обыкновенно изливала пред ним все жалобы, которые были подавлены в ней боязнью к Адаму. Сет во всю свою жизнь не сказал матери жесткого слова, а робкие люди всегда изливают свою брюзгливость на людей кротких. Но Сет с озабоченным видом пришел в мастерскую и сказал:
– Адди, что это значит? Как! Отец забыл сделать гроб?
– Да, брат, ведь это старая песня. Но я сделаю его, – сказал Адам, приподнявшись и бросив на брата проницательный ясный взгляд. – А что случилось с тобой? Отчего ты так встревожен?
Глаза Сета были красны; на его кротком лице выражалось глубокое уныние.
– Да, Адди! Но что определено свыше, тому помочь нельзя… А ты, таким образом, не был и в училище?
– В училище? Нет. Этот винт может и подождать, – сказал Адам, снова принимаясь за молоток.
– Пусти-ка теперь меня – теперь моя очередь, – а ты ступай спать, – сказал Сет.
– Нет, брат, лучше я буду продолжать, благо я теперь уж запряг себя. Ты можешь помочь мне снести в Брокстон, когда он будет готов. Я разбужу тебя на рассвете. Ступай и ужинай, да запри дверь, чтоб я не слышал болтовни матери.
Сет знал, что Адам всегда говорил то, что думал, и что его ничем нельзя была заставить переменить свое мнение. Таким образом, с тяжелым сердцем пошел он в общую комнату.
– Адам еще не дотрагивался до ужина с тех пор, как пришел домой, – сказала Лисбет. – А ты, я думаю, поужинал у каких-нибудь методистов.
– Нет, матушка, – сказал Сет. – Я еще не ужинал.
– Ну, так ступай, – сказала Лисбет. – Но не ешь картофеля, потому что Адам, может быть, поест, если ужин останется тут на столе. Ведь он любит картофель в соусе. Но он был так опечален и рассержен, что не хотел есть, а я-то и положила его ведь только для него. Он уж снова грозится уйти, – продолжала она, хныкая. – И я почти уверена, что он уйдет куда-нибудь на рассвете, прежде чем я встану, и вовсе не предупредивши меня о том, и никогда не возвратится опять, если уж он однажды уйдет, уж лучше не было бы никогда у меня сына… Ведь он не похож ни на какого другого сына своею ловкостью и проворством… И господа-то обращают на него такое внимание, ведь он такой высокий и стройный, словно тополь… И мне-то расстаться с ним и никогда более не увидеть его!
– Полно, матушка! К чему горевать понапрасну, – сказал Сет, утешая ее. – Ты не имеешь почти никаких оснований думать, что Адам уйдет из дому; напротив того, ты имеешь больше оснований думать, что он останется с тобою. Он, может быть, и скажет такую вещь в сердцах, и его надо извинить, если он иногда бывает сердит, но его сердце никогда не позволит ему уйти из дому. Вспомни, как он поддерживал нас всех, когда мы были в затруднительном положении: он отдал сбереженные им деньги для того, чтоб выкупить меня из солдат, и покупал своими заработками лес для отца, между тем как он мог бы извлечь много пользы из своих денег для самого себя, между тем как многие из молодых людей, подобных ему, давно бы уж женились и завелись своим домом. Он никогда не переменится и не бросит своего собственного дела и никогда не покинет родных, поддержание которых было целью его жизни.
– Не говори мне о женитьбе, – сказала Лисбет, снова заплакав. – Вся его душа лежит к этой Хетти Соррель, которая не сбережет ни одного пенни и которая всегда будет задирать голову перед его старой матерью. И если подумаешь, что он мог бы иметь Мери Бердж, быть принятым в компаньоны и сделаться великим человеком и иметь, как мистер Бердж, подчиненных себе работников… Долли столько раз уж говорила мне об этом… Если б он не привязался всем сердцем к этой девчонке, от которой столько же пользы, сколько и от левкоя на стене. Ведь он такой мастер писать и считать, а занимается таким вздором!
– Но, матушка, ты знаешь, что мы не можем любить именно тех, кого хотят другие люди, никто, кроме Бога, не может управлять сердцем человека. Я сам очень желал бы, чтоб Адам сделал другой выбор, но я не стал бы упрекать его за то, чему он помочь не может. А кто знает, может, он и старается преодолеть это. Но он не любит, чтоб с ним говорили об этом предмете, и я могу только молить Господа, чтоб он благословил его и руководил им.
– Ну, да, конечно, ты всегда готов молиться, но я не вижу, чтоб молитвы принесли тебе много пользы. Ты не заработаешь вдвое к нынешнему Рождеству. Методисты не сделают из тебя и полчеловека такого, как брат, даром что те считают тебя способным сделаться проповедником.
– То, что ты говоришь, отчасти и правда, матушка, – сказал Сет кротко. – Адам гораздо выше меня; он сделал для меня столько, сколько я никогда не буду в состоянии сделать для него. Бог распределяет таланты между людьми, как он находит добрым. Но ты не должна унижать молитвы. Молитва, может быть, не приносит денег, но она приносит нам то, чего мы не можем купить ни на какие деньги, – власть удерживаться от греха и покоряться воле Божьей, что бы ни было угодно ему ниспослать на нас. Если б ты захотела просить Бога о помощи и веровать в его милосердие, ты не стала бы так беспокоиться о суетных вещах.
– Беспокоиться? Я думаю, что я имею право беспокоиться. Тебе хорошо говорить, что мне нечего беспокоиться. Ты, пожалуй, отдашь все, что зарабатываешь, и не станешь беспокоиться о том, чтоб отложить что-нибудь на черный день, и если б Адам был так же спокоен, как ты, он никогда не имел бы денег, чтоб заплатить за тебя. Не заботься о завтрашнем дне – да, не заботься! – вот что ты говоришь всегда, и что же выходит из этого? И приходится вот Адаму заботиться о тебе!
– Таковы слова Священного Писания, матушка! – сказал Сет. – Это не значит, что мы должны лениться. Это значит, что мы не должны заботиться чересчур и мучить самих себя тем, что может случиться завтра, но должны исполнять нашу обязанность и остальное предоставить воле Божьей.
– Ну да, вот ты говоришь так всегда: ты всегда делаешь целый гарнец твоих собственных слов из пинты выражений Священного Писания. Я не вижу, каким образом ты можешь знать, что все это значит «не заботиться о завтрашнем дне». И если в Священном Писании помещается так много и ты знаешь все, что там есть, то я удивляюсь, почему, выбирая оттуда тексты, ты не выбираешь оттуда текстов получше, таких, которые бы не значили больше, чем они говорят. Адам ведь не выбирает же ничего подобного. Вот я могу понимать текст, который он приводит всегда: «Бог помогает тем, которые помогают себе сами».
– Нет, матушка, – сказал Сет, – это не текст из Священного Писания, это из книги, которую Адам нашел в одном книжном ларе в Треддльстоне. Она была написана человеком известным, но уж чересчур привязанным к свету, кажется. Несмотря на то, это изречение отчасти справедливо, ибо Священное Писание говорит, что мы должны трудиться вместе с Богом.
– Да, но откуда же знать мне это? Оно звучит словно текст. Но что с тобою, родной? Ведь ты почти ничего не ел. Неужели ты не осилишь ничего, кроме этого кусочка овсяного пирога? И ты так бледен, как кусок свежей ветчины. Скажи, что с тобой?
– Не стоит и говорить об этом, матушка! Я не голоден, вот и все. Я вот опять взгляну, что Адам… не даст ли он мне теперь поработать над гробом?
– Не хочешь ли теплого супу? У меня есть капля его, – сказала Лисбет, материнское чувство которой теперь восторжествовало над ее естественною привычкою. – Я в одну минуту разожгу две-три лучинки.
– Нет, матушка, благодарю тебя, ты очень добра, – сказал Сет с чувством и, ободренный этим порывом нежности, продолжал: – Дай мне помолиться вместе с тобою за отца, за Адама, за всех нас: это успокоит тебя, может быть, более, нежели ты думаешь.
– Хорошо. Мне нечего говорить против этого.
Хотя Лисбет в своих разговорах с Сетом всегда охотно становилась на отрицательную сторону, она, однако ж, как-то неясно сознавала, что его набожность заключала в себе некоторое спокойствие и безопасность и избавляла ее от излишних духовных забот в отношении к ней самой.
Итак, мать и сын вместе стали на колени, и Сет молился за бедного заблудшего отца и за тех, которые грустили о нем дома. И когда он дошел до того места, где просил, чтоб Адаму никогда не было суждено перенести своего крова в отдаленную страну, но чтоб его присутствие услаждало и успокаивало его мать во все дни ее земного странствования, то готовые слезы Лисбет полились снова, и она принялась громко рыдать.
Когда они встали, то Сет опять пошел к Адаму и сказал:
– Не хочешь ли прилечь хоть на часок или на два, и дай мне поработать в это время.
– Нет, Сет, нет. Пошли матушку спать и отправляйся сам.
Между тем Лисбет осушила глаза и последовала за Сетом, держа что-то в руках. Это было темно-желтое глиняное блюдо, заключавшее в себе жареный картофель, пропитанный соусом, и кусочки мяса, которые она нарезала и смешала с картофелинами. Это были дорогие времена, когда пшеничный хлеб и свежее мясо были редким кушаньем для рабочего народа. Она с некоторой робостью поставила блюдо на скамейке возле Адама и сказала:
– Ты можешь взять кусочек-другой, пока работаешь. Я принесу тебе еще воды.
– Да, матушка, сделай милость, – сказал Адам ласково. – Я беспрестанно хочу пить.
Через полчаса все в доме стихло: не было слышно никакого звука, кроме громкого стука старых суточных часов и звона адамовых инструментов. Ночь была чрезвычайно тиха: когда Адам отворил в двенадцать часов дверь и взглянул на улицу, то движение, казалось, было единственно лишь в горевших блестящих звездах, каждая былинка предавалась покою.
Физическая поспешность и усилия обыкновенно оставляют наши мысли на волю нашим чувствам и воображению. Так было в эту ночь с Адамом. В то время, когда сильно работали его мускулы, его голова, казалось, находилась в таком же бездействии, как голова зрителя диорамы: сцены грустного прошлого времени и, по всему вероятию, грустного будущего плыли перед ним и в быстрой последовательности уступали место одна другой.
Он видел, как будет завтра утром, после того когда он снесет гроб в Брокстон и придет опять домой позавтракать: может быть, его отец будет уже дома, стыдясь встретить взгляд своего сына. Вот он сидит и кажется старее и дряхлее, нежели казался последним утром. Он опустил голову и рассматривает плиты, из которых сделан пол, между тем как Лисбет спрашивает его, знает ли он, как поспел гроб, от которого он убежал и который бросил не готовым, ибо Лисбет всегда первая произносила слово упрека, хотя она плакалась на строгость Адама в отношении к отцу.
«Так это и будет идти все хуже да хуже, – думал Адам, – ведь нельзя снова скользить вверх на холм, нельзя и остановиться, если уж раз начнешь спускаться».
Потом вспомнилось ему время, когда он был мальчиком и обыкновенно бегал около своего отца, гордясь, что его брали на работу, и гордясь еще более, когда слышал, что его отец, хвастаясь, говорил своим товарищам-работникам: «А ведь парнишка-то имеет необыкновенные способности к плотничьему мастерству». А что за славный, деятельный человек был его отец в то время! Когда Адама спрашивали, чей был он сын, он чувствовал некоторое отличие, когда отвечал: «Матвея Бида». Он был уверен, что Матвея Бида знали все: не он ли сделал эту мастерскую голубятню в священническом доме в Брокстоне? То было счастливое время, особенно когда Сет, который был тремя годами моложе, также начал ходить на работу и Адам начал быть учителем, будучи в то же время и учеником. Потом наступили дни горя, когда Адаму перешло за тринадцать лет и Матвей начал шататься по шинкам, а Лисбет начала плакать дома и изливать свои жалобы в присутствии сыновей. Адам живо помнил ночь стыда и грусти, когда впервые увидел своего отца совершенно диким и бессмысленным, отрывисто оравшим песню между своими пьяными товарищами в «Опрокинутой телеге». Он уже убежал однажды, когда ему было только восемнадцать лет: он бежал в утренние сумерки, с небольшим синим узелком на плечах и своею книгою для измерений в кармане, и решительно сказал себе, что не может долее переносить домашних огорчений. Он решился идти и искать счастья, слегка втыкая свою палку на перекрестках и направляя шаги в ту сторону, куда она упадет. Но когда он дошел до Стонигона, мысль о матери и Сете, оставшихся дома испытывать горе без него, стала неотступно преследовать, и решимость покинула его. Он вернулся домой на другой же день, но горе и ужас, которые испытала его мать в продолжение этих двух дней, преследовали его с того времени постоянно.
«Нет! – решил теперь Адам про себя. – Этому уж не бывать опять. Ведь мне придется плохо в то время, когда будут взвешиваться мои деяния, если тогда моя бедная старуха мать будет не на моей стороне. Моя спина довольно широка и довольно сильна; я поступил бы, как трус, если б ушел и оставил тех переносить бремя, которые более нежели вдвое слабее меня. „Те, которое сильны, должны переносить слабости тех, которые слабы, а не творить себе угодное“. Вот текст, не нуждающийся в пояснении: он светит собственным своим светом. Довольно ясно, что вы идете ошибочной дорогой в этой жизни, если гоняетесь за тем и за другим ради того только, чтоб сделать себе угодное и приятное. Свинья может, сунув морду в корыто, не думать ни о чем вне корыта; но если в тебе есть человеческое сердце и душа, то ты не можешь быть покоен, делая себе постель, а остальным предоставляя лежать на камнях. Нет, я никогда не высвобожу выи из-под ярма, никогда не допущу, чтоб бремя тащили слабые. Отец – тяжелый крест для меня, и, может быть, мне придется нести этот крест еще много лет. Но что ж делать! Я крепок здоровьем, мои члены сильны, мой дух тверд для того, чтоб переносить это».
В эту минуту раздался резкий удар в дверь, нанесенный, казалось, ивовым хлыстиком, и Джип, вместо того чтоб залаять, что, конечно, следовало ожидать, издал громкий вой. Адам, внезапно встревоженный, быстро подошел к двери и отворил ее. Не видно было ничего; все было тихо, как за час тому назад, когда он отворял дверь. Листья были неподвижны, и блеск звезд открывал тихие поля по обеим сторонам ручейка, совершенно лишенные всякой видимой жизни. Адам обошел вокруг дома и все-таки не увидел ничего, кроме крысы, стремглав бросившейся в дровяной подвал, когда он проходил. Он снова вошел в дом, удивляясь. Звук был такой странный, что в ту минуту, когда Адам услышал его, этот звук вызвал в нем мысль о том, что по двери ударили ивовым хлыстиком. Он не мог не содрогнуться, вспомнив, как часто говорила ему мать, что совершенно такой звук служит знаком, когда кто-нибудь умирает. Адам не принадлежал к числу людей суеверных без всякого основания, но вместе с кровью ремесленника в нем текла кровь крестьянина, а крестьянин не может не верить в суеверие, основанное на предании, подобно тому, как лошадь не может не дрожать, когда видит верблюда. Кроме того, он обладал тем умственным соображением, которое в одно и то же время бывает весьма смиренно в области таинственности и смело в области знания: его отвращение к доктринерной религии происходило столько же от глубокого благоговения к откровенной религии, сколько от его твердого здравого смысла, и он часто удерживал доказательный спиритуализм Сета, обращаясь к нему с следующими словами: «Э, это великая тайна, и ты знаешь об этом очень мало». Таким образом, Адам был в то же время и проницателен, и легковерен. Если обваливалось новое строение и ему говорили, что это произошло по Божьей воле, то он сказал бы непременно: «Может быть, но крыша и стены не находились друг к другу в верном отношении, иначе не могло бы развалиться», и все-таки он верил в сновидения и предвещания, и вы видели, что он содрогнулся при мысли об ударе ивовым хлыстиком.
Но он имел лучшее противоядие от воображаемого страха в необходимости продолжать свою работу, и в продолжение следующих десяти минут его молоток стучал так безостановочно, что другие звуки, если они только были, были им заглушаемы. Несмотря на то наступила пауза, когда он должен был поднять линейку, и тогда снова раздался странный удар и снова завыл Джин. Адам подскочил к двери, не теряя ни секунды, но снова все было тихо, и блеск звезд показывал, что перед избою не было ничего, кроме покрытой росою травы.
Адам с минуту с беспокойством подумал об отце; но в последние годы он никогда не возвращался домой в позднее время из Треддльстона, и можно было весьма основательно предполагать, что он в то время просыпал свой хмель в «Опрокинутой телеге». Кроме того, для Адама мысль о будущем была так неразлучна с горестным призраком его отца, что опасение рокового события, которое могло случиться с ним, вытеснялось глубоко врезавшеюся боязнью при его постепенном унижении. Его следующая мысль заставила его снять башмаки и осторожно подняться вверх по лестнице, для того чтоб послушать у дверей спальни. Но Сет и его мать дышали правильно.
Адам сошел вниз и опять принялся за работу, подумав:
«Я больше не отопру дверей. К чему еще высовываться, для того чтобы увидеть звук! Может, нас окружает мир, которого мы не можем видеть, но ухо проницательнее глаза и по временам схватывает звук, принадлежащий другому миру. Есть люди, думающие, что они и видят этот мир, но по большей части глаза таких людей не слишком-то годятся к чему-либо другому. По мне, так лучше посмотреть, верна ли отвесная линия, нежели пойти отыскивать привидение».
Подобные мысли становятся тверже и тверже, когда дневной свет гасит свечи и птицы начинают петь. Скоро красный солнечный свет заиграл на медных гвоздях, образовывавших начальные буквы на крышке гроба, и все остававшиеся в сердце Адама предчувствия, возбужденные странным звуком, исчезли, получив удовлетворение в том, что дело было окончено и обещание искуплено. Адаму не нужно было звать Сета, ибо последний уже шевелился наверху и тотчас же сошел вниз.
– Ну, брат, – сказал Адам, когда вошел Сет, – гроб готов, и мы можем нести его в Брокстон и возвратиться домой еще раньше половины седьмого. Я только съем кусочек овсяного пирога, а потом и в путь.
Вскоре гроб был поднят на высокие плечи двух братьев, и они в сопровождении Джипа, шедшего за ними по пятам, отправились в путь, выйдя с небольшого дровяного двора на дорогу, пролегавшую позади дома. До Брокстона по другую сторону покатости было всего около полторы мили, и путь братьев извивался по прелестным тропинкам и чрез поля, где бледная жимолость и дикие розы, росшие около изгороди, наполняли воздух благоуханием и где птицы чирикали и заливались трелью на высоких, покрытых листьями ветках дуба и вяза. То была чудно смешанная картина – свежая юность летнего утра с райскою тишиной и прелестью, бравая сила двух братьев в поношенной рабочей одежде и длинный гроб на их плечах. Их последний отдых был у небольшой фермы перед деревнею Брокстон. К шести часам работа была кончена, гроб заколочен, и Адам и Сет находились уже на пути домой. Они избрали кратчайший путь, который вел чрез поля и через ручеек к дому с лицевой стороны. Адам не сообщил Сету, что случилось ночью, но сам он все еще находился под впечатлением случившегося и потому сказал:
– Сет, если отец не возвратится домой после нашего завтрака, я думаю, ты поступил бы хорошо, если б отправился в Треддльстон и поискал его… Кстати, ты можешь купить мне там и медную проволоку, которая мне нужна. Это ничего, что ты потеряешь лишний час, – мы можем наверстать впоследствии. Как ты думаешь об этом?
– Я согласен, – сказал Сет. – Но посмотри-ка, что за тучи собрались с тех пор, как мы вышли? Я думаю, что пойдет сильный дождь. Это будет дурно для уборки сена, если поля будут снова затоплены. Ручей теперь полон, и воды в нем много; если дождь пойдет еще один день, то вода покроет доску, и нам придется тогда делать порядочный круг, чтоб попасть домой.
Они в то время пересекали долину и шли по пастбищу, по которому протекал ручей.
– Что там такое торчит у ивы? – продолжал Сет, ускоряя шаги.
Сердце Адама сжалось от тягостного предчувствия: неопределенное беспокойство об отце заменилось большим страхом. Он не отвечал Сету, но побежал вперед, предшествуемый Джипом, который начал лаять с беспокойством. В две минуты он был уже у моста.
Так вот что значило предзнаменование! И седовласый отец, о котором только за несколько часов перед тем Адам думал с некоторой жестокостью в той уверенности, что отец проживет еще довольно долго и будет для него предметом больших беспокойств, в то самое время, может быть, боролся со смертью в этой воде. Вот была первая мысль, как молния, озарившая совесть Адама, прежде нежели он успел схватить за куртку и вытащить высокое тяжелое тело. Сет уж был подле него, помогая ему, и когда оба сына вытащили тело на берег, то в первые минуты стали на колени и с немым ужасом смотрели на безжизненные стеклянные глаза, забывая, что им нужно было действовать, забывая все на свете перед отцом, который лежал перед ними мертвый. Адам первый прервал молчание.
– Я побегу к матери, – сказал он громким шепотом, – и возвращусь в одну минуту.
Бедная Лисбет была занята приготовлением завтрака для своих сыновей, и похлебка их, стоявшая на огне, начинала уже закипать. Кухня хозяйки могла во всякое время служить образцом чистоты, но в это утро Лисбет более обыкновенного старалась придать очагу и обеденному столу приличный и заманчивый вид.
– Ведь оба они устанут и проголодаются, мои голубчики, – говорила она вполголоса, мешая похлебку. – Неблизкое место Брокстон, да и каково-то идти по открытой горе… да еще с этим тяжелым гробом. Э! а ведь он стал теперь еще грузнее с бедным Бобом Толером. Зато я сегодня сварила похлебки-то побольше всегдашнего. Может, придет и отец и захочет после поесть. Не то что он много съест похлебки… Он, вишь вот, бросает полшиллинга на эль, а на похлебке так старается сберечь и полпенса… вот как он выдает мне деньги… да я и не раз говорила ему про это и опять скажу ему еще сегодня. Ах, бедняжка! ведь он слушает меня довольно спокойно, надо сказать правду.
Но в то время Лисбет услышала тяжелый звук шагов по лугу и, быстро повернувшись к дверям, увидела входившего Адама. Его лицо было так бледно и искажено, что она громко вскрикнула и бросилась к нему, прежде чем он успел произнести хоть слово.
– Полно, матушка, – сказал Адам хриплым голосом, – не пугайся. Отец упал в воду. Может, нам удастся еще привести его в себя. Сет и я принесем его тотчас домой. Достань одеяло и нагрей его перед огнем.
На деле Адам вовсе не сомневался, что отец был мертв, но он знал, что не было другого средства подавить сильную, выражающуюся жалобами печаль матери, как только заняв ее каким-нибудь действительным делом, в котором заключалась надежда.
Он побежал назад к Сету, и оба сына, пораженные до глубины души горем, безмолвно подняли тяжесть. Широко открытые стеклянные глаза были серы, как Сетовы, и с кроткою гордостью смотрели некогда на мальчиков, перед которыми впоследствии Матвей не раз опускал со стыдом голову. Чувства, преобладавшие в сердце Сета при этой внезапной потери отца, были страх и горесть; мысли же Адама стремительно возвращались к прошедшему потоком сожаления и раскаяния. Когда пришла смерть, великая примирительница, то мы никогда не раскаиваемся в своей нежности к покойнику – а в своей суровости к нему.
V. Приходский священник
До двенадцати часов шел несколько раз проливной дождь, и в глубоких канавах, находившихся по обе стороны усыпанных песком аллей в саду священника в Брокстоне, стояла вода по самые края. Большие провансальские розы были жестоко поколеблены ветром и побиты дождем. Нежные стебельки цветов, насаженных по краям дорожек, были наклонены книзу и запачканы сырою землею – словом, утро имело меланхолический вид, потому что время подходило к сенокосу, а между тем надо было ожидать, что потопятся поля.
Но люди, обладающие приятными домами, предаются в своих домах удовольствиям, о которых вспоминают только в дождливое время. Если б утро не было сырое, то мистер Ирвайн не сидел бы в столовой и не играл в шахматы со своею матерью; а он очень любит и свою мать и шахматы, так что при их помощи довольно сносно может провести несколько пасмурных часов. Позвольте мне взять вас в эту столовую и представить вам почтенного Адольфуса Ирвайна, брокстонского приходского священника, геслонского и блейтского викария, плюралиста, на которого самые суровые церковные реформаторы едва ли нашли бы возможным взглянуть кисло. Мы войдем очень осторожно и остановимся в отворенных дверях, стараясь не разбудить лоснистой темной легавой собаки, растянувшейся у печки возле своих двух щенков, или моськи, которая дремлет, подняв кверху свою черную морду, подобно какому-нибудь сонливому председателю.
Комната обширная и высокая, на одном конце ее широкое полукруглое окно; стены, вы видите, новы и еще не выкрашены, но мебель, хотя первоначально и дорогая, стара и немногочисленна, на окне нет никакой занавески. Малиновая скатерть на большом обеденном столе довольно потерта, хотя и составляет приятный контраст с мертвым цветом штукатурки на стенах, но на этой скатерти находится массивный серебряный поднос и на нем кувшин с водою, два другие подноса, одинакового фасона с первым, но только больше, поставлены на буфете, на средине их виднеется щит с гербом. Вы с первого взгляда подозреваете, что обитатели этой комнаты наследовали больше крови, нежели богатства, и нисколько не удивились бы, заметив, что мистер Ирвайн имеет тонко очерченные верхнюю губу и ноздри, но в настоящее время мы можем видеть только широкую плоскую спину и густые напудренные волосы, которые все отброшены назад и связаны сзади черною лентою – некоторый консерватизм в костюме, убеждающий вас в том, что он уже не молодой человек. Он, может быть, обернется впоследствии, а между тем мы можем посмотреть на эту величественную старую леди, его мать, красивую, пожилую брюнетку, которой прекрасный цвет лица еще более возвышается сложным убором из белого, как снег, батиста и кружев вокруг головы и шеи. В своей грациозной дородности она стройна, как статуя Цереры, и ее темное лицо, с изящным орлиным носом, твердым, гордым ртом и небольшими, проницательными черными глазами, имеет такое умное и саркастическое выражение, что вы инстинктивно заменяете шахматы колодою карт, представляя себе, что она предсказывает вам будущее. Небольшая смуглая рука, которою она поднимает королеву, вся в жемчугах, брильянтах и бирюзе; к самому верху ее чепчика с большою тщательностью прикреплен большой черный вуаль, падающий складками вокруг ее шеи и образующий резкий контраст с белым батистом и кружевами. Много требуется времени для того, чтоб одеть эту старую леди утром! Но кажется, таков закон природы, чтоб она была одета таким образом: очевидно, что она одна из тех потомков королевского достоинства, которые никогда не сомневались в своем божественном праве и никогда не встречались с теми, кто бы дерзнул оспаривать его у них.
– Ну, Адольф, скажите мне, что это такое? – говорит величественная старая леди, весьма спокойно поставив свою королеву и скрестив руки. – Мне очень не хотелось бы произнести слово, которое было бы неприятно вашим чувствам.
– Да вы просто чародейка, волшебница! Каким образом может христианин выиграть у вас? Вы выиграли эту игру нечистыми средствами, в таком случае и не хвастайтесь этим.
– Конечно, конечно. Вот так побежденные говорили всегда о великих завоевателях. Но посмотри, вот солнечные лучи падают на доску, чтоб яснее показать тебе, какой глупый ход сделал ты своей шашкой. Что ж, желаешь ли ты, чтоб я дала тебе еще шанс?
– Нет, матушка, я оставлю вас одних на суд вашей совести. Так как теперь начинает проясняться, мы должны идти и немножко поплескаться в грязи. Не правда ли, Джуно?
Эти слова относились к коричневой легавой собаке, которая вскочила при звуке голосов и вкрадчиво положила нос на ногу своего господина.
– Но сначала я должен подняться наверх и посмотреть на Анну. Прежде, в то время как я было шел к ней, меня отозвали на похороны Толера.
– Это совершенно бесполезно: она не может говорить с тобою. Кет говорит, что у нее сегодня опять самая страшная головная боль.
– О! Она радуется каждый раз, когда я прихожу к ней и смотрю на нее; как бы ни была она больна, мой приход никогда не беспокоит ее.
Если вы знаете, сколько слов люди говорят только по привычке и без всякого преднамеренного побуждения, то вы не удивитесь, когда я скажу вам, что одно и то же возражение, за которым следовал всегда тот же ответ, было произнесено несколько сот раз в течение пятнадцати лет, в которые сестра мистера Ирвайна, Анна, хворала. Великолепные старые леди, которым нужно много времени утром для того, чтоб одеться, имеют нередко очень незначительную симпатию к хворым дочерям.
Но в то время, когда мистер Ирвайн все еще сидел, прислонясь спиною к креслу и гладя по голове Джуно, в дверях показался лакей и сказал:
– Джошуа Ранн, сэр, хочет видеть вас, если вы свободны.
– Велите ему войти сюда, – сказала мистрис Ирвайн, взяв в руки вязанье. – Я охотно слушаю, когда говорит мистер Ранн. У него уж, верно, башмаки выпачканы в грязи: посмотрите же, Карроль, чтоб он вытер их хорошенько.
Чрез две минуты мистер Ранн появился в дверях, с весьма почтительными поклонами, которые, однако ж, далеко не успокоили моськи, издавшей громкий лай и побежавшей по комнате для рекогносцировки ног новоприбывшего. Два щенка, смотревшие на выдававшиеся икры и на полосатые шерстяные чулки с более чувственной точки зрения, возились около них и ворчали с большим наслаждением. Между тем мистер Ирвайн повернул кресло и сказал:
– А, Джошуа, разве случилось что-нибудь в Геслопе, что вы пришли сюда в такую сырую погоду? Садитесь, садитесь. Не церемоньтесь с собаками, дайте им приятельский тычок. Сюда, моська, негодяй!
Есть на свете лица, которые, когда обращаются к нам, производят весьма приятное ощущение; они производят такое же приятное ощущение, как внезапная струя теплого воздуха зимою или блеск света в холодных сумерках. Мистер Ирвайн имел именно такое лицо. Он имел такого рода сходство с своей матерью, какое имеет наше воспоминание о лице любимого друга с самим лицом; все черты были великодушнее, улыбка яснее, выражение теплее, если б контур не был очерчен так тонко, то его лицо можно было бы назвать веселым, но это слово не шло к нему, потому что лицо мастера Ирвайна выражало и простодушие, и сознание превосходства.
– Благодарю, ваше преподобие, – отвечал мистер Ранн, стараясь принять вид, что вовсе не заботится о своих ногах, но попеременно тряся ими для того, чтоб удерживать щенков от нападений. – Я постою, если позволите: это приличнее. Надеюсь, что вы и мистрис Ирвайн здоровы, а также и мисс Ирвайн… и мисс Анна, надеюсь, что они по-прежнему здоровы.
– Да, Джошуа, благодарю вас. Вы видите, какой цветущий вид имеет матушка. Она бьет нас, молодой народ, решительно наповал. Но в чем же дело?
– Да вот, сэр, мне нужно было побывать в Брокстоне, чтоб снести свою работу. Я и счел за долг свой зайти к вам и уведомить о том, что происходит у нас в деревне. Таких вещей я не видал во всю мою жизнь, а я прожил в деревне, мальчишкой и взрослым, вот будет в Фомин день шестьдесят лет. Я собирал к Пасхе подать для мистера Блика, прежде чем ваше преподобие изволили прибыть в приход, присутствовал всегда при звоне, при рытье всех могил и пел в хоре долгое время прежде, чем пришел Бартль Массей – бог весть откуда! – со своим контрапунктом и антифонами, который всех, кроме самого себя, сбивает с такту… и выходит, что один начинает, а другой следует за ним, как блеют овцы на выгоне… Я знаю, что должен делать приходский дьячок, и знаю, что было бы неуважением с моей стороны в отношении к вашему преподобию, и к церкви, и к королю, если б я допустил эти вещи, не сказав о них ни слова. Я был поражен изумлением, не знавши ничего об этом прежде; я был так взволнован, как будто выронил из рук мои инструменты. Я не мог спать больше четырех часов вот в эту ночь, которая прошла; да и этот сон был такой беспокойный, что я утомился более, чем если б совсем не спал.
– Но что же такое случилось, Джошуа? Уж не пытались ли опять воры украсть свинец с крыши?
– Воры! Нет, сэр… а между тем можно сказать, что это есть воры и также кража церковная. Изволите видеть: очень вероятно, что методистки сдержат превосходство в приходе, если вашему преподобию и их милости сквайру Донниторну не угодно будет сказать слово и запретить это. Не то чтоб я осмелился предписывать вам, сэр, – я никогда не посмею забыться до того, чтоб быть умнее своих высших; однако ж умен ли я или нет – это все равно, не в этом и дело, но я хотел только сказать вам и говорю, что молодая женщина, методистка, которая гостит у мистера Пойзера, проповедовала и молилась на Лугу вчера вечером. Это так же верно, как то, что в настоящую минуту я имею счастье находиться перед вашим преподобием.
– Проповедовала на Лугу? – сказал мистер Ирвайн с удивленным видом, но совершенно спокойно. – Эта бледная, хорошенькая молодая женщина, которую я видал у Пойзера? Я видел, что она была методистка, или квакерша, или что-нибудь в этом роде, по ее платью, но не знал, что она проповедница.
– Вы можете совершенно верить тому, что я говорю, сэр, – возразил мистер Ранн, сжав рот полукругом, и, помолчав так долго, что после его слов можно было поставить три восклицательные знака, продолжал: – Она проповедовала на Лугу вчера вечером и принялась за Чадову Бесс так, что с ней сделался припадок, и она с тех пор не перестает плакать.
– Ну, да Бесси Кренедж, кажется, здоровая девушка, я совершенно уверен, что у нее это пройдет, Джошуа… Ну, а из других ни с кем больше не было припадков?
– Нет, сэр, не могу сказать этого. Но нельзя знать, что случится, если такие проповеди, как вчера, будут происходить каждую неделю… тогда от них не будет и житья в деревне. Видите ли, эти методисты заставляют людей верить, что если они выпьют лишнюю рюмку для веселья, то за это они пойдут в ад. Это так же верно, как то, что они родились. Я не запивоха, не пьяница – никто не может сказать этого про меня, – но я люблю выпить лишнюю рюмку в Пасху или в Рождество, что и естественно, когда мы ходим ко всем и поем и люди предлагают нам вино даром, или когда я собираю подать, и я люблю выпить пинту с трубкой, по временам поболтать у соседа, мистера Кассона, потому что я был воспитан в церкви, благодаря Бога, и был приходским дьячком целые тридцать два года, ведь я уж должен знать, что такое господствующая религия.
– Ну, что же вы советуете, Джошуа? Что же нужно делать, по вашему мнению?
– Видите, ваше преподобие, я не стану советовать, чтоб вы приняли какие-нибудь меры против молодой женщины. Она женщина хорошая, если б только перестала заниматься вздором; притом же я слышал, что она вот скоро возвратится домой на родину. Она родная племянница мистера Пойзера, и я не желаю сказать ничего сколько-нибудь неуважительного о семействе, живущем на мызе… я ведь ходил к ним и снимал у них со старых и малых мерку для башмаков почти все время, что я занимаюсь башмачным мастерством. Но там есть Билль Маскри, сэр, это самый отчаянный методист, какой только может быть, и я нисколько не сомневаюсь, что это он подстрекнул молодую женщину проповедовать вчера вечером, да он приведет с собою других из Треддльстона проповедовать, если не сбить с него немного спеси. Я думаю, ему следует дать знать, что ему не станут более отдавать делать и чинить церковные телеги и снаряды и что его выгонят из дома и со двора, которые он получает в наем от сквайра Донниторна.
– Но вы сами говорите, Джошуа, что прежде, сколько вам известно, никто не приходил проповедовать на Лугу, почему же вы думаете, что другие придут опять? Методисты не приходят проповедовать в такие небольшие деревни, как Геслоп, где только какая-нибудь горсть работников, которые обыкновенно бывают слишком утомлены для того, чтоб слушать их. Им почти так же бесполезно проповедовать в Геслопе, как и на совершенно безлюдных Бинтонских Горах. Кажется, Билль Маскри сам не проповедник?
– Нет, сэр, у него нет дара связывать слова без книг, он увяз бы так же скоро, как корова в сырой земле. Но у него довольно длинный язык для того, чтоб неуважительно говорить о своих ближних, потому что он вот сказал про меня, что я слепой фарисей… который употребляет Священное Писание для того только, чтоб давать прозвища людям, которые старше и лучше меня!.. А еще хуже всего то, что слышали, как он весьма неприлично выражался о вашем преподобии… я мог бы привести людей, которые готовы побожиться, что слышали, как он называл вас безгласным псом и беспечным пастухом. Прошу извинить меня, ваше преподобие, в том, что я передаю такие вещи.
– Лучше не передавать, конечно. Пусть злые речи умирают в ту же минуту, как они произнесены. Билль Маскри мог бы быть гораздо хуже, нежели он есть теперь. Мне говорили, что он был буйный пьяница, не радел о деле и бил жену, теперь же он стал бережлив и скромен, он и жена его имеют оба довольно приличный вид. Если вы можете представить мне какое-нибудь доказательство того, что он ссорится с своими соседями и производит беспокойство, то я, как священник и судья, буду считать своею обязанностью вмешаться в это дело. Но умным людям, как вы да я, было бы неприлично хлопотать о пустяках, как будто мы думаем, что церковь находится в опасности, потому что Билль Маскри позволяет своему языку молоть вздор или молодая женщина говорит серьезно перед горстью людей на Лугу. Мы должны жить и давать жить, Джошуа, как относительно религии, так относительно и всего прочего. Продолжайте исполнять свою обязанность приходского дьячка, пономаря и могильщика, и исполнять ее так, как вы всегда исполняли, и делать своим соседям отличные толстые сапоги, и я уверен, что в Геслоне не случится ничего особенно дурного.
– Ваше преподобие очень добры, говоря таким образом, и я вполне чувствую, что так как вы сами не живете в приходе, то на мои плечи падает большая ответственность.
– Конечно, и вы должны заботиться о том, чтоб не унижать достоинства церкви в глазах людей, Джошуа, и потому вы не должны показывать вид, что испугались такой ничтожной безделицы. Я полагаюсь на ваш здравый смысл и надеюсь, что вы не обратите никакого внимания на то, что говорит Билль Маскри, все равно – о вас или обо мне. Вы и ваши соседи могут себе по-прежнему умеренно пить пиво, когда вы окончили свою дневную работу, как подобает хорошим церковникам, и если Билль Маскри не захочет присоединиться к вам, а вместо того отправится на митинг методистов в Треддльстон, то и не трогайте его: это до вас не касается, пока он не мешает вам делать то, что вам нравится. Что ж касается людей, говорящих дурно о нас, то мы не должны обращать на это никакого внимания, подобно тому как старая церковная колокольня не обращает никакого внимания на грачей, каркающих около нее. Билль Маскри ходит в церковь каждое воскресенье после обеда и в будни прилежно занимается своим мастерством колесника, и, пока он ведет себя таким образом, его надо оставить в покое.
– Ах, сэр, но когда он приходит в церковь, то сидит и качает головой и строит такие кислые и дурацкие физиономии, когда мы поем, что мне так и хочется хватить его по роже, прости Господи, и вы, мистрис Ирвайн, и ваше преподобие, извините меня, что я перед вами выражаюсь таким образом. Он сказал также, что наше пение об Рождестве нисколько не лучше треска хвороста под чугунником.
– Ну, что ж! У него ухо немузыкальное, Джошуа. Вы знаете, если у кого деревянная голова, то уж этому нельзя помочь ничем. Он не заставит людей в Геслопе принять его мнения, когда вы будете петь так хорошо, как умеете.
– Конечно, сэр, но ведь желудок поворачивается, когда слышишь, что Священное Писание извращают таким образом. Я знаю Священное Писание нисколько не хуже его и верно прочту псалмы даже и во сне, если вы ущипнете меня, но я знаю, что лучше вовсе не читать их, если я намерен объяснять их по-своему.
– Ваше замечание очень умно, Джошуа, но я сказал уже прежде…
В то время, как мистер Ирвайн произносил эти слова, на каменном полу передней залы раздался звук сапог и звон шпоры, и Джошуа Ранн быстро отодвинулся в сторону от дверей для того, чтоб дать место человеку, который остановился в дверях и звучным тенором произнес:
– Крестник Артур… можно войти?
– Можно, можно, крестник! – отвечала мистрис Ирвайн густым полумужским голосом, свойственным старым женщинам крепкого сложения.
И в комнату вошел молодой джентльмен в платье для верховой езды; его правая рука покоилась на перевязи. Появление его сопровождалось приятною смесью междометий, выражавших смех, рукопожатий и восклицаний «Как вы поживаете?», перемешивавшихся с радостным коротким лаем и виляньем хвостами со стороны собачьих членов семейства. Последнее доказывало, что посетитель находится в лучших отношениях с теми, кого он посетил. Молодой джентльмен был Артур Донниторн, известный в Геслопе под различными названиями: «молодой сквайр», «наследник» и «капитан». Он был только капитаном в ломшейрской милиции; но для геслопских фермеров он был важнейшим капитаном, нежели все молодые джентльмены того же чина в регулярных войсках его величества: он помрачал их своим блеском, как планета Юпитер помрачает своим блеском Млечный Путь. Если вы хотите точнее знать, какая была у него наружность, то призовите себе на память какого-нибудь молодого англичанина с темными бакенбардами и усами, с темно-русыми локонами и здоровым цветом лица, которого вы встречали в чужом крае и которым гордились как своим соотечественником, молодого англичанина чисто умытого, благовоспитанного, белоручку, а между тем имеющего вид человека, который, отпарировав удар левою рукою, правою легко может положить своего противника. Я не буду также настолько портным, чтоб обеспокоить ваше воображение различием костюма и настаивать на полосатом жилете, на сюртуке с длинною талией и на сапогах с длинными отворотами.
Повернувшись для того, чтоб взять кресло, капитан Донниторн сказал:
– Но я не намерен прерывать долее Джошуа… У него есть какое-то дело.
– Смиренно прошу извинения у вашей милости, – сказал Джошуа, низко кланяясь. – Мне нужно было сказать вашему преподобию об одном, а между тем другие предметы вытеснили это вон из моей головы.
– Ну, говорите же, Джошуа, говорите скорее, – сказал мистер Ирвайн.
– Может, сэр, вы не слышали, что Матвей Бид умер… Он утонул сегодня утром… или скорее на рассвете… в Ивовом Ручье, у самого моста, прямо против дома.
– Ах! – в один голос воскликнули оба джентльмена, как бы очень заинтересованные этой новостью.
– Сет Бид был у меня сегодня утром и просил меня передать вашему преподобию, что его брат, Адам, очень просит вас позволить ему вырыть могилу у Белого Терна, так как его мать непременно желает этого вследствие виденного ею сна. Они и сами пришли бы просить вас о том, но им много хлопот с следственным приставом и прочим; а их мать очень взволнованна и боится, чтоб кто-нибудь другой не занял места, о котором они просят. Если вашему преподобию угодно будет дозволить им это, то я пошлю к ним мальчика, лишь только вернусь домой. Вот почему я осмеливаюсь обеспокоить вас этим, несмотря на приход их милости.
– Конечно, конечно, Джошуа, им можно дозволить это. Я сам съезжу к Адаму, чтоб повидаться с ним. А вы все-таки пошлите вашего мальчика сказать им, что они могут рыть могилу, на случай, если меня задержит что-нибудь неожиданное. А теперь прощайте, Джошуа. Сходите на кухню: там дадут вам элю.
– Бедный старик Матвей! – сказал мистер Ирвайн, когда Джошуа вышел из комнаты. – Я думаю, пьянство втащило его в ручей. Я был бы рад, если б бремя было снято с плеч моего друга Адама не столь горестным образом. Этот славный малый удерживал своего отца от гибели в последние пять или шесть лет.
– Он настоящий козырь, этот Адам, сказал капитан Донниторн. Когда я был маленьким мальчиком, а Адам был статный парень лет пятнадцати и учил меня плотничьему мастерству, то я мечтал всегда, что если б был богатым султаном, то сделал бы Адама своим великим визирем, и я уверен, что он перенес бы свое возвышение не хуже всякого другого бедного мудреца в восточной сказке. Если когда-нибудь в жизни я сделаюсь владельцем обширных поместий, перестав быть бедняком и забирать карманные деньги вперед, то я сделаю Адама моею правою рукой. Он будет управлять у меня лесами, потому что он, кажется, знает в этих вещах больше толку, чем кто-либо из людей, которых я только встречал в жизни. Я знаю, что он получал бы с них денег вдвое против того, что получает дедушка со своим управителем, этим жалким стариком Сачеллем, который столько же понимает в лесе, как старый карп. Я уж говорил дедушке об этом раза два, но – не знаю, по какой причине – он не расположен к Адаму, и я ничего не могу сделать. Но, ваше преподобие, не угодно ли вам будет прокатиться верхом вместе со мною? Солнце светит ярко на улице теперь. Если хотите, мы вместе можем отправиться к Адаму, но на дороге мне нужно будет заехать на мызу, чтоб взглянуть на щенят, которых Пойзер оставил для меня.
– Сначала вы должны остаться здесь и позавтракать, Артур, – сказала мистрис Ирвайн. – Ведь скоро два часа. Карроль сейчас подаст завтрак.
– Мне также надобно побывать на мызе, – сказал мистер Ирвайн, – чтоб еще раз посмотреть на маленькую методистку, которая остановилась там. Джошуа рассказывал, что она проповедовала на Лугу вчера вечером.
– Ах, Создатель мой! – сказал капитан Донниторн, смеясь. – А ведь с виду она кажется такою тихою, как мышь. Впрочем, в ней есть что-то поражающее. Я положительно оробел, увидев ее в первый раз: она сидела, нагнувшись над своим шитьем, на солнце перед домом, а я, подъехав к дому и не заметив, что она была чужая, закричал ей: «Мартин Пойзер дома?» Уверяю вас, что, когда она встала, посмотрела на меня и тотчас же сказала: «Он, кажется, в доме, я пойду и позову его», то мне просто стало стыдно, что я заговорил с нею так отрывисто. Она очень походила на святую Екатерину в квакерской одежде. У нее такое лицо, какое редко удастся увидеть между нашим простым народом.
– Мне очень хотелось бы видеть молодую женщину, Адольф, – сказала мистрис Ирвайн. – Заставь ее прийти сюда под каким-нибудь предлогом.
– Не знаю, матушка, каким образом мог бы я устроить это. Ведь не совсем идет мне покровительствовать проповеднице-методистке, даже и в таком случае, если б она была согласна на то, чтоб ей покровительствовал беспечный пастух, как называет меня Билль Маскри. Вам следовало бы прийти немного раньше, Артур, вы услышали бы, как Джошуа доносил на своего соседа Билля Маскри. Старик требует, чтоб я отлучил от церкви колесника и потом передал его гражданской власти… то есть вашему деду… чтоб выгнать его из дома и со двора. Если б я вздумал вмешаться в это дело, то мог бы поднять такую славную историю о ненависти и гонении, какую нужно желать методистам для напечатания в следующем номере их журнала. Мне не стоило бы большого труда убедить Чада Борнеджа и с полдюжины других таких же, как он, дураков в том, что они оказали бы приятную услугу церкви, если б вытравили Билля Маскри из деревни веревками и вилами, и потом, когда я снабдил бы их полсувереном для того, чтоб они могли славно выпить после своих подвигов, тогда я произвел бы такой отличный фарс, какого не сочинил в своем приходе ни один из моих братьев духовных в продолжение последних тридцати лет.
– Впрочем, это действительно дерзость со стороны этого человека называть тебя беспечным пастухом и безгласным псом, – сказала мистрис Ирвайн. – На твоем месте я заставила бы его прикусить язык. У тебя уж слишком спокойный характер, Адольф!
– Неужели, матушка, вы думаете, что я хорошо бы поддержал свое достоинство, если б стал защищаться против клеветы Билля Маскри? Притом же я не знаю, клевета ли это. Я действительно лентяй и очень тяжело расстаюсь со своим седлом, уже не упоминая о том, что я всегда трачу на кирпичи и известь больше, нежели позволяет мой доход, так что обхожусь с ним, как дикий с хромым нищим, когда он просит у меня полшиллинга. Эти бедные, тощие чеботари, которые думают, что они могут содействовать к возрождению человеческого рода тем, что отправляются проповедовать в утренние сумерки до начала своей дневной работы, вправе иметь обо мне жалкое мнение… Но я думаю, нам можно и позавтракать. Что, Кет не пришла еще к завтраку?
– Мисс Ирвайн приказала Бригитте подать завтрак наверх, – сказал Карроль. – Она не может оставить мисс Анну.
– О, очень хорошо! Сообщите Бригитте, пусть она скажет, что я тотчас поднимусь наверх – хочу видеть мисс Анну. Вы уже довольно хорошо можете владеть правою рукою, Артур? – продолжал мистер Ирвайн заметив, что капитан Доннигорн высвободил свою руку из перевязи.
– Да, довольно хорошо, но Годвин настаивает на том, чтоб я держал ее на перевязи еще в продолжение некоторого времени. Я, однако ж, надеюсь, что буду в состоянии возвратиться в полк в начале августа. Что за страшная скука находиться взаперти на даче в летние месяцы, когда нельзя ни охотиться, ни стрелять, так что поневоле вечером чувствуешь приятную дремоту! Как бы то ни было, мы, однако ж, увидим эхо тридцатого июля. Дедушка дал мне carte blanche на один раз, и я обещаю вам, что пир будет достоин случая. Свет не дважды увидит великую эпоху моего совершеннолетия. Я думаю, у меня будет высокий трон для вас, крестная, или даже два, один на лужке, а другой в бальной зале, и вы будете сидеть и смотреть на нас как олимпийская богиня.
– А я намерена приготовить мою лучшую парчу, которую я надевала в ваши крестины, двадцать лет тому назад, – сказала мистрис Ирвайн. – Ах, я думаю, что увижу вашу бедную матушку, порхающую в своем белом платье, которое в тот самый день казалось мне очень похожим на саван; и оно стало ее саваном только три месяца спустя, и ваш чепчик и одежда, в которой вас крестили, также были похоронены с нею: она непременно настаивала на этом – милое создание! Благодаря Богу, вы походите на семейство вашей матери, Артур! Если б вы были жалкий, жиденький, бледный ребенок, то я не согласилась бы быть вашею крестною матерью, ибо тогда я была бы уверена, что из вас выйдет Донниторн. Но вы были такой круглолицый, широкогрудый, звонкоголосый плутишка, и я по этому узнала, что вы с головы до ног Традожетт.
– Но, матушка, вы, может быть, сделали в то время уж слишком быстрое заключение, – сказал мистер Ирвайн, улыбаясь. – Помните, что случилось в то время, когда Джуно ощенилась в последний раз? Один из щенков походил как две капли воды на свою мать, тем не менее он имел два-три отцовские качества. Природа довольно хитра и может обмануть даже вас, матушка!
– Вздор, мой милый! Природа никогда не создает хорька в образе бульдога. Вы никогда не убедите меня в том, что я не могу судить о людях по их наружному виду. Если мне не нравится лицо человека, то я никогда не буду расположена к нему, будьте уверены в том. Я не хочу знать людей, имеющих безобразный и неприятный вид, так же точно, как не хочу пробовать кушанья, имеющие неприятный вид. Если они заставят меня содрогнуться с первого взгляда, я говорю тогда: «Возьмите их прочь». Также, если я увижу безобразный, свинский или рыбий, глаз, то я просто делаюсь больна. Это все равно, что дурной запах.
– Кстати о глазах, – сказал капитан Донниторн. – Это напоминает мне, что я приобрел книгу, которую намеревался принести вам, крестная! Я получил ее в пачке, присланной на днях из Лондона. Я знаю, что вы любите чудные волшебные истории. Это том поэм «Лирические баллады». Большая часть из них, кажется, пустая болтовня, но первая не принадлежит к этому разряду, она называется «Древний мореходец». Я не могу понять ни начала, ни конца этой истории, но она чрезвычайно странная и поражающая вещь. Я пришлю вам ее. Кроме того, у меня есть еще несколько других книг, с которыми будет приятно познакомиться и вам, Ирвайн, памфлеты на антиномианизм и евангелизм, как они там называются. Я, право, не знаю, на каком основании этот человек посылает ко мне подобные вещи. В письме, которое я послал ему на днях, я выразил ему желание, чтоб отныне он не присылал мне ни одной книги или памфлета на что бы то ни было, оканчивающееся на изм.
– Ну, я не скажу, чтоб сам был большой охотник до измов, но я очень охотно пробегу памфлеты: из них можно, по крайней мере, узнать, что происходит на белом свете… У меня есть небольшое дело, – продолжал мистер Ирвайн, вставая и приготовляясь оставить комнату, – а потом я готов отправиться с вами.
Небольшое дело, о котором нужно было позаботиться мистеру Ирвайну, заставило его подняться по старой каменной лестнице (часть дома была очень стара), остановиться перед дверью и осторожно постучаться. «Войдите», – произнес женский голос, и мистер Ирвайн вошел в комнату, в которой было так темно от оконных ширм и опущенных занавесок, что мисс Кет, худенькая леди средних лет, стоявшая у изголовья постели, не имела бы достаточно света для другой какой-нибудь заботы, кроме вязанья, лежавшего на столе неподалеку от нее. Но в настоящую минуту она занималась тем, что требовало самого незначительного света: смачивала губкой больную голову, покоившуюся на подушке, свежим уксусом. Бедная страдалица имела маленькое лицо; оно, может быть, некогда было миловидное, но теперь исхудало и имело желтоватый цвет. Мисс Кет подошла к брату и шепнула ему: «Не говорите с ней: сегодня она не в состоянии перенести разговор». Глаза Анны были закрыты, лоб сморщен, как бы от сильной боли. Мистер Ирвайн подошел к постели, поднял грациозную ручку и прижал ее к своим губам; слабое пожатие маленьких пальчиков давало ему понять, что его подвиг был оценен вполне. Он постоял с минуту, не сводя глаз с больной, потом повернулся и вышел из комнаты, переступая весьма осторожно: он еще внизу снял сапоги и надел туфли. Кто помнит, сколько раз отказывался мистер Ирвайн сделать что-нибудь для самого себя только для того, чтоб не надевать или не снимать своих сапог, тот не сочтет этой подробности незначительною.
А сестры мистера Ирвайна, как могли засвидетельствовать все семейные люди, жившие на расстоянии десяти миль в окружности Брокстона, были такие глупые, неинтересные женщины! Не было ли действительно жаль, что умная мистрис Ирвайн имела таких обыкновенных дочерей? Чтоб увидеть эту великолепную старую леди, стоило приехать из-за десяти миль: ее красота, ее хорошо сохранившиеся умственные способности, ее старомодное достоинство давали ей возможность быть весьма приятным предметом беседы наряду с разговором о здоровье короля, прелестных новых образцах платьев из бумажной материи, о новых событиях в Египте, о процессе лорда Деси, который бедной леди Деси надоел до смерти. Но никому не приходило на ум упоминать о двух мисс Ирвайн, за исключением бедных людей в деревне Брокстон, которые считали их весьма сведущими в медицинской науке и неопределенно называли их господами. Если б кто-нибудь спросил старика Джоба Деймило, кто подарил ему байковую куртку, он непременно ответил бы: «Господа, прошлою зимою»; и вдова Стин с увлечением расхваливала отличные качества «вещи», которую «господа» дали ей против кашля. Также под этим именем о них упоминали с большим эффектом для того, чтоб укрощать непослушных детей: при виде желто-бледного лица бедной мисс Анны некоторыми из маленьких мальчишек овладевал ужас, так как они предполагали, что ей известны все их самые дурные проступки и что она знает точное число камней, которыми они намеревались угостить уток фермера Бриттена. Но для всех видевших обеих мисс Ирвайн сквозь менее мифический медиум они были совершенно излишними существами, не артистическими фигурами, обременявшими канву жизни без достаточного эффекта. Мисс Анна могла бы возбудить романтический интерес, если б ее хроническая головная боль могла быть объяснена какой-нибудь патетическою историей обманутой любви, но никакой подобной истории, которая бы касалась ее, не было известно или изобретено, и общее впечатление вполне согласовалось с фактом, что обе сестры оставались старыми девами по той прозаической причине, что никогда не получали выгодного предложения.
Несмотря на то, говоря парадоксально, существование ничтожных людей имеет весьма важные последствия в мире. Оно, как можно доказать, служит к тому, чтоб иметь влияние на цену хлеба и на величину вознаграждения за труд, чтоб вызвать дурные поступки в эгоистах и героические в людях с чувством, имеет и в других отношениях не незначительную роль в жизненной трагедии. И если б этот прекрасный, великодушный пастор, почтенный Адольфус Ирвайн, не имел этих двух сестер, лишенных всякой надежды выйти когда-либо замуж, жизнь его сложилась бы иначе: он, очень вероятно, взял бы в своей молодости пригожую жену, и теперь, когда его волосы уж начинали седеть под пудрою, имел бы статных сыновей и цветущих здоровьем и красотою дочерей – короче сказать, обладал бы тем, что, как обыкновенно думают люди, вознаграждает их за все труды, понесенные ими под солнцем, но при настоящих обстоятельствах, мистер Ирвайн, получая со всех трех духовных мест не более семисот фунтов стерлингов ежегодного дохода и не видя никакой возможности содержать величественную мать и больную сестру, не считая второй сестры, о которой говорили обыкновенно без всякого прилагательного, как леди, как приличествовало их происхождению и привычкам, и в то же время заботиться о своем собственном семействе, оставался, как вы видите, сорока восьми лет от роду холостяком. И он не ставил себе в заслугу этого самоотвержения, но, смеясь, говорил, если кто-нибудь намекал ему об этом, что это служило ему предлогом делать многие вольности, которых никогда не дозволила бы ему жена. Может быть также, он был единственным на свете лицом, не думавшим, что его сестры были неинтересны и совершенно излишни, ибо он был одною из тех благодушных, любящих натур, которые никогда не знают узкой или завистливой мысли. Он был, если хотите, эпикуреец, не знавший ни энтузиазма, ни себя карающего чувства долга, а между тем, как вы видели, обладал достаточно тонкою моральною фиброю, которая позволяла ему чувствовать освежающую нежность к темному и однообразному страданию. Это же самое благодушное снисхождение заставляло его как бы не знать жестокости матери к дочерям, жестокости, поражавшей еще более потому, что она так резко противоречила с почти безумною нежностью матери к нему, ибо он не считал добродетелью хмуриться на недостатки, которые исправить он не был в состоянии.
Посмотрите, какая разница существует между впечатлением, которое производит человек на вас, когда вы идете с ним рядом, занятые обыкновенным разговором, или когда вы видите его в его же доме, между фигурою, которую он представляет, когда смотреть на него с возвышенного исторического уровня, или даже когда смотреть на него глазами критикующего ближнего, думающего о нем не как о человеке, а скорее как об олицетворенной системе или мнении. Мистер Ро, странствующий проповедник, посланный в Треддльстон, включил мистера Ирвайна в свой общий отчет о духовных лицах в области. Этих лиц он описывал людьми, которые предаются плотским страстям и жизненной суете, охоте и стрельбе, украшают свои собственные дома, спрашивают: «Что мы будем есть и что будем пить и во что будем одеваться?», которые вовсе не заботятся о раздаче хлеба жизни своей пастве, проповедуют лишь о светской нравственности, приводящей в оцепенение душу, и торгуют душами людей, получая деньги за исполнение пастырской службы, в приходах, где все их занятие состоит только в том, что они один раз в год заглядывают туда. Также и духовный историк, рассматривая парламентские отчеты того периода, находит, что достопочтенные члены весьма ревнуют о церкви, не заражены ни малейшею симпатию к колену лицемерящих методистов и строят разряды едва ли менее меланхолического свойства, нежели разряды мистера Ро. И мне невозможно сказать, что мистер Ирвайн был совсем оклеветан родовою классификацией, к которой он был отнесен – он в действительности не имел ни весьма возвышенных целей, ни богословского энтузиазма. Если б меня стали слишком настойчиво спрашивать, то я был бы обязан признаться, что он не чувствовал серьезного беспокойства о душах своих прихожан и считал бы только потерею времени поучительным и убеждающим образом разговаривать со старым дедушкой Тафтом или даже с Чадом Кренеджем, кузнецом; если б он имел обыкновение говорить теоретично, он, может быть, сказал бы, что единственная здоровая форма, которой религия могла бы проявляться в этих душах, состояла бы в некоторых темных, но сильных волнениях, которые освященным влиянием разлились бы на чувства привязанности к семейству и на обязанности к ближним. Он считал крещение более важным, нежели самое учение о нем; он думал, что религиозная польза, приобретаемая поселянином от церкви, в которой молились его отцы, и священный участок земли, где они погребены, только слабо зависели от ясного понимания литургии или проповеди. Ясно, что приходский священник не был тем, что в настоящее время называется серьезным человеком: он более любил церковную историю, нежели богословие, и более вникал в характеры людей, нежели интересовался их мнениями; он не был трудолюбив, не был явно самоотвержен, не был весьма щедр в подавании милостыни, и его феология, как вы заметили, была слаба. Его мысленный вкус действительно несколько отзывался язычеством и находил больше прелести в отрывках из Софокла или Теокрита, нежели в текстах из Исаии или Амоса. Но если вы кормите вашу молодую легавую собачку сырою говядиною, можете ли вы удивляться, если ей впоследствии будет приходиться по вкусу нежареная куропатка? Все воспоминания мистера Ирвайна об энтузиазме и желаниях юности смешивались с поэзией и этикою, лежавшими далеко от Священного Писания.
С другой стороны, я должен сказать в пользу приходского священника, ибо я имею самое искреннее пристрастие к его памяти, что он не был мстителен, а некоторые филантропы были мстительны; что он терпел иноверцев, а ведь молва говорит, что некоторые ревнивые богословы не были свободны от этого порока; что хотя он, вероятно, не согласился бы на то, чтоб его тело сожгли на костре ради какой-нибудь общественной цели, и был далек от того, чтоб раздать все свое имущество бедным, он, однако ж, имел эту любовь к ближнему, которой иногда недоставало какой-нибудь знаменитой добродетели – он был снисходителен к недостаткам других и неохотно приписывал людям зло. Он был один из тех людей – и нельзя сказать, чтоб они были самые обыкновенные, – которых мы можем узнать лучше всего, если последуем за ними с рынка, с помоста и с кафедры, войдем с ними в их собственную семью, услышим их голос, которым они говорят молодым и пожилым у их собственного очага, и будем свидетелями рассудительной заботы о ежедневных нуждах ежедневных товарищей, принимающих все их расположение за дело обыкновенное, а не за предмет похвального слова.
Такие люди, к счастью, жили в те времена, когда процветали великие злоупотребления, и иногда бывали живыми представителями злоупотреблений. Мысль эта может несколько утешить нас при противоположном факте, что лучше иногда не следовать за большими реформаторами злоупотреблений за порог их домов.
Но что б вы ни думали теперь о мистере Ирвайне, если вы встретили его в том июне после обеда, когда он ехал на своей серой лошади с собаками, бежавшими около него, осанисто, прямо, мужественно, и на его изящно очерченных губах показывалась добродушная улыбка в то время, как он разговаривал со своим пылким молодым товарищем на гнедой кобыле, то вы должны были чувствовать, что, как бы дурно он ни гармонировал с сильными теориями духовного служения, он все-таки очень хорошо гармонировал с этим мирным ландшафтом.
Посмотрите на них при явном солнечном свете, прерываемом по временам набегающими массами облаков, посмотрите, как они поднимаются на холм со стороны Брокстона, где высокие крыши и вязы священнического дома господствуют над крошечною выбеленною церковью. Они скоро приедут в геслопский приход; серая колокольня и деревенские крыши лежат перед ними с левой стороны, а далее, с правой стороны, они могут видеть трубы господской мызы.
VI. Господская мыза
Очевидно, эти ворота не отворяются никогда, ибо у самых ворот растет длинная трава и высокая цикута; и если б их отворили, то они так заржавели, что сила, которая потребовалась бы для того, чтоб повернуть их на их петлях, весьма вероятно, сломила бы квадратные каменные столбы, к немалому вреду двух каменных львиц, с сомнительною плотоядною вежливостью скалящих зубы над гербовым щитом, помещающимся над каждым из столбов. При помощи зарубок в каменных столбах можно было бы довольно легко перелезть через кирпичную стену с ее гладкою каменною крышею, но если мы близко приложим глаза к ржавой решетке ворот, то мы довольно ясно можем видеть дом и все прочее, кроме самых углов поросшей травою ограды.
Старый дом имеет весьма приятный вид. Он выстроен из красного кирпича, цвет которого смягчается бледным пушистым мхом; этот мох рассыпался с удачною небрежностью, так что приводит красный кирпич в отношения дружеского товарищества с известняковыми орнаментами, окружающими три фронтона, окна и дверь. Но окна заплатаны деревянными вставками вместо стекол, а дверь, я полагаю, так же, как и ворота, не отворяется никогда – как застонала и заскрипела бы она по каменному полу, если б вздумали отворить ее, ибо она массивная, тяжелая, красивая дверь и, вероятно, некогда имела обыкновение с резким шумом запираться позади ливрейного лакея, который только что проводил своего господина и свою госпожу, уехавших со двора в карете, запряженной парою.
Но теперь можно было бы вообразить себе, что дом находится на первой степени канцелярского процесса и что плод с этого большого двойного ряда ореховых деревьев на правой стороне ограды падает и гниет в траве, если б мы не слышали шумного лая собак, отдающегося от больших строений назад. А вот и только что переставшие сосать молоко телята, скрывавшиеся в выстроенной из терна лачужке у стены с левой стороны, выходят из своего убежища и начинают глупо отвечать на этот страшный лай, без сомнения предполагая, что лай имеет какое-нибудь отношение к ведрам с молоком, которые им обыкновенно приносят.
Да, дом должен быть обитаем, и мы посмотрим кем, ибо воображение – привилегированный нарушитель чужих пределов: оно не знает страха к собакам и безнаказанно может перелезать через стены и украдкой заглядывать в окна. Приложите лицо к одной из стеклянных вставок окна с правой стороны; что же вы там видите? Большой открытый камин с ржавыми таганами и некрашеный деревянный пол; на отдаленном конце – большие хлопья шерсти, сложенные в кучи; на середине пола несколько пустых хлебных мешков. Это мебель столовой. А что вы видите в окно с левой стороны? Несколько платяных вешалок, женское седло, самопрялку и старый, открытый настежь сундук, доверху набитый пестрым тряпьем. На краю сундука лежит большая деревянная кукла, которая, если принять во внимание изувечение, имеет большое сходство с лучшим произведением греческой скульптуры, в особенности же по совершенной потере носа. Неподалеку от ящика – небольшое кресло и ручка от длинного кожаного хлыста, употребляемого обыкновенно мальчиками.
Итак, история дома теперь ясна. Некогда он был местопребыванием деревенского сквайра, фамилия которого, имея, вероятно, своею последнею представительницею женщину, исчезла в более территориальном имени Доннигорн. Он назывался некогда Hall[10]; теперь он называется господскою мызою. Подобно тому как переменяется жизнь в каком-нибудь приморском городе, который был некогда модным местом для купанья, а теперь стал портом, где красивые улицы безмолвны и поросли травою, а доки и кладовые шумливы и полны жизни, жизнь в Голле переменила свой фокус, и в нем радиусы исходят уже не из гостиной, а из кухни и с хуторного двора.
И как все там полно жизни, хотя это самое сонливое время в году, перед уборкой хлеба; это также самое сонливое время дня, ибо теперь скоро три часа по солнцу и половина четвертого по красивым недельным часам мистрис Пойзер. Но природа всегда становится оживленнее, когда после дождя солнце начинает снова сиять; а теперь оно изливает свои лучи, блестит между сырою соломою, освещает каждое местечко ярко-зеленого мха на красных черепицах коровьего хлева и изменяет даже грязную воду, которая торопливо бежит по желобу в водосточную канаву, в зеркало для желтоклювых уток, которые стараются воспользоваться благоприятным случаем и напиться воды погуще. Там совершенный концерт разнородного шума: большой бульдог, посаженный на цепь около конюшен, находится в неистовом раздражении, потому что беспечный петух слишком близко подошел к отверстию его конуры и издает громогласный лай, на который отвечают две гончие собаки, запертые в коровьем хлеву на противоположном конце; старые хохлатые курицы, царапаясь с своими цыплятами по соломе, начинают симпатически клокотать, когда присоединяется к ним смущенный петух; свинья, с поросятами, все запачканные около ног грязью, с закрученными кверху хвостами, участвуют в общем хоре, издавая глубокие отрывистые ноты; наши знакомцы – телята блеют из-за своей изгороди; и между всем этим тонкое ухо различает непрерывный говор человеческих голосов.
Ибо двери большой риги отворены настежь, и люди занимаются там починкой шор под надзором мистера Гоби, шерного мастера, который рассказывает им новейшие треддльстонские сплетни. Алик, пастух, выбрал, конечно, неудачный день: призвал шорников тогда, как утро было дождливое; и мистрис Пойзер довольно строго выразила свое мнение о грязи, которую лишнее число башмаков людей нанесло в дом в обеденное время. Действительно, ее душевное спокойствие не установилось еще вполне, хотя теперь с обеда прошло уже около трех часов и пол опять совершенно чист, и так чист, как чисто все прочее в этом чудном доме, где, для того чтоб собрать несколько пылинок, вы должны, может быть, влезть на сундук с солью и опустить пальцы на высокую полку над камином, на которой блестящие медные подсвечники наслаждаются летним отдыхом, ибо в это время года, конечно, все идут спать, пока еще светло или, по крайней мере, светло настолько, что можно различить контур предметов, когда вы уже ударились о них ногами, уж конечно, дубовый часовой футляр и дубовый стол нигде не могли получить такого лоска от руки, настоящий «локтяной лоск», как говорила мистрис Пойзер, ибо она благодарила Бога, что в своем доме никогда не имела никакой лакированной дряни. Хетти Соррель, пользуясь случаем, когда тетка оборачивалась к ней спиною, смотрела на приятное отражение своей фигуры в этих отполированных поверхностях, ибо дубовый стол был обыкновенно поднят, как ширмы, и служил более для украшения, нежели для пользы; она иногда, могла видеть себя также в больших круглых оловянных блюдах, которые стройно стояли на полках над большим сосновым обеденным столом, или в ступицах каминной решетки, блестевшей всегда, как яшма.
Все было в своем полнейшем блеске в эту минуту, ибо солнце светило прямо на оловянные блюда, и от их отражающих поверхностей веселые брызги света падали на светлый дуб и блестящую медь и на предметы, еще приятнее этих. Некоторые лучи падали на прелестно очерченные щеки Дины и изменяли бледно-красный цвет ее волос в каштановый, когда она наклонялась над тяжелым домашним бельем, которое чинила для своей тетки. Никакая сцена не могла бы быть такая мирная, если б мистрис Пойзер, гладившая несколько вещей, оставшихся еще от понедельничной стирки, не стучала часто своим утюгом, не ходила взад и вперед, когда ей нужно было остудить его, и своими серо-голубыми глазами быстро не посматривала с кухни на сырню, где Хетти сбивала масло, и с сырни на кухню, где Нанси вынимала пироги из печки. Не предполагайте, однако ж, что мистрис Пойзер казалась на вид пожилою: она имела приятную наружность, не более тридцати восьми лет, красивый цвет лица, песочного цвета волосы, хорошие формы и легкую походку. Самым заметным предметом в ее одежде был обширный пестрый полотняный передник, всегда покрывавший ее платье. Но чепец и платье были самые обыкновенные и не отличались ничем, ибо ни к какой другой слабости не была она так жестока, как к женскому тщеславию и к предпочтению украшения пользе. Семейное сходство между ею и ее племянницею, Диною Моррис, и контраст между ее проницательностью и серафимскою кротостью выражения в Дине могли бы прекрасно вдохновить живописца для изображения Марфы и Марии. Их глаза были одного цвета, но поражающий признак разницы в их действии был виден в поведении Трина, черно-желтой таксы, каждый раз, когда эта во многом подозреваемая собака неожиданно подвергалась леденящему арктическому лучу взгляда мистрис Пойзер. Ее язык был так же резок, как и глаз, и каждый раз, как какая-нибудь из девушек подходила на расстояние, откуда ей можно было слышать хозяйку, то казалось девушке, что мистрис Пойзер продолжала неоконченный упрек, подобно тому как шарманка всегда начинает играть песню именно с того места, на каком она остановилась.
Факт, что день этот был назначен для сбивания масла, был другою причиною, по которой было неудобно иметь шорников и почему, следовательно, мистрис Пойзер бранила Молли, горничную, с необыкновенною строгостью. Как видно было по всему, Молли исполнила свое послеобеденное дело примерным образом, приоделась с большою поспешностью и теперь покорно пришла спросить, должна ли она сесть за свою прялку до того времени, когда надобно будет доить коров. Но это безукоризненное поведение, по мнению мистрис Пойзер, прикрывало тайные непристойные желания, которые она вывела наружу из Молли и представила ей с едким красноречием.
– Прясть, право! Тебе не прясть хочется, я уверена, а тебе хочется погулять. Я не знаю ни одной девушки, которая была бы хитрее тебя. Если подумать, что девушка твоих лет все вот хочет идти и сидеть с толпою мужчин!.. Мне было бы совестно говорить, если б я была на твоем месте. Ты находишься у меня с последнего Михайлова дня, и я наняла тебя по треддльстонским статутам без всякого свидетельства, я тебе говорю, ты должна быть благодарна, что тебя наняли таким образом в почтенное место; когда ты пришла сюда, то знала о деле столько же, сколько полевая работница. Ты знаешь, что я никогда не видала такого бедного двурукого существа, как ты? Я хотела бы знать, кто выучил тебя мыть пол. Ведь ты оставляла сор кучами в углах, так что всякий мог бы подумать, что ты не выросла между христианами. А что касается твоего пряденья, то ты испортила льна столько, сколько стоит все твое жалованье, когда ты училась прясть. И ты должна чувствовать это, а не ротозейничать и ходить, ни о чем не думая, как будто ты не обязана никому… Чесать шерсть для шорников, право! Вот что хотелось бы тебе делать, не правда ли? Так вы понимаете дело, все вы хотели бы идти по этому пути, стремясь к своей погибели. Вы до тех пор не бываете спокойны, пока не получите любовника, который так же глуп, как вы; вы думаете, что далеко ушли, когда вышли замуж и достали стул о трех ножках, на котором можете сидеть, а одеяла-то у вас нет, которым вы могли бы покрыться, изредка только найдется у вас кусок овсяного пирога к обеду, из-за которого подерутся трое детей.
– Мне, право, незачем идти к шорникам, – сказала Молли плаксивым голосом, совершенно пораженная дантовским изображением ее будущности. – Мы только всегда чесали шерсть для них у мистера Оттлея, оттого я вас и спросила. Я вовсе не хочу еще раз посмотреть на шорников. Пусть я не сдвинусь с места, если сделаю это.
– У мистера Оттлея, право! Хорошо вам толковать, что вы делали у мистера Оттлея! Может быть, ваша хозяйка там любила – не знаю, по каким причинам, – чтоб шорники пачкали грязью ее полы. Ведь нельзя знать, что могут любить люди, когда они привыкнут к тому… Уж я наслышалась таких вещей. Ко мне в дом не приходило ни одной девушки, которая знала бы, что значит чистота. Я, с своей стороны, думаю, что люди живут как свиньи. Что же касается этой Бетти, которая перед тем, как пришла ко мне, была коровницей у Трента, она не поворачивала сыров с конца недели до конца другой недели, а столы в сырне были так покрыты пылью, что я могла бы пальцем написать на них свое имя, когда я сошла вниз после моей болезни… по словам доктора, у меня было воспаление… и это была милость Божия, что я выздоровела. И если подумаешь, что ты не научилась лучшему, Молли, тогда как ты находишься здесь девять месяцев и тебя беспрестанно учат… Что ж ты стоишь тут, словно сбежавший вертел? Что ж ты не вынесешь своей прялки? Ты очень редкая работница: садишься за работу тогда, когда уже пора оставить ее.
– Мама, мой утюг совсем простыл. Поставь его, пожалуйста, нагреться.
Небольшой чирикающий голосок, произнесший эту просьбу, принадлежал маленькой девчушке с лучезарными волосами, лет трех или четырех, которая, сидя на высоком стуле на конце гладильного стола, ревностно сжимала ручку миниатюрного утюга своею крошечною пухленькою ручкою и гладила тряпки с таким прилежанием, что ей надобно было высовывать свой красный язычок, насколько лишь позволяла анатомия.
– Простыл, моя милочка? Господь с тобою! – сказала мистрис Пойзер, которая с замечательною легкостью могла переходить из своего официального укорительного тона в любезный или дружеский. – Ничего, душечка! Маменька кончила теперь свое глаженье. Она уже намерена убрать все вещи.
– Мама, мне хочется сходить в ригу к Томми и посмотреть на шорников.
– Нет, нет, нет! Тотти может промочить свои ножки, – сказала мистрис Пойзер, убирая утюг. – Сбегай в сырню и посмотри, как кузина Хетти сбивает масло.
– Мне хотелось бы кусочек сладкого пирожка, – возразила Тотти, которая, по-видимому, имела большой запас различных перемен просьб.
В то же время, пользуясь своею минутною свободою, она опустила свои пальцы в чашку с крахмалом и опрокинула ее, так что вылила почти все, что было в чашке, на гладильную покрышку.
– Ну, скажите, кто же на свете делает такие вещи? – воскликнула мистрис Пойзер, подбегая к столу в ту самую минуту, когда ее взор упал на синюю струю. – Ребенок всегда наделает бед, если вы повернетесь спиною к нему только на одну минуту. Что мне с тобой делать, баловница ты этакая?
Тотти, однако ж, спустилась со стула с большою поспешностью и уже отступала в сырню, несколько переваливаясь с боку на бок; жир, образовавший на ее шее сзади складки, придавал ей вид белого поросенка, подвергнувшегося метаморфозе.
Когда крахмал был подобран с помощью Молли и принадлежности глаженья унесены, то мистрис Пойзер взяла в руки свое вязанье, которое всегда находилось у нее под рукой и было любимою ее работою, ибо она могла заниматься этою работою машинально, когда ходила то за тем, то за другим. Но теперь она подошла и села против Дины; занимаясь вязаньем серых шерстяных чулок, она по временам задумчиво посматривала на племянницу.
– Ты очень похожа на твою тетку Юдифь, Дина, когда сидишь и шьешь. Я довольно живо могу себе представить, хотя с тех пор прошло уже тридцать лет, когда я была дома маленькою девчонкой и смотрела на Юдифь, как она сидела за работой, приведя все в доме в порядок. Только это была небольшая изба, изба отцовская, а не большой разбегающийся дом, который грязнится в одном углу в то время, когда ты чистишь в другом углу. Но, несмотря на то, когда я гляжу на тебя, я представляю себе твою тетку Юдифь; только ее волосы были гораздо темнее, да и сама она была плотнее и шире в плечах. Юдифь и я всегда были привязаны друг к другу, хотя она имела очень странные привычки, но твоя мать и она никогда не сходились друг с другом. Ах, твоя мать уж вовсе не думала, что у нее будет дочь, ни дать ни взять Юдифь, и также что она оставит ее сиротой и на попечении Юдифи, которая и вырастила ее в то время, когда она уже была на кладбище в Стонитоне. Я всегда говорила о Юдифи, что она сама готова нести фунт только для того, чтоб избавить другого от тяжести в одну унцию. И она всегда оставалась такою с тех самых пор, как я знала ее. В ней, сколько я могла видеть, не произошло никакой перемены, когда она перешла к методистам, только она стала говорить несколько иначе и носила чепчик другого фасона. Но она никогда в жизни не хотела истратить пенса на себя для того, чтоб сделать какой-нибудь лишний наряд.
– Она была добродетельная женщина, – сказала Дина. – Бог одарил ее любящим, самоотверженным характером и своею милостью усовершенствовал ее прекрасные качества. И она, с своей стороны, также очень любила вас, тетушка Рахиль! Я часто слышала, как она отзывалась о вас, и всегда в этом смысле. Когда она захворала своею злою болезнью, а мне было только одиннадцать лет, то она, бывало, говорила: «Ты будешь иметь друга на земле в твоей тетке Рахили, если я буду взята от тебя, ибо она имеет любящее сердце». И я убедилась, что слова ее были справедливы.
– Не знаю, дитя мое, в чем ты видела это. Я думаю, всякий умел бы сделать что-нибудь для тебя. Ты похожа на птиц в воздухе и живешь, никто не знает как. Я была бы очень рада поступать с тобою так, как должна поступать сестра матери, если б ты захотела прийти и жить в нашей стране, где и люди, и скот находят себе убежище и пропитание и где люди не живут на голых холмах, как куры, царапающиеся по песчаному берегу. А потом ты могла б выйти замуж за порядочного человека, и нашлось бы много, которые захотели бы жениться на тебе, если б только ты бросила это проповедование, ибо это в десять раз хуже всего, что делала твоя тетка Юдифь. И если б ты даже вышла за Сета Бида, хотя он и бедный, рассеянный методист и вряд ли будет когда-нибудь иметь лишний пенни, то я знаю, что твой дядя помог бы тебе, дал бы свинью и, очень вероятно, корову, ибо он всегда был добр и расположен к моим родным, несмотря на то что все они бедны, и радушно принимал их в своем доме. Я уверена, он сделал бы для тебя столько же, сколько он сделал для Хетти, хотя она и его родная племянница. У нас в доме есть полотно, которое я очень хорошо могла бы уступить тебе, ибо у меня много простынного холста, столового белья, полотенец, и все это лежит так. Я могла бы дать тебе кусок простынного холста, сотканного этою косою Китти… о! она была редкая девушка, что касается тканья, несмотря на то что она косила и что дети не могли ее терпеть… а ты знаешь, что у нас ткут беспрерывно, и новое полотно поспевает гораздо скорее, нежели успевает износиться старое… Но к чему тут толковать, если ты не хочешь убедиться и завестись домом, как все другие умные женщины, вместо того чтоб изнурять себя, путешествовать и проповедовать и отдавать всякую копейку, которую ты только получишь, так что не сберегаешь ничего на случай своей болезни, и все, что ты только приобрела в мире, войдет, по моему мнению, в узел, который не больше двойного сыра. И все это потому, что ты знаешь о религии больше того, что находится в катехизисе и молитвеннике.
– Но не больше того, что находится в Священном Писании, тетушка! – сказала Дина.
– Да, и в Священном Писании, конечно, – возразила мистрис Пойзер довольно резко. – Иначе, как могли бы делать то же самое, что ты делаешь, те, которые лучше всего знают, что такое Священное Писание: священники и лица, которым только и дела, что учить Писание? Но наконец, если б все поступали, как ты, свет должен был бы прийти в застой, ибо если б все старались не устраивать собственного дома, ограничивались скудною пищей и питьем и всегда говорили, что мы должны презирать предметы этого мира, как ты говоришь, то я желала бы знать: куда можно было бы девать лучший скот, и хлеб, и лучшие свежие молочные сыры? Все были бы принуждены есть хлеб, сделанный из остатков, и все бегали бы друг за другом, чтоб проповедовать друг другу, вместо того чтоб воспитывать свои семейства и принимать меры против дурного урожая. Очевидно, это не может быть настоящая религия.
– Нет, дорогая тетушка, вы никогда не слыхали от меня таких слов, будто все призваны к тому, чтоб оставлять свое дело и семейства. Совершенно справедливо то, что до лжно пахать и засевать землю, сохранять драгоценный хлеб и заботиться о мирских делах, и справедливо то, что люди должны наслаждаться в своих семействах и заботиться о них, и делать это в страхе Божием, и что они не должны не радеть о потребностях души в то время, как заботятся о теле. Все мы можем быть служителями Бога, как бы ни выпала наша участь, но он дает нам различные дела, согласно с тем, к какому делу он сделает нас способными и призовет нас. Я нисколько не виновата, стараясь сделать то, что могу, душам других, как вы не виноваты в том, что побежите, услышав крик крошки Тотти на другом конце дома. Голос дойдет до вашего сердца, вы подумаете, что дорогой вам ребенок находится в беспокойстве или в опасности, и вы не успокоитесь до тех пор, пока не побежите, чтоб помочь ему или утешить его.
– Ах! – сказала мистрис Пойзер, вставая и идя к двери. – Я знаю, что могу разговаривать об этом с тобою целый день, и это не приведет ни к чему. В конце нашего разговора ты дашь мне тот же ответ. Все равно если б я стала разговаривать с текущим ручьем и сказала бы ему, чтоб он остановился.
Дорожка перед дверью, которая вела в кухню, уже довольно просохла, так что мистрис Пойзер стояла на ней довольно весело и смотрела на то, что происходило на дворе, между тем как серые шерстяные чулки делали большие успехи в ее руках.
Но она не простояла там более пяти минут, как уже опять вошла в комнату и, обращаясь к Дине, несколько взволнованным, робким голосом сказала:
– Ведь это капитан Донниторн и мистер Ирвайн въезжают во двор! Я вот готова поклясться жизнью, что они приехали для того, чтоб поговорить о твоем проповедовании на лугу, Дина. Ты должна отвечать им сама, ибо я не буду говорить ни слова. Я в свое время говорила довольно о том, что ты причиняешь такую немилость семейству твоего дяди. Я не стала бы и упоминать об этом, если б ты была родная племянница мистера Пойзера – люди должны переносить неприятности от своих собственных родных, как они переносят неприятности от своего собственного носа, ведь это их плоть и кровь. Но думать, что моя племянница виновата в том, что моего мужа выгнали с фермы и что я не принесла ему никакого приданого, кроме того, что сберегла ему…
– Нет, дорогая тетка Рахиль, – кротко сказала Дина. – Вам нет никакой причины опасаться. Я вполне уверена, что никакого зла не случится ни вам, ни моему дяде, ни детям от всего того, что я сделала. Я не проповедую без указания.
– Указания! Я очень хорошо знаю, что, по-твоему, значит указание, – сказала мистрис Пойзер, принимаясь вязать быстро и в волнении. – Если в твою голову забралось больше пустяков, нежели обыкновенно, то ты называешь это указанием, и тогда уже ничто не может тронуть тебя: ты походишь тогда на статую, которая помещается на фасаде треддльстонской церкви, таращит глаза и улыбается всегда, хороша ли погода или дурна. Мне просто нет никакого терпенья с тобой!
Между тем оба джентльмена уже подъехали к палисаднику и сошли с лошадей – ясно было, что они хотели войти. Мистрис Пойзер подошла к двери, чтоб встретить их, низко приседая и дрожа с досады на Дину и от заботы о том, как бы ей вести себя приличнее в этом случае. В те времена самый смелый из буколических людей чувствовал невольный страх при виде господ, подобно тому, что чувствовали старые люди, когда стояли на цыпочках и смотрели на богов, проходивших мимо в человеческом виде.
– А, мистрис Пойзер! Как вы себя чувствуете после сегодняшней утренней грозы? – сказал мистер Ирвайн со своим обыкновенным величественным добродушием. – Не бойтесь, наши ноги совершенно сухи, мы не запачкаем вашего красивого пола.
– О, сэр, не говорите этого, – сказала мистрис Пойзер. – Не угодно ли вам и капитану войти в гостиную?
– Нет, нет, благодарю вас, мистрис Пойзер, – сказал капитан, испытующим взором осматривая кухню, как будто его глаза искали чего-то и не могли найти. – Я не нарадуюсь на вашу кухню. Я думаю, очаровательнее этой комнаты я не знаю. Я желал бы, чтоб жены всех фермеров пришли сюда и взяли ее за образец.
– О! Вы говорите это только так, сэр. Прошу вас, садитесь, – сказала мистрис Пойзер, несколько ободренная этим комплиментом и явным хорошим расположением, но все еще заботливо посматривавшая на мистера Ирвайна, который, как она видела, смотрел на Дину и подходил к ней.
– Пойзера дома нет, не правда ли? – спросил капитан Донниторн, садясь там, откуда мог видеть короткий проход к открытой двери в сырню.
– Нет, сэр, его нет дома: он отправился в Россетер, чтоб повидаться с мистером Вестом, приказчиком, и поговорить с ним насчет шерсти. Но, сэр, отец дома, в риге, если он может быть полезен вам к чему-нибудь…
– Нет, благодарю вас. Я вот пойду посмотрю на щенят и отдам вашему пастуху приказание насчет их. Я должен заехать к вам в другой день, чтоб увидеть вашего мужа: мне надобно посоветоваться с ним насчет лошадей. Не знаете ли вы, может быть, когда он, по всему вероятию, будет свободен?
– О, сэр! Вы почти не можете не застать его дома, кроме того дня, когда бывает рынок в Треддльстоне… это по пятницам, вы знаете. Ибо если он находится где-нибудь на ферме, то мы можем послать за ним, он придет в одну минуту. Если б мы могли освободиться от этих Скантленд, то муж не имел бы причины удаляться на большое расстояние, и я была бы рада этому, ибо когда его нет, то я могу всегда предполагать, что он отправился в Скантленд… Но на свете все случается как будто назло, если возможно, и, право, это очень неестественно, что вы имеете одну часть фермы в одном графстве, а все остальное в другом.
– Да, Скантленд лучше пошли бы к ферме Чойса, в особенности потому, что ему нужна паственная земля, а у вас ее очень много. Мне кажется, однако ж, что в нашем имении ваша ферма самая лучшая, и… знаете что, мистрис Пойзер? Если б я думал жениться и завестись хозяйством, то я, пожалуй, искусился бы этим местом, выпроводил вас отсюда, отделал бы этот прекрасный старый дом и сделался бы сам фермером.
– О, сэр, – сказала мистрис Пойзер, с некоторым испугом, – оно вам не понравилось бы вовсе. Что ж касается фермерства, то это значит класть деньги в карман правою рукою и вынимать левою. На всем расстоянии, которое только я могу обозревать, всходят съестные припасы для других людей, а вам и вашим детям придется одна только горсточка. Конечно, я знаю, что вы небедный человек, который должен заботиться о насущном хлебе, вы можете иметь право бросать на аренду столько денег, сколько вам угодно, но это жалкая шутка – терять деньги, как мне кажется, хотя я и знаю, что большие господа в Лондоне теряют большие деньги. Ибо муж мой слышал на рынке, что старший сын лорда Деси проигрывал целые тысячи принцу Вельскому; там говорили также, что миледи должна была заложить свои брильянты, чтоб заплатить за него. Но вы знаете об этом больше меня, сэр! Что ж касается фермерства, сэр, я не могу думать, чтоб вам понравилось быть фермером; этот дом – тут сквозной ветер – просто выживет вас отсюда, также полы наверху, по моему мнению, совершенно гнилы, а что крыс в погребе – тут уж и говорить нечего!
– Да ведь это страшная картина, мистрис Пойзер! Кажется, я окажу вам немалую услугу, если выпровожу вас отсюда. Но это вряд ли удастся мне. Я намерен устроиться хозяйственным образом, по крайней мере не ранее, как лет через двадцать, когда я буду здоровым сорокалетним джентльменом, притом же и мой дедушка никогда не согласится расстаться с такими хорошими арендаторами, как вы.
– Ну, сэр, если он такого хорошего мнения о мистере Пойзере как об арендаторе, то я прошу вас ввернуть ему слово за нас о том, чтоб он поставил нам новые ворота у Пяти Изгородей, ибо мой муж просил и просил об этом до того, что просто измучился… и если только подумать, что он сделал для фермы и что ему никогда не пожаловали ни одного пенса – ни в дурные, ни в хорошие времена. И я уж как вот часто говаривала моему мужу, что если б капитан распоряжался этим, то это не было бы так. Не то чтобы я неуважительно хотела говорить о тех, которые имеют в своих руках власть; но иногда столько бывает трудов и забот, что плоть и кровь не в состоянии перенести этого с самого раннего утра и до позднего вечера, едва можешь заснуть на минуту, когда ляжешь спать, ибо все думаешь, как вот поднимается сыр, или как бы вот корова не выпустила своего теленка, или как бы вот пшеница опять не стала бы зеленою в снопе, и после всего этого в конце года, похоже, как будто вы приготовляли пир и за ваши труды наслаждались только запахом его.
Мистрис Пойзер, однажды начавшая говорить, шла на всех парусах без малейшего признака боязни, которую она вначале чувствовала к господам. Уверенность в своем красноречии была побудительною силою, побеждавшею всякое сопротивление.
– Я боюсь, что скорее наделаю вреда, вместо того чтоб принести пользу, если буду говорить о воротах, мистрис Пойзер, – сказал капитан. – Хотя я могу уверить вас, что во всем имении нет человека, за которого я сказал бы доброе слово, кроме вашего мужа. Я знаю, его ферма содержится в лучшем порядке, нежели какая-нибудь другая на расстоянии десяти миль здесь в окружности; что же касается кухни, – присовокупил он, улыбаясь, – я не думаю, что найдется другая во всем государстве, которая могла бы убить ее. Кстати, я никогда не видал вашей сырни, я непременно хочу ее видеть, мистрис Пойзер!
– Право, сэр, она не стоит того, чтоб вы вошли в нее, ибо Хетти стоит прямо на середине и делает масло; случилось так, что масло стали сбивать позже обыкновенного… мне просто стыдно.
Эти слова мистрис Пойзер произнесла, краснея. Она поверила, что капитан был действительно заинтересован ее молочными кружками и, пожалуй, проверил свое мнение о ней по виду ее сырни.
– О, я не сомневаюсь, что она находится в удивительном порядке. Сведите меня туда, – сказал капитан, сам пролагая себе дорогу, между тем как мистрис Пойзер следовала за ним.
VII. Сырня
Сырню, конечно, стоило посмотреть – она представляла зрелище, которое заставило бы людей, живших в душных и пыльных улицах, захворать от страстного желания находиться в ней: такая прохлада, такая чистота, такое благоухание новопрессованного сыра, твердого масла, деревянных сосудов, беспрестанно омываемых чистою водою; такой мягкий оттенок красной глиняной посуды и сливочных поверхностей, темного дерева и полированной жести, серого известняка и изобильной оранжевой ржавчины на чугунных гирях, крюках и петлях. Но эти подробности замечаются только вскользь, когда они окружают очаровательную девушку семнадцати лет, которая стоит на маленьких деревянных башмачках и, скруглив свою руку с ямочками на локтях, снимает с весов фунт масла.
На лице Хетти выступила глубокая краска, когда капитан Донниторн вошел в сырню и заговорил с нею. Но то вовсе не была краска, наведенная страхом, ибо ее сопровождали улыбки и ямочка около губ и искорки из-под длинных загнутых кверху темных ресниц. И в то время, как ее тетка рассказывала джентльмену, что вот, пока еще не все телята отняты от груди, следует беречь молоко и ограничиваться небольшим количеством его для делания сыра и масла, что короткорогий скот, купленный для пробы, дает хотя и большее количество молока, но низшего достоинства, и о многих других предметах, могущих интересовать молодого джентльмена, который современен настолько, чтобы сделаться сельским хозяином, Хетти вскидывала кверху и прихлопывала фунт масла с совершенно самоуверенным, кокетливым видом, в душе своей сознавая, что ни один поворот ее головы не оставался незамеченным.
Есть различные разряды красоты, заставляющие мужчин сходить с ума различным образом, начиная с отчаяния и до глупостей. Но есть разряд красоты, который, кажется, создан для того, чтоб кружить головы не только мужчинам, но и всем разумным млекопитающим животным, даже женщинам. Красота эта походит на красоту котят, или крошечных пушистых уток, которые мило журчат своим нежным клювом, или грудных детей, только что начинающих бродить и делать сознательные проделки, – красота, которая никогда не рассердит, но которую вы готовы уничтожить за то, что она неспособна понять настроение вашей души, причиняемое ею. Красота Хетти Соррель принадлежала к этому разряду. Ее тетка, мистрис Пойзер, которая принимала вид, будто равнодушна ко всякому личному влечению, и старалась быть строжайшим из менторов, беспрестанно смотрела исподтишка на прелестную Хетти, очарованная ею против воли, и, излив на нее такую брань, какая естественно вытекала из ее заботливости сделать добро племяннице своего мужа – не имевшей матери, которая могла бы побранить ее, бедное создание, – она часто говаривала своему мужу, когда знала, что никто не мог услышать ее: «Я должна сознаться в том, что, чем больше шалит эта маленькая плутовка, тем она кажется милее».
Было бы почти бесполезно рассказывать вам, что у Хетти щеки походили на лепестки розы, что ямочки играли около ее хорошенького рта, что ее большие, темные глаза скрывали под длинными ресницами нежное плутовство и что ее вьющиеся волосы, хотя и зачесываемые назад под круглым чепчиком в то время, когда она находилась при работе, выбивались темными, красивыми кольцами на лоб и около ее белых, наподобие раковин, ушей. Было бы почти бесполезно рассказывать, как мило обрисовывалась ее розовая с белым косынка, подогнутая под ее низенький шелковый корсет цвета сливы, или как холстинный передник с нагрудником, надеваемый ею, когда она сбивала масло, казалось, мог бы служить образцом, по которому герцогини должны бы делать для себя шелковые, если б только последние стали падать такими очаровательными складками, или как ее коричневые чулки и застегнутые башмаки на толстых подошвах теряли всю свою неуклюжесть, которую должны были непременно иметь без ее прелестных ножек; было бы почти бесполезно рассказывать обо всем этом, если только вы не видели женщины, которая произвела на вас такое же впечатление, какое Хетти производила на окружающих, ибо в противном случае, хотя вы и вызовете образ миловидной женщины, он вовсе не будет походить на эту сводившую с ума, милую, как котенок, девушку. Я, пожалуй, мог бы описать всю божественную прелесть ясного весеннего дня, но если вы никогда в жизни не забывались вполне, напрягая свое зрение, чтоб не упустить из виду поднимающегося жаворонка, или прогуливаясь по тихим аллеям, когда только что раскрывшийся цвет растений наполняет их священною, безмолвною красотой, уподобляющей их украшенным резною работою проходам к церкви, то какую пользу принес бы мой описательный перечень? Вы никогда не были бы в состоянии знать, что я разумел под светлым весенним днем. Красоту Хетти можно было сравнить с красотою весеннего времени, то была красота молодых резвых созданий, кругленьких, пугающих, обманывающих вас ложным видом невинности – невинности, например, теленка, со звездою на лбу, который, желая предпринять прогулку вне границ, увлекает вас в строгую скачку с препятствиями чрез плетень и ров и останавливается только среди болота.
А как прелестны позы и движения, которые принимает очаровательная девушка, делая масло, эти беспокойные движения, придающие очаровательные изгибы руке и боковое наклонение круглой белой шее, – особые движения, причиняемые сбивкой и растиранием масла ладонью руки, и потом приспособление и окончательная отделка, которых никак нельзя достигнуть без большой игры полных губ и темных глаз. И потом самое масло, кажется, сообщает особенную свежесть и очарование, так оно чисто, так оно благоуханно; оно выходит из формы с такою прелестною твердою поверхностью, как мрамор, при бледножелтом свете. Притом же Хетти была преимущественно искусна в делании масла. Это дело тетка ее позволяла себе оставлять без строгого порицания; таким образом, она занималась им со всею грацией, которая нераздельна с полным знанием дела.
– Я надеюсь, что вы поспеете к большому празднику тридцатого июля, мистрис Пойзер, – сказал капитан, когда он уже в достаточной степени выразил свое удивление касательно сырни и сделал несколько импровизированных замечаний по поводу турнепа и короткорогого скота. – Вы знаете, что должно случиться тогда, и я ожидаю, что вы приедете раньше всех и уедете позже всех. Позвольте мне попросить вашу руку на два танца, мисс Хетти! Я знаю, что если не получу вашего слова теперь же, то мне едва ли удастся танцевать с вами, ибо все молодые фермеры-щеголи постараются завладеть вами.
Хетти улыбнулась и покраснела; но, прежде чем она могла ответить, в разговор вмешалась мистрис Пойзер, скандализированная при одной только мысли, что молодой сквайр мог быть исключен каким-нибудь кавалером ниже его.
– Право, сэр, вы очень любезны, что так внимательны к ней. И я уверена, что, когда вам только будет угодно танцевать с нею, она будет гордиться этим и будет благодарна вам, если б даже ей пришлось простоять одной весь остальной вечер.
– О, нет, нет! Это значило бы жестоко поступить со всеми другими молодыми людьми, которые могут танцевать. Но вы обещаете мне два танца, не правда ли? – продолжал капитан, решившийся заставить Хетти посмотреть на него и заговорить с ним.
Хетти сделала маленький, легкий книксен и, бросив на него полуробкий-полукокетливый взгляд, сказала:
– Да, благодарю вас, сэр!
– И вы должны привести с собою всех ваших детей, вы знаете, мистрис Пойзер, вашу крошку Тотти и ваших мальчиков. Я хочу, чтоб все младшие дети пришли в имение – все те, которые будут красивыми молодыми юношами и девицами, когда я буду лысым стариком.
– О, дорогой сэр, до этого еще очень далеко, – сказала мистрис Пойзер, совершенно смутившись тем, что молодой сквайр так легко отзывался о себе самом, и думая, с каким интересом муж будет слушать ее рассказ об этом замечательном образчике джентльменского юмора.
Капитана считали большим весельчаком и остряком, и он был большим фаворитом во всем имении по случаю своего вольного обращения. Все арендаторы были уверены, что дела приняли бы совершенно другой оборот, если б бразды перешли в его руки: тогда был бы рай на земле, изобилие новых ворот, дозволение брать известь и прибыли десять на сто.
– Но где же сегодня Тотти? – оглянулся он. – Мне хотелось бы видеть ее.
– Да, где же наша крошка, Хетти? – сказала мистрис Пойзер. – Она вот недавно только вошла сюда.
– Не знаю. Она пошла, кажется, в пивницу к Нанси.
Гордая мать, будучи не в состоянии противиться соблазну и не показать своей Тотти, вдруг вошла в заднюю кухню, отыскивая дочь, но вместе с тем опасаясь, не случалось ли чего с Тотти, что могло бы помешать ее крошечной особе и одежде представиться постороннему человеку в приличном виде.
– А вы носите масло на рынок, когда сделали его? – спросил между тем капитан, обращаясь к Хетти.
– О, нет, сэр, в особенности, когда оно так тяжело: у меня нет сил нести его. Алик возит масло на лошади.
– Конечно, я уверен, что ваши миленькие ручки не созданы для таких тяжестей. Но вы иногда прогуливаетесь в эти очаровательные вечера, не правда ли? Отчего вы иногда не прогуливаетесь в роще? Там теперь все так зелено, так приятно. Я не вижу вас нигде, кроме дома и церкви.
– Тетушка не любит, чтоб я ходила гулять, и я хожу только тогда, когда мне нужно идти куда-нибудь, – сказала Хетти. – Но я иногда прохожу и через рощу.
– А вы никогда не заходите к мистрис Бест, экономке? Кажется, я вас видел один раз в экономкиной комнате.
– Я хожу не к мистрис Бест, а к мистрис Помфрет, горничной леди. Она учит меня строчить белье и чинить кружева. Я приду к ней к чаю завтра после обеда.
Причину, позволившую состояться этому tête-à-tête, можно только узнать, если посмотреть в заднюю кухню, где Тотти открыли в то время, как она терла нос валявшимся мешком с синькой и в ту же минуту позволила довольно изобильным каплям синьки капать на ее чистый послеобеденный передничек. Но теперь она явилась, держа за руку мать; кончик ее кругленького носика блестел от недавнего и торопливого прикосновения воды с мылом.
– Вот она! – сказал капитан, поднимая ее и сажая на низкую каменную полку. – Вот Тотти!.. Кстати, как ее другое имя? Ведь ее крестили не Тотти?
– О, сэр, это вовсе не настоящее ее имя. Ее крестили Шарлоттой. Это фамильное имя мистера Пойзера: его бабушку звали Шарлоттой. Но мы сначала называли ее Лотти, а теперь это обратилось в Тотти. Действительно, оно скорее походит на собачье имя, нежели на имя христианского ребенка.
– Тотти – это прелестное имя. Ну, да она и похожа на Тот-ти. А что, есть у нее карман? – сказал капитан, шаря в своих жилетных карманах.
Тотти немедленно с большею важностью подняла свое платьице и показала крошечный красненький кармашек, в настоящую минуту находившийся в совершенно тощем положении.
– В нем нет ничего, – сказала она, посмотрев на карман весьма серьезно.
– Нет! Какая жалость! Такой миленький кармашек! Ну, хорошо, кажется, у меня в кармане несколько вещей, которые будут мило звучать в твоем. Да, я объявляю, что у меня есть пять небольших кругленьких серебряных вещиц, и послушайте, как мило они будут звенеть в Тоттином красненьком карманчике.
Затем капитан потряс карман с пятью полушиллингами в нем, и Тотти показала свои зубы и наморщила нос в большом восторге; но, догадываясь, что она ничего более не получит, оставаясь здесь, она соскочила с полки и побежала, чтоб позвонить своим карманом перед Нанси, между тем как мать кричала ей вслед:
– Как тебе не стыдно, шалунья-девочка, не поблагодарила капитана за то, что он дал тебе. Это очень любезно с вашей стороны, сэр, но она просто стыд как избалована. Отец не позволяет отказывать ей ни в чем, и вот теперь с ней нельзя управиться. Вот что значит самая младшая из детей, и к тому же единственная дочь.
– О, она презабавная пышечка! Я, право, не желал бы, чтоб она переменилась. Но я должен идти теперь, ибо, я полагаю, наш приходский священник ждет меня.
Сказав «Прощайте!» и окинув кругом светлым взором и поклонившись Хетти, Артур оставил сырню. Но он ошибся, воображая, что его ждали. Приходский священник был так заинтересован своим разговором с Диной, что ему было бы неприятно окончить его раньше, и вы теперь услышите, что они говорили друг другу.
VIII. Призвание
Дина, вставшая с своего места, когда вошли джентльмены, но продолжавшая держать простыню, которую она чинила, почтительно присела, увидев, что мистер Ирвайн смотрел на нее и приближался к ней. Он до этого времени никогда не говорил с нею, никогда не стоял с ней лицом к лицу, и ее первая мысль, когда их взоры встретились, была: «Что за миловидное лицо! Дай бог, чтоб доброе семя пало на эту почву, ибо оно принялось бы несомненно». Вероятно, оба они произвели друг на друга приятное впечатление, ибо мистер Ирвайн поклонился ей с благосклонным уважением, которое было бы совершенно уместным, если б она была достойнейшей из всех знакомых ему леди.
– Вы только проездом в этой стране, кажется? – были его первые слова, когда он сел против нее.
– Нет, сэр, я пришла сюда из Снофильда в Стонишейре. Но моя тетка была так любезна и пожелала, чтоб я отдохнула от моих тамошних занятий, потому что я захворала там, и она пригласила меня прийти и остаться с ней несколько времени.
– Ах, я помню Снофильд очень хорошо: я однажды имел случай быть там. Это – печальное, открытое место. Там строили бумагопрядильную фабрику, но уже несколько лет назад. Я полагаю, что это место порядочно изменилось благодаря занятиям, которые должна была доставить бумагопрядильня.
– Оно изменилось только в том отношении, что бумагопрядильня привела в это место людей, которые достают себе пропитание, работая на ней, и доставила большую пользу торговому народу. Я сама работаю на бумагопрядильне и имею причину быть благодарною, ибо эта работа позволяет мне существовать и еще оставляет мне излишек. Но все же место то – печальное, открытое, как говорите вы, сэр, и очень отличается от этого места.
– У вас, вероятно, живут там родственники, так что вы привязаны к тому месту, как к вашему дому?
– Прежде там жила у меня тетка. Она вырастила меня, ибо я была сиротой. Но она была взята из этого мира семь лет тому назад, и у меня, сколько я знаю, нет других родственников, кроме тетушки Пойзер, которая очень добра ко мне и хотела бы, чтоб я пришла жить сюда. Конечно, здесь хорошо, нет недостатка в хлебе; но я не вольна оставить Снофильд, куда я была принята сначала и где глубоко вросла, как маленькая травка на вершине горы.
– А, у вас, кажется, много духовных друзей и товарищей там; вы методистка… последовательница Несли, если я не ошибаюсь?
– Да, моя тетка в Снофильде принадлежала к тому обществу, и я должна быть благодарна, ибо по этому самому пользовалась многими преимуществами с моего раннего детства.
– А вы давно уже стали проповедовать?.. Ибо мне говорили, что вы проповедовали в Геслоне вчера вечером.
– Я начала проповедовать четыре года тому назад, когда мне исполнилось двадцать один год.
– В таком случае ваше общество допускает женщин проповедовать?
– Оно не запрещает этого, сэр, если у женщин есть ясное призвание к этому делу и когда их церковное служение признано обращением грешников и укреплением в вере людей Божьих. Мистрис Флечер, о которой вы, вероятно, слышали, кажется, первая стала проповедовать в обществе до своего замужества, когда она была мисс Бозанке, и мистер Бесли одобрил, что она принялась за это дело. Она обладала необыкновенным даром, и там живет теперь еще много других, которых можно назвать драгоценными помощниками ближних в деле служения Богу. Я слышала, что против этого возвышались голоса в обществе в последнее время, но я вполне уверена, что это не заслужит ни малейшего внимания. Не во власти человеческой пролагать путь духу Божью, подобно тому как люди пролагают пути для течения воды, говоря: «Теки здесь, но не теки там».
– Но не находите ли вы некоторой опасности между вашим народом… я не хочу сказать что-либо про вас в этом отношении, о, нет! я далек от этой мысли… но не находите ли вы, что иногда как мужчины, так и женщины считают себя путями духа Божьего – и совершенно ошибаются, так как посвящают себя делу, к которому они вовсе не способны, и, таким образом, возбуждают презрение к святыне?
– Без всякого сомнения, это случается иногда, ибо между нами бывали злые люди, которые старались обмануть братьев, и были также и такие, которые обманывали самих себя. Но мы не остались без наставления и наказания, при помощи которых мы налагаем узду на эти вещи. Между нами существует строгий порядок, и братья и сестры бдят над душами друг друга, подобно тем людям, которые должны отдать отчет в том. Не думайте, чтоб каждый из них шел своей дорогой и говорил: «Разве я хранитель моего брата?»
– Но расскажите мне… Если только я смею спросить вас, ибо мне было бы действительно очень интересно знать это… каким образом пришла вам первая мысль проповедовать?
– На деле-то, сэр, я вовсе не думала об этом с того времени, когда мне минуло шестнадцать лет, я стала говорить с маленькими детьми и учить их, иногда сердце мое становилось как-то обширнее, и я говорила в классе, и меня влекло молиться у изголовья больных. Но я еще не чувствовала влечения к проповеди, ибо когда я не очень побуждена к тому, то меня слишком влечет сидеть смирно и оставаться наедине – кажется, я могла бы сидеть молча весь день с мыслями о Боге, переполнявшими мою душу, подобно тому как кремни лежат, омываемые Ивовым Ручьем. Ибо мысли так велики, не правда ли, сэр? Они, кажется, лежат на нас, как глубокий поток, и они осаждают меня в такой степени, что я забываю, где нахожусь, забываю обо всем, что меня окружает, и теряюсь в мыслях, в которых не могу дать никакого отчета, ибо я не могла бы ни начать, ни кончить их словами. И это случалось со мной с того времени, как я только помню себя, но мне иногда казалось, будто речь подходила ко мне без всякой воли с моей стороны, и слова давались мне так, что они выходили как выступают слезы, потому что наши сердца полны и мы не можем помочь этому. Те времена всегда были временами великой благодати, хотя я никогда не думала, чтоб это могло случиться со мною перед собранием народа. Но, сэр, Провидение ведет нас, как маленьких детей, по пути, которого мы не знаем. Я была призвана проповедовать совершенно внезапно, и с того времени я никогда не оставалась в сомнении об обязанности, возложенной на меня.
– Но расскажите мне об обстоятельствах… как именно случилось это… Расскажите мне о том самом дне, в который вы начали проповедовать.
– Однажды в воскресенье я с братом Марловым, который был уже стар, одним из местных проповедников, шла вместе всю дорогу в Геттон-Дипс. Геттон-Дипс – деревня, где люди добывают себе пропитание, работая в свинцовых рудах, и где нет ни церкви, ни проповедника и люди живут, как овцы без пастуха. Она отдалена от Снофильда больше чем на двенадцать миль, и мы отправились в путь рано утром, так как дело было летом, и я как-то чудесно чувствовала божественную любовь, когда мы шли по холмам, где нет таких деревьев, как здесь, – вам это известно, сэр, – деревьев, из-за которых небо казалось бы меньше, где вы видите, что небеса расстилаются над вами, как палатка, и чувствуете, что вас окружают объятия Всевышнего. Но, прежде чем мы достигли Геттона, у брата Марлова сделалось головокружение, от которого он чуть не упал, ибо он работал сверх сил своих для своих лет, бдел и проповедовал и проходил множество миль, возвещая слово Божье и занимаясь тканьем холста. И когда мы достигли деревни, то все люди ждали его, ибо он назначил время и место, когда был там прежде, и те из жителей, которые хотели слышать слово жизни, собрались на месте, где избы были гуще, так что и другие могли быть привлечены на проповедь. Но он чувствовал, что не в состоянии держаться на ногах и проповедовать, и принужден был лечь в первой избе, к которой мы подошли. Таким образом, я вышла к народу, думая, что мы войдем в один из домов и что я буду читать и молиться с ними. Но когда я проходила мимо изб и увидела пожилых, дрожавших на ногах женщин в дверях и жесткие взгляды мужчин, которых взоры, казалось, вовсе не видели воскресного утра, как будто эти люди были безгласными волами, никогда не поднимавшими глаз к небу, то я почувствовала большое движение в моей душе и дрожала всем телом, будто поколебал меня сильный дух, входивший в мое слабое тело. И я пошла туда, где собралась небольшая толпа народа, и взошла на низкую стену, выстроенную со стороны зеленого холма, и говорила слова, дававшиеся мне обильно. И жители вышли все из своих изб и окружили меня, и многие из них плакали над своими грехами и с того времени вступили в связь с Богом. Так начала я проповедовать, сэр, и с тех пор я продолжала проповедовать.
Дина опустила работу во время этого рассказа. Она говорила, по своему обыкновению, просто, но тем искренним, внятным, дрожащим дискантом, которым она всегда господствовала над своими слушателями. Она нагнулась теперь, чтоб поднять свое шитье, и затем занялась им, как прежде. Мистер Ирвайн был заинтересован чрезвычайно. Он подумал: «Только жалкий негодяй стал бы корчить здесь педагога, это все равно что пойти и читать наставление деревьям, зачем они растут по своему собственному образцу».
– И вы никогда не чувствуете какого-либо смущения от сознания вашей юности… что вы милая молодая женщина, на лицо которой устремлены глаза мужчин? – сказал он громко.
– Нет, у меня нет места для таких чувств, и я не верю, что люди когда-либо обращают на это внимание. Я думаю, сэр, что, когда Бог заставляет нас чувствовать свое присутствие, мы походим на пылающий куст. Моисей никогда не обращал внимания, какого рода был этот куст – он видел только сияние Господа. Я проповедовала таким грубым, невежественным людям, какие только могут быть в деревнях около Снофильда, – мужчинам самого жестокого и дикого вида, но они никогда не обращались ко мне с невежливым словом и часто искренно благодарили меня, когда давали мне дорогу для того, чтоб я могла пройти между ними.
– Этому я могу поверить… этому я действительно могу поверить, – выразительно сказал мистер Ирвайн. – А скажите, что выдумаете о людях, перед которыми вы проповедовали вчера вечером? Нашли ли вы их тихими и внимательными?
– Очень тихими, сэр, но я не заметила в них признаков значительного действия, исключая одной молодой девушки, которую зовут Бесси Кренедж, о которой сильно скорбела душа моя, когда я впервые заметила ее цветущую юность, предающуюся глупостям и тщеславию. Потом я разговаривала и молилась с нею отдельно и надеюсь, что ее сердце тронуто. Но я заметила, что в этих деревнях, где люди ведут тихую жизнь среди зеленых пастбищ и спокойных вод, возделывая землю и занимаясь скотоводством, встречается странная холодность к слову Божью, совершенно не так, как в больших городах, например в Лидсе, куда я заходила однажды, чтоб навестить благочестивую женщину, которая проповедует там. Удивительно, как богата жатва душ на этих окруженных высокими стенами улицах, где вы ходите, как по тюремному двору, и где слух заглушается звуками мирского труда. Я думаю, может быть, это случается потому, что слово Божье отраднее, когда жизнь так мрачна и скучна, и душа алчет более, когда тело лишено покоя.
– Да, наших фермеров нелегко расшевелить. Они живут почти так же медленно, как овцы и коровы. Но у нас есть здесь и понятливые работники. Вы, я думаю, знаете семейство Бидов. Мимоходом скажу, Сет Бид – методист.
– Да, я знаю Сета хорошо, а его брата, Адама, немного. Сет – молодой человек, над которым Бог явил свою милость, человек искренний и безукоризненный, а Адам похож на патриарха Иосифа по своей большой ловкости и знанию и по своему расположению, которое он оказывает брату и родителям.
– Может быть, вы не знаете, какое несчастье постигло их в настоящее время? Их отец, Матвей Бид, утонул в Ивовом Ручье в прошлую ночь, неподалеку от своей собственной избы. Я отправляюсь теперь, чтоб повидаться с Адамом.
– Ах, бедная старуха, их мать! – сказала Дина, вдруг опустив руки и смотря перед собою глазами, исполненными жалости, как будто видела предмет своей симпатии. – Она будет тяжко сетовать, ибо Сет рассказывал мне, что у нее заботливое, беспокойное сердце. Я должна пойти и посмотреть, не могу ли помочь ей чем-нибудь.
Когда она встала и начала складывать свою работу, то капитан Донниторн, истощив все благовидные предлоги для того, чтоб остаться между молочными чашами, вышел из сырни, сопровождаемый мистрис Пойзер. Мистер Ирвайн теперь также встал и, приблизившись к Дине, протянул ей руку и сказал:
– Прощайте. Я слышал, что вы скоро отправитесь отсюда, но вы не в последний раз посетили вашу тетку… таким образом, мы встретимся опять, я надеюсь.
Его приветливость относительно Дины совершенно успокоила заботы мистрис Пойзер, и ее лицо прояснилось более обыкновенного, когда она сказала:
– А я и не спросила о мистрис Ирвайн и мисс Ирвайн, сэр! Надеюсь, что они, слава Богу, здоровы, как всегда.
– Да. Благодарю вас, мистрис Пойзер, только у мисс Анны опять сильно болит сегодня голова. Кстати, всем нам понравился вкусный сливочный сыр, который вы прислали, и в особенности моей матушке.
– Я, право, очень рада, сэр! Я очень редко делаю этот сыр, но я вспомнила, что мистрис Ирвайн любила его. Потрудитесь засвидетельствовать ей мое почтение, также мисс Кет и мисс Анне. Они уж очень давно не заходили взглянуть на моих кур, а у меня есть несколько прелестных пестрых цыплят, черных с белым; может быть, мисс Кет желала бы иметь между своими несколько таких.
– Хорошо, я скажу ей, она должна прийти и посмотреть их. Прощайте! – сказал священник, садясь на лошадь.
– Вы поезжайте тихонько, Ирвайн! – сказал Донниторн, также садясь на лошадь. – Я догоню вас в три минуты. Я только вот пойду поговорить с пастухом о щенках. Прощайте, мистрис Пойзер! Скажите вашему мужу, что я скоро зайду и буду иметь с ним продолжительный разговор.
Мистрис Пойзер почтительно присела и смотрела вслед двум лошадям до тех пор, пока они не исчезли со двора среди значительного волнения со стороны свиней и кур и при бешеном негодовании бульдога, исполнявшего пиррическую пляску, которая, казалось, каждую минуту грозила оборвать цепь. Мистрис Пойзер приходила в восторг от этого шумного выезда: он служил для нее ясным уверением, что фермерский двор был хорошо оберегаем и что праздношатающиеся не могли войти незамеченными. Когда ворота затворились за капитаном, только тогда она снова отправилась в кухню, где стояла Дина, держа в руках свою шляпку и ожидая тетку, чтоб поговорить с нею, а потом уже отправиться в избу Лисбет Бид.
Мистрис Пойзер, однако ж, хотя и видела шляпку, медлила принять вид, что заметила ее, а хотела прежде облегчить себя от удивления, причиненного поведением мистера Ирвайна.
– Как, и мистер Ирвайн вовсе не сердился? Что сказал он тебе, Дина? Разве он не бранил тебя за то, что ты проповедовала?
– Нет, он вовсе не сердился, он был очень приветлив со мною. Он просто заставил меня говорить с ним, и я, право, не знаю каким образом, ибо я считала его всегда светским садукеем. Но его лицо так же приятно, как утреннее сияние солнца.
– Приятно! А что ж ты ожидала найти в нем, кроме приятного? – сказала мистрис Пойзер нетерпеливо, снова принимаясь за свое вязанье. – Я думаю, что у него приятное лицо, еще бы, ведь он природный джентльмен, и мать-то у него точно картина. Ты можешь обойти всю страну и не найдешь другой такой женщины, да еще шестидесяти шести лет. Это чего-нибудь да стоит посмотреть на такого человека, когда он в воскресенье находится на кафедре. Как я вот говорю Пойзеру, это все равно что посмотреть на полную жатву пшеницы, на отличную сырню, окруженную прекрасными коровами, – это заставляет вас думать, что на свете жить хорошо. А что касается тех созданий, за которыми бегаете вы, методистки, то я уж лучше пошла бы посмотреть на малорослую скотину с голыми ребрами на общем выгоне. Вот славный народ для того, чтоб говорить вам о том, что справедливо, а судя по виду их, можно заключить, что они во всю жизнь свою не ели ничего лучше свиного жиру и кислого пирога. Но что сказал мистер Ирвайн о твоей глупой выходке, что ты проповедовала на Лугу?
– Он сказал только, что слышал о том; это, кажется, не причинило ему никакого неудовольствия. Но, дорогая тетушка, перестаньте думать об этом. Он сообщил мне то, что огорчит, конечно, и вас, как огорчило меня. Матвей Бид утонул вчера ночью в Ивовом Ручье, и я думаю, что старуха мать будет очень нуждаться в утешении. Может быть, я могу быть полезна ей, вот почему я взяла шляпку и намерена пойти к бедной старушке.
– Добрая душа, добрая душа! Но сначала выпей чашку чаю, дитя мое! – сказала мистрис Пойзер, вдруг переходя из молитвенного тона с пятью бемолями в открытый и веселый тон. – Чайник уж кипит и будет готов в одну минуту; притом же скоро придут и малютки и тотчас же станут просить чаю. Я нисколько не поперечу тебе в том, чтоб ты отправилась к старухе, ибо ты одна из тех, приход которых в дни несчастья приносит всегда отраду. Методисты вы или не методисты, это все равно; плоть и кровь, из которых созданы люди, составляют всю разницу. Одни сыры делаются из снятого молока, а другие – из цельного, и все равно как вы их ни называйте, а вы всегда можете сказать, какое сделано из какого по виду и по запаху. Но что касается Матвея Бида, то, право, лучше, что он уж более не помеха – прости меня, Господи, что я говорю таким образом, – ибо в последние десять лет он только и делал беспокойства тем, которые были близки к нему. И я думаю, недурно было бы взять тебе с собою бутылочку рому для старухи, ибо я вполне уверена, что у нее нет и капли чего-нибудь, что могло бы утешить ее. Сядь, дитя мое, успокойся, ибо я не пущу тебя со двора, пока ты не напьешься чаю, я уж говорю тебе.
Во время последней части этой речи мистрис Пойзер доставала чайные принадлежности с полок и направилась уже в кладовую за головой сахару, близко сопровождаемая Тотти, явившеюся при звуке бренчавших чашек, как Хетти вышла из сырни, давая отдых своим уставшим рукам тем, что подняла их кверху и скрестила позади головы.
– Молли, – сказала она несколько томным голосом, – беги тотчас же и принеси мне пучок листов капусты: масло готово, и его можно теперь уложить.
– Слышала ты, что случилось, Хетти? – сказала ее тетка.
– Нет, да и откуда услышу я о чем-нибудь? – был ответ, произнесенный несколько обидчивым тоном.
– Я думаю, что это тебя не бог знает как и обеспокоит, когда ты услышишь, в чем дело. Ведь ты ветреная голова – ты не стала бы беспокоиться, если б и все умерли, лишь бы ты могла сидеть там в комнате наверху и наряжаться несколько часов кряду. Но все, кроме тебя, заботятся о подобных делах, случающихся с теми, которые думают о тебе гораздо больше, нежели ты заслуживаешь. Но Адам Бид и все его родные могут, пожалуй, утонуть, а тебя это и не тронет вовсе, через минуту уже ты будешь охорашиваться перед зеркалом.
– Адам Бид… Утонул? – сказала Хетти, опустив руки и осматриваясь кругом несколько потерянным взором, но подозревая, что тетка, по своему обыкновению, преувеличивала с дидактическою целью.
– Нет, моя милая, нет, – сказала Дина ласково, ибо мистрис Пойзер прошла в кладовую, не удостоив дать Хетти более точное сведение. – Не Адам. Отец Адама, старик, утонул. Он утонул вчера ночью в Ивовом Ручье. Мистер Ирвайн только что сообщил мне это.
– О, как это ужасно! – сказала Хетти с серьезным видом, но не глубоко огорченная.
И так как Молли вошла теперь с капустными листьями, то она молча взяла их и возвратилась в сырню, не делая дальнейших вопросов.
IX. Мир Хетти
Между тем как она приноровляла большие листья, которые возвышали цвет бледного благоухающего масла, подобно тому как возвышается цвет белой буквицы при ее гнезде зелени, мне кажется, Хетти думала гораздо больше о взглядах, которые бросал на нее капитан Донниторн, нежели об Адаме и его огорчениях. Ясные, выражающие удивление взоры красивого молодого джентльмена с белыми руками, золотою цепочкою, иногда и мундир, богатство и неизмеримое величие – таковы были теплые лучи, заставлявшие дрожать сердце бедной Хетти и беспрестанно звучать своими безрассудными тонами. Мы не слышим, чтоб статуя Мемнона издавала звуки при стремительном дуновении могущественнейшего ветра или в ответ на какое-либо другое влияние, божественное или человеческое: она издавала звуки только при известных кратковременных утренних солнечных лучах, – и мы должны учиться приноравливаться к открытию, что некоторые из этих искусно образованных инструментов, называемых человеческими душами, имеют весьма ограниченную способность к музыке и нисколько не задрожат под прикосновением, которое наполняет других трепещущим восторгом или дрожащею скорбью.
Хетти совершенно свыклась с мыслью, что люди любили посмотреть на нее. Она не была слепа к тому, что молодой Лука Бриттон из Брокстона приходил в церковь в Геслопе по воскресеньям после обеда с целью, чтоб иметь возможность видеть ее, и что он сделал бы более решительные шаги, если б ее дядя, Пойзер, будучи невысокого мнения о молодом человеке, отец которого имел такую дурную землю, как у старика Луки Бриттона, не запретил ее тетке ободрять его какой бы то ни было вежливостью. Она заметила также, что мистер Крег, садовник, живший в Оленьей Роще, был влюблен в нее по уши и в последнее время делал признания, в которых нельзя было ошибиться, в виде сладчайшей клубники и гиперболического гороха. Она знала еще лучше, что Адам Бид – высокий, стройный, умный, бравый Адам Бид, – который пользовался таким авторитетом у всех живших в окрестности и которого ее дядя всегда был рад видеть вечером, говоря, что «Адам гораздо лучше знал толк во многих вещах, нежели те, которые считали себя лучше его», – она знала, что этот Адам, который часто бывал так суров со всеми другими людьми и не очень-то бегал за девицами, от одного ее слова или взгляда бледнел или краснел когда угодно. Сфера сравнения Хетти была необширна, но она не могла не заметить, что Адам был то, что называется, человеком, всегда знал, что сказать о вещах, мог сообщить ее дяде, как следует подпереть избу, и духом починить масляник; он с первого взгляда знал качество орешника, сваленного ветром, отчего на стенах показывается сырость и что нужно делать для того, чтоб извести крыс; у него был красивый почерк, который можно было легко разобрать; он мог делать вычисления в голове – такая степень совершенства была вовсе не известна между богатейшими фермерами той страны. Он вовсе не походил на этого олуха Луку Бриттона, который, идя однажды с ней всю дорогу от Брокстона до Геслопа, прервал молчание только замечанием, что серая гусыня начала класть яйца. А что касается мистера Крега, садовника, то он был человек довольно умный, это правда, но косоног и говорил всегда нескладно и нараспев, притом же, по самому снисходительному предположению, ему было уж очень недалеко до сорока.
Хетти нисколько не сомневалась, что ее дядя желал, чтоб она ободряла Адама, и был бы доволен, если б она вышла замуж за него. Ибо в те времена не было строгой черты разрядного разграничения между фермером и достойным уважения ремесленником, и в семейном быту, так же как и в трактирах, они часто разговаривали друг с другом за кружкой эля. Фермер тайно утешался мыслью, что он был человек с капиталом и имел влияние на приходские дела, и это поддерживало его при явном превосходстве Адама над ним в разговоре. Мартин Пойзер не был частым посетителем трактиров, но любил дружески поболтать за своим домашним пивом, и хотя было приятно излагать закон глупому соседу, который не имел никакого понятия, каким образом улучшить свою ферму, для разнообразия было также очень интересно научиться чему-нибудь у такого умного малого, как Адам Бид. Согласно с этим, в последние три года, с того времени как Адам надзирал за постройкой нового амбара, он всегда встречал радушный прием на господской мызе, в особенности в зимний вечер, когда все семейство по патриархальному обычаю, хозяин и хозяйка, дети и слуги, собирались в той знаменитой кухне в соразмерном достоинству каждого расстоянии от яркого огня. И, по крайней мере в последние два года, Хетти привыкла слышать, как ее дядя говорил: «Адам Бид работает теперь по жалованью, но он непременно будет сам хозяином. Это так же верно, как то, что я сижу на этом кресле. Мистер Бердж поступает дельно, желая, чтоб он стал его компаньоном и женился на его дочери, если справедливо то, что говорит молва. Женщина, которая выйдет замуж за него, сделает хорошую партию, все равно, будет ли это в Благовещение или Михайлов день». Это замечание всегда сопровождалось искренним согласием со стороны мистрис Призер. «Ах, – говаривала она, – конечно, славно иметь готового богатого мужа, а может случиться, что он будет готовый дурак, и ведь бесполезно набивать карман деньгами, если в уголке есть дыра. Мало вам будет пользы, что у вас есть собственная телега: если возница глуп, то он как раз опрокинет вас в ров. Я всегда говорила, что никогда не вышла бы за человека, у которого нет мозга, ибо что тут будет хорошего, если женщина, которая имеет свой собственный мозг, привязана к дураку, над которым смеются все? Это все равно, что если б она великолепно вырядилась и поехала на осле задом».
Эти выражения, хотя их должно понимать в переносном смысле, в достаточной степени указывали на направление мыслей мистрис Пойзер относительно Адама. Хотя она и ее муж, может быть, смотрели бы на этом предмете с другой точки зрения, если б Хетти была их собственная дочь, тем не менее ясно было, что они охотно приняли бы предложение Адама жениться на бедной племяннице. Ибо Бетти в другом месте была бы только служанкой, если б дядя не взял ее к себе и не воспитал как домашнюю помощницу тетки, здоровье которой со времени рождения Тотти не допускало другой, более положительной работы, кроме надзора за прислугой и детьми. Но Хетти никогда не доказывала Адаму ясного поощрения. Даже в те минуты, когда она совершенно сознавала превосходство его над ее другими поклонниками, она никогда не заставляла себя думать о том, чтоб выйти за него замуж. Ей было приятно чувствовать, что этот сильный, ловкий, проницательный человек был в ее власти. Она пришла бы в негодование, если б он каким-либо малейшим признаком обнаружил, что хочет ускользнуть из-под ярма ее кокетливого тиранства и привязаться к милой Мери Бердж, которая была бы весьма благодарна за самое незначительное внимание с его стороны. «Мери Бердж, в самом деле такая бледнолицая девушка: если она наденет лоскуток розовой ленты, то кажется такою желтою, как одуванчик, а волосы у нее прямы, как связка бумажной пряди». И когда Адам пропадал на несколько недель из господской мызы или иначе обнаруживал сопротивление своей страсти, как бы считая ее безумною, Хетти старалась приманить его назад в свои сети, выказывая некоторую кротость и робость, будто его небрежность беспокоила ее. Но чтоб выйти замуж за Адама, это было дело другое! Ничто на свете не могло искусить ее к совершению такого подвига. Ее щеки никогда не покрывались большим румянцем, когда называли его имя. Она не чувствовала ни малейшего трепета, если видела из окна, что он проходил по дороге, или если он неожиданно приближался к ней по тропинке через луг. Когда глаза его отдыхали на ней, то она не чувствовала ничего, кроме холодного торжества, зная, что он любит ее и никогда не станет смотреть на Мери Бердж, он не мог возбудить в ней волнений, составляющих сладостные упоения юной любви, подобно тому как одно лишь изображение солнца не может привести в движение весенний сок в дивных фибрах растения. Она только видела в нем бедного человека, с стариками родителями, которых он должен был содержать, человека, который не был бы в состоянии – и долго не будет в состоянии – снабжать ее даже теми предметами роскоши, которые она имеет в доме своего дяди. А Хетти только и мечтала о роскоши: она желала сидеть в устланной ковром гостиной и всегда носить белые чулки, иметь несколько больших красивых серег, таких, какие были в моде, ноттингемские кружева по верху платья, нечто, от чего ее носовой платок мог бы хорошо пахнуть, как платок мисс Лидии Доннигорн, когда она вынимала его в церкви из кармана, и не быть обязанной вставать рано и получать от кого бы то ни было выговоры. Она думала: если б Адам был богат и мог ей дать эти вещи, то она могла бы полюбить его в достаточной степени для того, чтобы выйти за него замуж.
Но в последние несколько недель новое влияние овладело Хетти – неопределенное, атмосферическое, проявлявшееся не в сознательных надеждах или ожиданиях, но производившее приятное наркотическое действие, которое заставляло ее ступать по земле и заниматься работой как бы во сне, не позволяя ей сознавать тяжесть или труд, и показывало все предметы сквозь нежную, полупрозрачную завесу, будто Хетти жила не в этом действительном мире из кирпича и камня, а в каком-то мире, исполненном счастья и блаженства, подобном тому, какой солнечные лучи представляют нам в воде. Хетти стала замечать, как мистер Артур Донниторн готов был подвергаться значительным беспокойствам только для того, чтоб иметь случай видеть ее; как в церкви он всегда помещался таким образом, что мог видеть ее вполне, когда она сидела и когда стояла; как он беспрестанно находил предлоги посещать господскую мызу и всегда придумывал сказать что-нибудь только для того, чтоб заставить ее заговорить с ним и посмотреть на него. Бедный ребенок в настоящую минуту так же воображал, что молодой сквайр когда-нибудь сделается ее любовником, как миловидная дочь булочника в толпе, отличенная императорскою, но выражающей удивление улыбкою, мечтает о том, что она сделается императрицей. Но дочь булочника идет домой и мечтает о красивом молодом императоре и, может быть, неверно свешивает муку, рассуждая о том, что это за божественная доля должна быть для той счастливицы, которая будет иметь его мужем, так и бедная Хетти нашла лицо и образ, которые преследовали ее всюду, наяву и в мечтах; ясные, нежные взгляды проникли в ее сердце и облили ее жизнь странною, исполненною счастья томностью. Глаза, бросавшие эти взгляды, в действительности и вполовину не были так красивы, как глаза Адама, которые иногда обращались к ней с грустною, умоляющею нежностью, но они нашли готовое посредничество в глупенькой фантазии Хетти, тогда как глаза Адама не могли проникнуть через эту атмосферу. В продолжение трех недель, по крайней мере, ее внутренняя жизнь состояла почти только из того, что она проходила в памяти взгляды и слова, с которыми Артур обращался к ней; почти только из того, что она припоминала, с каким ощущением слышала его голос вне дома, видела, как он входил, потом замечала, что его глаза были устремлены на нее, и потом еще замечала, что высокая фигура, смотревшая на нее глазами, которые, казалось, касались ее, подходила ближе в платье из красивой материи и пропитанная благоуханием, напоминавшим цветник, колыхаемый вечерним легким ветерком. Безрассудные фантазии! – как вы видите, не имеющие решительно ничего общего с любовью, которую чувствуют прелестные девушки восемнадцати лет в наши дни; но вы должны помнить, что все это случилось около шестидесяти лет назад и что Хетти вовсе не была воспитана, что она была просто дочь фермера, для которой джентльмен с белыми руками сиял как олимпийский бог. До того времени, она никогда не заботилась много о будущем и только мечтала о том, когда капитан Донниторн придет на мызу, или о будущем воскресенье, когда она увидит его в церкви; но теперь она думала, что он, может быть, постарается встретиться с нею, когда она пойдет завтра в рощу… а если он заговорит с нею и пройдет рядом некоторое расстояние, когда никого не будет возле! Этого, однако ж, никогда не случалось; и теперь ее воображение, вместо того чтоб представлять себе прошедшее, занималось составлением того, что может случиться завтра – около какого места в роще увидит она его, когда он пойдет к ней навстречу, как она приколет свою новую розовую ленту, которую он никогда не видел, и что он станет говорить, чтоб заставить ее возвратить его взор – взор, который после того останется у нее в памяти весь день.
В таком настроении духа могла ли Хетти чувствовать несчастье Адама или думать много о том, что бедный старик Матвей утонул? Юные души, находящиеся в таком приятном бреду, в каком находилась Хетти, столь же мало сочувствуют всему, как бабочки, сосущие нектар; они разобщены от всякой действительности преградою мечтаний – невидимыми взорами и неосязаемыми руками.
Между тем как руки Хетти занимались укладкой масла и ее голова наполнена была этими картинами завтрашнего дня, Артур Донниторн, ехавший рядом с мастером Ирвайном к долине, где протекал Ивовый Ручей, также имел какие-то неясные предвкушения, пробегавшие в его душе, как течение под поверхностью реки, в то время как он слушал рассказ мистера Ирвайна о Дине, – предвкушения неясные, но довольно сильные для того, чтоб заставить его почувствовать некоторый стыд, когда мистер Ирвайн вдруг сказал:
– Что очаровывало вас так долго в сырне мистрис Пойзер, Артур? Уж не стали ли вы любителем сырых каменьев и молочных сосудов?
Артур знал священника слишком хорошо, и потому не счел нужным употребить какую-нибудь умную уловку; таким образом, он сказал со своею обычною откровенностью:
– Нет, я вошел посмотреть на миленькую девушку, сбивавшую масло, Хетти Соррель. Она совершенная Геба, и если б я был художником, то срисовал бы ее. Удивительно, что за миленьких девушек видишь между дочерями фермеров, тогда как мужчины такие олухи. Обыкновенное, круглое, красное лицо, которое иногда встречаешь у мужчин – одни щеки без всяких черт, как, например, у Мартина Пойзера, – выходит у женщин в том же семействе очаровательнейшим личиком, какое только можно себе вообразить.
– Ну, я не стану возражать против того, что вы созерцаете Хетти с точки зрения художника; но я не хотел бы, чтоб вы питали ее тщеславие и набивали ее голову вздором, говоря ей, что она необыкновенная красавица, которая может привлечь изящных джентльменов; в противном случае вы испортите ее и сделаете негодной быть женой бедного человека – честного Крега, например, который, я видел, устремляет на нее очень нежные взгляды. Эта маленькая кошечка уже имеет вид, что она сделает мужа таким несчастным, каким, по закону природы, сделается тихий человек, когда он женится на красоте. Кстати о женитьбе; я надеюсь, наш друг Адам устроится теперь, как его бедный старик отправился к праотцам. Ведь ему в будущем придется содержать только мать, и я заметил, что между ним и этой миловидной скромной девушкой, Мери Бердж, существует расположение; я заметил это, когда однажды разговаривал со стариком Джонатаном, который как-то проговорился насчет молодых людей. Но когда я упомянул об этом предмете Адаму, то он, казалось, был озабочен тем и переменил разговор. Я предполагаю, что любовь течет негладко или, может быть, Адам воздерживается, пока не улучшится его положение. Он обладает независимостью духа, которого хватит на два человека… Его даже можно упрекнуть в некоторой гордости, если только следует упрекнуть его в этом.
– Это была бы отличная партия для Адама. Я отвечаю за это, что он сумел бы влезть в башмаки старика Берджа и повел бы дело по постройкам превосходно. Я был бы очень рад, если б он хорошо устроился в этом приходе; тогда он был бы готов действовать как мой великий визирь, когда я буду нуждаться в визире. Мы могли бы делать вместе бесконечные перестройки и улучшения. Впрочем, я, кажется, никогда не видел этой девушки… по крайней мере, я никогда не обращал на нее внимания.
– Посмотрите на нее в будущее воскресенье в церкви… она стоит со своим отцом по левую сторону кафедры. Вам тогда не нужно будет смотреть столько на Хетти Соррель. Когда я решил в своем уме, что не в состоянии купить соблазнительную собаку, то я уж и не обращаю на нее никакого внимания, ибо если б у нее явилось вдруг сильное расположение ко мне и она стала бы смотреть на меня с любовью, то борьба между расчетом и наклонностью могли бы сделаться неприятной и жестокой. Я горжусь моим благоразумием в этом деле, Артур, и наделяю им вас, как старик, которому благоразумие досталось недорого.
– Благодарю вас, может быть, ваши советы очень пригодятся мне когда-нибудь, но теперь я, право, еще не знаю, какую пользу могу извлечь из них. Боже мой! Как ручей-то разлился! Если б мы ехали легким галопом, то, я думаю, были бы теперь у подошвы холма.
В этом заключается большое преимущество разговора верхом: в одну минуту можно погрузить разговор в рысь или в галоп и в седле можно увернуться даже от самого Сократа. Два друга освободились от необходимости продолжать разговор, пока они не поднялись на дорогу, пролегавшую позади Адамовой избы.
X. Дина посещает Лисбет
В пять часов Лисбет спустилась с лестницы с большим ключом в руке; то был ключ от комнаты, где лежал покойник муж. Весь день, исключая те минуты, в которые она, время от времени, предавалась жалобам и печали, она находилась в беспрестанном движении, исполняя печальные обязанности в отношении к своему покойнику со страхом и точностью, принадлежащими к религиозным обрядам. Она вынула свой небольшой запас беленого холста, который в продолжение многих лет бережно хранила для такого торжественного употребления. Ей казалось, что только вчера было то время, после которого прошло столько знойных лет, когда она говорила Матвею, где лежал этот холст, для того, чтоб он знал и мог достать холст для нее, когда она умрет, ибо она была старше его. Затем ей нужно было заняться другим делом: вычистить до строжайшей чистоты всякую вещь в священной комнате и удалить из нее малейший след обычного насущного занятия. Небольшое окно, до тех пор остававшееся открытым в морозную месячную ночь или при жарком летнем восходящем солнце во время сна труженика, должно было теперь занавесить чистой белой простыней, ибо этот сон одинаково священный как под голыми бревнами, так и в оштукатуренных домах. Лисбет починила даже давнишнюю и не стоившую внимания дыру в пестром лоскутке кроватной занавеси, ибо немногочисленны и драгоценны были теперь минуты, в которые она была в состоянии исполнить хотя бы самую незначительную услугу уважения или любви для неподвижного трупа, которому она во всех своих мыслях приписывала некоторое сознание. Наши покойники никогда не умерли для нас до тех пор, пока мы не забыли их; мы можем оскорблять их, мы можем уязвить их; они сознают все наше раскаяние, всю нашу боль о том, что их место стало пусто, все поцелуи, которые мы раздаем ничтожнейшим остаткам их прежнего присутствия среди нас. А пожилая крестьянка скорее всех верит тому, что ее покойники обладают сознанием. Приличные похороны – вот о чем думала про себя Лисбет в продолжение всех годов своей бережливости и неясно ожидала, что она узнает, когда ее понесут на кладбище и будут провожать муж и сыновья, а теперь она чувствовала, что совершает важнейшее дело своей жизни, заботясь о том, чтоб Матвей был прилично предан земле перед ней – под белым терном, где однажды во сне она видела себя лежащею в гробу, а между тем видела солнечное сияние над собою и слышала запах белых цветочков, которые были так густы в то воскресенье, когда она ходила в церковь, чтоб получить молитву, после рождения Адама.
Но тогда она делала все, что только могло быть сделано в тот день в комнате смерти, и делала все это сама, обращаясь к своим сыновьям за помощью только тогда, когда приходилось поднять что-нибудь. Она не позволяла, чтоб ей на помощь привели кого-нибудь из деревни, так как она не очень то была расположена к соседкам вообще, а любимая ею Долли, старая экономка в доме мистера Берджа, пришедшая выразить ей свое соболезнование в несчастье, лишь только услышала о смерти Матвея, имела очень слабое зрение и, таким образом, не могла быть ей очень полезна. Она замкнула дверь и держала теперь ключ в своей руке, когда, утомленная, бросилась на стул, стоявший не на своем месте, на середине комнаты, где в обыкновенное время она никогда не согласилась бы сесть. На кухню она не обратила в тот день ни малейшего внимания: кухня была запачкана следами грязных башмаков и имела неопрятный вид от разбросанных платьев и других предметов. Но что в другое время было бы невыносимо для Лисбет, привыкшей к порядку и чистоте, то, казалось ей, теперь и должно быть именно так. Ведь все это и должно было иметь странный, беспорядочный и скверный вид, когда старик окончил свою жизнь таким горестным образом, кухня и не должна была казаться такою, как будто не случилось ничего. Адам, побежденный волнениями и заботами этого несчастного дня, после ночи, проведенной за тяжелым трудом, спал на скамейке в мастерской, а Сет находился в задней кухне, разводя огонь щепками, чтоб вскипятить чайник, надеясь убедить свою мать выпить чашку чая: его мать редко позволяла себе такую роскошь.
В кухне не было никого, когда Лисбет вошла в нее и бросилась на стул. Она осматривалась кругом смущенным взором на грязь и беспорядок, которые угрюмо освещало яркое послеобеденное солнце. И все это совершенно согласовалось с грустным замешательством ее мыслей – замешательством, нераздельным с первыми часами внезапной грусти, когда бедная душа человеческая походит на человека, который был положен спящим среди развалин обширного города и пробуждается в тягостном изумлении, не зная, рассветает ли день или приходит к концу, не зная, почему и откуда взялось это необъятное зрелище опустошения или почему он сам, одинокий, находится там.
В другое время первая мысль Лисбет была бы: где Адам? Но внезапная смерть мужа снова сделала его в эти часы первым предметом ее нежности, каким он был двадцать шесть лет назад; она забыла о его недостатках, как мы забываем горести нашего исчезнувшего детства, и думала только о расположении к ней молодого мужа и о терпении старика. Она продолжала озираться кругом смущенным взором, пока вошел Сет и стал переставлять некоторые из разбросанных вещей и убирать маленький круглый столик из соснового дерева, чтоб поставить на нем чай для матери.
– Что ты хочешь делать? – сказала она несколько брюзгливым голосом.
– Хочу, чтоб ты выпила чашку чая, матушка, – отвечал Сет нежно. – Тебе будет хорошо от этого; да, кстати, я приберу к стороне несколько вещей вот тут – по крайней мере, в доме будет хоть некоторый порядок.
– Порядок! Как ты можешь еще говорить о том, что хочешь привести в порядок. Оставь так, оставь. Для меня уж не будет больше прежнего спокойствия, – продолжала она, и слезы текли ручьем, когда она начала говорить, – теперь, когда нет уж на свете бедного отца, на которого я стирала и чинила и для которого тридцать лет варила обед… и он был всегда доволен, что бы я ни делала для него… А он был так ловок и проворен: готовил для меня, когда я была больна, и с гордостью приносил ко мне наверх; однажды он даже нес сынишку, который весил за двух детей, пять миль, всю дорогу до самого Ворстон-Века, а мне нужно было сходить туда, чтоб повидаться с сестрою, которая и умерла в те же рождественские праздники. И он делал это всегда так охотно, без всякого ропота! И вот нужно же было ему утонуть в ручье, через который мы шли в день нашей свадьбы вместе домой… и он наделал мне вот все эти полки, для того чтоб я могла поставить мои тарелки и другие вещи, и с гордостью показал мне на них, так как знал, что это будет мне приятно. И нужно же было умереть ему без моего ведома, когда я лежала себе сонная в постели, будто мне и дела нет никакого до этого. Ах, и я дожила до того, чтоб увидеть это! А мы когда были молоды, то вот думали, что будем счастливы, когда женимся. Нет, родной, оставь это, оставь! Не хочу я никакого чаю – мне уж нечего больше заботиться о том, чтоб я ела и пила. Когда одна сторона моста обрушится, какая польза от другой стороны, хотя она еще и цела? Пусть и я лучше умру и последую за стариком. Кто знает, может, я и нужна ему!
Тут Лисбет перешла от слов к стонам, то наклоняясь вперед, то откидываясь на стуле. Сет, всегда робкий в обращении в матерью, ибо чувствовал, что не имел никакого влияния на нее, видел, что тщетны были бы его старания убедить ее или успокоить до тех пор, пока горе не утихнет несколько. Таким образом, он довольствовался тем, что присматривал за огнем в задней кухне и складывал отцовские платья, которые еще утром были вывешены, чтоб просохнуть. Он боялся шевелиться в комнате, где сидела его мать, чтоб не раздражить ее еще более.
Но Лисбет, покачавшись и постонав несколько минут, вдруг остановилась и громко сказала про себя:
– Пойду да посмотрю на Адама… не знаю, право, куда он делся? А мне нужно сходить с ним наверх, пока еще не стемнело, ибо минуты, когда еще можно мне посмотреть на покойника, проходят, как тающий снег.
Сет расслышал это и, снова войдя в кухню в то время, когда его мать поднялась со стула, сказал:
– Адам спит в мастерской, матушка. Ты уж лучше не буди его. Он ведь замучился от работы и беспокойства.
– Будить его? Кто же идет будить его? Разве я разбужу его, если взгляну на него? Я не видала его вот уж два часа… мне кажется я забыла, что он вырос с тех пор, как отец нес его на руках за мной.
Адам сидел на грубой скамейке, поддерживая голову рукою, которая от плеча до локтя покоилась на длинном верстаке, стоявшем посередине мастерской. Казалось, он присел, чтоб только отдохнуть несколько минут, и заснул, не переменив положения, вызванного грустной, томительной мыслью. Его лицо, неумытое со вчерашнего дня, было бледно и в холодном поту, его волосы были взъерошены около лба, а закрытые глаза провалились, как это всегда бывает после продолжительного бдения и при сильном горе. Его брови были нахмурены, и все лицо выражало истощение и страдания. Джип явно находился в беспокойном состоянии духа, ибо он сидел, положив морду на выдвинувшееся колено господина, и, проводя время в том, что лизал бессознательно спущенную руку, и прислушиваясь, оглядывался на дверь. Бедное животное было голодно и неспокойно, но не хотело оставить своего господина и с нетерпением ожидало какой-нибудь перемены в сцене. Это чувство со стороны Джипа было виной того, что когда Лисбет вошла в мастерскую и приблизилась к Адаму, как только могла, без шуму, то ее намерение не разбудить его было в ту же минуту уничтожено, ибо волнение Джипа было слишком сильно и не могло не выразиться коротким, но резким лаем, и в одну минуту Адам открыл глаза и увидел, что его мать стояла перед ним. Это нисколько не разнилось от его видений, ибо он во сне почти снова переживал – в лихорадочном бреду – все, что случилось с рассвета, и его мать с слезливой тоской представлялась ему сквозь все, что он видел. Главная разница между действительностью и видением состояла в том, что во сне Хетти беспрестанно являлась ему как живая, странно вмешиваясь, как действующее лицо, в сцены, до которых ей решительно не было никакого дела. Она была даже у Ивового Ручья; она рассердила его мать, войдя к ним в дом, и он встретил ее в нарядном, но совершенно мокром платье, когда шел во время дождя в Треддльстон, чтоб сообщить о случившемся следственному приставу. Но куда бы ни шла Хетти, его мать непременно следовала за ней вскоре, и когда он открыл глаза, то нисколько не удивился, увидев мать, стоявшую около него.
– Ах, родной мой, родной! – в ту же минуту воскликнула Лисбет жалостливо, получив возможность сетовать, ибо горесть, когда еще свежа, чувствует потребность соединить потерю и плач со всякою переменой сцены и случая. – Кроме твоей старой матери, некому теперь мучить тебя и быть тебе в тягость: бедный отец уж больше не рассердит тебя никогда, – и твоей матери также можно убраться за ним, и чем скорее, тем лучше, потому что я не приношу теперь пользы никому. Старое платье годится только на починку другого, но на что-нибудь иное оно негодно. Тебе захочется иметь жену, которая будет чинить твои платья и готовить кушанья лучше, нежели твоя старуха мать. А я буду только в тягость, сидя в углу у печки.
Адам содрогался по временам и делал нетерпеливые движения; больше всего он опасался, что его мать заговорит о Хетти.
– Но если б твой отец был жив, он никогда не захотел бы, чтоб я уступила место другой… он ничего не стал бы делать без меня, все равно как одна сторона ножниц ничего не может сделать без другой. Э-э-эх, нам следовало бы отправиться обоим вместе, и тогда я не увидела бы этого дня, и одни похороны годились бы для нас обоих.
Тут Лисбет остановилась, но Адам сидел в тягостном безмолвии; сегодня он должен был говорить со своею матерью не иначе, как только нежно, но эти жалобы не могли не раздражить его. Бедной Лисбет невозможно было знать, какое влияние производило это на Адама, подобно тому как раненая собака не в состоянии знать, какое влияние производят ее стоны на нервы господина. Как все слезливые женщины, она жаловалась в том ожидании, что утешится, и когда Адам не говорил ничего, то это только поощряло ее жаловаться с большею горечью.
– Я знаю, что тебе было бы лучше без меня, ибо ты мог бы идти, куда захотел, и жениться на той, на какой хочешь. Но я не хочу сказать тебе, что мне было бы это неприятно; введи в дом, кого ты хочешь. Я никогда не открыла бы рта, чтоб порицать тебя, ибо люди старые и бесполезные должны быть благодарны за то, что получают чего-нибудь поесть и напиться, хотя вместе с этим они и должны глотать неприятности. И если ты отдашь свое сердце девушке, которая не принесет тебе ничего, а, напротив того, разорит тебя, когда бы ты мог получить девушку, которая сделала бы из тебя человека, то я не скажу ничего теперь, когда твой отец умер и утонул, ибо я не лучше старого черенка, когда пропал клинок.
Адам, будучи не в состоянии переносить долее эти жалобы, молча встал со скамейки и из мастерской вышел в кухню.
Но Лисбет последовала за ним:
– Ты разве не хочешь подняться и посмотреть на отца? Я сделала ему все, что нужно; ему было бы приятно, если б ты пошел взглянуть на него, ибо он был всегда доволен, когда ты обходился с ним кротко.
Адам вдруг повернулся и сказал:
– Да, матушка, пойдем наверх. Сет, пойдем вместе.
Они поднялись наверх. В продолжение пяти минут царствовало глубокое молчание. Затем ключ повернулся снова. На лестнице раздался шум шагов. Но Адам не спустился снова вниз. Он был слишком утомлен и обессилен для того, чтоб еще подвергнуться слезливой горести своей матери, и лег отдохнуть на свою постель. Лишь только Лисбет вошла в кухню и села, как накинула передник на голову и принялась плакать, стонать и качаться, как прежде. Сет подумал: «Она мало-помалу успокоится, так как мы были наверху», и он снова отправился в заднюю кухню, чтоб посмотреть за своим огоньком, надеясь, что он скоро убедит мать напиться чаю.
Лисбет, таким образом, покачивалась взад и вперед больше пяти минут, издавая слабый стон каждый раз, когда тело ее наклонялось вперед, как вдруг она почувствовала, что чья-то рука нежно коснулась ее рук и кто-то сладостным дискантом сказал ей:
– Дорогая сестра, Господь послал меня посмотреть, не могу ли я принесть вам какое-нибудь утешение.
Лисбет обновилась, прислушиваясь, но не снимая своего передника с головы. Голос казался ей чужим. Неужели дух ее сестры возвратился к ней от умершей столько лет назад? Она затряслась и не смела посмотреть.
Дина, понимая, что это безмолвное удивление было само по себе облегчением для горестной женщины, не произнесла ничего более, но тихо сняла свою шляпку и затем, сделав знак молчания Сету, который, услышав ее голос, вошел с бьющимся сердцем в комнату, облокотилась одною рукою на спинку стула Лисбет и наклонилась над старухой, чтоб она могла заметить присутствие друга.
Медленно опустила Лисбет свой передник и робко открыла свои слабые темные глаза. Сначала она не увидела ничего, кроме лица – прозрачного, бледного лица, с исполненными любви серыми глазами, но оно было ей совершенно незнакомо. Ее удивление увеличилось; быть может, то был ангел. Но в то же время Дина снова положила руку на Лисбет, и старуха посмотрела на руку. Рука была гораздо меньше ее собственной, но она не была бела и изящна, ибо Дина никогда в жизни не носила перчаток и ее рука имела на себе следы тяжелой работы с самого детства. Лисбет с минуту озабоченно смотрела на руку и потом, снова устремив глаза на лицо Дины, сказала как бы с возвращающимся мужеством, но с удивлением в голосе:
– Вы работница!
– Да, я Дина Моррис и работаю на бумагопрядильной фабрике, когда нахожусь дома.
– А! – сказала Лисбет медленно, с прежним удивлением. – И вы вошли так легко, как тень на стене, и сказали мне на ухо, так что я подумала – не дух ли вы? У вас, ни дать ни взять, такое же лицо, как вот у ангела, который изображен сидящим у гроба на картинке в Адамовой новой Библии.
– Я пришла теперь с господской мызы. Вы знаете мистрис Пойзер. Она моя тетка; она слышала о вашем большом горе и очень сожалеет о вас. А я пришла посмотреть, не могу ли быть вам в чем-нибудь полезна при вашем несчастье, ибо я знаю ваших сыновей, Адама и Сета, и знаю, что у вас нет дочери, и когда священник сказал мне, как тяжко легла на вас рука Божья, то сердце мое было увлечено к вам, я почувствовала приказание идти и заступить при вас место дочери в этой скорби, если вы только позволите.
– А, я знаю теперь, кто вы, вы принадлежите к методистам, как Сет. Он говорил мне о вас, – сказала Лисбет слезливо: ее сильное чувство скорби возвратилось теперь, когда исчезло ее удивление. – Вы станете доказывать, что несчастье ведет только к добру, как он все говорит. Но что же за польза говорить мне об этом? Своим разговором вам ни на каплю не уменьшите моего несчастья. Вы никогда не заставите меня поверить, что не было бы лучше, если б мой старик умер в постели, когда уж ему было суждено умереть… Если б имел при себе священника, который молился бы за него; если б я сидела у его изголовья и говорила ему… Он забыл бы дурные слова, с которыми я обращалась к нему иногда, в сердцах… Если б давала ему есть и пить до тех пор, пока он только был бы в силах глотать… Но, увы, умереть в холодной воде! И мы были так близко и ничего не знали; и я-то спала, будто и не принадлежала вовсе к нему, будто он был школьник и бродил – кто его знает где!
Тут Лисбет снова начала хныкать и качаться, и Дина сказала:
– Да, любезный друг, ваше горе велико. Тот должен иметь черствое сердце, кто скажет, что ваше несчастье не тяжело перенести. Бог послал меня к вам не для того, чтоб ни во что не ценить вашей печали, а для того, чтоб сетовать с вами, если вы позволите. Если б у вас был накрыт стол для пиршества и вы предавались веселью с вашими друзьями, то вы, верно, подумали, что поступили бы благосклонно, позволив мне прийти, сесть и наслаждаться с вами, ибо вы бы думали, что мне было бы приятно участвовать в вашем пире, но я лучше приму участие в вашем горе и в вашем труде, и потому если б вы отказали мне, то ваш отказ поразил бы меня суровее. Вы не отошлете меня назад? Вы не сердитесь на меня за то, что я пришла?
– Нет, нет! сердиться! Кто сказал, что я сержусь? Это очень хорошо с вашей стороны, что вы пришли. А ты, Сет, отчего не подашь ей чаю? Ты так торопился дать мне чаю, когда мне вовсе не нужно, а вовсе не думаешь дать тем, кому следовало бы. Садитесь, садитесь. Очень благодарю вас, что вы пришли, ибо вы получите небольшое вознаграждение за то, что идете по сырым полям, желая навестить такую старуху, как я… Нет, у меня нет родной дочери… и никогда не было… и я не печалилась тем, ибо они бедные, жалкие создания, девушки-то… я всегда желала иметь мальчиков, которые могут заботиться о себе сами. Сыновья женятся… и у меня будет довольно дочерей, даже слишком много. Но теперь сделайте чай, как вы хотите, потому что сегодня у меня нет вкусу во рту… мне все равно, что я ни буду глотать… все будет у меня отзываться горем.
Дина не подала и виду, что уже пила чай, и с большою готовностью приняла приглашение Лисбет, желая убедить старуху, чтоб она приняла пищу и питье, в которых так нуждалась после дня тяжкого труда и воздержания.
Сет был так счастлив теперь, когда Дина находилась у них в доме, и как-то поневоле думал, что ее присутствие достойным образом искупало жизнь, в которой горе следовало за горем беспрерывно. Но через минуту он уже раскаивался в этих мыслях: казалось, что он почти радовался горестной смерти своего отца. Тем не менее радость от того, что он находится вместе с Диной, должна была одержать верх: она походила на влияние климата, которого не пересилит никакое сопротивление. Это чувство отразилось на всем его лице таким образом, что обратило на себя внимание матери в то время, когда она пила чай.
– Тебе, конечно, можно говорить, что несчастье ведет к добру, Сет, ибо ты блаженствуешь от него. Кажется, у тебя нет ни заботы, ни печали, как в то время, когда ты был ребенком и, проснувшись, лежал в люльке… И всегда-то ты, бывало, откроешь глаза да и лежишь, не то что Адам… он, бывало, как проснется, не хочет лежать ни одной минуты. Ты всегда был похож на куль с мукой, который никогда нельзя раздавить, а между тем в этом отношении отец твой был совсем другой человек. Но у вас то же самое выражение, – продолжала Лисбет, обращаясь к Дине. – Я полагаю, это происходит оттого, что вы принадлежите к методистам. Не то чтоб я порицала вас за это, ибо у вас нет никакой печали, а между тем лицо ваше выражает скорбь. Э-эх! если методисты любят несчастье, то они также любят и блаженство; жаль, право, что им оно достается не всем и что они не могут отнять его у тех, кому оно неприятно. А я отдала бы его охотно: когда был жив мой старик, то я мучилась с утра и до ночи, а теперь, когда его нет, я была бы рада переносить худшее.
– Да, – сказала Дина, заботливо избегая противоречия чувствам Лисбет, ибо ее упование – в незначительнейших словах и поступках – на божественное руководство проистекало всегда из тончайшего женского такта, происходящего от искренней и всегда готовой симпатии, – да, я также помню, что когда умерла моя дорогая тетка, то мне так и хотелось слышать звук ее болезненного кашля по ночам вместо тишины, воцарившейся, когда ее уж более не было. Но теперь, любезный друг, выпейте еще эту чашку чаю и покушайте еще немного.
– Как, – сказала Лисбет, взяв чашку и говоря уже менее жалобным, тоном, – разве у вас не было ни отца, ни матери, когда вы печалились так о вашей тетке?
– Нет, я никогда не знала ни отца, ни матери. Моя тетка взяла меня еще грудным ребенком. У нее не было детей, ибо она никогда не была замужем, и воспитывала меня так нежно, будто я была ее родной дочерью.
– Ну, было же ей работы с вами, когда она взяла вас еще грудным ребенком, а сама еще была одинокой женщиной… ведь знаете, как трудно выкормить брошенного ягненка? Но, кажется, вы не были упрямы, ибо по вашему виду можно заключить, что вы не упрямились никогда в жизни. Но что же вы стали делать, когда умерла ваша тетка, и отчего не пришли вы жить в наши места, так как мистрис Пойзер также приходится вам теткой?
Дина, заметив, что возбудила внимание Лисбет, рассказала ей историю своей прежней жизни: как она была воспитана для тяжкого труда, что за место было Снофильд, где столько людей ведут тяжкую жизнь – одним словом, передала все подробности, какие, по ее мнению, могли интересовать Лисбет. Старуха внимательно слушала рассказ, забыв свою слезливость и бессознательно подчиняясь утешающему влиянию лица и голоса Дины. Несколько времени спустя она убедилась в том, что можно позволить привести кухню в порядок, ибо Дина настаивала на этом, предполагая, что чувство порядка и спокойствия вокруг нее расположит Лисбет присоединиться к молитве, к которой Дина горячо хотела приступить. Сет между тем вышел наколоть дров, ибо думал, что Дине приятнее будет остаться с его матерью наедине.
Лисбет не сводила с нее глаз все время, как Дина убирала кухню с своим обычным спокойствием, и сказала наконец:
– Как хорошо умеете вы приводить в порядок. Я не скучала бы, если б вы были моей дочерью, ибо вы не тратили бы трудовых денег сыновей на щегольство и другой вздор. Вы не похожи на девушек, которые живут в нашей стороне. Я думаю, люди, живущие в Снофильде, вовсе не похожи на здешних.
– Многие из них ведут совершенно другую жизнь, – сказала Дина. – Они занимаются другими вещами… кто на фабрике, кто в рудах, в окружных деревнях. Но сердце человеческое одно и то же всюду, и там вы найдете детей этого мира и детей духовного мира – так же, как и всюду. Но у нас там методистов гораздо больше, нежели в ваших местах.
– Ну, я не знала, что методистки похожи на вас, потому что у нас тут есть жена Билля Маскри, которая, говорят, большая методистка, а на нее вовсе неприятно смотреть. Я уж лучше посмотрю на жабу. И право, я была бы рада, если б вы остались ночевать здесь, ибо мне было бы приятно увидеть вас в доме утром. Но может, вас будут ждать там, у мистера Пойзера.
– Нет, – сказала Дина, – там не будут ждать меня, и я сама охотно останусь у вас, если вы позволите.
– Это прекрасно! У нас места довольно. Я положу свою постель в небольшой комнате над заднею кухней, а вы можете лечь возле меня. Я буду очень рада, что вы останетесь со мною и что я могу говорить с вами ночью… мне очень нравится, как вы говорите. Ваш разговор напоминает мне ласточек, которые жили у нас прошлый год под кровлей, когда они, бывало, начинали петь тихо и нежно утром. Э-эх! а мой старик так любил этих птичек! И Адам также… Но нынешний год они не возвратились на свое место. Может, они тоже умерли.
– Вот, – сказала Дина, – теперь кухня в порядке. А теперь, дорогая матушка – ведь я ваша дочь сегодня вечером, вы знаете, – мне было бы приятно, если б вы вымыли ваше лицо и надели чистый чепчик. Помните ли вы, что сделал Давид, когда Бог отнял у него сына? Пока сын был жив, он постился и молил Бога пощадить его, ничего не ел и не пил, а всю ночь лежал на земле, воссылая к Богу горячие мольбы о сыне. Когда же он узнал, что сын умер, то встал с земли, умылся и помазался, переменил платье, ел и пил; и когда спросили его, каким образом казалось, что он перестал тосковать, тогда как сын умер, то он отвечал: «До тех пор пока сын был жив, я постился и плакал; ибо я говорил: кто может сказать мне, будет ли Бог милостив ко мне и оставит ли сына в живых? Но теперь, когда он умер, зачем стану я поститься? разве я могу возвратить его? Я пойду к нему, но он не возвратится ко мне».
– О, как это справедливо! – сказала Лисбет. – Да, мой старик не возвратится ко мне, а я отправлюсь к нему… и чем скорее, тем лучше. Ну, хорошо, делайте со мной, что хотите; чистый чепчик вы найдете вон в том комоде, а я пойду в заднюю кухню и умою лицо. А ты, Сет, пожалуй, достань новую Библию Адама с картинками, и она вот прочтет нам главу. Э-эх, как я полюбила те слова: «Я пойду к нему, но он не возвратится ко мне».
Дина и Сет внутренно благодарили Бога за то, что Лисбет стала гораздо покойнее духом. Вот чего старалась достигнуть Дина посредством всей своей симпатии и воздержания от увещаний! С самого девичества до настоящего времени она приобрела опытность в обхождении с больными и скорбящими, с людьми зачерствелыми и огрубелыми от нищеты и невежества. Она приобрела тончайшее понимание, каким образом можно было лучше всего тронуть и смягчить людей до того, что они соглашались внять словам духовного утешения или предостережения. Так говорила Дина. Она никогда не бывала предоставлена самой себе, но ей внушалось всегда свыше, когда она должна хранить молчание и когда говорить. И разве все мы не согласимся назвать быстрые мысли и благородное побуждение именем вдохновения? Анализируя умственным процессом и строжайшим образом, мы должны всегда сказать, как говорила Дина, что наши высшие мысли и наши лучшие поступки все даются нам свыше.
Таким образом, там вознеслась к небу горячая молитва – там, в тот вечер, в маленькой кухне, изливались вера, любовь и надежда. И бедная, пожилая, слезливая Лисбет, не имея никакой определенной идеи, не проходя ни по какому пути волнений, возбуждаемых религией, сознавала какое-то неопределенное чувство доброты и любви и чего-то справедливого, находившегося за этой жизнью, исполненной одних печалей. Она не могла понимать печали, но в те минуты, под утешающим влиянием гения Дины, она сознавала, что должна быть терпелива и покойна.
XI. В избе
На другой день, утром, когда было только половина пятого, Дина, уставши лежать (она проснулась уже давно и лежала, вслушиваясь в пение птиц и наблюдая за светом, мало-помалу проникавшим в небольшое окно на чердаке), встала и начала одеваться весьма осторожно, чтоб не обеспокоить Лисбет. Но еще кто-то ходил уже в доме и спустился с лестницы, предшествуемый Джипом. Шумные шаги собаки служили верным признаком, что вниз спустился Адам, но Дина не знала этого и думала, что это был, вероятно, Сет, ибо последний рассказал ей, как Адам настойчиво проработал прошлую ночь напролет. Сет, однако ж, проснулся только теперь, при звуке отворявшейся двери. Сильное влияние вчерашнего дня, увеличенное под конец неожиданным присутствием Дины, не встретило противодействия в каком-нибудь физическом утомлении, ибо Сет не занимался вчера тяжелою работою в обычной мере. Таким образом, когда он лег спать, то дремота овладела им тогда, когда он измучился в продолжение нескольких часов беспокойной бессонницей, и он погрузился в тяжелый утренний сон, чего с ним обыкновенно не случалось.
Но Адам освежился продолжительным отдыхом и, по своему обыкновению, горя нетерпением выйти из бездействия, желал начать новый день и подавить горе сильной волей и сильной рукой. Белый туман лежал на долине, наступал ясный, теплый день, и Адам снова хотел приняться за работу, когда позавтракает.
– До тех пор пока человек может работать, нет ничего на свете, чего он не был бы в состоянии перенести, – подумал он. – Природа вещей не изменяется, хотя и кажется человеку, что вся его жизнь не что иное, как перемена. Четыре в квадрате составляют шестнадцать, и человек должен удлинять свой рычаг пропорционально со своею тяжестью – это все равно, когда человек несчастлив, иногда счастлив; а лучшее качество работы то, что она дает человеку возможность бороться с судьбой.
Когда он спрыснул холодной водой голову и лицо, то совершенно пришел в себя; его черные глаза были, по обыкновению, проницательны, его густые черные волосы блестели от свежей влаги. Он вошел теперь в мастерскую, чтоб приискать дерева для гроба своего отца. Он полагал снести с Сетом дерево к Джонатану Берджу и дать там сделать гроб одному из работников, дабы его мать не могла видеть и слышать, как это грустное дело будет исполняться дома.
Он только что успел войти в мастерскую, как его чуткое ухо различило легкие, быстрые шаги на лестнице… он узнал, что то не были шаги его матери. Он лежал в постели и спал, когда Дина пришла к ним в дом, вечером, и потому с удивлением подумал: чьи могли быть эти шаги? В голове его мелькнула безрассудная мысль, которая произвела в нем странное волнение. Неужели то могла быть Хетти? Она была последним лицом, которое могло бы прийти к ним. А между тем ему не хотелось пойти посмотреть, чтоб иметь ясное доказательство, что там был кто-то другой. Он стоял, прислонясь к доске, которую только что взял, и прислушивался к звукам, которые его воображение объясняло ему так приятно, что на его смелом, строгом лице разлилась какая-то робкая нежность. Легкие шаги раздавались в кухне, сопровождаемые звуком щетки, которой мели пол; шум этот был так тих, что напоминал легчайший ветерок, гонящий осенний лист по пыльной дорожке. И Адамово воображение видело миловидное лицо с темными, блестящими глазами и плутовскою улыбкой, осматривавшееся на щетку, и округленную фигуру, наклонившуюся несколько для того, чтоб схватить щетку за ручку. Да, весьма безрассудная мысль… это не могла быть Хетти. Но для того, чтоб освободить голову от этого вздора, оставалось одно лишь средство: выйти и посмотреть, кто был там, ибо его воображение только все более и более приближалось к полной уверенности, в то время как он стоял на месте и прислушивался. Он оставил доску и подошел к кухонной двери.
– Здравствуйте, Адам Бид, – сказала Дина своим спокойным дискантом, перестав мести и устремляя на него кроткие, серьезные глаза. – Я уверена, что вы отдохнули и подкрепили свои силы, так что снова можете переносить дневное бремя и жар.
Адам, казалось, задремал при солнечном сиянии и теперь просыпался при лунном свете. Адам видел Дину несколько раз, но всегда на господской мызе, где он почти не замечал присутствия какой-нибудь женщины, кроме Хетти, и только в последние два-три дня стал подозревать, что Сет был влюблен в нее, так что до настоящей минуты он не обращал на нее внимания ради своего брата. Но теперь ее стройная фигура, ее обыкновенное черное платье и ее бледное, спокойное лицо произвели на него такое сильное впечатление, какое принадлежит действительности, находящейся в противоречии с фантазией, охватывающей все мысли. В первые две минуты он не отвечал ничего, а смотрел на нее сосредоточенным, испытующим взором, какой обращает человек на предмет, который внезапно сделался для него интересным. Дина – первый раз в жизни – чувствовала болезненное самосознание; в темном, проницательном взоре этого строгого человека было что то столь различное с кротостью и робостью его брата Сета. На ее лице показался сначала слабый румянец, которой увеличится потом, когда она удивилась этому. Румянец вызвал Адама из его забывчивости.
– Я был совершенно поражен изумлением; это было очень хорошо с вашей стороны, что вы пришли навестить мою мать в ее несчастье, – сказал он кротким, исполненным благодарности тоном, ибо его быстрое соображение сразу показало ему, каким образом случилось, что она была у них в доме. – Я надеюсь, моя мать благодарила судьбу, что вы были при ней, – прибавил он почти со страхом думая о том, какой прием был сделан Дине.
– Да, – сказала Дина, снова принимаясь за работу, – она, кажется, очень успокоилась после некоторого времени и ночью спала хорошо, хотя и просыпалась несколько раз. Она спала крепко, когда я оставила ее.
– Кто принес это известие к вам, на мызу? – спросил Адам, и его мысли возвратились к кому-то другому. Он хотел знать, чувствовала ли она что-нибудь, узнав о его несчастье.
– Мистер Ирвайн, пастор, сказал мне об этом, и моя тетка была очень огорчена за вашу матушку, когда услышала об этом, и хотела, чтоб я пришла сюда; я уверена, что и дядю поразило ваше несчастье теперь, когда ему сказали об этом, но он весь вчерашний день был в Россетере. Все они будут ждать вас, когда время позволит вам сходить туда, ибо нет никого там в доме, кто не был бы рад видеть вас.
Дина, с ее симпатическою способностью угадывать, знала очень хорошо, что Адаму сильно хотелось слышать: сказала ли Хетти что-нибудь о его несчастье? Она слишком сурово была привязана к истине и не могла изменить ей, хотя бы для благодетельной выдумки, но она сумела сказать так, что в ее ответе подразумевалась и Хетти, хотя о последней не было произнесено ни слова. Любовь умеет обманывать себя сознательно, как ребенок, который один играет в прятки; она довольствуется уверениями, которым, однако ж, нисколько не верит. Адам так был доволен тем, что сказала Дина, что все его мысли тотчас же обратились к тому времени, когда он в следующий раз пойдет на мызу и когда Хетти, может быть, обойдется с ним ласковее, чем она обходилась с ним до этого времени.
– Но вы сами недолго останетесь там? – сказал он, обращаясь к Дине.
– Нет, я возвращусь в Снофильд в субботу и должна отправиться в Треддльстон пораньше, чтоб застать окбурнского извозчика. Таким образом, я должна возвратиться на мызу сегодня вечером, ибо мне хочется провести последний день с теткой и ее детьми. Но я могу остаться здесь весь день, если захочет ваша матушка… а она, кажется, почувствовала ко мне расположение вчера вечером.
– Ах, в таком случае она, конечно, захочет иметь вас при себе сегодня. Если матушка прибегнет к людям в начале знакомства, то она, наверно, полюбит их, но у нее странное обыкновение: она не любит молодых женщин. Я должен, однако ж, прибавить, – продолжал Адам, улыбаясь, – что если она не любит других молодых женщин, то из этого еще не следует, чтоб она была не расположена и к вам.
До этого времени Джип присутствовал при разговоре в неподвижном молчании, сидел на задних лапах и попеременно то смотрел на лицо своего господина, наблюдая за его выражением, то следил за движениями Дины в кухне. Добрая улыбка, с которою Адам произнес последние слова, очевидно, решила затруднение Джина, в каком свете он должен был смотреть на незнакомку, и, когда она повернулась, чтоб убрать половую щетку, то Джип подбежал к ней и, ласкаясь, приложил морду к ее руке.
– Видите, Джип приветствует вас, – сказал Адам, – а он вовсе не щедр на приветствия незнакомым.
– Бедное животное, – сказала Дина, хлопая на грубой серой шерсти собаки. – Странно, когда я гляжу на этих безгласных животных, то мне всегда кажется, что они хотят говорить и чувствуют себя несчастными оттого, что не могут. Я против воли всегда сожалею о собаках, хотя, может быть, это было бы вовсе не нужно. Но они очень могут иметь в себе больше и не знают, как заставить нас понять их, ибо мы не можем выразить, со всеми нашими словами, и половины того, что чувствуем.
Сет в это время также сошел вниз и с удовольствием увидел, что Адам разговаривает с Диной. Он хотел, чтоб Адам знал, насколько она была лучше всех других женщин. Но после немногих приветственных слов Адам потащил его в мастерскую, чтоб посоветоваться насчет гроба, и Дина опять принялась за уборку.
Около шести часов все они собрались к завтраку с Лисбет в кухне, которая была так чиста, как только она бывала у самой Лисбет. Окно и дверь были открыты, и утренний воздух приносил с собою смешанное благоухание божьего дерева, фимиама и душистого шиповника из небольшого садика, находившегося со стороны избы. Сначала Дина не садилась, а ходила взад и вперед, подавая другим горячую похлебку и поджаренные овсяные лепешки, которые она приготовила, как они приготовлялись всегда, ибо она просила Сета сказать ей наверное, что давала им к завтраку их мать. Лисбет была необыкновенно молчалива с того времени, как сошла сверху, очевидно нуждаясь во времени, для того чтоб настроить свои мысли согласно с порядком дел, в котором она очутилась, спустившись вниз, как леди, которая нашла всю свою работу исполненною и села, ожидая, что ей будут прислуживать. Ее новые чувства, казалось, исключали даже воспоминание о ее печали. Наконец, попробовав похлебку, она прервала молчание.
– Вы могли бы сварить похлебку и хуже, – сказала она, обращаясь к Дине. – Я могу есть ее с аппетитом, хотя не сама варила ее. Можно бы было, однако ж, сделать ее несколько погуще, и я также всегда кладу капельку мяты, когда сама варю, но откуда же вам знать это?.. Сыновьям не скоро удастся найти кого-нибудь другого, кто готовил бы им похлебку так, как я, и то хорошо, если хоть найдется вообще кто-нибудь, чтоб сварить похлебку. Но вы можете варить ее, если вам только показать немного; вы очень живы утром, вы легки на ноги и убрали дом довольно хорошо на первый случай.
– На первый случай, матушка? – сказал Адам. – Кажется, дом убран отлично. Я не знаю, как еще можно убрать лучше.
– Ты не знаешь. Нет! Как же тебе и знать это? Мужчины никогда не знают, вымыт ли пол или облизала его кошка. Но ты узнал бы, если б тебе подали подожженную похлебку, что, вероятно, и будет случаться, когда я перестану варить. Тогда ты подумаешь, что твоя мать годилась же на что-нибудь.
– Дина, – сказал Сет, – садитесь, пожалуйста, теперь и завтракайте сами. Нам всем уж подано.
– В самом деле, идите сюда и садитесь… да, – сказала Лисбет, – и поешьте чего-нибудь, почти полтора часа вы были на ногах, вам нужно подкрепить себя. Пожалуйста же, – добавила она слезливым, но дружеским тоном, когда Дина села рядом с ней, – мне будет досадно, если вы уйдете, но, кажется, вам нельзя оставаться долее. С вами я могла бы хорошо вести хозяйство, но я не скажу того же о большей части других людей.
– Я останусь до вечера, если вы хотите, – сказала Дина. – Я осталась бы долее, но я возвращусь в Снофильд в субботу и завтра должна быть у тетки.
– Эх, я никогда не возвратилась бы в те места. Мой старик был родом из Стонишейра, но оставил свою родину, когда был еще молодым человеком, и хорошо сделал. Он говорил, будто там вовсе нет лесу и что это дурные места для плотника.
– Ах, – сказал Адам, – я помню, отец говорил мне, когда я был еще мальчиком, что он решил, если вздумает когда-нибудь переселиться, идти на юг. Но я не решился бы на это с такою уверенностью. Бартль-Массей говорит – а он ведь знает юг, – что северные люди лучшей породы, нежели южные, что они крепче головою, и телом сильнее, и гораздо выше ростом. Потом он говорит, что в некоторых из тех областей местность плоска, как ваша ладонь, и вы ничего не увидите на большое расстояние, если не влезете на самое высокое дерево. Я не мог бы ужиться там: я люблю ходить на работу в те места, где могу подняться и на холм, и видеть вокруг себя поля на целые мили и мост или город… и там и сям что-нибудь вроде колокольни. Это заставляет тебя чувствовать, что мир – обширное место и что в нем, кроме тебя, работают другие люди головою и руками.
– А мне больше нравятся горы, – сказал Сет, – когда облака находятся над твоей головой, и ты видишь, как солнце блестит на такое далекое расстояние над ломфордской дорогой, что я часто делал в последнее время в бурные дни; мне кажется, что это небо там, где всегда радость и солнечное сияние, хотя эта жизнь мрачна и покрыта тучами.
– О, я люблю стонишейрскую сторону, – сказала Дина, – и вовсе не хотела бы показаться там, где люди богаты хлебом и скотом, и где земля так ровна, и по ней так легко ходить; я никогда не захочу повернуться спиной к горам, где бедные люди должны вести столь тяжкую жизнь и мужчины проводят дни свои в трудах с самого солнечного восхода. Какое блаженство чувствовать в своей душе любовь Божью в бледный, холодный день, когда небо мрачно нависло над горами, и нести эту любовь в одинокие, голые каменные дома, где ничто другое не служит утешением.
– Эх! – сказала Лисбет. – Вам очень хорошо говорить таким образом… вы вот ни дать ни взять те подснежники, которые я собирала в прежнее время… они жили одною лишь каплей воды и лучом дневного света, а людям голодным лучше следовало бы оставить голодную сторону. Тогда там было бы меньше народу, между которым пришлось бы делить скудный пирог. Но, – продолжала она, смотря на Адама, – не говори, что ты пойдешь на юг или на север, что оставишь своего отца и свою мать на кладбище и что ты пойдешь в места, которых они никогда не знавали. Я никогда не буду покойна в могиле, если не увижу, что ты приходишь на кладбище каждое воскресение.
– Не бойся, матушка, – сказал Адам. – Если б я не решился не идти, то я уж ушел бы давно.
Он кончил завтракать и встал, произнеся последние слова.
– Что ты будешь делать? – спросила Лисбет. – Ты будешь делать отцу гроб?
– Нет, матушка, – сказал Адам. – Мы снесем лес в деревню, и гроб сделают там.
– Нет, родной, нет! – воскликнула Лисбет быстро и жалостливо. – Нет, не давай делать гроб отцу чужим, а сделай его сам. Кто может сделать гроб так хорошо, как ты? Ведь он знал, что значит хорошая работа, и оставил сына, который по уму своему считается первым в деревне, а также в Треддльстоне.
– Очень хорошо, матушка, если ты непременно желаешь, то я сделаю гроб дома, но я думал, что тебе неприятно будет слышать, как мы будем работать.
– Отчего же будет мне неприятно? Ведь так и следует, чтоб он был сделан дома. Если гроб нужно сделать, то что тут говорить, нравится ли мне что-нибудь или нет. Ведь на этом свете мне не остается другого выбора, как одни лишь неудовольствия. Когда во рту нет вкуса, то тебе все равно, возьмешь ли ты один кусок или другой. Займись этим тотчас же, утром, прежде всего. Я не хочу, чтоб кто-нибудь другой дотронулся до гроба, кроме тебя.
Глаза Адама встретились с глазами Сета, который смотрел на Дину, а потом устремил на брата задумчивый взор.
– Нет, матушка, – сказал он, – я соглашусь, чтоб только Сет приложил руку к работе, если гроб должен быть сделан дома. Я схожу в деревню до обеда, ибо мистеру Берджу нужно, может быть, видеть меня, а Сет останется дома и начнет делать гроб. Я могу возвратиться около полудня, а тогда он может идти.
– Нет, нет, – настаивала Лисбет, начиная хныкать. – У меня просто все сердце изноет, если ты не будешь делать гроб отца. Ты такой упрямый и суровый человек, что никогда не сделаешь так, как хочет твоя мать. Ты часто сердился на отца, когда он был жив; ты должен лучше обходиться с ним теперь, когда его уж нет. Он не стал бы считать ни во что, если б Сет сделал гроб.
– Довольно, Адам, довольно, – сказал Сет кротко, хотя по его голосу можно было заключить, что он говорил с усилием. – Матушка права. Я пойду на работу, а ты оставайся, пожалуйста, дома.
Он немедленно пошел в мастерскую, сопровождаемый Адамом, между тем как Лисбет, повинуясь, как автомат, своим прежним привычкам, начала убирать завтрак, как бы не думая, что Дина еще останется при ней. Дина не сказала ничего, но тотчас же воспользовалась удобным случаем и спокойно присоединилась к братьям в мастерской.
Они уже подвязали передники и надели бумажные колпаки, и Адам стоял, положив левую руку на плечо брата и указывая молотком, находившимся в правой руке, на доски, на которые оба они смотрели. Они стояли спиной к двери, в которую вошла Дина; она вошла так тихо, что они только тогда заметили ее присутствие, когда услышали ее голос. «Сет Бид!» – тихо произнесла она. Сет вздрогнул, и оба брата обернулись. Дина показывала вид, что она не видела Адама, и устремила глаза на лицо Сета, произнеся со спокойною ласкою:
– Я не хочу проститься с вами. Я увижу вас еще раз, когда вы возвратитесь с работы. Так как я должна быть на мызе до сумерек, то это будет довольно скоро.
– Благодарю вас, Дина, мне будет приятно проводить вас домой еще раз. Быть может, это будет в последний раз.
Голос Сета несколько дрожал. Дина протянула ему руку и сказала:
– Вы будете иметь сладостный мир в вашей душе сегодня, Сет, за вашу нежность и долготерпение относительно вашей престарелой матери.
Она повернулась и оставила мастерскую так же быстро и так же нешумно, как и вошла в нее. Адам все это время внимательно наблюдал за ней, но она не посмотрела на него ни разу. Как только она вышла из комнаты, он сказал:
– Я не удивляюсь, что ты любишь ее, Сет. У нее лицо как лилия.
Душа Сета вся выразилась в глазах и на устах. До этого времени он не открывал своей тайны Адаму, но теперь им овладело сладостное чувство облегчения, когда он отвечал:
– Да, Адди, я люблю ее… слишком, кажется. Но, брат, она меня не любит, разве только так, как одно дитя Бога любит другое. Она никогда не будет любить мужчину как мужа, в этом я уверен.
– Нет, брат, это еще нельзя сказать; ты не должен унывать. Она создана из тончайшей материи, нежели большая часть женщин; я могу видеть это довольно ясно. Но если она и лучше их в других делах, я, однако ж, не думаю, чтоб она уступила им относительно любви.
Больше не было сказано ничего. Сет отправился в деревню, а Адам принялся за гроб.
«Боже! помоги брату, и мне также, – подумал он, поднимая доску. – Очень вероятно, что для нас жизнь будет тяжким трудом… Жестокою работою внутри и извне. Странное дело, когда подумаешь, что человек, который может поднять стул своими зубами и пройти разом пятьдесят миль, дрожит и то горит, то зябнет только от взгляда одной из всех женщин на свете. Это тайна, которую объяснить себе мы не можем; что до этого касается, то мы так же точно не можем объяснить себе выход отростка из семени».
XII. В лесу
В этот же самый четверг, утром, в то время как Артур Донниторн ходил взад и вперед в своей уборной, видел, как его привлекательная британская личность отражалась в старомодных зеркалах и на него с темных, оливкового цвета обоев таращили глаза фараонова дочь и ее девушки, которые должны были бы заботиться о младенце Моисее, он имел сам с собой рассуждение, которое, в то время как его слуга повязывал черную шелковую перевязь через плечо, кончилось определенным практическим решением.
– Я думаю отправиться в Игльдель на неделю или на две и поудить, – сказал он громко. – Я возьму тебя с собою, Ним, и отправлюсь сегодня утром; итак, будь готов к половине двенадцатого.
Слабый свист, который помог ему дойти до этого решения, теперь изменился в самый громкий и звонкий тенор, и когда Артур торопливо шел по коридору, то эхо отвечало на его любимую песню из оперы «Бродяги»:
Когда сердце человеческое угнетено заботою…
Нельзя сказать, чтоб то был героический напев; тем не менее Артур чувствовал себя в весьма героическом настроении духа, когда подошел к конюшням, чтоб отдать приказание касательно лошадей. Ему было необходимо его собственное одобрение, а этого одобрения нельзя было достигнуть совершенно даром, его до лжно было достигнуть значительной заслугой. Он до этого времени никогда не лишался этого одобрения и имел значительное упование на свои собственные добродетели. На свете не было молодого человека, который сознавался бы в своих недостатках так чистосердечно; чистосердечие было одною из его любимых добродетелей, а каким образом откровенность человека может обнаружиться во всем ее блеске, если у него нет нескольких проступков, о которых он мог бы рассказать? Но он обладал приятной для него уверенностью, что все его недостатки были великодушного рода – стремительные, горячие, львиные, никогда не ползающие, коварные, пресмыкающиеся. Артуру Донниторну было невозможно сделать что-нибудь низкое, малодушное или жестокое. «Нет, правда, что я всегда попадаю в затруднительное положение, но я всегда стараюсь, чтоб бремя пало на мои собственные плечи». К несчастью, мы редко видим, чтоб настоящее поэтическое правосудие преследовало проступки, и они иногда упрямо отказываются наказать самыми дурными последствиями настоящего виновника, вопреки его громко выраженному желанию. Благодаря только этому недостатку в форме вещей Артур никогда не делал кому-либо беспокойств, кроме себя. Он был человек добродушный, и все его картины будущности, когда он будет введен во владение имением, состояли из того, что он мечтал о цветущих, довольных поселянах, обожающих своего землевладельца, который был бы образцом английского джентльмена, о доме первостепенного разряда, где все свидетельствовало бы об изяществе и высшем вкусе, о веселой домашней жизни, о лучшем в Ломшейре охотничьем заведении, о кошельке, открытом на все общественные предметы, – одним словом, все будет в возможно различном виде от того, что было в связи с именем Донниторн теперь. И одно из первых добрых дел, которые он совершит в будущем, будет состоять в том, чтоб увеличить доход Ирвайна по геслопскому викарству, так что пастор будет в состоянии содержать карету для матери и сестер. Его искренняя склонность к священнику считалась еще с возраста, когда он носил юбочки и шаровары. Склонность эта была частью сыновняя, частью братская: сыновняя – в том отношении, что он любил общество Ирвайна лучше, нежели общество большей части молодых людей, и братская – в том отношении, что они заставляла его сильно беспокоиться о том, чтоб не заслужить порицания Ирвайна.
Вы замечаете, что Артур Донниторн был добрый малый – таким считали его все его друзья по коллегии, – он не оставался равнодушным, когда видел кого-нибудь в беспокойстве, он был бы опечален даже в то время, когда был огорчен дедом, услышав, что с его дедушкой случилось что-нибудь неприятное, и сама тетка его Лидия извлекала пользу из его расположения ко всему прекрасному полу. Имел ли бы он достаточно власти над самим собою для того, чтоб быть всегда настолько безвредным и чисто благодетельным, насколько то позволял желать его добрый характер, этот вопрос до настоящего времени никто не решал против него: вы помните, ему было только двадцать один год. И мы не станем вдаваться в слишком точные исследования о характере красивого, благородного молодого человека, у которого будет достаточно имения для того, чтоб справиться со своими многочисленными грешками, который, если б он, по несчастью, переломил человеку ноги при безрассудной езде, будет в состоянии вознаградить его приличною пенсией или, если б ему случилось испортить будущность женщины, примирит ее с этим несчастьем дорогими «гостинцами», которые он уложит и адресует к месту назначения собственноручно. Смешно было бы быть столь же пытливым и аналитическим в этом случае, как мы обыкновенно бываем, когда рассматриваем аттестат человека, которого нанимаем. Мы обыкновенно употребляем неопределенные, общие, джентльменские эпитеты о молодом человеке хорошего происхождения и обладателе богатства, и дамы, одаренные тонким тактом, составляющим отличительное качество их пола, сразу видят, что он прекрасный молодой человек. Весьма вероятно, что он проведет жизнь, не скандализируя никого как годное судно, которое никто не откажется принять в застрахование. Корабли, разумеется, подлежат случайностям, иногда страшно обнаруживающим какие-нибудь недостатки в постройке, которые никогда нельзя было бы открыть в тихих водах, так и не один добрый малый обнаруживает свою слабую сторону только при каком-нибудь несчастном стечении обстоятельств.
Но мы не имеем достаточного основания к тому, чтоб делать неблагоприятные предвещания относительно Артура Донниторна, который в то утро доказал, что он был способен иметь разумное решение, основанное на совести. Одно было ясно: природа позаботилась о том, чтобы он, делая что-нибудь против совести, никогда не оставался совершенно спокойным и довольным собою, чтоб он никогда не переходил границы греха, за которой стали бы постоянно терзать его приступы с другой стороны рубежа. Он никогда не будет явным партизаном порока и носить в петлице его украшения.
Было около десяти часов, и солнце сияло великолепно; все имело более радостный вид благодаря вчерашнему дождю. Как приятно идти в такое утро по хорошо укатанному песку по дороге к конюшням и думать о прогулке! Но запах конюшен, который, по естественному положению вещей, должен бы иметь смягчающее влияние на жизнь человека, всегда приводил Артура в некоторое раздражение. Он никак не мог добиться, чтоб конюшни были устроены по его желанию: все тут свидетельствовало о беспримерной скупости. Его дед непременно настаивал на том, чтоб удержать главным грумом старого олуха, которого никаким рычагом нельзя было заставить бросить свои старые привычки. Этому же старому олуху было позволено нанимать себе помощниками целое потомство неотесанных ломшейрских парней, из которых один, пробуя недавно новую пару ножниц, вырезал продолговатый кусок из уха гнедой кобылы Артура. Такое положение вещей, естественно, должно огорчать человека; можно еще, пожалуй, сносить неприятности по дому, но если конюшни представляют сцену огорчений и неудовольствий, то после этого можно ожидать, что человеческая плоть и кровь выдержат много, не подвергаясь опасности от мизантропии.
Деревянное, испещренное глубокими морщинами лицо старого Джона было первым предметом, попавшимся на глаза Артуру, когда он пошел на конюшенный двор. Это обстоятельство совершенно отравило обыкновенно приятный для его охотничьего слуха лай двух ищеек, которые стерегли двор. Он никогда не мог равнодушно разговаривать со старым глупцом.
– Оседлай мне Мэг и подведи к подъезду в половине двенадцатого, и в то же время чтоб был оседлан и Раттлер для Пима. Слышишь?
– Да, слышу, слышу, капитан, – сказал старый Джон, чрезвычайно медленно следуя за молодым господином в конюшню.
Джон смотрел на молодых господ как на естественных врагов старого слуги, и вообще он считал молодых людей весьма жалким средством к продолжению мирских дел.
Артур вошел в конюшню только для того, чтоб погладить Мэг, по возможности стараясь не заметить ничего в конюшнях, что могло бы испортить его расположение духа перед завтраком. Красивое животное стояло в одной из внутренних конюшен и повернуло свою кроткую голову, когда господин подошел к нему. Тротка, крошечная эспаньолка, неразлучная подруга кобылы в конюшне, свернувшись, спокойно лежала у Мэг на спине.
– Ну, Мэг, моя красавица, – сказал Артур, гладя ее по шее, – мы славно поскачем галопом сегодня утром.
– Нет, ваша милость, я не вижу, каким образом это может случиться, – сказал Джон.
– Не может быть? А отчего же?
– Да потому что она хромает.
– Хромает, черт тебя возьми! Что ж это значит?
– Да вот, мальчик подвел ее слишком близко к дальтоновым лошадям; одна из них выкинула задними ногами и ушибла ее в колено передней правой ноги.
Рассудительный историк воздержится от подробного описания того, что последовало за объяснением. Вы поймете, что было произнесено много сильных слов, смешанных с утешительными приговорками, в то время, когда исследовали ушиб ноги, что Джон стоял при этом в таком же волнении, как будто был дубиною, искусно вырезанною из дикой яблони, и что Артур Донниторн вскоре вышел в чугунные ворота парка, уже не напевая, как прежде, когда входил в него.
Он считал себя совершенно расстроенным и огорченным. В конюшнях не было других верховых лошадей для него самого и для его слуги, кроме Мэг и Раттлера. Это было досадно, и случилось именно в то время, когда он хотел отлучиться на неделю или на две. Казалось, можно было обвинять Провидение, что оно допустило такое стечение обстоятельств. Как было скучно сидеть взаперти на Лесной Даче с переломленною рукою, когда все другие его товарищи по полку наслаждались в Виндзоре, и сидеть взаперти с дедушкой, который питал к нему такого же рода расположение, как к своим пергаментным актам! И тут еще приходится чувствовать отвращение на всяком шагу к управлению домом и имением! При таких обстоятельствах человеком необходимо овладевает дурное расположение духа, и он старается избавиться от раздражения, прибегая к какому-нибудь сильному ощущению.
– Солькельд выпивал бы каждый день по бутылке портвейну, – ворчал он про себя, – но я еще недостаточно приучился к этому. Хорошо же, так как я не могу отправиться в Игльдель, то я поеду на Раттлере сегодня утром в Норберн и позавтракаю у Гаве на.
За этим определительным решением находилось другое, подразумеваемое. Если он будет завтракать у Гавена и заболтается там, то возвратится на Лесную Дачу только около пяти часов и не увидит Хетти, которая в то время будет уже находиться в комнате экономки, и когда она отправится домой, в то время он будет отдыхать после обеда, таким образом, он вовсе не встретится с нею. Действительно, что тут было дурного в его расположении к милому созданию? И для того, чтоб посмотреть только с полчаса на Хетти, можно было решиться протанцевать с дюжиной бальных красавиц. Но может быть, лучше было бы ему не обращать на нее больше никакого внимания, ведь, пожалуй, в самом деле заберется какой-нибудь вздор в ее голову, как намекал Ирвайн, хотя Артур, с своей стороны, думал, что оскорбить девушку было вовсе не так легко, как обыкновенно полагают, он даже находил, судя по своей опытности, что девушки были гораздо хладнокровнее и хитрее, нежели он сам. Что ж касается действительного вреда для Хетти в этом случае, то об этом нечего было и спрашивать – и в этом отношении Артур Донниторн отвечал за себя с совершенной уверенностью.
Таким образом, полуденное солнце увидело его скачущим в направлении к Норберну; к счастью, гальсельская поляна лежала на его пути и дала Раттлеру возможность сделать несколько удачных скачков. Для заклинания демона нет ничего лучше отчаянных скачков по кустам и рвам; и в самом деле надо удивляться, что центавры, с их огромными преимуществами в этом отношении, оставили в истории столь дурную славу.
После этого вы, может быть, с удивлением услышите, что хотя Гавен был дома, но стрелка солнечных часов на дворе едва лишь прошла последний удар трех часов, как Артур уже снова въехал в ворота, слез с запыхавшегося Раттлера и вошел в дом, чтоб позавтракать на скорую руку. Но я думаю, что и после Артура существовали люди, которые делали верхом большой круг для того только, чтоб избегнуть встречи, и потом возвращались торопливым галопом из опасения, что опоздают встретить. Это любимая хитрость наших страстей: сделать ложное отступление и потом быстро обратиться на нас в то время, когда мы уже думаем, что выиграли дело.
– Капитан ехал чертовским шагом, – сказал Дальтон, кучер, фигура которого резко выступала, так как он курил трубку, об ратившись к стене конюшен, когда Джон водил взад и вперед Раттлера.
– А я желал бы, чтоб сам черт чистил лошадей для него, – ворчал Джон.
– Конечно, у него был бы тогда грум гораздо обходительнее теперешнего, – заметил Дальтон.
Острота показалась ему такою хорошей, что, оставшись один на сцене, он продолжал по временам вынимать трубку изо рта, чтоб кивнуть воображаемым слушателям, и сладострастно содрогался от безмолвного брюшного смеха, затверживая наизусть разговор с самого начала, для того чтоб впоследствии с эффектом пересказать его в людской.
Когда Артур снова вошел в свою уборную после завтрака, то не мог избегнуть, чтоб прения, которые он имел с самим собою в этот же день утром, снова не пришли ему на память, но теперь ему было невозможно настаивать на этом воспоминании – невозможно было вспомнить чувства и рассуждения, которые тогда произвели на него столь решительное действие, точно так, как он не мог припомнить особенное благоухание воздуха, освежившее его, когда он утром открыл свое окно. Желание видеть Хетти стремительно возвратилось к нему назад, как дурно удержанный поток; он сам изумился силе, с которою эта простая фантазия, по-видимому, охватывала его, он даже несколько вздрогнул, когда стал причесывать себе волосы – ба! это происходило от опасной езды! это происходило оттого, что он из пустой вещи сделал серьезную, думая о деле, как будто оно имело какую-нибудь важность. Он потешит себя тем, что посмотрит сегодня на Хетти, потом навсегда выбросит мысль о ней из своей головы. И во всем этом был виноват Ирвайн. «Если б Ирвайн не сказал ничего, то я думал бы о Хетти вдвое меньше, нежели о хромоте Мэг». Однако ж сегодня именно как нельзя лучше можно было понежиться в эрмитаже, и Артур думал отправиться туда и окончить «Зелюко» доктора Мура до обеда. Ведь эрмитаж находился в сосновой роще – на дороге, по которой Хетти должна была идти непременно из господской мызы. Итак, что могло быть проще и естественнее: встреча с Хетти была одним лишь случаем его прогулки, а не предметом ее.
Тень Артура порхала между крепкими дубами Лесной Дачи гораздо скорее, нежели можно было ожидать от тени утомленного человека в теплое послеобеденное время; еще не было четырех часов, когда он стоял уже перед высокой, узенькой калиткой, которая вела в очаровательный лесной лабиринт, служивший опушкою одной стороны Лесной Дачи и называвшийся сосновой рощей, не потому, что там было много сосен, а потому, что их было там немного. Это был лес буковых деревьев и лип, там и сям виднелась легкая, серебристая береза – такой именно лес, какой чаще всего посещается нимфами. Вы видите их белые, освещенные солнцем члены, сияющие сквозь сучья или проглядывающие из-за гладкого очертания высокой липы. Вы слышите их мягкий, журчащий смех; но если станете смотреть слишком любопытным, святотатственным оком, то они исчезнут за серебристыми буками, заставят вас поверить, что их голос был только текущий ручеек, быть может, превратятся в бурую векшу, которая убежит от вас и станет издеваться над вами с самой верхней ветки. То не была роща с размеренной травой или укатанным песком, по которым вы могли бы ходить, но с узкими, неверными, земляными тропинками, которые были опушены слабыми отростками тонкого мха, – тропинками, которые, казалось, были сделаны свободной волей деревьев и кустарников, с уважением раздвигавшихся на сторону для того, чтоб посмотреть на высокую королеву белоногих нимф.
Артур Донниторн шел по самой широкой из этих тропинок, по аллее, образованной буковыми и липовыми деревьями. Было тихое послеобеденное время – золотистый свет слабо медлил на самых верхних ветвях, только там и сям проникая на пурпуровую тропинку и на опушавший ее рассеянный мох, – послеобеденное время, в которое судьба скрывает свой холодный, грозный образ под туманным, блестящим покрывалом, окружает нас теплыми, мягкими крыльями и заражает легким дуновением, напоенным благоуханием фиалки. Артур шел совершенно беззаботно, с книгой под мышкой. Он, однако ж, не смотрел на землю, как обыкновенно делают люди, предающиеся размышлениям, его глаза все устремлялись на отдаленную извилину дороги, около которой скоро должна была показаться небольшая фигура. А, вот она идет: сначала блестящая цветная точка, подобно тропической птичке между ветвями, потом фигура с легкой поступью, с круглою шляпкой на голове и небольшой корзинкой в руке, потом покрасневшая, почти испуганная девушка, но с ясной улыбкой, сопровождающая свой поклон смущенным, но счастливым взором, когда Артур подошел к ней. Если б у Артура было только время подумать о чем-нибудь, то ему показалось бы странным, что он также чувствовал себя смущенным, и, как он сам сознавал, также покраснел – в самом деле он смотрел и чувствовал так безрассудно, будто был поражен изумлением, а вовсе не встретил именно того, что ожидал. Бедные создания! Как жаль, что они не были в этом золотом возрасте детства: тогда они стояли бы друг к другу лицом, смотрели бы один на другого с робкою приязнью, потом поцеловались бы, как бабочки, и переваливаясь, как все дети, стали бы вместе играть. Артур отправился бы домой к своей кроватке с шелковыми занавесами, а Хетти – к своей сделанной дома подушке, и оба они спали бы без всяких мечтаний, и их завтрашняя жизнь едва ли сознавала бы – что было вчера.
Артур повернулся и пошел рядом с Хетти, не говоря о причине своего поступка. Они были вместе одни впервые. Что за страшное впечатление производило это первое свидание наедине! В самом деле, он в первые минуты не смел смотреть на эту маленькую молочницу. Что до Хетти, то ей казалось, что ее поступь опиралась на облаке и что ее несли теплые зефиры; она забыла о своих розовых лентах; она не имела никакого сознания о своем существовании, будто ее детская душа перешла в водяную лилию, покоившуюся на влажной постели и согреваемую жаркими летними солнечными лучами. Это может показаться противоречием, но Артур извлек некоторую беспечность и доверие из своей робости, он находился в совершенно другом настроении духа, чего вовсе не ожидал, думая прежде о встрече с Хетти; исполненный неопределенного чувства в эти минуты безмолвия, он подумал, что его прежние прения и сомнения были совершенно напрасны.
– Вы прекрасно сделали, выбрав эту дорогу для того, чтоб прийти на Лесную Дачу, – сказал он наконец, смотря на Хетти, – она и прелестнее, и короче тех, которые идут мимо сторожевых ворот.
– Да, сэр, – отвечала Хетти дрожащим голосом, почти шепотом. Она вовсе не знала, как говорить с таким джентльменом, как Артур, и даже ее тщеславие заставляло ее быть более застенчивою в ее речах.
– Вы каждую неделю ходите к мистрис Помфрет?
– Да, сэр, каждый четверг, исключая разве только тогда, когда она должна выехать с мисс Донниторн.
– И она учит вас чему-нибудь, не так ли?
– Да, сэр, она учит меня чинить кружева, чему она научилась за границей, и также штопать чулки… это так похоже на вязанье, что вы и не узнаете, заштопаны чулки, или нет. Она также учит меня кроить.
– Что? Да разве вы будете горничной?
– Да, мне очень хотелось бы этого.
Хетти говорила теперь внятнее, но все еще дрожащим голосом; она думала, что покажется капитану Донниторну такою же дурой, как Лука Бриттон показался ей дураком.
– Вероятно, мистрис Помфрет всегда ожидает вас около этого времени?
– Она ожидает меня к четырем часам. Я немного опоздала сегодня, потому что была нужна тетушке. Но обыкновенно я прихожу в четыре часа: у нас тогда остается еще довольно времени до звонка мисс Донниторн.
– А, в таком случае, я не должен задерживать вас теперь, а то я думал показать вам эрмитаж. Вы никогда не были в этой беседке?
– Нет, сэр.
– Вот мы поворачиваем в ту сторону. Но теперь мы не должны идти туда. Я покажу вам ее когда-нибудь в другой раз, если вам будет угодно.
– Да, пожалуйста, сэр.
– Вечером вы также возвращаетесь этой дорогой? Или вы боитесь идти здесь одни?
– О нет, сэр, я никогда не хожу так поздно: я отправляюсь всегда в восемь часов, а теперь вечером так светло. Тетушка стала бы сердиться на меня, если б я не пришла домой до девяти.
– Может быть, Крег, садовник, провожает вас?
Сильная краска покрыла лицо и шею Хетти.
– Нет, уверяю вас, он не провожает меня и никогда не провожал, да я сама не позволила бы ему этого: я не люблю его, – сказала она торопливо, и слезы досады выступили так скоро, что она еще не успела произнести все эти слова, как уже большая слеза скатилась на ее разгоревшуюся щеку.
Затем ей стало до смерти стыдно, что она плакала, и на продолжительное мгновение все ее счастье исчезло. Но в следующее мгновенье она почувствовала, что чья-то рука осторожно обняла ее, и кроткий голос произнес:
– Отчего же вы плачете, Хетти? Я вовсе не хотел огорчить вас. Я ни за что на свете не хотел бы огорчить вас, прелестный цветочек! Перестаньте плакать, посмотрите на меня, а то я буду думать, что вы не хотите простить мне.
Артур положил руку на мягкую ручку, которая была к нему ближе, и наклонился к Хетти, устремив на нее взор, в котором выражалась нежная мольба. Хетти опустила свои длинные, влажные ресницы и встретила глаза, устремленные на нее с выражением кротости, боязни и мольбы. Как продолжительны были эти три минуты, когда глаза их встретились и его руки обнимали ее! Любовь, столь простая вещь, когда нам только двадцать один год, и прелестная девушка семнадцати лет трепещет под нашим взором, как будто она бутон, впервые в изумленном восторге открывающий сердце свое перед утром. Юные, еще не покрытые морщинами души стремятся встретиться друг с другом, как два бархатных персика, нежно касающиеся один другого и покоящиеся вместе; они сливаются так же легко, как два ручейка, имеющие одно только желание – перевиться друг с другом и струиться постепенно переливающимися извилинами в лиственные тайники. В то время как Артур смотрел в темные, выражавшие мольбу глаза Хетти, ему было все равно, как говорила она по-английски; если б даже фижмы и пудра были в моде, то, очень вероятно, он в то время не заметил бы, что Хетти недоставало этих признаков высокого происхождения.
Но оба они вздрогнули вдруг, сердца их забились: что-то упало на землю с громким шумом, то была корзиночка Хетти; все ее миленькие рабочие принадлежности рассыпались по дорожке, некоторые из них оказались способными укатиться на далекое расстояние. Немало было работы подобрать все эти вещи, и в это время не было произнесено ни слова. Но когда Артур снова повесил ей на руку корзиночку, бедное дитя заметило странную разницу в его взоре и манерах. Он пожал ей руку и, устремив на нее взор, который почти оледенил ее, столь же холодным тоном произнес:
– Я помешал вам и не должен удерживать вас долее. Вас ждут в доме. Прощайте.
Не дожидаясь ее ответа, он отвернулся от нее и поспешно возвратился на дорогу, которая вела к беседке, предоставив Хетти продолжать путь в каком то странном сне, который, казалось, начался очаровательным наслаждением, а теперь исчез неприятно и грустно, встретит ли он ее опять, когда она пойдет домой? Отчего он вдруг заговорил с нею так, как будто был недоволен ею, и потом так быстро удалился от нее? Она плакала, сама почти не зная отчего.
Артур, с своей стороны, был также беспокоен, но его чувства прояснялись перед ним более определенным сознанием. Он поспешно пошел к эрмитажу, помещавшемуся в самой середине рощи, торопливо повернул ключ, рванул дверь, захлопнул ее за собою, бросил «Зелюкс» в самый отдаленный угол и, всунув правую руку в карман, сначала прошелся четыре или пять раз взад и вперед во всю небольшую длину маленькой комнатки и потом сел на оттоман беспокойно, принужденно, как мы часто делаем, когда не желаем предаться чувству.
Он начинал любить Хетти – это было совершенно ясно. Он был готов бросить все другое – все равно куда – только для того, чтоб предаться этому сладостному чувству, которое только что открылось ему. Было совершенно бесполезно обманывать себя относительно этого факта: они слишком привяжутся друг к другу, если он будет еще обращать на нее внимание, – и что выйдет тогда из этого? Он должен будет уехать через несколько недель, и бедняжка будет чувствовать себя несчастной. Он не должен больше видеть ее одну, он должен держаться в стороне от нее. Как безрассудно он поступил, возвратившись от Гавена!
Он встал и открыл окна, желая впустить в комнату мягкий послеобеденный воздух и здоровое благоухание сосен, окружавших эрмитаж в виде пояса. Мягкий воздух не помог его решениям, когда он высунулся из окна и смотрел в зеленую даль. Но ему казалось, что его решение было достаточно твердо: было бы бесполезно рассуждать с самим собою долее. Он решил в своих мыслях более не встречаться с Хетти и теперь мог позволить себе думать о том, как неизмеримо приятно было бы, если б обстоятельства сложились иначе: с каким удовольствием встретился бы он с нею в этот вечер, когда она будет возвращаться домой, обнял бы ее опять за талию и посмотрел бы в ее миловидное личико. Он спрашивал себя: думало ли прелестное создание о нем?.. Он готов был держать двадцать против одного, что она думала о нем. Как прелестны были ее глаза со слезою на ресницах! Он хотел бы утолить желание своей души, смотря на них хотя один лишь день, и он должен снова увидеть ее – он должен увидеть ее просто для того, чтоб рассеять в ее сердце какое-нибудь ложное впечатление, произведенное его сегодняшним обращением с ней. Он стал бы обращаться с нею спокойно, ласково… только для того, чтоб она не шла домой с дурными мыслями в голове. Да, это будет самое лучшее после всего.
Прошло много времени – более часу, – пока Артур дошел в своих рассуждениях до этой точки; но, достигнув ее, он уже не мог оставаться долее в эрмитаже. Время нужно было наполнить движением, пока он опять не увидит Хетти. Было уже пора идти и одеться к обеду, ибо его дед обедал всегда в шесть часов.
XIII. Вечер в лесу
Случилось, что мистрис Помфрет имела легкую ссору с мистрис Бест, экономкой, в этот четверг, утром, – факт, который имел два последствия, пришедшиеся как нельзя более кстати для Хетти. Эта ссора имела следствием то, что к мистрис Помфрет был прислан чай в ее собственную комнату и что она внушила этой примерной горничной такое живое воспоминание о прежних случаях в поведении мистрис Бест и о разговорах, в которых мистрис Бест обнаружила решительную подчиненность, как собеседница, мистрис Помфрет, что Хетти нужно было иметь не более присутствия духа, как требовалось для того, чтоб заниматься своей работой и по временам произносить «да» или «нет». Ей хотелось надеть шляпку раньше обыкновенного; только она сказала капитану Донниторну, что обыкновенно отправлялась около восьми часов; и если он пойдет в рощу, в ожидании еще раз увидеть ее, – а она уж прошла! Да придет ли он? Ее душа, как бабочка, порхала между воспоминанием и сомнительным ожиданием. Наконец минутная стрелка старомодных часов с медным циферблатом показывала последнюю четверть восьмого часа, и, таким образом, весьма основательно было время приготовиться к уходу. Несмотря на то что мистрис Помфрет предавалась важным мыслям, она не могла не заметить что-то, походившее на новый блеск красоты в миловидной девушке, когда последняя завязывала шляпку перед зеркалом.
«Этот ребенок, кажется, с каждым днем становится красивее и красивее, – думала она. – А как это жаль! Ей тем труднее будет найти и место и мужа. Степенным, порядочным мужчинам не нравятся такие миловидные жены. Когда я была девушкой, то все прельщались мною больше, нежели если б я даже была красавица. Однако ж она имеет причину быть мне благодарной за то, что я учу ее чему-нибудь, чем она будет снискивать себе пропитание лучше, нежели фермерской работой. Мне всегда говорили, что я была добродушное создание, и это правда; да и послужило мне во вред, потому что те, которые вот живут теперь в доме, не были бы здесь и не важничали бы надо мною в экономкиной комнате».
Хетти торопливо прошла короткое пространство парка, который ей нужно было пересечь, опасаясь встретиться с мистером Кретом, с которым она едва ли могла бы обойтись вежливо. Как легко стало ей, когда она безопасно достигла дубов и папоротника Лесной Дачи! Даже и тогда она была готова испугаться, как олень, отскочивший в сторону при ее приближении. Она вовсе не думала о вечернем снеге, который скудно покоился на зеленых аллеях между папоротников и еще больше возвышал красоту их живой зелени, нежели сильный поток полуденного солнца; она вовсе не думала о том, что было перед нею. Она видела только то, что было бы возможно: мистера Артура Донниторна, который опять шел встречать ее в Сосновой Роще. Таков был первый план картины Хетти; а позади лежало что-то неясно блестящее – дни, которые не должны были походить на другие дни ее жизни. Будто за ней ухаживал речной бог, который, когда угодно, может взять ее в свои дивные чертоги под водяным небом. Нельзя знать, что случится, с тех пор как наступило это приводящее в восторг очарование. Если б ей был прислан сундук, наполненный кружевами, атласом и драгоценностями, из какого-нибудь неизвестного источника, каким образом могла бы она не думать, что вся ее участь изменится и что завтра не случится с ней радость, которая приведет ее еще в больший восторг? Хетти никогда не читала романов; если даже она когда-нибудь и видела роман, то слова, я думаю, показались бы ей слишком трудными, – как же могла она олицетворить свои ожидания? Они были так же неясны, как сладостные слабые благоухания сада на Лесной Даче, которые пронеслись мимо ее, когда она проходила мимо ворот.
Теперь она уж у других ворот, которые ведут в Сосновую Рощу. Она входит в лесок, где уж наступили сумерки, и с каждым шагом вперед страх леденит ее сердце все более и более. А если он не придет? О! Как была грустна мысль, что она дойдет до другого конца леса и выйдет на открытую дорогу, не увидевшись с ним. Она подходит к первому повороту к эрмитажу, идя медленно, – его нет там. Ей противен заяц, перебежавший через дорогу; ей противно все, ибо это не тот предмет, который она так горячо желает увидеть. Она продолжает идти, чувствуя себя счастливою каждый раз, когда подходит к повороту своей дороги, ибо, быть может, она увидит его за этим поворотом. Нет! Она начинает плакать; ее сердце переполнилось грустью, на глазах навернулись слезы. Раздалось громкое рыдание; во впадинах около рта обнаруживается дрожание, и слезы струятся по щекам.
Она не знает, что есть еще другой поворот, ведущий к эрмитажу, что она очень близко от него и что Артур Донниторн находится только в нескольких шагах от нее, исполненный одной мысли, и мысли, предметом которой только она. Он увидит Хетти опять – вот в чем состоит его горячее желание, которое в последние три часа обратилось мало-помалу в лихорадочное. Он увидит ее не для того, конечно, чтоб говорить с нею ласковым тоном, в который он неосторожно впал до обеда, но чтоб поправить дело с ней, оказывая ей расположение, которое имело бы вид дружеской вежливости и не заставило бы ее убежать с дурными мыслями о их взаимном отношении.
Если б Хетти знала, что он был там, она не стала бы плакать. И это было бы лучше, ибо тогда Артур, может быть, вел бы себя так благоразумно, как он намеревался. Но при настоящих обстоятельствах она вздрогнула, когда он показался в конце боковой аллеи, посмотрела на него, и две крупные слезы скатились на ее щеки. Мог ли он после этого говорить с нею иначе, как не мягким, успокаивающим тоном, как с быстроглазой эспаньолкой, занозившей себе ногу?
– Разве что-нибудь испугало вас, Хетти? Не видели ли вы чего-нибудь в лесу? Не бойтесь, я теперь провожу вас.
Хетти вся вспыхнула; она не знала, была ли она счастлива или несчастлива. Снова приняться плакать – что думают джентльмены о девушках, которые плачут таким образом? Она чувствовала себя даже неспособной сказать «нет»! Она могла только отвернуться от него и отереть слезы со щек; но одна большая слеза все-таки упала на ее розовые ленты, и она знала это очень хорошо.
– Будьте опять веселы. Улыбнитесь мне и скажите что с вами, скажите же!
Хетти повернулась к нему, прошептала:
– Я думала, что вы не придете. – И медленно осмелилась поднять на него глаза.
Этот взгляд выражал уже слишком много: Артур должен был иметь глаза из египетского гранита, чтоб, в свою очередь, не посмотреть на нее с любовью:
– Миленькая испуганная птичка! Слезливая моя красавица! Милочка моя! Вы больше не станете плакать теперь, когда я с вами, – не правда ли?
Ах, он, наконец, не знает, что говорит. Ведь не то думал он сказать. Его рука снова украдкой обнимает ее за талию, он крепко прижимает ее к себе. Он наклоняет лицо свое к ее щеке все ближе и ближе; его губы встречаются с этими пухленькими детскими губками… и все исчезает на продолжительное мгновение. Уж он ничего не знает; он, может быть, аркадский пастушок, может быть, первый юноша, целующий первую девушку, может быть даже, сам Эрос, всасывающийся в уста Психеи… Ему теперь все равно.
Несколько минут после этого царствовало молчание. Они шли с бьющимися сердцами до тех пор, пока не увидели ворот в конце леса. Потом они посмотрели друг на друга, но не так, как смотрели прежде, ибо в их глазах выражалось воспоминание о поцелуе.
Но нечто горькое уже начало примешиваться к источнику сладостных чувств, Артур уж ощущал некоторое беспокойство. Он отнял руку от талии Хетти и сказал:
– Вот мы почти уже на конце рощи. Я удивляюсь, как уж стало поздно, – присовокупил он, вынув из кармана часы. – Двадцать минут девятого, но мои часы идут вперед. Несмотря на то, мне лучше не идти дальше. Пусть ваши крошечные ножки побегут скорее, и вы счастливо дойдете домой. Прощайте.
Он протянул ей руку и посмотрел на нее не то с грустью, не то с принужденною улыбкою. Глаза Хетти, казалось, умоляли, однако ж, не оставлять ее; но он погладил ее по щеке и снова произнес: «Прощайте». Она принуждена была отвернуться от него и идти своей дорогой.
Что касается Артура, то он быстро пошел назад по лесу, как бы желая, чтоб далекое расстояние отделяло его от Хетти. Он не пойдет снова в эрмитаж; он помнил, как там боролся с самим собою перед обедом, и все это кончилось ничем… Еще хуже, нежели ничем. Он шел прямо на Лесную Дачу, радуясь, что выйдет из рощи, которую непременно посещал его дурной гений. Эти буки и гладкие липы – в одном их виде заключалось что-то изнеживающее; но могучие суковатые старые дубы не имели ничего томного в своей непреклонности, вид их должен был бы придавать человеку энергию. Артур блуждал по узким тропинкам между папоротником и бродил кругом, не отыскивая выхода; наконец сумерки обратились почти в ночь под обширными ветвями, и заяц, стремглав ринувшийся через тропинку, показался черным.
Он чувствовал в себе больше твердости, нежели сегодня утром, будто его лошадь уклонилась от скачка и осмелилась оспаривать у него его власть над нею. Он был недоволен самим собою, раздражен, огорчен. Лишь только он обратил внимание на вероятные последствия, которые могли произойти из того, что он уступит волнениям, вкравшимся в его сердце сегодня, что он будет продолжать обращать на Хетти внимание, позволит себе пользоваться случаем для таких незначительных ласк, каким он уже предался сегодня, – как отказался верить, что для него возможна такая будущность? Ухаживать за Хетти было совершенно не то что ухаживать за красивою девушкой его же сословия: это принималось бы за шутку с обеих сторон, или если эта шутка становилась серьезною – ничто не могло препятствовать браку. Но об этой милой девушке тотчас бы заговорили дурно, если б случилось, что ее увидели с ним, а потом эти отличные люди, Пойзеры, для которых доброе имя было так же драгоценно, будто в их жилах текла лучшая кровь в стране, он стал бы презирать самого себя, если б совершил такое постыдное дело в имении, которое со временем будет его собственным, и между поселянами, уважение которых казалось ему дороже всего. Он столько же верил в то, что он падет в своем уважении до такой степени, сколько в то, что он переломит себе обе ноги и будет ходить на костылях всю остальную жизнь. Он не мог вообразить себя в таком положении… это было слишком гнусно, слишком непохоже на него.
Даже если б никто не узнал об этом, они могли бы слишком привязаться друг к другу – и что ж могло выйти из всего этого? Только грустное расставание. Никакой джентльмен, вне баллады, не мог жениться на племяннице фермера. Надобно было сразу положить конец всему этому делу. Оно было слишком безрассудно.
А между тем он был так решителен сегодня утром до своего отъезда к Гавену; и пока он находился там, что-то охватило его и заставило скакать назад. Казалось, он не мог вполне положиться на свою решимость, тогда как он думал, что он мог; он почти желал, чтоб у него снова заболела рука, и тогда он стал бы только думать о том, как было бы приятно избавиться от боли. Тут нельзя было знать, какое побуждение овладеет им завтра в этом проклятом месте, где ничто не могло занять его вполне целый божий день. Что мог бы он сделать, чтоб охранить себя впредь от этой глупости?
Было одно только средство: он отправится и расскажет Ирвайну, расскажет ему все. Одно действие рассказывания придаст этому вид ничтожности: искушение исчезнет, как исчезает очарование благосклонных слов, когда человек передает их равнодушному слушателю. Во всяком случае, ему станет легче, когда он расскажет Ирвайну. Он поедет верхом в брокстонский приход завтра же, тотчас после завтрака.
Лишь только Артур дошел до этого решения, как стал думать о том, какая дорожка приведет его домой, и дошел по самой кратчайшей. Он был уверен, что будет спать теперь: с ним случилось довольно такого, что могло утомить его, и ему не было больше нужды думать.
XIV. Возвращение домой
В то время когда происходило прощание в роще, в избе было также прощание, и Лисбет стояла с Адамом в дверях, напрягая свои престарелые глаза, чтоб бросить последний взгляд на Сета и Дину, поднимавшихся на противоположную покатость.
– Э, мне жаль смотреть на нее в последний раз, – сказала она Адаму, когда они снова вошли в дом. – Мне очень хотелось бы иметь ее при себе до тех пор, пока я умру и буду лежать рядом с моим стариком. При ней и смерть была бы легче… она говорит так кротко и ходит-то так тихо. Я твердо уверена, что это на нее была написана картинка в новой Библии – ангел, сидящий на большом камне подле гроба. Эх, я не скучала бы, если б у меня была такая дочь, но никто не женится на таких девушках, которые годятся на что-нибудь.
– Ну, матушка, я надеюсь, что она еще будет твоей дочерью. Сет чувствует к ней привязанность, и я надеюсь, что и она со временем почувствует расположение к Сету.
– Что тут толковать об этом? Она не обращает на Сета никакого внимания. Она уезжает отсюда за двадцать миль… как же она почувствует расположение к нему, хотела бы я знать… Все равно что пирог не подымается без закваски. Твои ученые книжки, может быть, могли бы сказать тебе лучше этого, я так думаю, не то ты стал бы читать обыкновенные книги, как Сет.
– Нет, матушка, – сказал Адам, смеясь, – ученые книжки говорят нам хорошие вещи, и мы без них не ушли бы далеко, но они ничего не говорят нам о чувствах людей. В моих книжках читать легче, нежели в сердце человеческом. Но Сет из всех людей, работающих с инструментом в руке, малый с добрым сердцем, имеет глубокое чувство и также приятную наружность, притом же он имеет такой же образ мыслей, как Дина. Он заслуживает получить ее, хотя нельзя отрицать, что она сама редкое создание. Ведь не каждый день природа дарит нас такими произведениями.
– Эх, ты всегда заступаешься за брата! Ты вот был точно такой же в то время, когда вы были еще маленькие; ты всегда был готов делить с ним все пополам. На что думать Сету жениться, когда ему еще только двадцать три года? Ему нужнее учиться и копить деньгу на черный день. А что касается того, стоит ли он ее, то, ведь она двумя годами старше Сета – она ведь почти одних лет с тобою. Но вот в этом-то и дело: люди всегда избирают все навыворот, как будто их должно сортировать как свинину: кусок хорошего мяса да кусок остатков.
В мыслях женщины, смотря по тому, в каком расположении духа она находится, все, что может быть, получает временное очарование от сравнения с тем, что есть. Так как Адам не хотел сам жениться на Дине, то Лисбет чувствовала некоторое огорчение по этой причине – и в такой же степени, как если б он желал жениться на ней и таким образом удалял бы себя совершенно от Мери Бердж и от компаньонства так же действительно, как если б женился на Хетти.
Было уже более половины девятого, когда Адам и его мать разговаривали таким образом, так что, когда минут десять спустя Хетти дошла до поворота дороги, который вел к воротам фермерского двора, то она увидела Дину и Сета, приближавшихся к воротам по противоположному направлению, и подождала, пока они подойдут к ней. Они так же, как Хетти, шли несколько медленнее, ибо Дина старалась говорить слова утешения и силы Сету в эти минуты расставания. Но, увидев Хетти, они остановились и пожали друг другу руки. Сет повернул домой, а Дина продолжала идти одна.
– Сет Бид подошел бы к вам и поговорил бы с вами, милая моя, – сказала она, подойдя к Хетти, – но он сегодня очень расстроен.
Хетти отвечала пустою улыбкою, как будто она не вполне знала, что было сказано. И странный контраст представляла эта блестящая, погруженная в себя прелесть со спокойным, симпатическим лицом Дины, с ее открытым взором, говорившем, что ее сердце не жило в ее собственных сокровенных тайнах, но в чувствах, которыми оно страстно желало поделиться со всем светом. Хетти любила Дину больше, нежели любила других женщин, – могла ли она питать другое чувство к той, которая всегда обращалась к ней с ласковым словом, когда ее тетка находила какие-нибудь ошибки, и которая всегда с готовностью брала у нее из рук Тотти, крошечную, скучную Тот-ти, которую все так баловали и которая вовсе не интересовала Хетти? Дина, в продолжение всего пребывания своего на господской мызе, ни разу не обращалась к Хетти с каким-нибудь порицанием или упреком; она много говорила с ней серьезно, но это не производило на Хетти сильного впечатления, ибо она не слушала никогда, что бы ни говорила Дина, которая почти всегда гладила потом Хетти по щеке и желала помочь ей в какой-нибудь работе. Дина была для нее загадкой. Хетти смотрела на нее почти так же, как можно себе вообразить, что маленькая птичка, которая может только порхать с ветки на ветку, смотрит на полет ласточки или жаворонка. Но она вовсе не заботилась разрешать подобные загадки, как она ни старалась узнать, что означали картины в «путешествии пилигрима» или в старой Библии в целый лист, которою Марти и Томми всегда терзали ее по воскресеньям.
Подойдя к Хетти, Дина взяла ее под руку.
– Вы кажетесь очень счастливою сегодня, моя милая, – сказала она.
– Я часто буду думать о вас, когда буду в Снофильде, и видеть ваше лицо предо мною в таком виде, как теперь. Как это странно!.. Иногда, когда я совершенно одна и сижу в своей комнате, закрыв глаза, или хожу по холмам, люди, которых я видела и знала, хотя бы в продолжение немногих только дней, являются предо мною; я слышу их голоса, вижу, как они смотрят и движутся, даже вижу их почти яснее, нежели видела их в то время, когда они в действительности были со мною так, что я могла дотрагиваться до них. И тогда мое сердце влечется к ним; я сочувствую их участи как своей собственной, и ощущаю утешение, расстилая ее перед Создателем и уповая на Его любовь как в рассуждении их, так и в рассуждении меня самой. И так я вполне уверена, что вы явитесь предо мною.
Она остановилась на минуту, но Хетти не сказала ничего.
– Это было очень драгоценное время для меня, – продолжала Дина, – вчера вечером и сегодня, когда я видела таких добрых сыновей, как Адам и Сет Биды. Они обращаются с своею престарелою матерью так нежно и так заботливо! И она рассказывала мне, что делал Адам в продолжение многих лет, помогая своему отцу и брату: удивительно, каким духом благоразумия и познаний обладает он и с какой готовностью он употребляет все это в пользу тех, которые слабы. Я уверена, что у него также любящее сердце, я часто замечала между своими людьми около Снофильда, что сильные, искусные мужчины кротче других обращаются с женщинами и детьми, и я с удовольствием смотрю, когда они носят крошечных грудных детей, будто они так же легки, как маленькие птички. И крошечные дети, по-видимому, больше всего любят сильных мужчин. Я уверена, что так было бы и с Адамом Бидом, – не так ли думаете и вы, Хетти?
– Да, – сказала Хетти рассеянно, ибо ее мысли все это время находились в лесу и ей было бы трудно сказать, с чем она соглашалась. Дина видела, что она не была расположена разговаривать, да и у них не было бы и времени к тому, потому что они подошли теперь к воротам.
Тихие сумерки, с их умирающим западным красным отливом и немногими бледными борющимися звездами, покоились на фермерском дворе, где не было слышно никакого звука, кроме топота тележных лошадей в конюшне. Прошло около двадцати минут после заката солнца, домашние птицы все отправились на насест, и бульдог лежал, растянувшись на соломе, вне своей конуры, рядом с ним покоилась черная с коричневыми пятнами такса, когда шум отворявшихся ворот обеспокоил их и заставил, как добрых служителей, залаять, хотя они и не имели ясного сознания причины.
Лай произвел в доме свое действие: когда Дина и Хетти приблизились, то в дверях показалась плотная фигура с черными глазами, с румяным лицом, которое носило в себе возможность иметь чрезвычайно проницательное и время от времени в рыночные дни презрительное выражение, теперь же имело искреннее добродушное выражение, всегда являвшееся на нем после ужина. Всем известно, что великие ученые, обнаруживавшие самую безжалостную суровость в суждении об учености других людей, были мягкого и обходительного характера в частной жизни; и я слышал об ученом муже, который кротко качал близнецов в люльке левою рукою, между тем как правою осыпал самыми раздирающими сарказмами противника, обнаружившего жестокое невежество в еврейском языке. Должно прощать слабости и заблуждения. Увы! и мы им не чужды, но человек, который держится несправедливой стороны относительно такого важного предмета, как еврейская пунктуация, должен считаться врагом своего рода. В Мартине Пойзере заключалась такого же рода антитезная смесь: он имел такой отличный нрав, что обнаруживал большую нежность и уважение к своему старику отцу, чем прежде, с тех пор как последний крепостным актом завещал ему все свое имущество; никто не выказывал к своим соседям большее сострадание во всех их личных делах, как Мартин Пойзер, но относительно какого-нибудь фермера, Луки Бриттона, например, у которого не были достаточно очищены поля, который не знал начальных правил, как делать изгородь и копать рвы, и обнаруживал такую явную нераспорядительность касательно покупки зимних запасов, Мартин Пойзер был так же жесток и неумолим, как северо-восточный ветер. Луке Бриттону стоило сделать только какое-нибудь замечание, хотя бы о погоде, как Мартин Пойзер открывал в этом замечании следы нездравомыслия и полного невежества, которые так явно обнаруживались во всех его фермерских операциях. Он даже с отвращением смотрел на своего товарища, когда последний подносил ко рту оловянную пинту у выручки в трактире «Ройял Джордж» в рыночный день, и при одном лишь виде его на противоположной стороне дороги в черных глазах Пойзера являлось строгое и порицающее выражение, как нельзя более отличавшееся от отеческого взгляда, которым он встретил двух племянниц, подходивших к дверям. Мистер Пойзер курил вечернюю трубку и теперь держал руки в карманах – единственное развлечение человека, который, окончив дневной труд, еще не хочет ложиться спать.
– Ну, голубушки, вы что-то поздно сегодня, – сказал он, когда они подошли к маленькой калитке, которая вела на дорожку к кухне. – Мать уж начала беспокоиться о вас, и нашей малютке что-то нездоровится. Да как же ты оставила старуху Бид, Дина? Что, она очень убита смертью старика? Он в эти пять лет был для нее очень плохой подмогой.
– Она была очень огорчена тем, что потеряла его, – сказала Дина, – но она, кажется, стала сегодня поспокойнее. Ее сын, Адам, был дома весь день, работая над гробом для отца; а она любит, чтоб он был дома. Она говорила мне о нем почти весь день. У нее любящее сердце, хотя она и имеет очень хлопотливый и беспокойный характер. Я желала бы, чтоб у нее была более верная опора, которая служила бы ей утешением в старости.
– На Адама можно достаточно положиться в этом отношении, – сказал мистер Пойзер, не так понимая мысль Дины. – Насчет его нечего бояться: этот колос даст при молотьбе хорошее зерно. Он не из тех, у которых все солома без зерна. Я, когда угодно, готов поручиться за него в том, что он будет хорошим сыном до последней минуты. Не говорил ли он, что скоро зайдет к нам? Но войдите же, войдите, – прибавил он, давая дорогу девушкам, – мне незачем задерживать вас еще долее.
Из-за высоких строений, окружавших двор, неба было видно немного, но в обширное окно проникал свет в изобилии и ясно освещал все углы в общей комнате.
Мистрис Пойзер, сидевшая в качком кресле, которое было вынесено из гостиной направо, старалась укачать Тотти. Но Тотти не была расположена спать, и, когда вошли ее двоюродные сестры, она поднялась и показала раскрасневшиеся щеки, казавшиеся полнее обыкновенного теперь, когда их обрамляет холстяной ночной чепчик.
В просторном плетеном кресле в левом углу у камина сидел старик Мартин Пойзер, здоровый, но исхудавший и побелевший портрет плотного черноволосого сына; его голова была несколько наклонена вперед, а локти отодвинуты назад так, что позволяли всей его руке покоиться на ручке кресла. Его синий носовой платок был разостлан на коленях, как он обыкновенно делал дома, когда он не покрывал его головы. И он сидел, наблюдая за тем, что происходило, спокойным внешним взором здорового старого возраста, который, освободившись от всякого участия во внутренней драме, высматривает гвоздики на полу, следит за незначительнейшими движениями кого бы то ни было с упорством, не ожидающим ничего и не имеющим никакой цели, устремляет пристальный взор на мерцание пламени или на отражение солнечных лучей на стене, считает квадраты на полу, наблюдает даже за циферблатом часов и находит удовольствие в том, что открывает ритм в ударе маятника.
– Разве это время приходить домой так поздно ночью, Хетти? – сказала мистрис Пойзер. – Посмотри-ка на часы: уж скоро половина десятого. Я вот послала девушек спать с полчаса, и то было уж слишком поздно: им вот надобно встать в половине пятого, чтоб наполнить бутылки для сенокосцев и заняться печеньем. Вот тоже ребенок лежит в лихорадке – чего доброго! – и не спать, будто теперь обеденное время… и не будь твоего дяди, то некому было бы помочь мне дать лекарство ребенку… и уж были нам хлопоты с этим лекарством! Половину пролили на платье… Хорошо еще, если то, что она приняла, принесет ей пользу и не сделается ей хуже. Но люди, которые не думают о том, чтоб приносить пользу, всегда имеют счастье уклониться с пути, когда нужно делать что-нибудь.
– Я вышла еще до восьми часов, тетушка, – сказала Хетти слезливым тоном, откинув слегка голову. – Но эти часы так много впереди против часов на Лесной Даче, что нельзя и знать, который час будет здесь, когда придешь домой.
– Что, тебе хотелось бы, чтоб наши часы ставились по джентльменским часам, не правда ли? Тебе хотелось бы сидеть да жечь свечу, а потом лежать в постели до тех пор, пока солнце начнет печь тебя, как огурец под рамой в парнике? Часы сегодня в первый раз только идут вперед – не правда ли?
Дело было в том, что Хетти действительно забыла различие между часами, когда сказала капитану Донниторну, что выходит в восемь, и это-то обстоятельство, притом же ее медленная ходьба заставили ее прийти почти получасом позже обыкновенного. Но затем внимание ее тетки было отвлечено от этого заботливого предмета крошкою Тотти, которая, заметив наконец, что прибытие кузин, вероятно, не доставит ей ничего удовлетворительного, в частности, начала плакать и чрезвычайно громко кричать:
– Мама, мама!
– Ну, полно, милочка, мама здесь, мама и не хочет уйти от тебя. Тотти будет послушная девочка и заснет теперь, – сказала мистрис Пойзер, откидываясь и качая кресло и стараясь прижать Тотти к себе.
Ни Тотти только кричала все громче и говорила:
– Не качайте, не качайте!
Таким образом мать с удивительным терпением, которое любовь дает самому пылкому характеру, снова занялась ребенком, прижала щеку к холстинному чепчику и целовала его и забыла о дальнейших выговорах Хетти.
– Ну, Хетти, – сказал Мартин Пойзер примирительным тоном, – ступай ужинать в запасную, потому что все вещи уж убраны; потом приди сюда подержать ребенка, пока тетка разденется: ребенок без матери не ляжет спать. Я думаю, и ты можешь поесть чего-нибудь, Дина, ведь у них-то там нет больших запасов.
– Нет, благодарю, дядюшка, – сказала Дина, – я сытно поела перед уходом. Мистрис Бид непременно хотела попотчевать меня пирогом.
– Я не хочу ужинать, – сказала Хетти, снимая шляпку. – Я подержу тотчас Тотти, если я нужна тетушке.
– Как, что ты вздор-то городишь! – сказала мистрис Пойзер. – Уж не думаешь ли ты, что можешь жить и не евши и насытить желудок, прикалывая к голове красные ленты? Ступай сию же минуту и поужинай, дитя мое, там ты найдешь хороший кусочек холодного пудинга в шкафу, именно то, что ты так любишь.
Хетти молча повиновалась и пошла в запасную, а мистрис Пойзер продолжала говорить, обратившись к Дине:
– Сядь, милая, да хоть отдохни раз хорошенько. Чай, старуха-то была рада твоему приходу, что ты осталась там так долго?
– Ей, по-видимому, было приятно в последнюю минуту, что я была у нее. Но ее сыновья говорят, что она вообще не охотно видит около себя молодых женщин. Сначала, кажется, она несколько рассердилась и на меня за то, что я пришла к ним.
– Э, это дурно, если старые люди не любят молодых, – сказал старый Мартин, еще ниже наклоняя голову и как бы внимательно вглядываясь в форму квадратов на полу.
– Да, плохо сидеть в курятнике тем, кто не любит блох, – сказала мистрис Пойзер. – Я думаю, все мы в свое время были молоды, к счастью или к несчастью.
– Но ей надобно будет учиться, как приноравливаться к молодым женщинам, – сказал мистер Пойзер. – Нечего и думать, чтоб Адам и Сет остались холостяками в продолжение десяти лет из угождения матери. Это было бы уж чересчур, если б она вздумала требовать это. Ни старым, ни молодым не должно думать только о собственной своей выгоде, это было бы вовсе несправедливо. Что хорошо для одного, то хорошо для всех других. Я сам терпеть не могу, если молодые люди женятся прежде, нежели узнают разницу между диким и садовым яблоком, но можно, пожалуй, и упустить время.
– Конечно, – сказала мистрис Пойзер, – если мы прогуляем обеденное время, то и мясо покажется невкусным. Мы будем ворочать вилкой с одной стороны на другую и в заключение не станем есть. Мы сваливаем вину на мясо, а вся вина-то в нашем собственном желудке.
Хетти в это время вышла из чулана и сказала:
– Я могу взять теперь Тотти, тетушка, если хотите.
– Ну, Речель, – сказал мистер Пойзер, когда его жена, казалось, находилась в нерешимости, видя, что Тотти лежала наконец спокойно, – дай лучше Хетти снести наверх, покамест ты разденешься. Ведь ты измучилась. Время тебе лечь в постель. У тебя опять бок заболит.
– Хорошо, пусть она возьмет ребенка, если он захочет пойти к ней, – сказала мистрис Пойзер.
Хетти подошла к самому креслу и стояла, не улыбаясь, по своему обыкновению, и не делая никаких усилий, чтоб приманить Тотти, а просто ожидая, когда тетка даст ей ребенка на руки.
– Не хочешь ли пойти к кузине Хетти, моя милочка, пока маменька приготовится лечь в постель? Тогда Тотти ляжет с мамашей в постель и будет спать там всю ночь.
Прежде нежели мать успела кончить, Тотти дала ответ, значение которого нельзя было не понять: она нахмурила брови, закусила нижнюю губу крошечными зубенками и наклонилась вперед, чтоб ударить Хетти по руке изо всех сил, потом, не говоря ничего, снова прижалась к матери.
– Что-о? – сказал мистер Пойзер, между тем как Хетти стояла неподвижно. – Ты не хочешь идти к кузине Хетти? Так делают только дети: Тотти – маленькая женщина, а не ребенок.
– Мы напрасно станем уговаривать ее, – сказала мистрис Пойзер, – она всегда не расположена к Хетти, когда больна. Может статься, она пойдет к Дине.
Дина, снявшая шляпку и шаль, до этого времени сидела смирно в отдалении, не желая вмешиваться в то, что считалось собственно делом Хетти. Но теперь она вышла вперед и, протянув руки, сказала:
– Пойдем, Тотти, пойдем, дай Дине снести тебя наверх вместе с мамашей. Бедная, бедная мамаша! Она так измучилась, ей хочется идти спать.
Тотти повернула лицо к Дине и посмотрела на нее с минуту, потом поднялась, протянула ручонки и позволила Дине взять ее с колен матери. Хетти повернулась без всякого признака дурного расположения духа и, взяв шляпку со стола, стояла с равнодушным видом, ожидая, не будет ли ей какого-нибудь другого приказания.
– Ты можешь совсем запереть дверь, Пойзер. Алик уж давно дома, – сказала мистрис Пойзер, вставая с своего низкого кресла с видом облегчения. – Доставь мне спички с полки, Хетти, мне надобно будет зажечь ночник в спальне. Пойдем, отец!
Тяжелые деревянные засовы при внешних дверях стали задвигаться, и старый Мартин приготовился встать, собрав синий носовой платок и достав из угла свою светлую суковатую ореховую палку. Потом мистрис Пойзер отправилась в путь из кухни, сопровождаемая дедом и Диною с Тотти на руках, и все отправились спать в сумерках, как птицы. Мистрис Пойзер на своем пути заглянула в комнату, где лежали ее два мальчика, посмотрела на их румяные круглые щеки на подушке и послушала с минуту их легкое правильное дыхание.
– Ну, Хетти, ступай спать, – сказал мистер Пойзер ласковым тоном, когда он сам повернулся, чтоб идти наверх. – Я уверен, что ты опоздала не нарочно, но твоя тетка намучилась сегодня. Прощай, голубчик, прощай.
XV. Две спальни
Хетти и Дина обе спали во втором этаже, в комнатах, соседних одна с другой, скудно омеблированных, без всяких занавесок, не допускавших света, который теперь начинал приобретать новую силу от восходившего месяца, силу, которая была больше, нежели достаточною для того, чтоб дать Хетти возможность ходить в комнате и раздеваться с совершенным удобством. Она очень хорошо могла видеть вешалки в старом крашеном платяном шкафу, на которые повесила шляпку и платья; она могла видеть головку каждой булавки на своей красной полотняной булавочной подушечке; она могла видеть изображение своей фигуры в старомодном зеркале так ясно, насколько было нужно, принимая во внимание, что ей нужно было только зачесать голову и надеть ночной чепчик. Странное старое зеркало! Хетти сердилась на него почти каждый раз, когда одевалась. В свое время оно считалось красивым зеркалом и, вероятно, было куплено в семейство Пойзеров четверть столетия назад при распродаже мебели, принадлежавшей какому-нибудь хорошему дому. Даже и теперь аукционист мог бы сказать о нем что-нибудь хорошее: вокруг стекла было довольно много позолоты, правда, потусклой; оно имело твердое подножие из красного дерева, достаточно снабженное выдвижными ящиками, которые открывались только после решительных усилий и при этом выкидывали вперед все, в них содержавшееся, даже из отдаленнейших углов, не заставляя вас беспокоиться тем, чтоб достать вещи из глубины. Ко всему этому по обе стороны были прикреплены медные подсвечники, придававшие зеркалу все еще аристократический вид. Но Хетти была недовольна им, потому что по всему стеклу было рассеяно множество тусклых пятен, не отходивших ни от какого усиленного трения, и потом, вместо того чтоб подвигаться взад и вперед, оно было прикреплено в прямом положении, так что Хетти могла хорошо видеть только голову и шею, да и для этого ей нужно было садиться на низкий стул перед туалетным столом. И туалетный стол не был вовсе туалетный столь, а маленький старый комод, самая неуклюжая вещь на свете, сидеть перед которым было чрезвычайно неловко, ибо она всегда ушибала свои колени об огромные медные ручки и никаким образом не могла удобно приблизиться к зеркалу. Но набожные поклонники не дозволяют никогда, чтоб какие-нибудь неудобства препятствовали им в исполнении их религиозных обрядов, а Хетти в этот вечер еще более обыкновенного предавалась своему особенному виду поклонения.
Сняв платье и белый платочек, она вынула ключ из большого кармана, висевшего сверх ее юбки, и, отворив один из нижних ящиков комода, достала оттуда два небольших восковых огарка, купленные втихомолку в Треддльстоне, и вставила их в оба медных подсвечника, потом она вынула связку спичек и зажгла свечи и наконец вынула недорогое маленькое зеркальце в красной рамке, но без пятен. В это-то небольшое зеркальце предпочла она посмотреть сначала, когда села. Она смотрелась в зеркальце, улыбаясь, повернула голову в одну сторону, потом через минуту положила его и вынула щетку и гребенку из верхнего ящика. Еи хотелось распустить волосы так, чтоб походить на портрет леди, висевший в уборной мисс Лидии Донниторн. Это было сделано скоро, и темные гиацинтовые волосы пали ей на шею. То не были тяжелые, массивные волосы, только напоминавшие легкую зыбь, а мягкие и шелковистые, при всяком случае завивавшиеся в изящные кудри. Но она откинула их все назад, чтоб походить на картину, чтоб они образовали темную занавеску, которая еще рельефнее возвышала бы ее круглую, белую шею. Потом она положила щетку и гребень и смотрела на себя, сложив перед собою руки, точно как на том портрете. Даже старое, рябое зеркало не могло не отразить прелестное изображение, действительно прелестное, несмотря на то что Хетти не была зашнурована в белый атлас – как, по моему твердому убеждению, должны быть зашнурованы все героини, – а в темную зеленоватую бумажную материю.
О, да! Она была очень хороша – капитан Донниторн думал так. Красивее всех около Геслопа, красивее всех леди, которые только когда-либо посещали дом его дяди; в самом деле, казалось, что знатные леди были все стары и дурны… и красивее мисс Беки, дочери мельника, называвшейся треддльстонскою красавицей. И Хетти смотрела на себя в этот вечер с совершенно другим ощущением, нежели прежде; тут был невидимый зритель, глаз которого покоился на ней, как утро на цветках. Его нежный голос все повторял и повторял прекрасные речи, которые она слышала в лесу; его рука обвивала ее талию, и прелестное благоухание розы, которым были пропитаны его волосы, все еще слышалось ей. Самая тщеславная женщина никогда не сознает совершенно своей собственной красоты, пока она не любима мужчиной, который заставляет вибрировать ее собственную страсть, в свою очередь.
Но Хетти, казалось, решила в своих мыслях, что ей все еще недоставало чего-то, ибо она встала и достала старый черный кружевной шарф из платяного шкафа и большие серьги из заветного ящика, из которого уже вынимала свечи. Шарф был стар, очень стар, весь в дырах, но он мог бы быть приличною рамкой вокруг ее плеч и возвысить белизну верхней части ее рук. И она снимет маленькие серьги, которые были у нее в ушах – о, как бранила ее тетка за то, что она проняла себе уши! – и наденет большие: они только позолочены и в них вместо камней крашеные стекла; но если вы не знаете из чего они сделаны, то они покажутся вам такими же хорошими, какие обыкновенно носят леди. И вот она села опять, с большими серьгами в ушах и с черным кружевным шарфом вокруг плеч. Она посмотрела на руки: не было рук, которые были бы красивее ее рук; вниз и немного пониже локтя, они были белы и пухлы, с такими же ямочками, какие она имела на щеках; но она с досадой думала о том, что к кисти они были грубы от делания масла и других работ, которыми не занимались леди.
Капитану Донниторну, вероятно, было бы неприятно, чтоб она продолжала работать: он желал бы видеть ее в красивых платьях, в тонких башмаках и белых чулках, может быть, еще с шелковыми стрелками, ведь он должен очень любить ее, ибо никто, кроме него, не обнимал ее рукою за талию, никто не целовал ее таким образом. Он захочет жениться на ней и сделать из нее леди… она едва осмеливалась допускать такую мысль, а между тем могло ли быть как-нибудь иначе? Он женится на ней тайно, как мистер Джемс, докторский помощник, женился на племяннице доктора, и узнали об этом только много времени спустя, а тогда было уж бесполезно сердиться. Хетти сама слышала, как доктор рассказал ее тетке обо всем этом. Она не знала, как это могло бы случиться; но это было ясно, что старый сквайр никогда не позволит и заикнуться ему об этом, ибо Хетти готова была упасть в обморок от благоговения и ужаса, когда встречалась с нам в Лесной Даче. Кто его знает, он, может быть, родился, как все мы на этом свете, ей никогда не приходило в голову, что он был молод, как другие; для нее он всегда был старым сквайром, который на всех наводил ужас. О! невозможно было и подумать, как это могло бы случиться. Но капитану Донниторну будет известно это: он важный джентльмен и может иметь свою волю во всем и купить все, что ни захочет. И ничто не может быть снова так, как было: может быть, когда-нибудь она станет знатною леди, будет ездить в своем экипаже и одеваться к обеду в парчу и шелк, с перьями на голове, и платье ее будет мести пол, как платья мисс Лидии и леди Деси, когда они шли в столовую, как она видела их однажды вечером, когда смотрела украдкой в небольшое круглое окно в передней. Она только не будет такою старухою и такою дурною, как мисс Лидия, или такою же толстою и неуклюжею, как леди Деси, но очень красивою с волосами, которые она будет зачесывать на различные манеры; иногда она оденется в розовое платье, иногда в белое: она еще не знала, которое нравится ей больше. И Мери Бердж и все другие, может быть, увидят, как она будет выезжать в своей карете, или скорее они только услышат об этом: невозможно было вообразить, чтоб эти вещи случились в Геслопе ввиду ее тетки. При мысли о таком великолепии Хетти встала со стула и при этом задела маленькое зеркало в красной рамке краем своего шарфа, так что оно с шумом упало на пол. Но она слишком была занята своей мечтой, чтоб позаботиться поднять его; пораженная на одно лишь мгновение, она начала ходить с величием голубя взад и вперед по своей комнате, в цветной шнуровке и в цветной юбочке, с старым черным кружевным шарфом вокруг плеч и большими стеклянными серьгами в ушах.
Как мила кажется малютка в этом странном костюме! Влюбиться в нее было бы самою простительною глупостью на свете. Ее лицо и фигура округлены так прелестно, точно у ребенка; изящные темные кольца волос так очаровательно покоятся около ее ушей и шеи, ее большие темные глаза с их длинными ресницами трогают вас так странно, словно из них смотрит заключенный резвый дух.
Ах, что за находка для мужчины, который получает такую очаровательную невесту, как Хетти! Как станут завидовать мужчины, которые придут к свадебному завтраку и увидят, как она, в белых кружевах и с померанцевыми цветами, опирается на его руку. Милое, юное, кругленькое, нежное, гибкое создание! Ее сердце должно быть так же мягко, ее темперамент так же свободен от угловатостей, ее характер так же гибок! Если когда-либо случится что-нибудь дурное, то в этом должен быть виноват непременно муж: он может сделать из нее все, что хочет, – это ясно. И самый предмет любви думает так же: маленькая красавица так расположена к нему, ее незначительное тщеславие так очаровательно; он и не желал бы, чтоб она была благоразумнее; вот эти-то игривые взоры и движения и могут превратить домашний очаг в рай. При таких обстоятельствах каждый человек сознает, что он большой физиономист. Он знает, что природа имеет свой собственный язык, который она употребляет с строгою правдивостью, и он считает себя посвященным в этот язык. Природа выписала для него характер его невесты в этих изящных очертаниях щеки, губы и подбородка, в этих веках, тонких, как лепестки, в этих длинных ресницах, вьющихся как тычинка цветка, в этой темной мягкой глубине чудных глаз. До какого безумия она будет любить своих детей! Она сама почти еще ребенок, и крошечные розовенькие, кругленькие создания будут окружать ее, как бутончики окружают центральный цветок; а муж, кротко улыбаясь, будет, по-видимому в состоянии, когда ему угодно, удалиться в святилище своей мудрости, на которое жена его будет взирать с благоговением, никогда не осмеливаясь проникнуть в его тайны. Такой брак будет походить на брак золотого века, когда все мужчины были мудры и величественны, а все женщины прелестны и любящие.
Почти совершенно так же наш друг Адам Бид думал о Хетти, только он облекал свои мысли в другие слова. Если она когда-либо обнаруживала перед ним холодное тщеславие, то он говорил самому себе: «Это происходило оттого, что она меня не довольно любит»; и он был убежден, что ее любовь, когда только она дарует ее, будет драгоценнейшим из благ, которыми только человек может обладать на земле. Прежде чем вы упрекнете Адама в недостатке проницательности, спросите, пожалуйста, себя: были ли вы когда-нибудь расположены думать дурное о прелестной женщине… могли ли вы когда-нибудь, без жестоких головоломных доводов, думать дурное об одной в высшей степени прелестной женщине, которая очаровала вас? Нет, кто любит пушистые персики, тот способен не думать о косточке и потому иногда часто жестоко повреждает себе зубы о нее.
Артур Донниторн также имел подобное же мнение о Хетти, в том отношении, насколько он вообще думал о ее природе. Он был уверен, что она была милое, доброе, нежное существо. Мужчина, пробуждающий чудную, волнующую страсть в молодой девушке, всегда считает ее нежною и любящею; и если случится ему подумать о будущих годах, то он, вероятно, воображает, что добродетельно-нежен к ней, так как бедное существо так сильно привязано к нему. Бог уж сотворил этих милых женщин такими, и такой порядок вещей приходится весьма кстати в случае болезни.
Как бы то ни было, я думаю, благоразумнейший из нас непременно обманывается иногда таким образом и непременно думает о людях лучше или хуже, нежели они заслуживают. Природа имеет свой язык, и ее нельзя обвинить в неправдивости; но мы и до настоящего времени не знаем ее запутанного синтаксиса, и при торопливом чтении может случиться, что мы извлечем из ее слов совершенно противное значение. Длинные темные ресницы, например: что может быть изящнее их? Я считаю невозможным не ожидать некоторой глубины души за глубоким серым глазом с длинною темною ресницею, несмотря на опытность, показавшую мне, что то и другое бывает и при обмане, корыстолюбии и глупости. Но когда, отвернувшись с отвращением, я прибегал к рыбьему, безжизненному глазу, то в результате оказывалось поражающее сходство. Можно, наконец, подозревать, что между ресницами и нравственностью нет прямого соотношения, или, иначе, что ресницы выражают характер прекрасной бабушки данного индивидуума, что вообще имеет для нас небольшое значение.
Не было ресниц, которые могли бы быть красивее ресниц Хетти, а теперь, между тем как она с голубиным величием расхаживает по комнате и смотрит на свои плечи, обрамленные старыми черными кружевами, темная бахрома обнаруживается в совершенстве на ее розовой щеке. Ее узкое воображение может рисовать только тусклые неопределенные картины будущности, но во всех картинах на первом плане она в прелестных платьях. Капитан Донниторн очень близок к ней; он обвивает рукою ее стан, быть может, целует ее, а все другие удивляются и завидуют ей, преимущественно же Мери Бердж, новое набивное платье которой кажется весьма жалким рядом с блистательным туалетом Хетти. Не примешивается ли к этим мечтам о будущем какое-нибудь сладостное или грустное воспоминание? Заботливая мысль о ее вторых родителях, о детях, за которыми она помогала ходить, о молодой подруге, о любимом животном, о каком-нибудь случае из ее собственного детства? Нет, ни одной. Есть растения, которые едва ли имеют корни: вырвите их из их родного уголка в скале или в стене и положите их просто на ваш цветочный горшок, служащий у вас украшением, и они станут цвести нисколько не хуже прежнего. Хетти могла сбросить с себя всю свою прежнюю жизнь и никогда не захотела бы, чтоб ей опять напомнили о ней. Я думаю, у нее не было никакого чувства к старому дому и она не любила греческой валерьяны и длинного ряда роз в саду больше других цветов, может быть, даже и не столько, как другие цветы. Надобно было удивляться, как мало она, по-видимому, заботилась об ухаживании за дядей, который был для нее вторым отцом: она едва ли подала ему когда-нибудь трубку вовремя без того, чтоб ей не сказали об этом, разве в доме был гость, который мог бы иметь удобный случай видеть ее, когда она пойдет мимо камина. Хетти не могла постигнуть, каким образом можно было чувствовать расположение к пожилым людям. Что ж касается этих скучных детей, Марти, Томми и Тотти, то они были просто наказанием ее в жизни, как жужжащие насекомые, которые мучат вас в жаркий день, когда вам хочется покоя. Марти, самый старший, был еще грудным ребенком, когда она только что прибыла на мызу, ибо дети, родившиеся прежде него, умерли, и, таким образом, Хетти видела, как все трое, один после другого, ходили около нее, переваливаясь со стороны на сторону, на лугу или играли на ее глазах в сырую погоду в полупустых комнатах большого старого дома. Мальчики уж подросли теперь, но Тотти надоедала день-деньской гораздо хуже, чем оба других в свое время, потому что о ней хлопотали гораздо больше. И не было конца деланию и починке платьев. Хетти обрадовалась бы, если б ей сказали, что она никогда больше не увидит никакого ребенка; дети были хуже грязных крошечных ягнят, которых пастух всегда приносил в дом, чтоб они имели особенный уход, когда наступало время ягниться, ибо от ягнят, раньше или позже, освобождались. Что ж касается молодых цыплят и индийских кур, то Хетти возненавидела бы самое слово «вывод», если б ее тетка не подкупила ее смотреть за молодыми домашними птицами, обещав ей давать ценность одного цыпленка с каждого выседа. Круглые, пушистые цыплята, выглядывавшие из-под крыла матери, никогда не доставляли Хетти удовольствия – не об этого рода красоте заботилась она, она заботилась о красоте новых вещей, которые купит для себя на треддльстонской ярмарке на деньги, вырученные продажею цыплят. А между тем она имела вид столь приятный, столь очаровательный, когда наклонялась, чтоб положить моченый хлеб под курятник, что вам действительно нужно бы быть весьма проницательными, чтоб подозревать ее в жестокости. Молли, горничная, со вздернутым кверху носом и выдающеюся челюстью, была в действительности девушка с нежным сердцем и, как выражалась мистрис Пойзер, просто драгоценность относительно ухода за курами, но на ее неподвижном лице выражалось настолько этой материнской радости, насколько бурый глиняный кувшин пропускает сквозь себя свет лампы, помещающийся в нем.
Вообще, женский глаз прежде всего открывает нравственные недостатки, скрывающиеся под милым обманом красоты. Таким образом, неудивительно, что мистрис Пойзер, с ее проницательностью и при множестве случаев для наблюдений, составила довольно верную оценку того, что можно было ожидать от Хетти в области чувства, и в минуты негодования иногда с большою откровенностью высказывала мужу свое мнение относительно этого.
– Она не лучше павлина и готова горделиво расхаживать по стене и распускать хвост, когда светит солнце, если б даже все люди в приходе умирали; ничто, кажется, не заставляет забиться ее сердце, даже и тогда, когда мы думали, что Тотти упала в яму. Ах, Господи! этот дорогой херувимчик!.. Когда мы нашли ее, то она стояла в грязи с своими крошечными башмачками и кричала так у отдаленного водопоя, что просто сердце разрывалось. А Хетти и нужды не было до этого – я сама видела, а между тем ведь она знала ребенка еще грудным. По моему убеждению, ее сердце твердо как кремень.
– Нет, нет! – сказал мистер Пойзер. – Ты не должна судить о Хетти так жестоко. Молодые девушки похожи на незрелое зерно, которое впоследствии дает, правда, хороший хлеб, но вначале мягковатый. Ты увидишь, Хетти будет как следует, когда у нее будут хороший муж и собственные дети.
– Я вовсе не хочу быть жестокою к девушке. У нее проворные руки, и она может быть довольно полезна, когда захочет, и мне было бы ощутительно, если б она перестала делать масло, потому что у нее свежая рука. Как бы то ни было, я старалась делать свое дело касательно твоей племянницы, и делала это: я научила ее всему, что принадлежит к дому, и довольно часто объясняла ей, в чем должны состоять ее обязанности, хотя – Бог видит это! – у меня часто делается одышка и меня по временам страшно схватывает боль в боку. С этими тремя девушками в доме мне нужно было бы иметь вдвое силы для того, чтоб держать их при работе. Это все равно что готовить жаркое на трех огнях: только что успеешь полить одно, как подгорает другое.
Хетти чувствовала значительный страх перед своей теткой и заботилась настолько скрывать от нее свое тщеславие, насколько можно было скрыть без слишком великой жертвы. Она не могла удержаться, чтоб не тратить денег на наряды, которые порицала мистрис Пойзер; но она была бы готова умереть со стыда, досады и страха, если б ее тетка в эту минуту отворила дверь и увидела, что она зажгла свои огарки и величественно расхаживала по комнате, украшенная шарфом и серьгами. В предупреждение такого сюрприза она всегда запирала дверь на задвижку, и в эту ночь она не забыла сделать то же самое. И хорошо, что она сделала это, ибо в эту минуту послышался легкий удар, и Хетти, с сильно бьющимся сердцем, стремглав бросилась задувать свечи и бросать их в ящик. Она не смела ждать, пока снимет серьги, но сбросила с себя шарф, который упал на пол, прежде нежели повторился легкий удар. Мы узнаем, отчего происходил этот легкий удар, если на короткое время оставим Хетти и возвратимся к Дине в ту минуту, когда она передала Тотти на руки матери и взошла по лестнице в свою спальню, смежную с спальнею Хетти.
Дина приходила в восторг от окна в своей спальне. Ее комната помещалась во втором этаже высокого дома, и из окна она имела обширный вид на поля. Толщина стены образовывала пониже окна широкую ступень, расстоянием около аршина, где она могла ставить свой стул. И теперь, лишь только она вошла в комнату, как прежде всего села на этот стул и стала смотреть на мирные поля, за которыми всходил большой месяц над изгородью, образуемою вязами. Она лучше любила пастбище, где покоилась дойные коровы, и потом луг, где трава была наполовину скошена и лежала серебристыми раскинувшимися линиями. Сердце ее было полно, ибо оставалась еще одна только ночь, в которую ей надобно будет налюбоваться этими полями на долгое время. Но она не скучала только о том, что ей придется оставить этот ландшафт, ибо для нее холодная страна Снофильд имела столько же очарования. Она думала обо всех дорогих ее сердцу людях, о которых она научилась заботиться среди этих мирных полей и которые навсегда будут иметь место в ее любящей памяти. Она думала о борьбе и утомлении, которые, может быть, предстоят им в будущем на их жизненном пути, когда ее уже не будет с ними и она не будет знать, что с ними случилось. Бремя этой мысли скоро сделалось ей так тяжело, что она не могла уже наслаждаться несоответствующею тишиной полей, освещенных луною. Она закрыла глаза, дабы с большею силою чувствовать присутствие любви и симпатии, которые были глубже и нежнее того, как они отражались землею и небом, дышавшими ими. Таким образом Дина часто молилась в уединения. Она просто закрывала глаза и чувствовала себя окруженною божественным присутствием; потом постепенно ее опасения, ее сильные заботы о других таяли, как ледяные кристаллы в теплом океане. Она сидела в этом положении совершенно спокойно, скрестив руки на коленях, по крайней мере десять минут; бледный свет покоился на ее спокойном лице. Вдруг она вздрогнула при громком шуме, происшедшем, очевидно, от падения какой-нибудь вещи в комнате Хетти. Но подобно всем звукам, касающимся нашего слуха, когда мы совершенно погружены в мысли о другом, и этот звук не имел определенного характера, но был просто громок и поражающ, так что она находилась в сомнении, верно ли она объясняла себе его. Она встала и прислушивалась несколько времени, но везде было тихо после этого звука, и она подумала, что Хетти, может быть, только сбила что-нибудь с места, ложась на постель. Она начала медленно раздеваться; но теперь, подчиняясь влиянию, произведенному этим шумом, она сосредоточила свои мысли на Хетти, на этом прелестном юном создании, перед которым только что открывалась жизнь со всеми ее искушениями, торжественные ежедневные обязанности жены и матери, а между тем она была вовсе не приготовлена к этому, мечтала только о незначительных, безрассудных, тщеславных удовольствиях, как ребенок, дрожащий над своими игрушками при начале длинного утомительного путешествия, в продолжение которого ему придется перенести и голод, и холод, и бесприютный мрак. Дина чувствовала вдвое больше забот о Хетти, потому что разделяла заботливое участие Сета в судьбе его брата и не дошла еще до заключения, что Хетти не так любила Адама, чтоб могла выйти за него замуж. Она слишком ясно видела отсутствие всякой теплой, самоотверженной любви в природе Хетти и не считала холодности ее обращения относительно Адама указанием, что он не был человеком, которого она хотела бы иметь мужем. И этот недостаток в природе Хетти, вместо того чтоб возбудить ее неудовольствие, только вызывал в ней более глубокое сожаление; миловидное лицо и образ ее производили на нее такое же влияние, какое производит красота на чистое и нежное сердце, чуждое всякой эгоистической ревности; красота была отличающим божественным даром, вызывавшим более глубокое сострадание к нужде, греху и горести, с которыми он соединен, подобно тому, как грустнее смотреть на язву в белоснежном бутоне, нежели в простой кухонной зелени.
Между тем как Дина раздевалась и надевала ночное платье, это чувство, относительно Хетти, возрастало с болезненною силою, ее воображение создало терновый кустарник греха и горести, и она видела как бедное создание боролось в нем, истерзанное и обагренное кровью, со слезами отыскивая избавления и не находя нигде. Таким-то образом, воображение и симпатия Дины боролись постоянно, возвышая друг друга. Она почувствовала глубокое, горячее желание пойти теперь и излить перед Хетти все слова нежного предостережения и просьбы, которые быстро сменялись в ее голове. Но, может быть, Хетти спала уже. Дина приложила ухо к перегородке и все еще слышала слабый шум, который убедил ее в том, что Хетти еще не была в постели. Но она еще медлила, она не была вполне уверена в божественном указании; голос, приказывавший ей идти к Хетти, был, казалось, не сильнее другого голоса, говорившего, что Хетти была утомлена и что если она пойдет к ней теперь в несвоевременную минуту, то Хетти с большим еще упрямством скроет все, что у нее на сердце. Дина не довольствовалась этими внутренними голосами, ей нужно было более верное указание. Ей было довольно светло для того, чтоб открыть священное писание и различить текст настолько, чтоб она могла знать, что он скажет ей. Она знала физиономию каждой страницы и могла сказать, на какой книге открыла, иногда даже на какой главе, несмотря на заглавие или число. То была небольшая толстая Библия, совершенно скруглившая-ся по краям. Дина положила ее боком на выступ окна, где свет падал сильнее, и потом открыла ее указательным пальцем. Первые слова, на которые она посмотрела, были следующие вверху левой страницы: «И все они плакали горько, бросились на шею Павла и целовали его».
Этого было достаточно для Дины; Библия открылась на памятном прощании в Эфесе, когда Павел почувствовал потребность излить сердце в последнем увещании и предостережении. Она не медлила долее: тихо отворив свою дверь, вышла и постучалась к Хетти. Мы знаем, что ей пришлось постучаться два раза, ибо Хетти нужно было погасить свечи и сбросить черный кружевной шарф; но после второго удара дверь отворилась немедленно. Дина сказала: «Можно мне войти, Хетти?», и Хетти, молча (ибо она смутилась и была недовольна) отворила дверь шире и впустила Дину в комнату.
Что за странный контраст представляли обе девушки, достаточно видимый при смешении сумерек и лунного света: Хетти, у которой разгорелись щеки и глаза сверкали от ее воображаемой драмы, прелестная шея и руки были открыты, волосы падали сбившимися локонами частью на спину, частью закрывали ее побрякушки в ушах, и Дина, которая была одета в длинное белое платье, бледное лицо которой выражало подавленное волнение и почти походило на лицо прекрасного трупа, куда возвратилась душа, исполненная высоких тайн и высокой любви. Они были почти одинакового роста; Дина казалась несколько выше, когда она обвила Хетти рукою за талию и поцеловала ее в лоб.
– Я знала, что ты еще не легла, моя милая, – сказала она своим сладким, чистым голосом, который подействовал на Хетти раздражающим образом, смешиваясь с ее угрюмым беспокойством, как музыка с бренчащими цепями, – потому что я слышала, как ты ходила; и мне очень хотелось поговорить еще раз с тобою сегодня, ибо это последняя ночь, которую я провожу здесь, и мы не знаем, что может случиться завтра и разлучить нас друг с другом. Не посидеть ли мне у тебя, пока ты уберешь волосы?
– О да, – сказала Хетти, торопливо поворачиваясь и придвигая другой стул в комнате, обрадованная, что Дина показывала вид, будто не замечает ее серег.
Дина села, и Хетти стала расчесывать волосы, чтоб потом заплести их наверх, и расчесывала с видом чрезвычайного равнодушия, свойственным смущенному самосознанию. Но выражение глаз Дины мало-помалу облегчило ее; они, казалось, не замечали никаких подробностей.
– Милая Хетти, – сказала она, – сегодня совершенно невольно пришли мне мысли, что ты, может быть, будешь когда-нибудь находиться в несчастье – несчастье определено нам всем здесь на земле, – и тогда наступает время, когда мы нуждаемся в утешении и помощи гораздо больше, нежели мы можем найти в предметах этой жизни. Я хочу сказать тебе, что, если ты когда-нибудь будешь находиться в несчастье и нуждаться в друге, который будет всегда сочувствовать тебе и любить тебя, то ты найдешь такого друга в Дине Моррис в Снофильде, и если ты придешь к ней или пошлешь за ней, то она никогда не забудет этой ночи и слов, которые говорит тебе теперь. Будешь ли ты помнить об этом, Хетти?
– Да, – сказала Хетти в некотором испуге. – Но отчего ты думаешь, что со мной случится несчастье? Знаешь ты что-нибудь?
Хетти, надев чепчик, села, и теперь Дина наклонилась вперед и взяла ее за руки, когда отвечала:
– Потому что, моя милая, несчастье постигает нас всех в этой жизни. Так мы привязываемся сердцем к вещам, а между тем на то, чтоб мы имели их, нет Божьей воли, и мы горюем об этом; мы лишаемся людей, которых любим, и не находим радости ни в чем, потому что они не с нами; приходит болезнь – и мы томимся под гнетом нашего слабого тела, мы заблуждаемся и идем по дурному пути и сами навлекаем несчастье на себя и на ближних. Из родившихся в этом мире нет ни мужчины, ни женщины, которым не были бы определены какие-нибудь из этих испытаний, и я чувствую, что некоторые из них случатся и с тобой. И я желаю, чтоб, пока молода, ты искала силы у твоего Небесного Отца, тогда ты могла бы иметь опору, которая не оставит тебя, когда придет твой черный день.
Дина остановилась и опустила руки Хетти, чтоб не мешать ей. Хетти сидела совершенно спокойно. Она не чувствовала в душе своей никакого ответа на заботливое расположение Дины к ней. Но слова Дины, произнесенные с торжественною, патетическою ясностью, возбудили в ней холодный ужас. Ее румянец исчез, и она стала почти бледна; она чувствовала робость, обладая сладострастным, ищущим удовольствия характером, который трепещет при одном намеке на страдания. Дина заметила произведенное ею впечатление, и ее нежное заботливое увещание стало еще серьезнее, пока Хетти, исполненная неопределенного ужаса о том, что с нею некогда может случиться что-нибудь дурное, не начала плакать.
Мы обыкновенно говорим, что в то время, как низшая природа никогда не может понять высшую, высшая природа совершенно обнимает низшую. Но я думаю, высшая натура должна научиться этому пониманию, как мы научаемся искусству видеть продолжительным и тяжелым опытом, нередко с ушибами и ранами, получаемыми нами оттого, что мы схватываем предметы не с той стороны, и воображаем себя дальше от них, чем на самом деле. Дина прежде никогда не видела, чтоб Хетти была так расстроена, и, исполненная обычной благосклонной надежды, она твердо видела, что волнение происходило по божественному внушению. Она поцеловала рыдавшую девушку и начала плакать с нею, под влиянием благодарности и радости. Но Хетти была просто в взволнованном состоянии, когда нельзя рассчитывать наверное, какое направление могут принять чувства каждую минуту, и впервые ласки Дины рассердили ее. Она нетерпеливо отпихнула ее от себя и, всхлипывая, как ребенок, сказала:
– Не говори со мной таким образом, Дина. Зачем пришла ты пугать меня? Я никогда не сделала тебе ничего дурного. Отчего же не оставишь ты меня в покое?
Дина с грустью услышала эти слова. Ее благоразумие не позволяло ей настаивать, и она только кротко сказала:
– Да, моя милая, ты устала. Я не хочу мешать тебе долее. Разденься поскорее и ляг в постель. Спокойной ночи.
Она вышла из комнаты почти так же тихо и быстро, как привидение, но едва лишь успела она подойти к своей постели, как бросилась на колени и в глубоком молчании излила все горячее сострадание, наполнявшее ее сердце.
Что до Хетти, то она вскоре опять была в лесу: мечты, которые занимали ее наяву, погрузились в жизнь сна почти еще отрывочнее и запутаннее.
XVI. Звенья
Вы помните, Артур Донниторн должен исполнить обещание, которое дал самому себе: увидеться с мистером Ирвайном в пятницу утром. Он проснулся и одевается так рано, что хочет идти к нему до завтрака, а не после завтрака. Он знает, что священник завтракает один в половине десятого, так как у леди семейства назначен для завтрака другой час. Артур сделает раннюю утреннюю прогулку верхом по холмам и позавтракает с ним. За едой всегда отлично говорится.
Успехи цивилизации сделали завтрак или обед удобною и веселою заменою более беспокойных и неприятных церемоний. Мы не с такой мрачной стороны смотрим на наши ошибки, когда наш духовный отец слушает нас, сидя за яйцом и кофеем. Мы как-то определительнее сознаем, что в наш просвещенный век не требуется от джентльмена суровое покаяние и что смертный грех вовсе не несовместим с хорошим аппетитом к завтраку, что нападение на наши карманы, которое в более варварские времена было бы сделано грубым образом посредством пистолетного выстрела, стало совершенно благородным и улыбающимся делом теперь, когда оно совершается в виде прошения о займе, брошенного как вводное предложение между вторым и третьим стаканом кларета.
В старых суровых формах было, однако ж, то преимущество, что они заставляли вас исполнить решение посредством какого-нибудь явного поступка: когда вы приставили рот к одному концу отверстия в каменной стене и знаете наверное, что на другом конце есть слушающее вас ухо, то очень вероятно, что вы скажете то, что вы намеревались сказать, нежели если вы сидите, держа ноги в удобном положении под обеденным столом, с собеседником, который не будет иметь причины удивляться, если вы не имеете сказать ему ничего особенного.
Как бы то ни было, в то время, как Артур Донниторн едет извилинами по веселым тропинкам верхом при сиянии утреннего солнца, он серьезно намеревается излить душу перед священником, и резкий звук косы, раздающийся в то время, как он едет по лугу, производит на него еще более радостное впечатление, потому что он имеет честное намерение. Он с радостью видит надежду на установившуюся погоду теперь, когда наступило время для уборки сена, о чем так заботились поселяне; и участие в радости, которая касается всех, а не только одних вас, производит такое здоровое действие, что эта мысль об уборке сена действует на его расположение духа и представляет его решение делом более легким. Человек, живущий где-нибудь в городе, может, пожалуй, предполагать, что эти впечатления ощущаются только в книжке рассказов для детей, но когда вы очутились среди полей и изгородей, то невозможно сохранить последовательное равнодушие относительно простых удовольствий природы.
Артур проехал деревню Геслоп и приближался к брокетонской стороне горы, когда на повороте дороги он увидел впереди себя шагах во ста человека, которого невозможно было принять не за Адама Бида, если б даже за этим человеком не следовала по пятам серая, бесхвостая овчарная собака. Он шел своим обычным скорым шагом, и Артур приударил своего коня, чтоб догнать его, ибо в нем сохранялось еще чувство, которое он питал к Адаму с детства, чтоб не упустить случай поболтать с ним. Я не скажу, чтоб его любовь к работнику не была несколько обязана своей силой любви к покровительству: наш друг Артур охотно делал все, что было прекрасно, и любил, чтоб его прекрасные дела признавалась таковыми.
Адам, услышав ускоренный топот лошадиных копыт, оглянулся и стал ждать всадника, сняв с головы бумажный колпак с ясною улыбкою, свидетельствовавшею, что он узнал ехавшего. За братом Сетом Адам готов был сделать для Артура Донниторна больше, нежели для какого-нибудь другого молодого человека на свете. Он, вероятно, скорее решился бы потерять что-нибудь другое, только не двухфутовую линейку, которую всегда носил в кармане: то был подарок Артура, купленный на карманные деньги, когда молодой джентльмен был одиннадцатилетним белокурым мальчиком и когда он, пользуясь уроками Адама, сделал такие успехи в плотничном мастерстве и токарном искусстве, что до крайности надоедал всем женщинам в доме подарками, состоявшими из ненужных катушек и круглых коробочек. Адам гордился маленьким сквайром в те молодые дни, и его чувство только слегка изменилось, когда белокурый мальчик подрос и стал усатым молодым человеком. Я должен сознаться, что Адам был очень чувствителен к влиянию звания и готов оказывать уж особенное уважение всякому, кто пользовался большими против него преимуществами, так как он не был философ или пролетарий с демократическими идеями, а просто здоровый, умный плотник, в основе своего характера имевший обширный запас благоговения, которое заставляло его признавать все установившиеся притязания до тех пор, пока он не находил весьма ясных оснований сомневаться в них. Его голова не была набита теориями о том, чтоб привести свет в порядок, но он видел, сколько вреда происходило от зданий, выстроенных из невысушенного леса, от несведущих людей в изящных платьях, которые делали планы пристроек, мастерских и тому подобное, без всякого существенного знания дела, от нечистой столярной работы и от поспешных контрактов, которые никогда не могли быть выполнены без того, чтоб не разорить кого-нибудь; и он, с своей стороны, мысленно решился противодействовать такого роду делам. В этих случаях он не отказался бы от своего мнения перед самым многоземельным помещиком в Ломшейре или даже Стонишейре, но, за исключением этого, он считал благоразумным уступать людям, более его сведущим. Он как нельзя более ясно видел, что леса в имении заведывались весьма дурно и фермерские строения находились в срамном положении; и если б старый сквайр Донниторн спросил его: что выйдет из такого дурного управления? – то он не уклонился бы высказать свое мнение об этом; но побуждение, заставлявшее его оказывать полное уважение к «джентльмену», во все время разговора нисколько не уменьшилось бы в нем. Слово «джентльмен» производило на Адама чарующее влияние; и как он часто говорил сам: «Он терпеть не мог человека, думавшего, что сделается важным барином, если станет петушиться с людьми, которые лучше его». Я должен снова напомнить вам, что в жилах Адама текла кровь крестьянина и что, так как он жил полвека назад, некоторые из его характеристических черт были обветшалыми, как вы и должны ожидать это.
Это инстинктивное поклонение Адама относительно молодого сквайра подкреплялось детскими воспоминаниями и личным уважением; таким образом вы можете себе представить, что он был лучшего мнения о добрых качествах Артура и гораздо выше ценил все его самые незначительные поступки, нежели такие же качества и поступки в каком-нибудь простом работнике, как он сам. Он был уверен, что для всех в Геслопе наступит счастливый день, когда молодой сквайр вступит во владение имением, ибо он имел такой великодушный, чистосердечный характер и необыкновенное понятие касательно улучшения и починок, если взять во внимание, что он только что достиг совершеннолетия. Итак в улыбке, с которою он снял свой бумажный колпак, когда Артур Донниторн подъехал к нему, выражались и уважение, и дружеское расположение.
– Ну, Адам, как ты живешь? – сказал Артур, протягивая руку. Он не подавал руки никому из фермеров, и Адам вполне чувствовал оказываемую ему честь. – Я видел тебя сзади уж издалека и мог поклясться, что это ты. У тебя та же спина, только пошире, как в то время, когда ты, бывало, носил меня на ней. Помнишь?
– Да, сэр, помню. Плохо было бы, если б люди не помнили, что они делали и что говорили, когда были мальчиками. Ведь иначе мы были бы так же равнодушны к старым друзьям, как и к новым.
– Ты, я полагаю, идешь в Брокстон? – сказал Артур, заставляя лошадь идти медленным шагом, между тем как Адам шел рядом с ним. – Не идешь ли ты в дом священника?
– Нет, сэр, мне нужно посмотреть у Брадвелля ригу: там вот боятся, что кровля раздвинет стены, – и я иду посмотреть, что там можно сделать, прежде чем мы пошлем материал и работников.
– Ну, Бердж доверяет тебе почти все теперь, Адам, не правда ли? Мне кажется, не хочет ли он тебя скоро сделать своим компаньоном? И он сделает это, если он благоразумен.
– Нет, сэр, я не вижу, почему ему будет от этого лучше. Подмастерье, если у него есть совесть и если его работа радует, будет делать свое дело так же хорошо, как если б он был компаньоном. Я не дал бы и гроша за человека, который вбил бы гвоздь слабо потому только, что ему не заплатят за это особенно.
– Я знаю это, Адам. Я знаю, что ты работаешь для него так же старательно, как если б работал для себя. Но у тебя будет больше власти, чем теперь, и, может быть, ты мог бы дать делу более выгодное направление. Старику придется когда-нибудь перестать работать, а у него нет сына; я полагаю, что ему захочется иметь зятя, который мог бы продолжать дело. Но, кажется, у него самого жадные руки… я хочу сказать, что он нуждается в человеке, который может внести в дело некоторый капитал. Не будь я беден как крыса, я с радостью издержал бы деньги на такое дело только для того, чтоб устроить тебя в имении. Я убежден, что непременно получил бы барыш в заключение. А может быть, мое положение улучшится через год или через два. Содержание мое будет увеличено теперь, когда я стал совершеннолетним; и когда я уплачу один долг или два, я буду в состоянии что-нибудь сделать.
– Вы очень добры, что говорите таким образом, сэр, и я благодарен вам. Но, – продолжал Адам решительным тоном, – мне не хотелось бы делать никаких предложений мистеру Берджу, не хотелось бы также, чтоб кто-нибудь сделал их ему вместо меня. Я не вижу хорошего предлога сделаться компаньоном. Если он захочет когда-нибудь передать свои занятия, то это будет другое дело: тогда я буду рад деньгам и заплачу за них хорошие проценты, ибо вполне уверен, что выплачу их со временем.
– Очень хорошо, Адам, – сказал Артур, вспомнив, как говорил мистер Ирвайн о том, что, вероятно, есть какое-то препятствие в сватовстве Адама за Мери Бердж, – мы в настоящую минуту не станем более говорить об этом. Когда будут хоронить твоего отца?
– В воскресенье, сэр. Мистер Ирвайн придет нарочно пораньше. Я буду рад, когда все это кончится: я думаю, что моя мать, может быть, станет тогда поспокойнее. Грустно видеть, как тоскуют старые люди, они не умеют вовсе подавить в себе грусть, и новая весна не выводит новых отростков на исчахнувшем дереве.
– Ах, Адам! Много ты видел горя и забот в твоей жизни. Я не думаю, чтоб ты когда-нибудь был ветрен и беззаботен, как другие молодые люди. У тебя на душе всегда была какая-нибудь забота.
– Ну да, сэр. Но об этом, право, не стоит и говорить. Если мы, мужчины, и чувствуем как мужчины, то, по моему мнению, мы должны иметь и беспокойства, какие приличны мужчинам. Мы не можем походить на птиц, которые вылетают из гнезда, лишь только получат крылья, и никогда не знают своего родства, встречаясь с ним, и каждый год вступают в новое родство. У меня было довольно и такого, за что я должен быть благодарен: я всегда имел здоровье, силы и здравый смысл, позволявшие мне находить наслаждение в работе; и я высоко ценю то, что мог ходить в вечернюю школу Бартля Масси. Он помог мне приобрести познания, которых я никогда не приобрел бы сам собою.
– Какой ты редкий малый, Адам! – сказал Артур после некоторой паузы, в продолжение которой он задумчиво смотрел на высокого юношу, шедшего с ним рядом. – Находясь в Оксфорде, я мог парировать лучше многих из своих товарищей, но если б мне пришлось сразиться с тобой, то все-таки, я думаю, ты с одного удара послал бы меня в средину будущей недели[11].
– Боже упаси, чтоб я когда-нибудь сделал это, сэр! – сказал Адам, оглядываясь на Артура и улыбаясь. – Я, бывало, дрался для шутки, но перестал совершенно с тех пор, как был причиною, что бедный Джиль Трентер на две недели слег. Никогда не буду я более драться ни с кем, разве только если увижу, что кто-нибудь поступает как подлец. Если вы встретитесь с негодяем, не имеющим ни стыда, ни совести, которые могли бы остановить его, то уж надобно попробовать, не подействует ли на него подбитый глаз.
Артур не смеялся, ибо он весь предался другим мыслям, которые тотчас же заставили его сказать:
– Я теперь думаю, Адам, что ты никогда не испытал внутренней борьбы. Мне кажется, ты подавил бы желание, которое, по твоему мнению, ты счел бы несправедливым, так же легко, как победил бы пьяного, который вздумал бы с тобой ссориться. Я хочу сказать, ты никогда не бываешь нерешителен, сначала предполагая мысленно не делать чего-нибудь, а потом все-таки делая это.
– Ну, – сказал Адам медленно после минутного колебания, – нет. Я не помню, чтоб я качался взад и вперед таким образом, если уж решил, как вы говорите, мысленно, что вот такой-то поступок дурен. У меня во рту и вкусу нет на вещи, когда я знаю, что из-за них будет тревожить меня совесть. Я видел совершенно ясно с тех пор, как понимаю арифметику, что человек, делая дурное, порождает больше греха и беспокойств, нежели он сам может узнать о том впоследствии. Это все равно, что дурная работа: вы никогда не увидите конца ошибок, которые она наделает. А ведь плохо жить на свете для того, чтоб делать ближних хуже вместо того, чтоб делать их лучше. Но есть и различие в том, что люди называют дурным. Я вовсе не из тех людей, ставящих в грех всякую безрассудную выходку или всякую глупость, в которую может быть вовлечен человек, как осуждают людей некоторые из этих диссидентов. И человек может думать так и иначе. Стоит ли получить несколько ударов за какую-нибудь пустую шутку? Но что касается меня, то я никогда не колеблюсь ни в чем, я думаю, мой недостаток в совершенно противном. Если я уж сказал, что если только это касается меня самого, то мне уж тяжело идти на попятный двор.
– Да, вот это я ожидал от тебя, – сказал Артур. – У тебя железная воля, как и железная рука. Но, как бы ни было твердо решение человека, по временам ему стоит чего-нибудь выполнить это решение. Мы, например, можем иметь намерение не срывать вишни и крепко держать руки в карманах, но мы не можем предупредить, чтоб у нас не текли слюнки на вишни.
– Это справедливо, сэр. Но лучше всего решить мысленно, что на этом свете существует для нас много вещей, без которых мы должны обходиться. Было бы бесполезно смотреть на жизнь как на треддльстонскую ярмарку, куда ходят только для того, чтоб видеть выставку и накупать гостинцев. Если вы станете делать это, то мы найдем жизнь совершенно другою. Но какая польза в том, что я говорю вам об этом, сэр? Вы ведь знаете лучше меня.
– Ну, я не так то уверен в этом, Адам. Ты опытнее меня четырьмя или пятью годами, и притом же, я думаю, твоя жизнь была лучшею школою для тебя, чем для меня коллегия.
– Ну, сударь, вы, кажется, думаете о коллегии вроде того, как Бартль-Масси. Он говорит, будто коллегия по большей части делает людей похожими на пузыри, которые только и годятся на то, чтоб держать материал, влитый в них. Но у него язык похож на острую бритву, у этого Бартля: он не может коснуться чего-нибудь без того, чтоб не резать. А вот и поворот, сэр. Я должен пожелать вам доброго утра, так как вы едете в дом священника.
– Прощай, Адам, прощай.
Артур отдал лошадь груму у ворот священнического дома и пошел по усыпанной песком дорожке к двери, открывавшейся в сад. Он знал, что священник завтракал всегда в своем кабинете, а кабинет находился налево от этой двери, против столовой. Это была небольшая низенькая комната, принадлежавшая к старой части дома и имевшая мрачный вид от темных переплетов книг, помещавшихся по стенам, несмотря на то она имела очень веселый вид в это утро, когда Артур подошел к открытому окну. Утреннее солнце падало косвенно на большой стеклянный шар с золотыми рыбками, стоявший на столбике, сделанном из композиции под мрамор, против столика, на котором уже стоял холостой завтрак, а рядом со столиком стояла группа, которая была бы приманкой во всякой комнате. В покойном кресле, покрытом малиновою камчой, сидел мистер Ирвайн с сияюще-свежим видом, который он имел всегда по окончании своего утреннего туалета; его полная, белая, изящной формы рука играла по коричневой кудрявой спине Джуно, а близ хвоста Джуно, которым она махала с покойным материнским удовольствием, валялись два коричневых щенка, всползая друг на друга и образуя восторженный, беспокойный шумный дуэт. На подушке, немного в стороне, сидела моська с видом девственной леди, смотревшая на такую фамильярность в обращении как на животную слабость, которую она по возможности старалась вовсе не замечать. На столе, у локтя мистера Ирвайна, лежал первый том Эсхила, так хорошо известный Артуру по виду, и серебряный кофейник, который только что вносил Карроль, тотчас же наполнил комнату благовонным паром, довершившим наслаждение холостого завтрака.
– Браво, Артур! Вот молодец! Вы как раз во время, – сказал мистер Ирвайн, когда Артур остановился и влез через низкий подоконник в комнату. – Карроль, нам еще нужно кофе и яиц; да нет ли у вас холодной дичи, которую мы могли бы поесть с этим окороком? Ну, ведь это похоже на старое время, Артур, ведь вы лет пять не завтракали со мной.
– Сегодняшнее утро решительно соблазнило меня, и я вздумал прокатиться перед завтраком, – сказал Артур, – и я, бывало, любил завтракать с вами, когда ходил читать к вам классиков. Дедушка всегда бывает несколькими градусами холоднее за завтраком, чем во всякое другое время дня. Я думаю, утренняя ванна не совсем-то приходится ему по вкусу.
Артур старался не подать виду, что он приехал с особенною целью. Лишь только он очутился в присутствии мистера Ирвайна, как откровенная беседа, которая перед тем казалась ему столь легкою, вдруг представилась ему труднейшею вещью на свете, и в ту самую минуту, когда он пожал священнику руку, он увидел свое намерение в совершенно новом свете. Каким образом может он заставить Ирвайна понять его положение, не рассказав ему об этих незначительных сценах в лесу? А мог ли он рассказать это, не показавшись глупым? А потом его слабость в том, что он возвратился от Гавена и сделал именно совершенно противоположное тому, что намеревался сделать. Ирвайн навсегда составит себе мнение о нем, что он человек нерешительный. Все-таки он должен высказаться как-нибудь без приготовления; может быть, разговор и будет как-нибудь наведен на это.
– Время завтрака я люблю лучше всякого другого времени дня, – сказал мистер Ирвайн, – тогда нет еще никакой пыли на мыслях и голова представляет, так сказать, чистое зеркало для лучей предметов. При мне всегда любимая книга за завтраком, и я так наслаждаюсь крошками, которые подбираю в это время, что решительно каждое утро мне кажется, будто непременно снова пробудится во мне любовь к чтению. Но вот Дент приведет какого-нибудь бедняка, который убил зайца; и когда я кончил свой «суд», как выражается Карроль, то мне хочется прокатиться верхом вокруг земли; на возвратном пути я встречаюсь с смотрителем богадельни, которому нужно рассказать мне длинную историю о мятежном бедняке. Таким образом день проходит, и я до наступления вечера остаюсь таким же лентяем. Притом же человек чувствует потребность в возбудительном средстве для симпатии, а у меня нет его с тех пор, как бедный Дайлей оставил Треддльстон. Если б вы, сударь, хорошо занимались вашими книгами, то я имел бы перед собою приятное препровождение времени в будущем. Но нельзя сказать, чтоб в вашей фамильной крови была страсть к учению.
– Нет, это правда. Хорошо еще, если я могу вспомнить немного неприменяемых латинских выражений для того, чтоб украсить мою девственную речь в парламенте лет через шесть, или семь. Cras ingens iterabimus aequor и немного отрывков в этом роде, может быть, останутся в моей памяти, и я так устрою свои мнения, что могу ввести их. Но я вовсе не думаю, чтоб знание классиков было крайне необходимо для деревенского джентльмена; сколько мне кажется, ему было бы лучше познакомиться с обычаями страны. Я недавно читал книги вашего друга Артура Юнга, и мне лучше всего хотелось бы выбрать несколько из его идей, чтоб побудить фермеров к лучшему управлению своею землею и, как он говорит, сделать из дикой страны, которая представляла однообразную темную почву, блестящую и испещренную хлебом и скотом землю. Дедушка не даст мне никакой власти, пока он только жив; но ничего не хотелось бы мне так, как взять на себя стонишейрскую часть имения (она находится в ужасном состоянии), начать улучшения и разъезжать верхом с одного места на другое, чтоб надзирать над всем. Мне хотелось бы знать всех работников и видеть, как они снимают передо мною шляпы с видом радушия.
– Браво, Артур! Человек, не имеющий особого расположения к классикам, не мог бы лучше оправдать свое вступление в свет, как только тем, что увеличить производительность земли для пропитания ученых и… священников, умеющих ценить учение. И как мне хотелось бы быть здесь в то время, когда вы только что вступите на ваше поприще образцового помещика. Вам понадобится сановитый священник, который дополнял бы картину и брал свою десятую часть с уважения и чести, приобретенных вами тяжкими трудами. Только вы не слишком-то сильно полагайтесь на благосклонность, которую вы получите вследствие этого. Я не совсем-то уверен, что люди больше всего расположены к тем, которые стараются быть полезными им. Вы знаете, Гавена прокляли все соседи за огороженное место. Вы должны совершенно разъяснить в ваших мыслях, к чему вы стремитесь более всего, мой друг, к популярности или к пользе; в противном же случае вы, пожалуй, не достигнете ни того, ни другого.
– О! Гавен груб в обращении; он вовсе не старается быть приятным своим поселянам. Я не верю, будто есть что-нибудь, что вы не могли бы заставить людей сделать вашею добротой. Что до меня, то я не могу жить в соседстве, где бы меня не уважали и не любили; я с таким удовольствием хожу здесь между поселянами, они все, по-видимому, так расположены ко мне. Я полагаю, им кажется, что это было вчера, когда я был маленьким мальчиком и разъезжал везде на пони, которая была с овцу ростом. И если б им положить хорошее жалованье и в порядке содержать их строения, то как они ни глупы, а их можно было бы убедить, чтоб они обрабатывали землю по лучшему плану.
– В таком случае, постарайтесь о том, чтоб ваша любовь нашла себе достойный предмет, и не женитесь на такой, которая стала бы истощать ваш кошелек и сделала из вас скупца, вопреки вам самим. Между моею матерью и мною случаются иногда споры о вас. Она говорит: «Я не скажу об Артуре ни одного пророчества до тех пор, пока не увижу, в какую женщину он влюбится». Она думает, что ваша возлюбленная будет управлять вами, как луна управляет приливом и отливом. Но я чувствую себя обязанным защищать вас как моего воспитанника – вы знаете, и я утверждаю, что вы вовсе не созданы из таких водяных свойств. Итак, не подвергайте моего мнения немилости.
Артур содрогнулся под влиянием этой речи, потому что мнение дальновидной старой мистрис Ирвайн о нем произвело на него неприятное впечатление злополучного предзнаменования. Это, натурально, послужило ему только новым основанием к тому, чтоб настоять на своем решении и получить новую защиту против самого себя. Тем не менее в этом месте разговора он чувствовал, что был еще менее расположен рассказать свое приключение с Хетти. Он имел впечатлительный характер и по большой части держался мнений и чувств других людей относительно его самого; и один только факт, что он находился в присутствии искреннего друга, который не имел ни малейшего подозрения, что в нем происходила подобная серьезная внутренняя борьба, какую он пришел поверить ему, несколько поколебал его собственную веру в важность борьбы. Ведь, наконец, об этом не стоило, право, и хлопотать; и что ж мог сделать Ирвайн для него, чего он не сделал бы сам? Он отправится в Игльдель, несмотря на то что Мэг хромает; он поедет на Раттлере, и велит Пиму ехать за ним, как он там хочет, на старой кляче. Вот как он думал, когда клал сахар в кофе, но в следующую минуту, когда он поднимал чашку ко рту, он вспомнил, как твердо решил он в своих мыслях вчера вечером обо всем рассказать Ирвайну. Нет, он не будет снова колебаться, он сделает то, что он хотел сделать, сейчас же. Таким образом было бы хорошо не оставлять разговора о личности. Если они перейдут к совершенно незначительным предметам, его затруднение увеличится. Ему потребовалось не слишком много времени для этого порыва и действия чувства, прежде чем он ответил:
– Но, кажется, едва ли можно считать доказательством общей твердости характера мужчины то, что он способен покориться влиянию любви. Хорошее сложение не ограждает человека от оспы или от каких-нибудь других неминуемых болезней. Мужчина может быть очень тверд в других отношениях, а между тем находиться под очарованием женщины.
– Да, но между любовью и оспою или даже очарованием, существует та разница, что если вы захватите болезнь в ранней степени и позаботитесь о перемене воздуха, то тут есть еще надежда на совершенное избавление без дальнейшего развития симптомов. Есть также известные альтернативные приемы, к которым мужчина может прибегнуть сам, представляя себе мысленно, каким неприятным последствиям он может подвергнуться: это некоторым образом дает вам закопченное стекло, сквозь которое вы можете смотреть на блестящую красавицу и верно различить ее очертание, хотя, надобно сказать мимоходом, я боюсь, что закопченного стекла, пожалуй, будет недоставать в ту самую минуту, когда оно будет необходимо. Я скажу еще, что даже мужчина, укрепленный знанием классиков, может быть приманен к безрассудному браку, несмотря на предостережение, даваемое ему хором Прометея.
Слабая улыбка пробежала по лицу Артура, и, вместо того чтоб следовать за игривою идеей мистера Ирвайна, он сказал совершенно серьезно:
– Да, это хуже всего. Есть отчего прийти в отчаяние, если после всех рассуждений и спокойных решений нами станет управлять расположение духа, которое определить вперед мы не в состоянии. Я не думаю, чтоб человек заслуживал слишком большого порицания, если он заставлен совершать что-нибудь таким образом, вопреки его решимости.
– Ах!.. Но расположение духа зависит от его собственной природы, мой друг, совершенно так же, как и его рассуждения, и даже еще больше. Человек ничего не может сделать несогласно с собственною своей природой. Он носит в самом себе зародыш своего самого исключительного поступка; и если мы, благоразумные люди, делаем из самих себя отменных глупцов при каком-нибудь особенном случае, то мы должны снести законное замечание, что мы вносим несколько гранов глупости в одну нашу унцию благоразумия.
– Но человек может быть вовлечен стечением обстоятельств в какие-нибудь поступки, которых он не исполнил бы при других обстоятельствах.
– Ну, да; человек не может очень хорошо украсть банковый билет, если банковый билет не лежит так, что он удобно может достать его. Но он не заставит нас считать себя честным человеком, если начнет выть о том, что банковый билет встретился на его пути и соблазнил его.
– Но, конечно, вы не станете считать человека, борющегося против искушения, в которое он наконец впадает, столь же дурным, как человека, не борющегося никогда?
– Нет, мой друг, я сожалею о нем пропорционально его борьбе, потому что она предзнаменовывает внутреннее страдание, которое есть худшая форма Немезиды. Следствия бывают безжалостны. Наши поступки влекут за собою свои же страшные последствия, совершенно отдельно от колебаний, предшествовавших им, последствия, которые едва ли касаются только нас самих. И гораздо лучше постоянно думать о том, что случится верно, нежели обращать внимание на то, какие элементы можем мы иметь для оправдания. Но я вовсе не знал, что вы так любите нравственные прения, Артур. Уж не находитесь ли вы сами в какой-нибудь опасности, на которую смотрение с такой философской общей точки зрения?
Обращаясь с этим вопросом, мистер Ирвайн отодвинул в сторону тарелку, откинулся на спинку кресла и прямо посмотрел на Артура. Он действительно подозревал, что Артур хотел сообщить ему о чем-нибудь, и старался облегчить возможность для него, обращаясь к нему с прямым вопросом. Но он ошибся. Внезапно и против воли приведенный почти к самому признанию, Артур содрогнулся и чувствовал, что гораздо менее, чем прежде, был теперь расположен к откровенности. Беседа приняла более серьезный тон, нежели он ожидал, – это приведет Ирвайна в совершенное заблуждение; он вообразит, что тут дело идет о глубокой страсти к Хетти, тогда как ничего подобного и не было. Он почувствовал, что изменился в лице, и ему стало досадно на свое ребячество.
– О, нет! Тут нет никакой опасности, – сказал он, так равнодушно, как только мог. – Я не знаю, чтоб я больше других подвергался нерешимости. По временам встречаются только незначительные случаи, заставляющие человека думать о том, что может случиться в будущем.
Действовало ли при этом странном отвращении Артура к откровенности какое-нибудь недостойное влияние, которое он не признавал и сам? Наша умственная работа производится почти совершенно так же, как работа государственная: большая часть тяжелого труда выполняется деятелями, которые вовсе не признаются. Я думаю, и в какой-нибудь машине есть нередко небольшое незаметное колесо, которое, однако ж, имеет большое влияние на движение больших наружных колес. Может быть, и в уме Артура тайно действовал в ту минуту какой-нибудь подобный неузнанный деятель; может быть, то был страх перед тем, что он, пожалуй, со временем будет серьезно досадовать, зачем признался во всем священнику, в случае, если он не будет в состоянии выполнить свои добрые намерения. Я не смею утверждать, что это было не так. Человеческая душа – вещь весьма сложная.
Мысль о Хетти мелькнула в голове мистера Ирвайна в ту минуту, как он пытливо посмотрел на Артура, но отрицание и равнодушный ответ последнего подтвердили мысль, которая быстро следовала за первою, мысль о том, что в этом направлении не могло быть ничего важного. Не существовало и вероятности, чтоб Артур видел ее иначе, как в церкви и у нее в доме, на глазах мистрис Пойзер; и намек, который дал он Артуру намедни относительно ее, не имел вовсе серьезного значения; он должен был только предварить Артура, чтоб он не обращал на нее слишком много внимания, потому что, в таком случае, он только мог разжечь тщеславие маленькой девушки и таким образом возмутить сельскую драму ее жизни. Артур ведь вскоре должен будет присоединиться к своему полку и будет далеко отсюда; нет, с этой стороны не могло быть никакой опасности, даже и в таком случае, если б характер Артура не представлял сильной безопасности против этого. Его честная, покровительственная гордость, заставлявшая его искать расположения и уважения во всех его окружавших, защищала его даже против безрассудной романической истории, тем более против низшего рода безрассудства. Если в мыслях Артура было что-нибудь особенное при предыдущем разговоре, то это было, что он не хотел входить в подробности, а мистер Ирвайн был слишком деликатен для того, чтоб даже обнаружить любопытство друга. Он заметил, что Артуру было бы приятно переменить разговор, и сказал:
– Кстати, Артур, в день рождения вашего полковника было несколько транспарантов, чрезвычайно эффектных, в честь Британии, Питта и ломшейрской милиции и, главнее всего, «великодушного юноши», героя дня. Не поставите ли и вы чего-нибудь в этом же роде изумить нас, слабых смертных?
Удобный случай прошел. Между тем как Артур колебался, веревку, за которую он мог бы ухватиться, унесло дальше – теперь он должен надеяться на свое собственное плавание.
Десять минут после этого мистера Ирвайна позвали по делу, а Артур, простившись с священником, снова сел на лошадь с чувством неудовольствия, которое старался подавить, обещая себе отправиться в Игльдель без всякой потери времени.
Книга вторая
XVII. Где рассказ останавливается ненадолго
– Этот брокстонский священник немногим лучше язычника! – восклицает, вероятно, одна из моих читательниц. – Было бы гораздо назидательнее, если б вы заставили его дать Артуру какой-нибудь истинно духовный совет. Вы могли бы вложить ему в уста прекраснейшие вещи, которые было бы так же приятно читать, как проповедь.
Конечно, я мог бы сделать это, мой прелестный критик, если б я был умный романист, не обязанный раболепно ползать перед природой и фактом, но способный представлять предметы, как они никогда не бывали и никогда не будут. Тогда, конечно, мои характеры были бы избраны совершенно по моему усмотрению, и я мог бы избрать тип самого беспорочного священника и вложить в его уста мои собственные, удивительные рассуждения при всяком случае. Но вы должны были заметить это уж давно: у меня нет такого высокого призвания, и я добиваюсь только одного – дать вам верное описание людей и предметов, как они отразились, как в зеркале, в моем уме. Это зеркало, без всякого сомнения, имеет недостатки. Очертания бывают иногда сбивчивы, отражение бледно или спутанно; но я, тем не менее, считаю себя обязанным сказать вам, и как могу точнее, каково это отражение, подобно тому, как если б я находился в ложе свидетелей и под клятвою рассказывал примеры из моего опыта.
Шестьдесят лет назад (это довольно давно – чему ж тут удивляться, что многое изменялось с тех пор?) не все духовные лица были ревностны; у нас даже есть основание предполагать, что число ревностных священников было невелико, и вероятно то, что если б один из небольшого меньшинства нашел духовные должности в Брокстоне и в Геслопе в 1799 году, он пришелся бы вам по нраву не лучше мистера Ирвайна. Держу пари десять против одного, вы считали бы его нелепым, неблагоразумным методистом. Право, так редко случается, что факты попадают в приятную средину, требуемую нашими собственными просвещенными мнениями и утонченным вкусом. Быть может, вы скажете: «Да улучшите же факты немного в таком случае, сделайте их более согласными с правильным воззрением, в обладании которым заключается наше преимущество. Совет не совсем по нашему нраву; выправьте его исполненною вкуса кистью и заставьте поверить, что это вовсе не такая смешанная, запутанная вещь. Пусть все люди, имеющие безукоризненные мнения, и действуют безукоризненно. Пусть ваши, исполненные недостатков характеры всегда будут на дурной стороне, а добродетельные – на хорошей стороне: тогда мы с первого взгляда увидим, кого мы должны осуждать и кого должны одобрять; тогда мы будем в состоянии любоваться людьми, вовсе не разбивая и не отуманивая понятий, которые мы составили о них прежде; мы будем ненавидеть и презирать с тем истинным, спокойным наслаждением, которое нераздельно с совершенным доверием».
Но, моя прекрасная читательница, что вы сделаете в таком случае с вашим соседом-прихожанином, который беспрестанно спорит с вашим мужем в собрании старост? с вашим недавно назначенным пастором, которого образ проповедования вы с огорчением находите ниже проповедования всеми оплакиваемого предшественника его? или с честною служанкой, которая терзает вашу душу каким-нибудь одним недостатком? или с вашей соседкой, мистрис Грин, которая была действительно нежна к вам во время вашей последней болезни, но которая впоследствии сказала несколько различных злостных вещей о вас? или даже с самим вашим почтеннейшим супругом, который имеет другие раздражающие привычки, кроме того что забывает вытирать у дверей свои башмаки? Всех этих смертных наших братьев мы должны принимать так, как они созданы в действительности, – вы не можете ни выпрямить их носы, ни прояснить их разум, ни исправить их нрав; этих людей, среди которых прошла ваша жизнь, вы необходимо должны терпеть, сострадать к ним и любить их: вот эти-то и есть более или менее дурные, глупые, непоследовательные в своих поступках люди, добрыми действиями которых вы должны любоваться, для которых вам приходится питать всевозможные надежды, всевозможное терпение. Если б даже это зависело от меня, то я не хотел бы быть умным романистом, который мог бы создать мир гораздо лучше настоящего (где нам приходится вставать каждое утро и исполнять свои ежедневные обязанности), так что вы, по всему вероятию, обратили бы более жестокий, более холодный взор на наши пыльные улицы и на обыкновенные зеленые поля, на действительно живущих мужчин и женщин, которые могут быть охлаждены вашим равнодушием или которым вы можете нанести вред вашими предубеждениями против них, которых вы можете ободрить и которым вы можете оказать помощь на пути жизни вашим сочувствием, вашим самоотвержением, вашей открытой смелой справедливостью.
Таким образом, я довольствуюсь тем, что рассказываю мою обыкновенную историю, нисколько не стараясь заставить вещи казаться лучше, чем они были в действительности, не боясь действительно ничего, кроме неправды, которой человек, вопреки своим лучшим усилиям, имеет причину бояться. Неправда так легка, истина так трудна! Карандаш чувствует приятную легкость, рисуя грифа; и чем длиннее когти, чем обширнее крылья, тем лучше. Но эта дивная легкость, которую мы ошибкой принимаем за гениальность, способна оставить вас, когда нужно, нарисовать истинного непреувеличенного льва. Рассмотрите хорошенько ваши слова, и вы найдете, что, даже когда у вас нет основания быть неистинными, вам чрезвычайно трудно сказать точную истину даже о ваших собственных непосредственных чувствах, гораздо труднее, нежели сказать о них что-нибудь прекрасное, но не точную истину.
Из-за этого-то редкого, драгоценного качества, правдивости, любуюсь я голландскою живописью, которую презирают люди, смотрящие на все свысока. Я нахожу источник сладостной симпатии в этом верном изображении однообразной обыкновенной жизни, бывшей уделом моих ближних, в большей степени, нежели жизнь пышности или совершенной нищеты, трагического страдания или возмущающих мир поступков. Я спокойно отворачиваюсь от заоблачных ангелов, от пророков, сивилл и воинов-героев к старухе, наклоненной над своим цветочным горшком или одиноко сидящей за своим обедом, между тем как полуденный свет, смягченный, может быть, ширмою из листьев, падает на ее ночной чепчик и только касается края ее самопрялки и ее каменного кувшина и всех этих дешевых обыкновенных предметов, составляющих для нее драгоценную потребность жизни. Или я обращаюсь к этой деревенской свадьбе, празднуемой в этих четырех мрачных стенах, где неуклюжий жених открывает танец с плечистою, широколицею невестою, между тем как смотрят на них старые и пожилые друзья с весьма неправильными носами и губами и, пожалуй, с меркой вина в руках, но с выражением довольства и доброжелательства, в значении которых нельзя ошибиться. «Фи! – говорит мой друг-идеалист, – что за обыкновенные подробности! Что тут хорошего употреблять все усилия, чтоб передать в точности сходство старух и бурлаков? Что за низкая сфера жизни!.. Что за неуклюжий, безобразный народ!»
Но помилуйте, я надеюсь, что мы можем любить вещи, которые не совсем красивы. Я вовсе не убежден в том, чтоб большинство человеческого рода не было безобразно, и даже между этими «лордами своего рода», британцами, сгорбленная фигура, дурно очерченные ноздри и смуглый цвет лица не составляют поражающих исключений. Между нами, однако ж, существует много семейной любви. У меня есть друг или два, черты которых принадлежат к такому разряду, что локон Аполлона над их бровями не был бы им вовсе к лицу; между тем мне совершенно известно, что из-за них бились нежные сердца и их миниатюрных портретов, хотя и льстивых, но все же не чрезвычайно красивых, касаются втайне уста матери. Я видел не одну почтенную женщину, которая и в свои лучшие дни не могла бы быть красавицей, а между тем у нее была связка пожелтевших любовных писем в особенном ящике и милые дети обливали поцелуями ее бледные щеки. И я думаю, было чрезвычайно много молодых героев среднего роста и с жидкою бородою, которые были вполне уверены, что они никогда не будут в состоянии полюбить женщину, хотя бы немного незначительнее Дианы, а между тем были счастливы, женившись в пожилом возрасте на женщине, которая ходит как утка. Да, благодаря Бога, человеческое чувство подобно могучим рекам, составляющим благословение на земле: оно не ждет красоты… оно течет с непреодолимою силою и приносит красоту с собою.
Отдадим полную честь и полное уважение божественной красоте формы, постараемся всеми средствами развивать ее в мужчинах, женщинах и детях… в наших садах и в наших домах. Но будем также любить и другую красоту, которая находится не в тайне пропорции, а в тайне глубокой человеческой симпатии. Изобразите нам, если можете, ангела в развевающемся фиолетовом одеянии, с ликом бледным от небесного света, изображайте нам еще чаще мадонну, обращающую кроткий лик к небу и отверзающую руки, чтоб приветствовать божественного младенца, но не налагайте на нас каких-нибудь эстетических правил, которые удалят из области искусства этих старух, скоблящих морковь своими загрубевшими от работы руками, этих тяжелых бурлаков, пирующих в закоптелом кабачке, эти согнутые спины и глупые загрубелые лица, наклонявшиеся над заступом и исполняющие грубейшую на свете работу, эти жилья с оловянными сковородами, с темными кувшинами, с грубыми дворняжками и связками луковиц. На этом свете существует столько обыкновенных грубых людей, не имеющих живописного сантиментального несчастья! Нам так необходимо вспоминать и об их существовании, иначе может случиться, что мы совершенно исключим их из нашей религии и философии и станем составлять возвышенные теории, приличествующие только миру крайностей. Следовательно, пусть искусство всегда напоминает нам о них; следовательно, пусть у нас будут всегда люди, готовые пожертвовать лучшими днями своей жизни для верного изображения обыкновенных вещей, люди, видящие красоту в этих обыкновенных вещах и находящие наслаждение в том, что представляют нам, как кротко падает на эти вещи свет небесный. На свете мало пророков, мало высокопрекрасных женщин, мало героев. Я не могу посвятить всю мою любовь и все уважение таким редким явлениям, мне нужно много этих чувств для моих ежедневных ближних, в особенности для тех немногих, которые находятся на первом плане в большой толпе, лица которых я знаю, рук которых я касаюсь, для которых я должен посторониться с искренним сочувствием. Вы не встречаетесь ни с живописными лаццарони, ни с романтическими преступниками и вполовину так часто, как с обыкновенным работником, который сам добывает себе хлеб и ест его, неуклюже, но честно разрезывая его собственным карманным ножом. Мне гораздо нужнее иметь фибру симпатии, связующую меня больше с этим простым гражданином, который вешает мой сахар в галстуке и жилете, не гармонирующих друг с другом, нежели с красивейшим мошенником в красном шарфе и с зелеными перьями; мне гораздо нужнее, чтоб мое сердце колебалось от нежного удивления при каком-нибудь поступке, свидетельствующем о кроткой доброте исполненных недостатков людей, сидящих за одним очагом со мною, или моего собственного приходского священника, который, может быть, скорее слишком тучен и в других отношениях не очень сходен с Оберлином[12] или Тиллотсоном[13], нежели при деяниях героев, которых я никогда не узнаю иначе как понаслышке, или при высшем перечне всех духовных достоинств, когда-либо выдуманных способным романистом.
Таким образом я возвращаюсь к мистеру Ирвайну и желаю, чтоб вы вполне полюбили его, как бы он ни был далек от того, чтоб удовлетворить ваши требования относительно духовного характера. Может быть, вы думаете, что он не был (тогда как ему следовало быть) живым доказательством преимуществ, связанных с национальною церковью? Но я не уверен в этом; по крайней мере, я знаю только то, что люди, жившие в Брокстоне и Геслоне, были бы весьма огорчены, если б им пришлось расстаться с их священником, и что большая часть лиц прояснялась при его приближении; и пока нельзя будет доказать, что ненависть лучше для души, нежели любовь, я должен предполагать, что мистер Ирвайн имел на свой приход более целебное влияние, нежели ревностный мистер Райд, поступивший туда двадцать лет спустя, когда мистер Ирвайн отправился к праотцам. Мистер Райд, правда, упорно держался учения реформатского, посещал свое стадо очень часто в его собственных домах и весьма строго порицал заблуждения плоти, действительно приостановил рождественские обходы церковных певцов, под тем предлогом, что они потворствуют пьянству и допускают слишком легкомысленное обращение с священными предметами. Но я узнал от Адама Бида, с которым говорил обо всем этом в его преклонных летах, что мало священников могли быть менее успешны в своих стараниях приобрести расположение сердец своих прихожан, чем мистер Райд. Прихожане много узнали от него о церковных догматах, так что почти каждый из прихожан, не достигший еще пятидесятилетнего возраста, стал различать настоящее Евангелие от того, что не в точности подходило к этому имени, как будто он родился и вырос среди диссидентов; и в продолжение известного времени после его прибытия в этой спокойной сельской общине образовалось, по-видимому, настоящее религиозное волнение.
– Но, – говорил Адам, – я видел совершенно ясно с того времени еще, как был молод, что религия и сведения не одно и то же. Так, не сведения заставляют людей поступать справедливо, а чувства. Сведения в религии то же самое, что в математике: человек может быть способен разрешать математические задачи прямо в голове, сидя у камина и куря трубку; но если ему нужно построить машину или здание, то он должен иметь волю и решимость и больше любить что-нибудь другое, нежели свое спокойствие. Так или иначе, приход стал мало-помалу отпадать, и люди начали легко отзываться о мистере Райде. Я так полагаю, в душе своей он думал справедливо, только, видите ли, он был угрюмого нрава и любил сбивать цены у людей, работавших на него, таким образом его проповеди не приходились по вкусу с этою приправою. И ему хотелось быть верховным судьей в приходе и наказывать людей, поступающих дурно; и он бранил их с кафедры просто как Рантер[14], а между тем терпеть не мог диссидентов и восставал против них гораздо больше, нежели мистер Ирвайн. И потом он жил не по своему доходу, ибо с самого начала, казалось, думал, что шестьсот фунтов в год должны были сделать его таким же знатным барином, как мистер Доннигорн, это большое зло, которое мне часто случалось видеть в бедных священниках, неожиданно получивших доходное место. О мистере Райде были высокого мнения люди, смотревшие на него издалека, – я так думаю, потому что он был известен как автор нескольких книг; что ж касается математики и сущности вещей, то в них он был таким же невеждой, как женщина. Он много знал об учениях и обыкновенно называл их оплотами реформации; но я всегда не доверял к такого рода учению, потому что оно заставляет людей быть безрассудными и глупыми в их настоящем деле. Мистер Ирвайн, напротив, был вовсе не похож на него: он был так понятлив, он в одну минуту схватывал, что вы хотели сказать, и знал все, что касалось построек, и мог видеть, когда вы исполняли хорошее дело. И он просто как джентльмен обращался с фермерами, старыми женщинами и работниками, и обращался с ними так же, как с господами. Вы никогда не могли видеть, чтоб он вмешивался во что не следует, бранился и старался разыгрывать роль невесть кого! Ах, он был прекрасный человек, какого ваши глаза редко встречали в жизни, и он так ласково обращался с матерью и сестрами! А эта бедная хворая мисс Анна… он, казалось, думал о ней более, нежели о ком-либо другом на свете. В приходе не было души, которая могла бы сказать слово против него, а слуги оставались при нем, пока уж до того устарели и одряхлели, что он должен был нанять других людей, которые бы исправляли их дело.
– Ну, – сказал я, – это был отличный род проповедования в будни; но я полагаю все-таки, что если б ваш старый друг мистер Ирвайн был снова вызван к жизни и взошел в будущее воскресенье на кафедру, вам, пожалуй, было бы несколько стыдно, что он не проповедует лучше после всех ваших похвал о нем.
– Нет, нет, – сказал Адам, приосаниваясь и откидываясь назад на стуле, будто приготовляясь отразить какие бы то ни было заключения, – никто не слышал, чтоб я говорил о мистере Ирвайне как о значительном проповеднике. Он не вникал в глубокий духовный опыт, и я знаю, что во внутренней жизни человека есть много такого, чего вы не можете вымерить наугольником и сказать «сделай это и затем последует вот то-то» и «сделай то и затем последует вот это». Есть вещи, происходящие в душе, и время, когда чувства входят в вас, как стремительный могучий ветер, как сказано в Священном Писании; они как бы разделяют вашу жизнь надвое, так что вы оглядываетесь на самих себя, как будто вы были кто-нибудь другой. Это вещи, которые вы не можете причислить к разряду таких, где вы говорите «сделай это» и «сделай то»; и в этом отношении я согласен с самыми строгими методистами, каких вы только можете найти. Это показывает мне, что в религии существуют глубокие духовные вещи. Вы не можете понять много, говоря об этом, но вы чувствуете это. Мистер Ирвайн не входил в глубину этих вещей: он говорил краткие нравственные поучения, вот и все. Но зато его поступки всегда согласовались с тем, что он говорил, он не выдавал себя за человека, который сегодня совершенно отличался от других людей, а завтра походил на них, как походят одна на другую две горошины. И он умел заставить людей любить и уважать себя, а это было лучше, чем возмущать их жизнь, вмешиваясь чересчур в их дела. Мистрис Пойзер, бывало, говорила – а вы знаете, она за словом в карман не лезла, – она говорила: «Мистер Ирвайн походил на хороший обед: чем меньше вы думали о нем, тем он был питательнее для вас», а мистер Райд – на прием лекарства: он заставлял вас корчиться и мучил, а между тем не производил много пользы.
– Но разве мистер Райд не больше проповедовал о духовной части религии, о которой вы говорите, Адам? Не могли ли вы больше вынести из его речей, нежели из речей мистера Ирвайна?
– Эх, не знаю! Он много проповедовал о различных учениях. Но я видел совершенно ясно, еще с того времени, как я был молод, что религия есть нечто другое, нежели учения и сведения, на мой взгляд, учения – это все равно, что отыскивать имена для ваших чувств, так что вы можете говорить о них, когда вы их вовсе не знали, точно так же, как человек может толковать об инструментах, когда он знает их названия, хотя бы он никогда и не видел их, а тем менее работал ими. Я слышал в мое время много толкований об учениях: я, бывало, ходил слушать проповеди диссидентов с Сетом, когда мне было лет семнадцать, и меня сильно озадачивали арминиане и кальвинисты. Последователи Весли, как вам известно, самые строгие арминиане; и Сет, который никогда терпеть не мог что-нибудь суровое и всегда надеялся, что все на свете устраивается к лучшему, с самого начала крепко держался учения Весли. Но я думал, что могу пробить несколько дыр в их мнениях, и мне случилось спорить с одним из классных церковных лекторов в Треддльстоне, и я озадачивал его таким образом сначала с одной стороны, а потом с другой, что он наконец сказал: «Молодой человек, это дьявол употребляет вашу гордость и высокомерие орудием войны против простоты истины». Тогда я не мог не рассмеяться, но когда возвращался домой, я раздумал, что он не был неправ. Я начал видеть, что все это взвешивание и исследование, что значит этот текст и что значит тот текст и спасаются ли люди все милостью Бога или в этом участвует и небольшая часть их собственной воли, я видел, что все это не имеет ничего общего истинной религией. Вы можете говорить об этих вещах бесконечное число часов, и вы станете от этого только раздраженным и высокомерным. Таким образом, я решил никуда не ходить, кроме церкви, и не слушать никого, кроме мистера Ирвайна: он говорил одно только доброе да то, что вас делало умнее, когда вы вспоминали о том. И, по моему мнению, лучше для моей души, если я буду смиряться перед таинствами деяний Божиих и не делать никакого шуму о том, чего никогда не буду в состоянии понять. Да и, наконец, не будут ли это одни лишь безрассудные вопросы? Все, что происходит вне нас и внутри нас самих, не исходит ли от Бога? Если мы обладаем решимостью поступать справедливо, то, я думаю, во всяком случае, он дал нам ее, но я вижу довольно ясно, что мы никогда не сделаем этого без решимости, и этого с меня довольно.
Вы замечаете, что Адам был горячий поклонник, может быть, даже пристрастный судья мистера Ирвайна, какими, к счастью, еще бывают некоторые из нас, когда дело коснется людей, которых мы коротко знали. Без сомнения, умы высшего разряда будут смотреть с презрением на это, как на слабость, умы, которые алчут идеала и которых гнетет общее сознание о том, что их чувство слишком возвышенно для того, чтоб найти достойные их самих предметы между обыкновенным человечеством. Я часто пользовался милостью быть поверенным этих избранных натур, и, по моему опыту, они все подтверждают мой опыт, что великие люди пользуются уж слишком большим уважением, а незначительные люди несносны; что если б вы захотели полюбить женщину так, чтоб ваша любовь не показалась вам впоследствии безрассудством, то эта женщина должна умереть в то время, как вы ухаживаете за ней; и уж если б вы хотели сохранить малейшую веру в человеческий героизм, то вы никогда не должны совершать путешествие для того, чтоб увидеть героя. Сознаюсь, я часто уклонялся с робостью от признания этим совершенным и проницательным джентльменам, в чем именно состоял мой собственный опыт. Я опасаюсь, что часто улыбался им с лицемерным согласием и удовлетворял их эпиграммою насчет мимолетного характера наших иллюзий, эпиграммою, которую, впрочем, мог бы легко составить после минутного размышления всякий, хотя сколько-нибудь знакомый с французскою литературою. Но человеческое обращение, как, кажется, заметил один умный человек, не бывает искренно в строгом смысле. И теперь я очищаю свою совесть и объявляю, что я чувствовал полнейший энтузиазм и удивление к старым джентльменам, которые неправильно знали свой родной язык, по временам обнаруживали брюзгливый нрав и никогда не знали высшей сферы влияния, как сфера приходского смотрителя; объявляю также, что средство, при помощи которого я дошел до заключения, что человеческая природа способна быть любимой, – средство, при помощи которого я несколько ознакомился с глубоким пафосом этой природы, с ее возвышенными таинствами, приобрел я, живя много времени среди людей, более или менее обыкновенных и простых, о которых вы, может быть, не услышали бы ничего весьма удивительного, если б вы захотели справиться о них в соседстве тех мест, где они живут. Готов держать пари десять против одного, что большая часть незначительных лавочников, живших в их соседстве, не видела в них решительно ничего особенного, ибо я заметил замечательное совпадение обстоятельств, что между избранными натурами, алчущими идеала и не находящими в панталонах и юбках ничего довольно великого, что могло бы заслужить их уважение и любовь, и самыми ограниченными и мелкими людьми находится странное сходство. Например, я часто слышал, как мистер Джедж, хозяин «Королевского дуба», обыкновенно обращавший завистливый взор на своих соседей в деревне Шеппертон, излагал свое мнение о людях, живших в одном с ним приходе – а ведь он только этих людей и знал, – следующими выразительными словами: «Да, сэр, я часто говорил это и снова скажу: в этом приходе живет ничтожный народ… да, сэр, ничтожный, от мала до велика». Кажется, он имел неясную идею, что если б мог переселиться в отдаленный приход, то, может быть, нашел бы соседей достойных; и действительно, он потом перевел свое заведение в «Сарацинову голову», которая совершала цветущие дела в одной из задних улиц соседнего ярмарочного города. Но, довольно странно, он нашел, что люди в этой задней улице были совершенно на один покрой с людьми в Шеппертоне… «ничтожный народ, сэр, от мала до велика; и те, которые приходят за рюмкой джина, не лучше тех, которые приходят за пинтою двухпенсовой… ничтожный народ, сэр».
XVIII. Церковь
– Хетти, Хетти! Ведь ты знаешь, что служба начинается в два, а теперь половина второго? Неужели ты не можешь подумать о чем-нибудь другом именно в это воскресенье, когда опустят в землю бедного старика Матвея Бида… а утонул-то он в самую глухую ночь… Если подумаешь только об этом, то мороз вот так и пробежит по спине. А тебе нужно наряжаться, будто идешь на свадьбу, а не на похороны?
– Ну, что ж, тетушка, – сказала Хетти, – я не могу быть готова так скоро, как все другие, когда мне нужно одевать Тот-ти, а вы знаете, с каким трудом заставишь ее стоять спокойно.
Хетти сходила с лестницы, а мистрис Пойзер стояла внизу, в своей скромной шляпке и в шали. Если когда-либо девушка имела вид, будто она была сотворена из роз, то эта девушка была Хетти в своей воскресной шляпке и воскресном платье. Ее шляпка была украшена розовыми лентами, и ее платьице имело розовые пятнышки, рассеянные по белому фону, на ней не было ничего другого, кроме розового и белого, за исключением ее темных волос и глаз и ее маленьких башмачков с пряжками. Мистрис Пойзер рассердилась сама на себя, потому что едва могла удержаться от улыбки, что всякий смертный расположен сделать при виде красивых округленных форм. Таким образом, она повернулась, не произнеся более ни слова, и присоединилась к группе, находившейся на крыльце, сопровождаемая Хетти, сердце которой так сильно билось при мысли об одном лице, которого она ожидала увидеть в церкви, что она едва чувствовала землю под собою.
И вот небольшая процессия отправилась в путь. Мистер Пойзер был в полном воскресном наряде, горохового цвета, в красном с зеленым жилете и с зеленою ленточкою для часов, к которой была прикреплена большая сердоликовая печать и которая висела как отвес от мыса, где помещался карман для часов; желтый шелковый платок был повязан вокруг шеи; на ногах были превосходные серые полосатые чулки, связанные мистрис Пойзер собственноручно и возвышавшие пропорцию его ног. Мистер Пойзер не имел причины стыдиться своей ноги и подозревал, что возникшее злоупотребление сапог с отворотами и других фасонов, имевших целью скрывать почти всю ногу, имело свое начало в достойной сожаления порче человеческих икр. Еще менее имел он причины стыдиться своего круглого веселого лица, выражавшего хорошее расположение духа, когда он сказал: «Пойдем, Хетти… пойдемте, малютки!» – и, подав руку жене, направился по дорожке чрез ворота на двор «Малютки», к которым так отнесся мистер Пойзер, были Марти и Томми, мальчики, один девяти, а другой семи лет, в маленьких плисовых камзольчиках с фалдами и штанах по колено, розовыми щеками и черными глазами; они столько же походили на своего отца, сколько очень маленький слон походит на очень большого. Хетти шла между ними, а позади их терпеливая Молли, обязанность которой состояла в том, чтоб переносить Тотти через двор и через все сырые места на пути, ибо Тотти, быстро оправившаяся от угрожавшей ей лихорадки, настояла на том, чтоб идти сегодня в церковь, и в особенности чтоб надеть красные с черным бусы поверх пелеринки. А в тот день после полудня было очень много сырых мест, через которые нужно было переносить малютку, ибо утром шел страшный ливень, хотя теперь тучи рассеялись и лежали на горизонте серебристыми, громоздившимися одна на другую массами.
Вы могли бы узнать, что то было воскресенье, если б только проснулись на мызном дворе. Петухи и курицы, казалось, знали это и только очень осторожно клохтали; даже самый бульдог казался не столь диким; он, по-видимому, удовольствовался бы тем, что укусил бы не так свирепо, как обыкновенно. Солнечное сияние, казалось, вызывало все предметы к отдыху, а не к работе: оно само, казалось, покоилось на коровьем хлеве, обросшем мхом, на стаде белых уток, копошившихся вместе и прятавших клюв под крылья; на старой черной свинье, лениво растянувшейся на соломе, между тем как ее старший поросенок покоился на жирных боках матери, находя их превосходною эластичною постелью, на Алике, пастухе в новой блузе, который наслаждался полуденным отдыхом в не совсем-то удобном положении, полу сидя-полустоя на ступенях житницы.
– Вот отец стоит у дворовых ворот, – сказал Мартин Пойзер. – Я думаю, ему хочется посмотреть, как мы пойдем по полю. Удивительно, что у него за зрение, а ведь ему семьдесят пять лет.
– Ах! Мне часто приходит на мысль, что старые люди очень похожи на грудных детей, – сказала мистрис Пойзер, – они довольствуются тем, что смотрят все равно, на что бы они там ни смотрели. Я полагаю, что таким образом Провидение убаюкивает их, прежде чем они идут на покой.
Старый Мартин отворил ворота, увидев приближавшуюся семейную процессию, и держал их отворенными, опираясь на свою палку и радуясь, что мог совершить это, ибо, подобно всем старикам, жизнь которых потратилась на труде, ему было приятно чувствовать, что он все еще приносит пользу, что в саду был лучший урожай луку, так как он присутствовал при посеве, и что коров доили лучше, если он оставался дома в воскресенье после обеда и присматривал за этим. Он ходил в церковь раз в месяц, в воскресенье, когда давалось причастие, но в другое время посещал церковь не очень правильно; в сырые воскресенья или когда с ним случался припадок ревматизма он обыкновенно читал три первые главы Бытия за то, что оставался дома.
– Да там уж опустят в землю Матвея Бида, прежде чем вы успеете дойти до кладбища, – сказал он, когда его сын подошел к нему. – Лучше было бы, если б они похоронили его утром, когда шел дождь[15], а теперь нет вероятности, что выпадет хоть капля; вон и месяц лежит точно челнок. Посмотрите! Это верный признак хорошей погоды. Есть много примет, да они неверны, а по этой всегда сбываются.
– Конечно, конечно, – сказал сын. – Я надеюсь, что теперь хорошая погода удержится.
– Помните, что скажет пастор, дети, помните, что скажет пастор, – сказал дед черноглазым мальчуганам в штанах по колено, чувствовавшим, что у них в карманах было несколько мраморных шариков[16], которыми они надеялись поиграть украдкой во время проповеди.
– Прощай, дедушка, – сказала Тотти, – Тотти идет в церковь. У меня надеты бусы. Дай мне пиперментик.
Дедушка, задрожав от смеха при этой выходке своей «хитрой, крошечной девчонки», медленно перенес палку в левую руку, державшую ворота открытыми, и медленно всунул палец в тот карман жилета, на который Тотти устремила глаза с выражением совершенной уверенности и ожидания.
И когда все прошли, старик снова прислонился к решетке, наблюдая, как они шли по дорожке вдоль домовой изгороди и чрез отдаленные ворота, пока они не исчезли за поворотом изгороди. Изгороди в то время совершенно скрывали от взоров все предметы, даже в лучших фермах; а в то послеобеденное время шиповник раскидывал свои розовые венки, черные псинки были в полном желтом и пурпуровом блеске, бледная жимолость выросла так, что ее нельзя было достать, распускаясь над остролистником, и, наконец, ясень или сикомора местами бросали свою тень через дорогу.
У всяких ворот встречались знакомцы, которым приходилось отойти в сторону и дать им дорогу, у ворот домовой изгороди было полстада коров, стоявших одна позади другой и понявших чрезвычайно медленно, что их обширные фигуры могли быть на дороге, а тут, у дальних ворот, стояла кобыла, державшая голову над забором, а позади ее караковый жеребенок, обративший голову к боку матери и, по-видимому, все еще приводимый в большое замешательство слабостью своих ног. Дорога проходила вполне чрез собственные поля мистера Пойзера, пока они не достигли большой дороги, которая вела в селение; мистер Пойзер устремлял проницательный взор на скот и на урожай в то время, как они шли, между тем как мистрис Пойзер имела на все встречавшиеся им предметы беглые замечания. Женщина, управляющая сырней, содействует много к увеличению оброка, таким образом, ей смело можно дозволить иметь свое мнение о скоте и его «содержании» – упражнение, которое усиливает ее понятия в такой степени, что она вполне чувствует себя в состоянии давать мужу советы и в других вещах.
– А вот и короткорогая Салли, – сказала она, когда они вышли за домовую изгородь, и она заметила кроткое животное, которое лежало, пожевывая жвачку и смотря на нее сонными глазами. – Я начинаю ненавидеть один вид этой коровы, и говорю теперь, как говорила три недели назад: чем скорее мы освободимся от нее, тем лучше; ибо у нас есть та небольшая желтая коровка, которая не дает и вполовину столько молока, а между тем я получаю от нее вдвое больше масла.
– Ну, ты не похожа на всех других женщин, – сказал мистер Пойзер, – они любят короткорогих, которые дают так много молока. Вот жена Чоуна требует от мужа, чтоб он не покупал другой породы.
– Какая же важность в том, что любит жена Чоуна?.. Бедное глупенькое существо, у которой столько же ума, как у воробья. Она возьмет редкую цедилку, чтоб процедить свиной жир, и потом удивляется, что проскакивает сор. Довольно насмотрелась я на ее дела – и знаю, что уж больше никогда не возьму служанки из ее дома… где все кверху дном… И когда войдешь к ним, то никогда не узнаешь, понедельник или пятница: стирка тянется у них до конца недели. Что ж касается сыра, то я знаю довольно хорошо, что он прошлый год поднялся, словно хлеб в жестянке. А потом она всю вину сваливает на погоду, все равно если б люди стали на голову и потом свалили бы вину в этом на сапоги.
– Ну, Чоун хочет купить Салли, таким образом мы можем освободиться от нее, если ты хочешь, – сказал мистер Пойзер, тайно гордясь расчетливостью своей жены. Действительно, недавно в рыночные дни он не раз восхвалял ее проницательность в отношении короткорогих.
– Конечно, кто возьмет глупенькую жену, тот может скупать короткорогих, уж если вставить голову в болото, то пусть за нею идут и ноги. Кстати, говоря о ногах, вот вам ноги, – продолжала мистрис Пойзер, когда Тотти, спущенная в это время с рук, так как дорога в этом месте была суха, шла, переваливаясь с боку на бок, впереди отца и матери. – Вот форма-то! А у нее такая длинная нога – она вся в отца.
– Конечно, она будет вроде Хетти чрез десять лет; только у нее глаза такого цвета, как у тебя. Я не помню, чтоб у кого-нибудь в нашем семействе были голубые глаза; у моей матери были глаза черные, как черная слива, точь-в-точь как у Хетти.
– Ребенок нисколько не будет хуже от того, что у нее есть кое-что и не так, как у Хетти. И я вовсе не желаю, чтоб она была уж чересчур красива. Хотя, что касается этого, люди с светлыми волосами и с голубыми глазами бывают так же красивы, как люди с черными волосами и глазами. Если б у Дины был хотя побольше румянец на щеках и если б она не надевала на голову этого чепца методисток, который может испугать даже ворон, то люди считали б ее столь же красивою, как Хетти.
– Нет, нет, – сказал мистер Пойзер, с некоторой презрительною выразительностью, – ты не знаешь, в чем состоят достоинства женщины. Мужчины никогда не стали бы ухаживать за Диной так, как за Хетти.
– Какое мне дело, за чем бегают мужчины? Можно хорошо убедиться, знает ли большая часть из них, какой им сделать выбор: взгляните только на их бедных неряшливых жен, ведь это просто куски газовых лент, никуда негодных, когда полиняли.
– Ну, ну! Ты, по крайней мере, не можешь сказать, что я не умел сделать выбор, женившись на тебе, – сказал мистер Пойзер, который обыкновенно решал незначительные супружеские споры комплиментом подобного рода, – а ты была гораздо милее Дины десять лет назад.
– Я никогда не говорила, что женщине необходимо быть дурной для того, чтоб быть хорошею хозяйкою в доме. Вот Чоунова жена довольно дурна для того, чтоб скислось молоко без помощи сычуга, но другой экономии уж нельзя и ждать от нее. Что ж касается Дины… Бедняжка, она не будет мила, пока ее обед будет состоять из простого хлеба и воды и она будет отдавать все, что у нее есть, тем, которые нуждаются. Она иногда выводила меня из терпения, и, как я говорила ей, она действует прямо против Священного Писания. Оно говорит: «Люби ближнего, как самого себя»; но я говорила: «Если ты любишь ближнего не больше самой себя, Дина, то ты сделаешь для него довольно мало. Ты, может быть, думаешь, что он не умрет и не с полным желудком». Э! я хотела бы знать, где-то она находится в сегодняшнее воскресенье?.. Сидит, чай, с этой больной женщиной, к которой она вдруг так настоятельно хотела отправиться.
– Ах, жаль, право, что она забрала себе в голову такой вздор, когда могла оставаться с нами все лето, есть вдвое против того, что ей нужно, и мы не стали бы беднее от того. Она не делает никакой помехи в доме, сидит себе спокойно за своим шитьем, как птичка в гнездышке, и всегда с величайшею готовностью бежит сделать что-нибудь полезное. Когда Хетти выйдет замуж, ты будешь очень рада, если Дина будет у тебя постоянно.
– Что тут думать об этом! – сказала мистрис Пойзер. – Просить Дину, чтоб она пришла жить здесь спокойно, как другие люди, все равно что манить летающую ласточку. Если что-нибудь могло склонить ее к этому, то я уж непременно склонила бы ее, потому что я говорила с ней об этом по целым часам, да еще и бранила ее, ведь она дитя моей родной сестры, и я обязана сделать для нее то, что в состоянии сделать. Но эх, бедняжка, лишь только она сказала нам «прощайте», села в телегу и обратила ко мне свое бледное лицо, которое заставляет всегда думать, что ее тетка Юдифь возвратилась с неба, как мне уж стало совестно, когда подумала о выговорах, которые ей делала; иногда невольно приходит на мысль, что она имеет средство знать истинные дела лучше других людей. Но я никогда не соглашусь, будто причина этого только в том, что она методистка, все равно как я не соглашусь и в том, будто белый теленок бел оттого, что он ест из одного корыта с черным.
– Нет, – сказал мистер Пойзер, тоном, походившим на ворчание собаки, насколько то позволяло его добродушие, – я не имею хорошего мнения о методистах. Только торговые люди делаются методистами. Ты никогда не увидишь, чтоб фермер был заражен их причудами. Иногда вотрется к ним и работник, который не слишком то смышлен на дело, и примется там проповедовать и прочее, как, например, Сет Бид. Но видишь, Адам, у которого голова умнее всех в нашем околотке, знает, что лучше; он держится старой церкви, а то я не стал бы поощрять его в ухаживании за Хетти.
– Ну бог ты мой, – сказала мистрис Пойзер, оглянувшись в то время, как ее муж говорил, – посмотрите, где Молли с детьми! Ведь они отстала от нас на целое поле. Каким образом могла ты позволить, чтоб они сделали это, Хетти? Поручить надзор за детьми тебе все равно что кукле. Сбегай назад и скажи им, чтоб они догнали нас.
Мистер и мистрис Пойзер находились теперь на конце второго поля; они поставили Тотти на верхушку одного из больших каменьев, которые служили в Ломшейре дорожными столбами, и стали поджидать отставших, между тем как Тотти с самодовольствием повторила:
– Шалуны, шалуны мальчики… а Тотти умница.
Дело было вот в чем: эта воскресная прогулка по полям была большою радостью для Марти и Томми; в их глазах за изгородями происходила вечная драма, и они, как пара эспаньолок или такс, не могли удержаться, чтоб не останавливаться и не поглядывать туда украдкой. Марти решительно уверял, что видел овсянку в ветках большого ясеня, и в то время, как он с удовольствием поглядывал на него, он прозевал хорька с белой шейкой, который пробежал через дорожку и с страшным жаром был описан младшим Томми. Потом маленький зеленый чижик, только что оперившийся, порхал там по земле, припрыгивая; казалось, его можно было поймать очень легко, но ему удалось скрыться под кустом ежевики. Хетти нельзя было увлечь, чтоб она обратила внимание на эти вещи; итак, лета вызвали в Молли ее готовую симпатию; она с открытым ртом смотрела, куда ей ни показывали, и говорила: «Ах Господи!», когда думала, что от нее ожидают удивления.
Молли заторопилась с некоторым испугом, когда Хетти возвратилась к ним и закричала, что тетка сердится; но Марти побежал вперед, крича изо всей мочи: «Мама, мы нашли гнездо пестрой индейки!», инстинктивно догадываясь, что люди, имеющие добрые вести, никогда не встречают худого приема.
– А! – сказала мистрис Пойзер, и в самом деле забывая всю дисциплину при этой приятной нечаянности. – Вот умник. Ну, где же оно?
– Вон там, в этакой яме, под изгородью. Я увидел первый, когда смотрел на чижика, а она сидела на гнезде.
– Надеюсь, ты не спугнул ее, – сказала мать, – а то ведь она бросит гнездо.
– Нет, я ушел тихонько-претихонько и шепнул Молли, не правда ли, Молли, ведь я шепнул тебе?
– Хорошо, хорошо. Теперь пойдемте, – сказала мистрис Пойзер. – Ступайте впереди отца и матери и возьмите маленькую сестрицу за руку. Нам теперь надобно прямо идти. Хорошие мальчики не бегают за птичками в воскресенье.
– Но, маменька, – сказал Марти, – ведь вы говорили, что дали бы полтинник, кто найдет гнездо индейки. Вы дадите мне полтинник, а я положу его в мою кружку.
– Мы это увидим, душенька, если ты пойдешь теперь, как следует идти хорошему мальчику.
Отец и мать обменились выразительной улыбкой, вызванною находчивостью их первенца, но на круглом лице Томми виднелось облачко.
– Мама, – сказал он, плаксиво, – у Марти все прибавляется денег в кружке, а у меня нет.
– Мама, и Тотти хочет полтинник в кружку, – сказала Тотт и.
– Ш-ш-ш! – сказала мистрис Пойзер. – Ну, есть ли у кого-нибудь на свете такие шалуны-дети? Никому из вас никогда не видать больше кружки, если вы не поторопитесь идти в церковь.
Эта страшная угроза произвела желанное действие, и три пары маленьких ножек прошли по двум остававшимся участкам полей без серьезной остановки, несмотря на небольшой прудок, наполненный головастиками, иначе «лягушонками», на которых мальчики посматривали с выразительным вниманием.
Сырое сено, которое приходилось снова раскладывать и повертывать завтра, не представляло приятного зрелища для мистера Пойзера, часто во время уборки хлеба и сена испытывавшего некоторое сомнение насчет пользы дня отдыха, но никакое искушение не было в состоянии принудить его заняться полевою работою в воскресенье, хотя бы и весьма рано утром, ибо разве у Мисаила Гольдсворта не пала пара быков, когда он вздумал пахать в страстную пятницу? Это было доказательством, что работать в священные дни грех, а Мартин Пойзер твердо решил, что он не захочет нарочно впасть в грех, какого бы то ни было рода, так как деньги, добываемые таким образом, не принесут счастья.
– Вот так и чешутся пальцы и хочется подойти к сену теперь, когда солнце светит так ясно, – заметил он, когда они проходили по Большому Лугу. – Но глупо было бы думать об экономии, когда для этого нужно действовать против совести. Вот этот Джим Уэкфильд, которого обыкновенно называли «джентльмен Уэкфильд», так тот, бывало, делал себе в воскресенье то же самое, что и в будни, и не беспокоился о том, хорошо ли это или дурно, как будто нет ни Бога, ни дьявола. И что же с ним случилось? В последний рыночный день я сам видел, как он таскал корзинку с апельсинами.
– О, конечно! – сказала мистрис Пойзер выразительно. – Жалкая то будет ловушка, чтоб поймать счастье, если человек станет приманивать его грехом. Деньги, добытые таким образом, непременно прожгут дыры в карманах. Я желаю, чтоб мы оставили нашим детям хотя полшиллинга, который не был бы добыт хорошим путем. А что касается погоды, то ее ниспосылает Тот, Кто над нами, и мы должны безропотно сносить ее: такая беда ничто в сравнении с служанками.
Несмотря на остановку в ходьбе, отличное обыкновение, которое имели часы мистрис Пойзер – идти вперед, – дало семейству возможность прибыть в селение, когда было только еще три четверти второго, хотя почти все, имевшие намерение войти в церковь, находились уже за кладбищенскою оградою. Дома остались преимущественно матери; так, например, Тимофеева Бесс, стоявшая в дверях своей избы, кормя грудью ребенка и чувствуя, как чувствуют женщины в этом положении, что от них нельзя и ожидать чего-либо другого.
Народ стоял на кладбище так долго, прежде чем началась служба, не только для того, чтоб присутствовать при похоронах Матвея Бида; это делалось так обыкновенно. Женщины всегда прямо входили в церковь, жены фермеров разговаривали друг с другом вполголоса, через высокие загороженные скамейки, о своих болезнях и совершенной неудаче докторских лекарств, рекомендуя одна другой чай из одуванчика и другие домашние надежные снадобья, как средства, предпочтительные докторским; о слугах и их возрастающих требованиях относительно жалованья, тогда как качество их службы понижалось с каждым годом все более и более, и теперь нельзя было найти девушки, на которую вы могли бы положиться, если она у вас не будет на глазах; о низкой цене, которую давал за масло мистер Дингаль, треддльстонский лавочник, и об основательных сомнениях насчет его состоятельности, несмотря на то что мистрис Дингаль была женщина с умом и что всем им было жаль ее, ибо она была из весьма хорошей фамилии. В это время мужчины оставались вне церкви, и едва ли кто-нибудь из них – кроме певчих, которым предварительно нужно было пропеть вполголоса и отрывками репетиции, – входил в церковь, прежде чем мистер Ирвайн всходил на кафедру. Они не видели основания входить слишком рано, что могли они делать в церкви, если бы входили в нее до начала службы? и не сознавали, чтоб какая-нибудь власть в мире могла порицать их за то, что они стояли перед церковью и толковали немного о делах.
Чад Кренедж кажется сегодня совершенно новым знакомым, ибо у него чистое воскресное лицо, которое всегда заставляет его крошечную внучку кричать на него, как на чужого. Но опытный глаз, остановившись на нем, сразу узнал бы деревенского кузнеца, заметив, с каким униженным почтением высокий, грубый человек снимал шляпу и гладил волосы перед фермерами, ибо Чад всегда, бывало, говорил, что работник должен держать свечку и перед этой особой, которая, как всем известно, так же черна, как он сам в будни; этим дурнозвучащим правилом поведения он хотел только выразить – что, впрочем, было похвально, – что с людьми, имевшими лошадей, которых нужно было подковывать, должно обращаться с уважением. Чад и более грубый класс работников держались в отдалении от могилы под большим терном, где уже происходило погребение; но рыжий Джим и несколько поселян образовали группу вокруг могилы и стояли, сняв шляпы, как сетующие с матерью и сыновьями. Другие стояли на полдороге, по временам то наблюдая за группою около могилы, то прислушиваясь к разговору фермеров, которые стояли в кругу близ церковных дверей и к которым теперь присоединился Мартин Пойзер, между тем как его семейство прошло в церковь. Вне круга стоял мистер Кассон, хозяин Донниторнского Герба, в таком положении, которое не могло не броситься в глаза, то есть всунув указательный палец правой руки между пуговицами жилета, а левую руку – в карман штанов, наклонив голову на одну сторону очень сильно, смотря на всю сцену, как актер, которому поручена только односложная роль, но который вполне сознает, что зрители понимают его способность руководить делом, и образуя любопытный контраст с старым Джонатаном Берджем, который держал руки сзади и наклонился вперед, удушливо кашляя, с внутренним гневом на всякое знание, которое не может быть обращено в деньги. Разговор велся сегодня гораздо тише обыкновенного и ненадолго прервался, когда послышался голос мистера Ирвайна, читавшего последние молитвы похоронной службы. Все они произнесли несколько слов сожаления о Матвее Биде, но теперь перешли к предмету, касавшемуся их ближе: к собственным обидам, которые терпели от Сачелля, управителя сквайра. Последний, однако ж, действовал как управитель в такой степени, в какой только дозволял ему старый мистер Донниторн, который имел низость получать свои доходы сам и сам же занимался продажею своего леса. Этот предмет разговора был новою причиною того, что беседа велась тихо, так как сам Сачелль мог вдруг показаться на мощеной дороге, которая вела к церковным дверям. И вскоре все вдруг замолкли, ибо голос мистера Ирвайна перестал раздаваться, и группа, окружавшая белый кустарник, рассеялась, направляясь к церкви.
Все отошли к стороне и стояли с обнаженною головою в то время, как проходил мистер Ирвайн. За ним шли Адам и Сет, а между ними мать, ибо Джошуа Ранн, исправлявший и должность главного могильщика и должность дьячка, не был еще готов следовать за пастором в ризницу. Но тут произошла остановка, прежде чем три родственника покойного вошли в церковь: Лисбет обернулась, чтоб еще раз взглянуть на могилу. Увы, теперь там не было ничего, кроме белого терна. Она, однако ж, плакала меньше сегодня, нежели прежде со дня смерти своего мужа: к ее печали примешивалось необыкновенное сознание собственной важности, так как она имела похороны и мистер Ирвайн читал особенную службу для ее мужа; кроме того, она знала, что теперь пропоют для него и погребальный псалом. Она чувствовала противодействовавшее волнение, утешавшее ее горесть, еще сильнее, когда подходила с своими сыновьями к церковным дверям и видела дружеское, выражавшее сострадание наклонение головы своих соприхожан.
Мать и сыновья прошли в церковь, за ними последовали, один за другим, люди, мешкавшие еще до этих пор, хотя некоторые еще оставались вне церкви; может быть, вид экипажа мистера Донниторна, медленно приближавшегося по извилинам холма, заставлял их чувствовать, что не было особенной нужды торопиться.
Но теперь вдруг раздался звук фагота и рожков – вечерний гимн, которым всегда открывалась служба, начался, и теперь все должны войти в церковь и занять свои места.
Я не могу сказать, чтоб внутренность геслопской церкви была замечательна чем-нибудь, за исключением древнего вида дубовых загороженных лавок, по большой части обширных квадратных лавок, расположенных с каждой стороны узкого прохода. Правда, она была свободна от недостатка, каковым я считаю галереи в современных церквах. Хоры имели две особенные узкие загороженные скамьи в середине ряда с правой стороны, так что Джошуа Ранн очень скоро мог занимать свое место между певчими, как главный бас, и потом возвращаться к своему налою, когда кончалось пение. Кафедра и налой, серые и древние, как и лавки, стояли по одну сторону свода, который вел к алтарю, также снабженному древними четырехугольными скамейками для семейства и прислуги мистера Донниторна. Несмотря на то, уверяю вас, эти древние лавки и светло-желтые стены сообщали весьма приятный тон простой внутренности и прекрасно согласовались с румяными лицами и яркими жилетами прихожан. Кроме того, в алтаре виднелся малиновый цвет в значительном изобилии, так как кафедра и собственная скамья мистера Донниторна имели подушки из красивого малинового сукна; и в заключение всей картины там была малиновая напрестольная пелена, вышитая золотыми лучами мисс Лидией собственноручно.
Но даже и без малинового сукна впечатление было теплое и приятное, когда мистер Ирвайн находился на кафедре, благосклонно окидывая взором это простое собрание дюжих стариков, с согнутыми коленями и, может быть, плечами, но имевших силу для подрезывания изгородей и для перекрытия соломою крыш: высокие здоровые фигуры и грубо очерченные загорелые лица каменотесов и плотников; с полдюжины здоровых фермеров с их семействами, имевшими щеки как яблоко; опрятных старушек, по большей части жен поселян, в черных шляпках, из-под которых незначительно выдавались края белых, как снег, чепчиков, и с исхудалыми руками, голыми по локоть, бесстрастно сложенными на груди. Ибо никто из стариков не держал книг. Зачем им было держать их? – никто из них не умел читать. Но они знали несколько «добрых слов» наизусть, и их иссохшие губы по временам молча шевелились, следуя за службой, правда, без весьма ясного понимания, но с простою верою в то, что служба обладает действительною силою отвратить зло и принести благословение. И теперь видны были все лица, ибо все встали – маленькие дети на скамьях, глядя через спинку серых загороженных скамеек, – между тем как вечерний гимн доброго старого епископа Кена запели одним из тех живых псаломных напевов, которые исчезли с последним поколением приходских священников и хорных приходских дьячков Мелодии вымирают, как свирель Пана, с людьми, любящими эти мелодии и внимающими им. Адам не находился сегодня на своем обычном месте между певчими, ибо он сидел со своею матерью и Сетом, и с удивлением заметил, что Бартля Масси также не было здесь, что было тем приятнее мистеру Джошуа Ранну, издававшему свои басовые ноты с необыкновенным удовольствием и бросавшему особенный луч строгости во взглядах, которые обращал сверх своих очков на диссидента Вилля Маскри.
Я умоляю вас вообразить себе, как мистер Ирвайн осматривает это зрелище, в своем обширном белом стихаре, который так шел ему, с напудренными, откинутыми назад волосами, с ярким темным цветом лица и тонко-очерченными ноздрями и верхнею губою, ибо в этом кротком, но тем не менее проницательном выражении лица была известная добродетель, как во всех лицах людей, в которых просвечивает благородная душа. И над всем расстилалось очаровательное сияние июньского солнца, проникавшее сквозь старинные окна, с их различными желтыми, красными и синими стеклами, бросавшими приятные оттенки цветов на противоположную стену.
Я думаю, когда мистер Ирвайн осматривался кругом сегодня, его глаза остановились на минуту долее обыкновенного на квадратной скамейке, занимаемой Мартином Пойзером и его семейством. Впрочем, тут была еще другая пара темных глаз, находившая невозможным не обратиться туда и не отдыхать на предмете в розовом и белом цветах. Но Хетти в эту минуту не озабочивалась никакими взглядами, вся она была погружена в мысли о том, что Артур Донниторн скоро войдет в церковь, так как экипаж должен быть наверно у церковной ограды в это время. Она ни разу не видела его с того времени, как рассталась с ним в лесу в четверг вечером, и – о! как продолжительно показалось ей это время. Все шло тем же порядком, как всегда, с того вечера: чудеса, случившиеся тогда, не повлекли за собою никаких перемен, они походили на сновидение. Когда она услышала, что церковная дверь повернулась на петлях, то ее сердце забилось так сильно, что она не решилась поднять глаз. Она чувствовала, что ее тетка делала книксен, и сама она присела. То был непременно старый мистер Донниторн; он всегда входил первый, морщинистый, коротенький старичок, окидывавший кругом близорукими глазами кланявшееся и приседавшее собрание; потом, она знала, проходила мисс Лидия, и хотя Хетти так охотно любила смотреть на ее модную небольшую шляпку, напоминавшую совок, окруженную гирляндою из небольших роз, но сегодня она и не вспомнила о ней. Но больше не делали книксенов – нет, он не шел; она вполне чувствовала, что никто больше не проходил в дверь отгороженного места, кроме черной шляпки экономки и великолепной соломенной шляпки горничной леди, шляпки, некогда принадлежавшей мисс Лидии, и потом еще напудренных голов буфетчика и лакея. Нет, его не было там; она, однако ж, посмотрит теперь, она, может быть, ошиблась, ибо, как бы то ни было, она ведь еще не смотрела. Таким образом, Хетти подняла веки и робко взглянула на огороженное место с подушками близ алтаря: там не было никого, кроме старого мистера Донниторна, протиравшего очки белым платком, и мисс Лидии, открывавшей большой с золотым обрезом молитвенник. Перенести холодное, обманутое ожидание было слишком тяжело; она чувствовала, что начинала бледнеть, ее губы дрожали, она готова была заплакать О! что ей было делать? Все узнали бы причину; они узнали бы, отчего она плакала, – оттого, что там не было Артура. И она знала, что мистер Крег, с чудным тепличным цветком в петле сюртука, смотрел на нее во все глаза. Страшно долго тянулась служба, прежде чем начался Символ веры, когда она могла стать на колени. Две крупные слезы скатились тогда, но никто не видел их, кроме добродушной Молли, ибо ее тетка и дядя стояли за коленях, повернувшись к ней спиною. Молли, будучи не в состоянии вообразить себе какую-нибудь другую причину слез в церкви, кроме слабости, о которой она знала как-то неясно, по преданию, вытащила из кармана небольшую, странной формы плоскую синюю скляночку и, с большим трудом вытащив пробку, ткнула узким горлышком в ноздри Хетти. «Это не пахнет», – сказала она шепотом, думая, что в этом-то и заключалось большое преимущество старых солей над свежими: «Они приносили вам пользу, не производя неприятного впечатления на нос». Хетти с сердцем оттолкнула склянку, но этот небольшой порыв гнева произвел то действие, какого не произвели бы соли: он побудил ее отереть следы слез и употребить всю силу к тому, чтоб унять их. Тщеславная природа Хетти имела известную силу: она скорее решилась бы перенести что-нибудь, чем подвергнуться насмешкам или сделаться предметом других чувств, а не восхищения; она скорее вонзила бы собственные ногти в нежное тело, чем выдала тайну, которую хотела скрыть от людей.
Что за колебания происходили в ее озабоченных мыслях и чувствах тогда, как мистер Ирвайн произносил умилительное отпущение, ибо ее слух был мертв, как во время отпущения, так и во время всех молитв, следовавших за ним. Досада была очень недалека от обманутого ожидания, и она вскоре одержала победу над догадками, которые могло изобрести ее мелочное остроумие для объяснения отсутствия Артура, в том предположении, что он действительно хотел прийти, действительно хотел снова видеть ее. И в это время она машинально встала, так как все прихожане встали; на щеках снова показался еще увеличившийся румянец, ибо она составляла про себя мелочные, исполненные негодования речи, говоря, что она ненавидит Артура за то, что он заставляет ее страдать таким образом; она желала, чтоб и он страдал так же. А между тем, когда в ее душе происходило это эгоистическое волнение, ее глаза были опущены на молитвенник, и веки с их темною бахромой казались столь же прекрасными, как всегда. Так думал Адам Бид, посмотревший на нее в минуту, когда поднялся с колен.
Но мысли Адама о Хетти не сделали его невнимательным к службе, скорее они сливались со всеми другими глубокими чувствами, которым церковная служба в этот день служила провод ником: так некоторое сознание всего нашего прошедшего и нашего воображаемого будущего всегда сливается в моменты нашей сильно возбужденной чувствительности. А для Адама церковная служба была лучшим проводником, который он мог только найти его для смененного сожаления, любви и самоотвержения; взаимный обмен жалоб, умоляющих о помощи, с порывами веры и восхваления, повторяющиеся ответы и простой ритм избранных мест Священного Писания, казалось, говорили его сердцу таким образом, как никакая другая форма богослужения; подобно тому, как первым христианам, поклонявшимся Богу с самого детства в подземных пещерах, свет факелов и глубокий мрак должны были, по-видимому, делать более осязательным божественное присутствие, чем языческий дневной свет улиц. Тайна наших волнений никогда не заключается в каком-нибудь простом предмете, а в его тонких отношениях к нашим прошедшим чувствам, и неудивительно, что тайна ускользает от взора несочувствующего наблюдателя, который с такою же пользою надел бы очки, чтоб различить запах.
Но существовала одна причина, по которой даже случайный посетитель нашел бы службу в геслопской церкви более впечатлительной, чем в большей части других деревенских закоулков в государстве, – причина, которой, я уверен, вы нисколько не подозреваете. Это было чтение нашего знакомца Джошуа Ранна. Где этот добрый башмачник научился читать – это оставалось тайною даже для его самых коротких знакомых. Как бы там ни было, я полагаю, однако ж, что он главнейшим образом получил эту способность от природы, пролившей некоторое музыкальное чувство в эту честную, занятую собою душу, подобно тому, как и до него она проливала такие же чувства в другие узкие души. Она, по крайней мере, подарила его прекрасным басом и музыкальным ухом, но я не могу положительно сказать: этого одного было достаточно, чтоб внушить ему роскошный певучий голос, в который он облекал свои ответы. Я могу сравнить его переход от роскошного, глубокого форте к меланхолическому кадансу, замиравшему при конце последнего слова в некоторого рода слабый отголосок, подобно замирающим вибрациям прекрасной виолончели; я могу сравнить этот переход, в его сильной спокойной меланхолии, только с порывом и кадансом осеннего ветра между сучьями. Может показаться странным, что я выражаюсь о чтении приходского дьячка таким образом – дьячка в ржавых очках, с щетинистыми волосами, с большим затылком и выдающимся теменем… Но таков образ действия природы: джентльмену с блистательной физиономией и с поэтическими стремлениями она позволяет петь не в тон и оставляет его в совершенном неведении о том, а между тем заботится, чтоб какой-нибудь простак, напевающий балладу в углу кабачка, соблюдал свои интервалы так же верно, как птичка.
Сам Джошуа не столько гордился своим чтением, как пением, и всегда с чувством увеличенной важности переходил от кафедры к хорам. Тем более еще в тот день: то был особенный случай, ибо старик, коротко известный всему приходу, умер горестным образом – не на постели. Такое обстоятельство производило на крестьянина самое грустное впечатление, а теперь следовало петь погребальный псалом по случаю его внезапной кончины. Кроме того, Бартля Масси не было в церкви, и важность Джошуа в хоре не подвергалась затмению. Пели торжественную минорную песнь. Звуки старого псалма заключают в себе много жалоб, и слова:
Thou sweep'st us off is with а fl ood; We vanish hence like dreams…[17]казалось, ближе обыкновенного применялись к смерти бедного Матвея. Мать и сыновья слушали каждый из них с особенными чувствами. Лисбет имела неопределенную веру в то, что псалом принесет пользу ее мужу; он составлял часть приличных похоронных обрядов, и она думала, что лишить его этой части было гораздо хуже, нежели причинять ему множество неприятных дней при жизни. По ее мнению, чем больше говорили о ее муже, тем больше, значит, делали для него, тем ближе, конечно, он был к спасению. Бедная Лисбет имела неясное сознание, что человеческая любовь и сострадание служат основанием веры в другую любовь. Сет, которого легко было тронуть, проливал слезы и старался припомнить (как он беспрестанно делал после смерти отца) все слышанное им о том, что один момент сознания мог быть в последнюю минуту моментом прощения и примирения, ибо в самом псалме, который пели, не было ли написано: «Божественные дела не измеряются и не ограничиваются временем»? Адам прежде всегда мог петь псалом вместе с прочими. Он вынес много беспокойств и огорчений с тех пор, как перестал быть мальчиком, но это была первая печаль, лишившая его голоса, и, довольно странно, эта печаль происходила от того, что главный источник его прошлых беспокойств и огорчений исчез от него навеки. Ему не удалось пожать руку отцу перед разлукою и сказать: «Отец, ты знаешь, что все было хорошо между нами; я никогда не забывал, чем обязан тебе с самого детства. Прости мне, если я иногда бывал слишком горяч и вспыльчив». В тот день Адам мало думал о тяжком труде и заработке, которыми он жертвовал своему отцу; его мысли беспрестанно приводили ему на память, что должен был чувствовать старик в минуты унижения, когда склонял голову под выговорами сына. Когда мы видим, что наше негодование переносится с покорным безмолвием, то мы склонны чувствовать угрызения сомнения впоследствии относительно нашего собственного великодушия и даже справедливости, тем более когда предмет нашего негодования стал навеки безмолвен и мы видели его лицо в последний раз во всем смирении смерти.
«Увы! Я всегда был слишком жесток, – думал Адам. – Это весьма дурной недостаток во мне, что я так горяч и нетерпелив с людьми, когда они поступают дурно, и мое сердце закрывается для них, так что я не могу переселить себя и простить им. Я довольно ясно вижу, что в моей душе больше гордости, нежели любви; я скорее тысячу раз ударил бы молотком для отца, нежели принудил бы себя сказать ему ласковое слово. Да и к этим ударам присоединялось много гордости и гнева, так как дьявол непременно хочет участвовать и в том, что мы называем нашими обязанностями, так же точно, как в наших грехах. Может быть, лучшие вещи, которые я делал в жизни, было мне легче всего исполнить. Мне всегда было легче работать, нежели сидеть спокойно, но самым важным подвигом для меня было бы победить мою собственную волю и гнев и прямо противодействовать моей собственной гордости. Мне кажется теперь, что, если б я нашел отца дома сегодня вечером, я обошелся бы с ним иначе; впрочем, как знать, может быть, ничто не было бы для нас уроком, если б не случалось слишком поздно. Хорошо, если б мы почувствовали, что жизнь есть счет, который мы не можем переделать вторично; действительно мы не можем делать никаких исправлений на этом свете, точно так, как не можем исправить ошибку в вычитании, сделав верно сложение».
Вот была тоническая нота, к которой беспрестанно возвращались мысли Адама после смерти отца, и торжественный скорбный напев похоронного псалма производил только то действие, что прежние мысли возвращались с новою силою. Такое действие имела и проповедь, которую выбрал мистер Ирвайн по случаю погребения Матвея. В ней коротко и просто пояснялись слова: «Среди жизни мы находимся в смерти», только настоящую минуту мы можем назвать своею собственной для совершения деяний милосердия, правдивой взаимности и семейной любви. Все это весьма старые истины, но то, что мы считали самою старой истиной, становится для нас самою поразительной на той неделе, когда мы смотрели на мертвое лицо человека, составлявшего часть нашей собственной жизни. Ибо, если люди хотят произвести на нас впечатление действием нового и удивительно яркого света, разве они не заставляют его падать на самые знакомые для нас предметы, чтобы мы могли измерить его яркость сравнением с прежнею неясностью этих предметов?
Затем наступила минута последнего благословения, когда те вечно высокие слова «мир Божий, превосходящий всякое понимание», казалось, сливались с спокойным сиянием вечернего солнца, падавшим на склоненные головы собрания. Затем все тихо встали; матери стали завязывать шляпки у маленьких девочек, спавших во время проповеди; отцы собирали молитвенники. Наконец все устремились чрез старую арку прохода на зеленевшее кладбище, и тут начались разговоры между соседями, их простые вежливости и приглашения к чаю. В воскресенье всякий был готов принять гостя, ведь в этот день все должны быть в лучших платьях и в лучшем расположении духа.
Мистер и мистрис Пойзер остановились на минуту у церковной ограды: они ждали, когда подойдет к ним Адам, так как они были бы недовольны, если б ушли, не сказав ласкового слова вдове и ее сыновьям.
– Ну, мистрис Бид, – сказала мистрис Пойзер, когда они пошли вместе, – вы должны успокоиться: мужья и жены должны быть и тем довольны, что они воспитали детей и дожили до седых волос.
– Конечно, конечно, – сказал мистер Пойзер, – конечно, им не придется тогда и долго ждать друг друга. А вам Бог дал двух самых молодцеватых в нашей стране сыновей; и это вовсе не удивительно, потому что я помню бедного Матвея красивым широкоплечим малым, какого только можно себе вообразить, а что до вас касается, мистрис Бид, то вы держитесь гораздо прямее, нежели половина наших молодых теперешних женщин.
– Эх! – сказала Лисбет. – Мало проку в том, что глиняное блюдо хорошо на вид, если оно разбито пополам. Чем скорее положат меня под терн, тем лучше. Кому я полезна теперь?
Адам никогда не обращал внимания на мелочные несправедливые жалобы своей матери, но Сет сказал:
– Нет, матушка, ты не должна говорить таким образом. У твоих сыновей никогда не будет другой матери.
– Это правда, мой милый, это правда, – сказал мистер Пойзер, – и мы дурно поступаем, предаваясь печали, мистрис Бид. Ведь это все равно что дети, которые плачут, когда отцы и матери отнимают у них какие-нибудь вещи. Тот, кто над нами, знает лучше нас.
– Ах! – сказала мистрис Пойзер. – И мы не должны никогда ставить умерших над живыми. Все мы умрем в свое время, я полагаю, а потому лучше было бы, если б люди обращались с нами лучше при нашей жизни, а не начинали бы тогда, когда уж нас не станет на этом свете. Мало пользы поливать прошлогодний урожай.
– Ну, Адам, – сказал мистер Пойзер, чувствуя, что слова жены, как обыкновенно, были скорее резки, нежели успокоительны, и что хорошо было бы переменить предмет разговора, – я надеюсь, что вы теперь опять известите нас. Мне уж давно не удавалось поболтать с вами, да вот и хозяйка хочет видеть вас и спросить, что можно сделать с ее самопрялкой – недавно сломалась, немалого труда будет стоить починить ее, там немного понадобится токарная работа. Ведь вы постараетесь скоро прийти к нам, не правда ли?
Мистер Пойзер, говоря это, остановился и посмотрел вокруг себя, будто для того, чтоб увидеть, где была Хетти, ибо дети убежали вперед. Хетти не оставалась без собеседника, притом же на ней было розового и белого цветов более обыкновенного, она держала в руке чудный розовый с белым тепличный цветок с весьма – длинным именем… шотландским именем, по крайней мере, она так думала, так как говорили, что мистер Крег, садовник, был шотландец. Пользуясь благоприятным случаем, Адам также посмотрел вокруг себя, и, я уверен, вы не станете требовать, чтоб он почувствовал огорчение, когда подметил выражение неудовольствия на лице Хетти в то время, как она слушала пустую болтовню садовника. А между тем в душе своей она радовалась тому, что он был при ней: она, может быть, узнает от него, каким образом случилось, что Артур не пришел в церковь. Она, впрочем, не хотела прямо обратиться к нему с вопросом, а надеялась, что и без того получит сведение, ибо мистер Крег, как человек, стоявший выше других, очень любил сообщать сведения.
Мистеру Крегу никогда и в голову не приходило, что его разговор и ухаживание могли быть холодно приняты, ибо даже самый свободно-мыслящий и широкий ум не всегда в состоянии переменить свою точку зрения далее известных пределов; никто из нас не может знать, какое впечатление мы производим на бразильских обезьян слабого ума… может быть, они едва ли видят в нас что-нибудь особенное. Сверх того, мистер Крег был человек с воздержными страстями и уже десятый год медлил разрешить себе относительные преимущества брачной и холостой жизни. Правда, что по временам, когда он несколько разгорячался от лишнего стакана грога, слышали, как он говорил о Хетти: «Девушка, пожалуй, хоть куда» и «Человек мог бы сделать и хуже»; но при веселом случае мужчины бывают склонны выражать свои мнения гораздо сильнее.
Мартин Пойзер держал мистера Крега в чести как человека, знавшего свое дело и обладавшего большими сведениями относительно различных грунтов и унавоживания, но зато он не пользовался большою милостью мистрис Пойзер, которая не раз говорила мужу наедине: «Уж ты чересчур расположен к мистеру Крегу; что ж до меня, то, по моему мнению, он очень похож на петуха, который думает, что солнце восходит только для того, чтоб услышать, как он кричит». Впрочем, мистер Крег был достойный уважения садовник, и нельзя сказать, чтоб неосновательно был о себе высокого мнения. У него были также высокие плечи и выдававшиеся скулы; когда он шел, то несколько наклонял голову, держа руки в карманах своих панталон. Кажется, только его родословная пользовалась преимуществом быть шотландской, а не его воспитание, ибо, за исключением того, что он несколько тверже выговаривал букву р, его выговор немногим отличался от диалекта, на котором говорили люди в Ломшейре, окружавшие его. Но всякий садовник – шотландец, так же как всякий французский учитель – парижанин.
– Ну, мистер Пойзер, – сказал он, прежде чем добрый, тяжелый на подъем фермер имел время заговорить, – я думаю, что вы не перевезете вашего сена завтра: барометр показывает перемену, и вы можете поверить мне на слово, что не пройдет и двадцати четырех часов, как у нас будет еще дождь. Видите эту темно-синюю тучу вон там, на горизонте… вы знаете, что такое горизонт: там где, земля и небо сходятся вместе.
– Да, да, я вижу тучу, – сказал мистер Пойзер, – горизонт или не горизонт. Она находится прямо над полем Майка Гольдсворта, находящимся под паром, а ведь это скверное поле.
– Ну, вы запомните мои слова, что эта туча расстелется по всему небу скорее, чем вы успеете закрыть один из ваших стогов сена. Великое дело изучить вид облаков. Слава Богу, метеорологические альманахи не могут научить меня ничему; напротив, я мог бы передать прекрасные вещи составителям, если б только они обратились ко мне. А как вы поживаете, мистрис Пойзер?.. Небось думаете скоро собирать красную смородину. Я посоветовал бы вам собрать ее пораньше, пока она еще не перезрела, особенно при такой погоде, какой мы можем ожидать. А вы как поживаете, мистрис Бид? – продолжал мистер Крег, не останавливаясь и кивнув мимоходом головою Адаму и Сету. – Надеюсь, что вам пришлись по вкусу шпинат и крыжовник, что я послал вот намедни к вам с Честером. Если вам еще понадобится какая-нибудь зелень, пока вы еще не забыли своего горя, то вы знаете, куда обратиться за ней. Всем известно, что я ничего не даю другим даром; когда я снабдил дом всеми припасами, то сад остается мне для собственных спекуляций, старый сквайр не скоро достанет другого человека, который годился бы на это дело, уж не говоря о том, захочет ли кто взять это место. Могу вам доложить, я хорошо веду свои расчеты, чтоб наверное получить обратно деньги, которые плачу сквайру. Хотел бы я посмотреть, видят ли некоторые из тех, что вот пишут альманахи, так далеко пред своим носом, как приходится делать мне ежегодно?
– Ну, они, однако ж, видят довольно далеко, – сказал мистер Пойзер, довольно смиренным тоном, наклонив голову на сторону. – Ну, могло ли быть что-нибудь вернее этого изображения петуха с огромными шпорами, у которого голова сбита долой якорем, а позади его стрельба и корабли? Эта картина была сделана перед Рождеством, и вот по ней все сбылось так же верно, как по словам Священного Писания. Петух – Франция, а якорь – Нельсон, и они предсказали нам все это раньше.
– Ни… и… и! – сказал мистер Крег. – Тут не зачем видеть далеко перед собой для того, чтоб знать, что англичане побьют французов. Я знаю из верного источника, что если француз пяти футов величины, то уж он считается велик ростом, и они живут-то по большей части все на жиденьком. Я знаю человека, у которого отец имеет прекрасные сведения касательно французов. Мне хотелось бы знать, что могли бы сделать эти стрекозы против таких красивых молодцов, как наш молодой капитан Артур. Француз остолбенел бы непременно только при виде его, ведь у него рука-то толще тела француза, и готов побожиться: они зашнуровывают себя в корсет, и им это нипочем, так как у них нет ничего внутри.
– А где же капитан? Он сегодня не был в церкви, – сказал Адам – Я разговаривал с ним еще в пятницу, и он не сказал мне, что уедет.
– О! Он отправился ненадолго в Игльдель поудить. Я полагаю, он возвратится через несколько дней, потому что должен присутствовать при устройстве и приготовлениях ко дню своего совершеннолетия тридцатого июля. Но он по временам очень охотно уезжает куда-нибудь. Он да старый сквайр идут друг к другу, как мороз и цветы.
Мистер Крег засмеялся и медленно прищурил глаза, сделав последнее замечание, но разговор не продолжался, ибо они в то время подошли к повороту дороги, где Адам должен был проститься со своими спутниками. Садовнику нужно было бы также поворотить по тому же направлению, если б он не принял приглашения к чаю от мистера Пойзера. Мистрис Пойзер, с своей стороны, повторила приглашение, потому что сочла бы глубоким бесчестьем нерадушно принимать в своем доме: личное расположение или нерасположение не должны были вмешиваться в этот священный обычай. Притом же мистер Крег всегда был чрезвычайно вежлив с семейством на господской мызе, и мистрис Пойзер, не задумываясь, объявляла, что «она ничего не может сказать против него; жаль только, что его нельзя было снова высидеть, и высидеть иначе».
Таким образом, Адам и Сет с матерью, шедшей между ними, повернули по дороге вниз в долину и потом снова поднялись к старому дому, где грустное воспоминание заняло место весьма продолжительного беспокойства, где Адаму уже никогда не нужно будет спрашивать, когда возвратится домой: «Где отец?»
А другое семейное общество, имевшее мистера Крега собеседником, возвратилось к приятному, веселому дому на господской мызе, и все с спокойными чувствами, исключая Хетти, знавшей теперь, куда отправился Артур, но находившейся только еще в большем смущения и беспокойстве. Казалось, его отсутствие было совершенно добровольное, ему ненужно было уехать, он не уехал бы, если б желал видеть ее. Она болезненно сознавала, что никакая участь не будет для нее снова приятной, если не сбудется мечта, которой поддалась она в четверг вечером; и в эту минуту унылого, истинного, леденящего сомнения и досады она раздумывала о возможности снова быть с Артуром, встретить его полный любви взор и слышать его нежные слова, и раздумывала с тем горячим желанием, которое можно назвать возрастающей болью страсти.
XIX. Рабочий день Адама
Несмотря на пророчество мистера Крега, темно-синяя туча рассеялась, не произведя последствий, которыми стращал садовник.
– Погода, – заметил он на другое утро, – погода, видите ли, вещь очень щекотливая, и иногда дурак потрафит, а умный человек ошибется, вот отчего и альманахам верят столько. Это одна из тех случайностей, которыми дураки наживаются.
Это безрассудное поведение погоды, однако ж, могло не понравиться во всем Геслопе одному только мистеру Крегу. Все руки должны были приняться за работу на лугах в это утро, как только поднялась роса; жены и дочери делали двойную работу во всех фермах, чтоб служанки могли подать помощь при разбрасывании сена, и когда Адам шел по тропинкам, неся на плечах корзинку с инструментами, то до него долетали звуки шутливой болтовни и звонкого хохота из-за изгородей. Шутливая болтовня работников на сенокосе слышится приятнее всего в некотором расстоянии; как неуклюжие колокольчики, привязанные к шее у коров, она имеет грубый звук при приближении к ней и даже болезненно оскорбляет ваш слух, но если слышать болтовню издалека, то она весьма мило сливается с другими радостными звуками природы. Мускулы людей движутся лучше, когда их душа предается веселой музыке, хотя их веселье бедного, неопределенного рода, вовсе не похожее на веселье птиц.
Кажется, в летний день самое веселое время то, когда теплота солнца только что начинает торжествовать над свежестью утра, когда остается еще немного утренней свежести, чтоб одолеть леность, вкрадывающуюся в нас под очаровательным влиянием теплоты. Причина, заставившая Адама идти в это время по тропинкам, состояла в том, что он должен был работать весь день в одном загородном доме, милях в трех расстояния, который надобно было привести в порядок для сына сквайра, жившего по соседству; и с раннего утра он занимался укладыванием панелей, дверей и каминных наличников на телегу, отправившуюся уже вперед, между тем как Джонатан Бердж сам поехал на место верхом, чтоб ожидать прибытия вещей и руководить работниками.
Эта небольшая прогулка была для Адама отдыхом, и он бессознательно находился под очарованием минуты. У него на сердце было летнее утро, и он видел Хетти в солнечном сиянии, в солнечном сиянии без ослепительного блеска… с косвенными лучами, мерцавшими между нежными тенями листьев. Ему казалось вчера, когда он подал ей руку при выходе из церкви, что на ее лице выражалась меланхолическая нежность, какой он не видал прежде, и он видел в этом признак, что она сочувствовала его семейному несчастью. Бедняжка! Выражение меланхолии происходило из совершенно другого источника; но как было ему знать это? Мы смотрим на лицо миленькой женщины, которую любим, как смотрим на лицо нашей матери-земли, и находим на нем всякого рода ответы на наше страстное желание. Адаму было невозможно не чувствовать, что случившееся в последнюю неделю более приблизило к нему надежду на брак. До того времени он сильно чувствовал опасность, что какой-нибудь другой человек может вмешаться тут и получить в обладание сердце и руку Хетти, между тем как он все еще находился в таком положении, которое заставляло его отступать, лишь только он помышлял просить ее, чтоб она приняла его предложение. Даже если б у него и была твердая надежда, что она расположена к нему – а его надежда была далека от того, чтоб быть твердою, – он был слишком сильно обременен другими требованиями, чтоб заботиться как должно о доме для себя и Хетти, о таком доме, каким он мог бы ожидать, что она будет довольна после удобства и изобилия во всем на мызе. Подобно всем сильным натурам, Адам доверял своим способностям, что при помощи их он приобретет что-нибудь в будущем, он вполне чувствовал, что некогда, если будет жив, будет в состоянии содержать семейство и проложит себе хороший, широкий путь, но он имел слишком холодную голову, чтоб не ценить вполне препятствий, которые следовало преодолеть. И время казалось было так продолжительно! А там Хетти, как соблазнительное яблоко, висящее над стеною фруктового сада, была на виду у всех, и все желали обладать ею. Конечно, если она любит его очень сильно, она согласится ждать его, но любит ли она его? Его надежды никогда не поднимались так высоко, чтоб он осмелился спросить ее о том. Он был довольно проницателен и мог заметить, что ее дядя и тетка ласково посмотрели бы на его предложение; и действительно, без этого поощрения он никогда не решился бы ходить так часто на мызу, но было невозможно прийти к несомнительным заключениям касательно чувств Хетти. Она была как кошечка и имела такую же, сводящую с ума, красивую наружность, под которой не подразумевалось ничего для всякого, кто приближался к ней.
Но теперь он совершенно невольно думал, что был избавлен от самой тяжелой части своего бремени и что даже в конце будущего года обстоятельства могут принять для него такой оборот, какой позволит ему подумать о женитьбе. Он знал, что, во всяком случае, ему придется вынести тяжелую борьбу с своею матерью; она будет чувствовать ревность к жене, какую бы он себе ни выбрал, а в особенности она чувствовала нерасположение к Хетти – может быть, без всякой другой причины, как подозревая, что Хетти должна быть женщина, которую он избрал. Он со страхом думал, что не будет годиться жить его матери в одном доме с ним, когда он женится, а между тем, как ей покажется жестоким, если он будет просить ее оставить его! Да, много, очень много неприятностей придется ему перенести от матери, но в этом случае он должен будет доказать ей, что у него твердая воля… в заключение ей же будет лучше от этого. Что до него, то он хотел бы, чтоб все они жили вместе, пока не женится Сет, а тогда могли бы сделать небольшую пристройку к старому дому, чтоб у них было больше места. Он не хотел расставаться с братом – с самого дня рождения они ни разу не расставались более, как на день.
Лишь только Адам заметил, что его воображение стремилось вперед таким образом, рисуя порядок вещей неверного будущего, как он и наложил на себя узду: «Хорошую пристройку могу я сделать, не имея ни кирпичей, ни лесу. Я долетел уж, кажется, до чердака, а между тем мне не на что и фундамент-то рыть». Когда Адам был твердо убежден в каком-нибудь предложении, то оно принимало форму правила в его уме: это было знание, которое вело к действию, так же точно, как знание, что сырость производит ржавчину. Может быть, в этом лежала тайна жестокости, в которой он винил себя: у него было слишком мало сочувствия к слабости, впадающей в ошибки вопреки предвиденным последствиям. Без этого сочувствия откуда нам иметь в достаточной степени терпения и любви к нашим спотыкающимся, падающим товарищам по длинному и переменчивому пути? И только одним способом твердая решительная душа может научиться ему, обнимая фибрами своего сердца слабых и заблуждающихся ближних, так что она должна принимать участие не только во внешних следствиях их заблуждений, но и в их внутреннем страдании. Это длинный и тяжкий урок, и Адам только теперь научился этому алфавиту с внезапною смертью отца, которая, уничтожив в одно мгновение все, что возбуждало его негодование, вдруг наполнила его мысли воспоминанием о том, что требовало его сожаления и нежности.
Но в то утро размышлениями Адама руководила твердость его характера, а не сопряженная с нею суровость. Он уже давно решил в своем уме, что поступил бы и дурно и безрассудно, женившись на цветущей молодой девушке, пока у него не будет другой надежды, кроме той, что его нищета будет увеличиваться с увеличением семейства. И его собственные заработки убавлялись постоянно, уж не говоря о страшной убавке денег за рекрута, заменившего Сета в милиции, так что у него не было на будущее время довольно денег, чтоб снабдить нужным даже небольшую хижину и отложить что-нибудь на черный день. Он, правда, надеялся на то, что мало-помалу станет тверже на ногах, но он не мог довольствоваться неопределенною доверенностью на руку и голову; ему нужно было принять решительные меры и тотчас же приняться за исполнение их. О товариществе с Джонатаном Берджем нечего было и думать в настоящее время… с этим были сопряжены вещи, которые он не мог принять, но Адам думал, что он и Сет могли начать небольшое дело сами по себе, в подмогу своим занятиям поденщиков, закупая по небольшому запасу высшего сорта дерева и приготовляя изделия домашней мебели, на которые Адам был неистощимый мастер. Сет, работая отдельные вещицы под руководством Адама, мог бы зарабатывать более, нежели занимаясь поденною работою, а Адам в свободное время мог бы делать тонкие вещицы, требовавшие особого искусства. Деньги, заработанные таким образом, с хорошим жалованьем, которое он получал как главный работник, скоро дали бы им возможность достигнуть благосостояния, взяв в соображение, что они теперь могли жить весьма бережливо. Лишь только этот незначительный план образовался в его мыслях, как Адам уж начал заниматься вычислением леса, который придется купить, и припоминанием особенных предметов мебели, за которые нужно будет приняться прежде всего, так, например, за кухонный шкаф его собственного изобретения, с таким замысловатым устройством выдвижных дверей и задвижек, с столь удобными углублениями для помещения хозяйственных запасов, и в таком симметрическом размере во всем для глаза, что всякая хорошая хозяйка пришла бы в восхищение от него и обнаружила все степени меланхолического страстного желания, пока муж ее не обещал бы купить для нее такой шкаф. Адам рисовал себе мистрис Пойзер, рассматривающую шкаф своим острым взглядом и тщетно старающуюся найти в нем какой-либо недостаток, и, конечно, рядом с мистрис Пойзер стояла Хетти, и Адам от вычислений и выдумок переходил снова к мечтам и надеждам. Да, он увидит ее сегодня же вечером, ведь он не был на мызе уж так давно. Ему хотелось бы сходить в вечернюю школу и узнать, отчего Бартль Масси не был в церкви вчера, ибо он боялся, что его старый друг был болен, но, так как он не был в состоянии совладеть с обоими визитами, последний должно было отложить до завтра: желание быть близ Хетти и снова говорить с нею было слишком сильно.
В то время как он дошел до этого решения, он достиг почти самого конца своего пути, вступив в черту звука молотков, работавших над починкой старого дома. Звук инструментов производит на искусного работника, любящего свою работу, такое же впечатление, какое пробные звуки оркестра производят на скрипача, который имеет свою партию в увертюре: сильные фибры приходят в свое обычное легкое дрожание, и то, что было за минуту перед тем радостью, досадою или честолюбием, начинает изменяться в энергию. Всякая страсть становится силою, когда она имеет выход из узких границ нашей личной участи в труд и ловкость нашей правой руки или в спокойную изобретательную деятельность нашей мысли. Взгляните на Адама в остальную часть дня, когда он стоит на подмостках с двухфутовою линейкой в руке, тихо посвистывая и между тем рассуждая, как преодолеть какое-нибудь затруднение при половой перекладине или при оконнице, или когда он отталкивает одного из более молодых работников в сторону и, становясь на его место, поднимает тяжелый кусок лесу, говоря: «Постой, друг! В твоих костях еще слишком много хряща», или когда он устремляет острые черные глаза на движения работника на другой стороне комнаты и предостерегает его, что он берет неверное расстояние. Взгляните на этого широкоплечего мужчину с голыми мускулистыми руками, густыми, жесткими черными волосами, раскидывающимися беспорядочно, как потоптанная луговая трава, когда он снимает свой бумажный колпак, и с сильным баритоном, по временам разражающимся громким и торжественным псалмовым пением, как бы отыскивая исход для излишней силы, но вдруг удерживая себя, очевидно пораженный мыслью, находящейся в разладе с пением. Может быть, если б вам еще не была известна тайна, вы не догадались бы, что за грустные воспоминания, что за горячая любовь, что за нежные волнующиеся надежды имели свой приют в этом атлетическом теле с обломанными ногтями на пальцах, в этом грубом человеке, не знавшем лучших лирических стихов, кроме тех, которые мог найти в старом и новом издании псалмов, или в каком-нибудь случайном гимне, имевшем самые незначительные познания в истории, – в этом грубом человеке, для которого движение и форма земли, течение солнца и перемены времен года находились в области тайны, только недавно открывшейся при помощи отрывочного знания. Адаму стоило больших беспокойств и большого труда в свободное от работы время, чтоб знать то, что он знал сверх тайн своего ремесла, ознакомиться с механикой и фигурами и с природою материалов, которыми он работал, что, впрочем, было для него легко благодаря его прирожденной наследственной способности овладеть в совершенстве пером и писать четким почерком, складывать без других ошибок, кроме тех, которые, говоря откровенно, скорее должны приписываться несправедливому характеру орфографии, нежели недостатку в складывающем, и, сверх того, научиться музыкальным нотам и своей партии в пении. Кроме всего этого, он прочел Священное Писание, включая и книги апокрифические, «Альманах бедного Ричарда» для простого народа, Телера «Святое житие и смерть», «Путешествие пилигрима» с жизнеописанием Боньяна и «Священную войну», большую часть Словаря Бэля, «Валентину и Орзона» и часть «Истории Вавилона», которую одолжил ему Бартль Масси. Он мог бы получить гораздо больше книг у Бартля Масси, но у него не было времени читать «обыкновенные книжонки», как называла их Лисбет, так как он весьма прилежно сидел над цифрами во всякое свободное время, в которое не занимался сверхурочною плотничною работою.
Адам, вы видите, вовсе не был удивительным человеком, не был также, собственно говоря, гением; я, однако ж, не говорю, что его характер был обыкновенный между работниками, и это было бы вовсе неверным заключением, что первый встречный, которого вам случилось бы увидеть с корзинкой инструментов за плечами и в бумажном колпаке на голове, имел твердую совесть и твердое чувство и вместе чувствительность и власть над собою нашего друга Адама. Он выходил из-под общего уровня. Между тем подобные ему люди выдаются там и сям в каждом поколении наших крестьян-ремесленников; наследуя склонности, взлелеянные простою семейною жизнью общей нужды и общего трудолюбия, и способности, развитые в искусном бодром труде, они идут по своему пути, редко как гении, по большей части обыкновенно как трудолюбивые, честные люди, ловкие и совестливые к тому, чтоб хорошо выполнять обязанности, лежащие на них. Жизнь их не раздается заметным отголоском далее окрестностей, где протекает она, но вы можете быть почти уверены, что найдете часть дороги, какое-нибудь строение, применение минерального продукта, улучшение в кругу фермерских занятий, уничтожение приходских злоупотреблений, с которыми их имена остаются неразрывными на одно или два поколения после них. Их хозяева богатели благодаря им; работа их рук держалась хорошо, и работа их мозга хорошо руководила руками других людей. В молодости своей они ходили в бумазейных или бумажных колпаках, в куртках, почерневших от угольной пыли, или пестрых от извести и красной краски; в преклонных летах вы увидите их белые волосы на почетном месте в церкви и на рынке, и они рассказывают своим хорошо одетым сыновьям и дочерям, сидящим в зимние вечера вокруг светлого камина, сколько радостей доставили им впервые вырученные два пенса. Другие же умирают в бедности и никогда не снимают рабочей куртки в будни: им не далась ловкость сделаться богатыми; но они люди надежные, и когда умирают прежде, чем силы оставили их, то все равно что ослабел один из главных винтов в машине; хозяин, у которого они работали, скажет: «Где мне найти такого человека?»
XX. Адам посещает ферму
Адам возвратился с работы в пустой телеге; потом он переменил одежду и приготовился отправиться на мызу, когда еще было только три четверти седьмого.
– Куда это ты нарядился по-праздничному? – жалобно сказала Лисбет, когда он сошел вниз. – Ведь не в школу же ты идешь в лучшем платье?
– Нет, матушка, – сказал Адам спокойно, – я иду на мызу, но, может, пойду и в школу потом; итак, не дивись, если я позамешкаюсь немного. Сет воротится через полчаса… он пошел только в деревню, так нечего тебе беспокоиться о нем.
– К чему ж ты надел свою лучшую одежду, чтоб идти на мызу? Ведь Пойзеровы видели тебя в ней вчера, кажется. Что это значит, что ты из будня делаешь праздник? Плохо вести знакомство с людьми, которые не хотят видеть тебя в рабочей куртке.
– Прощай, матушка, мне пора, – сказал Адам, надевая шляпу и выходя.
Но едва успел он сделать несколько шагов, выйдя за двери, как Лисбет подумала, что она огорчила его. Конечно, тайное побуждение, заставившее ее сделать ему выговор за лучшее платье, происходило от подозрения, что он оделся для Хетти; но, при всей слезливости своей, она глубоко чувствовала потребность к тому, чтоб ее сын любил ее. Она бросилась за ним, удержала его за руку, прежде чем он успел пройти и полдороги до ручья, и сказала:
– Нет, мой сын, ты не уйдешь в сердцах на мать, которой только и дела, что сидеть да думать о тебе.
– Нет, нет, матушка, – сказал Адам серьезно и остановился, положив руку на ее плечо, – я не сердит. Но я хочу, ради тебя самой, чтоб ты спокойно предоставляла мне делать то, на что я решился в своем уме. Я всегда буду хорошим сыном для тебя, пока мы живы. Но человек имеет другие чувства, кроме тех, которые он обязан питать к отцу и матери; и ты не должна иметь желание управлять моей душой и телом. Тебе следует привыкнуть к мысли, что я не уступлю тебе, где я имею право делать то, что мне хочется. Итак, не станем тратить слов по-пустому об этом.
– Эх! – сказала Лисбет, не желая показать, что она чувствовала истинное значение слов Адама. – Неужели кому-нибудь больше твоей матери хочется видеть тебя в лучшей одежде? И когда ты вымоешь лицо чисто, словно гладенький беленький камешек, зачешешь так мило волосы и глаза у тебя станут блестящие… да на что другое твоя старая мать станет смотреть и вполовину с таким удовольствием? Да по мне, пожалуй, надевай свое праздничное платье, когда тебе захочется… я больше никогда не стану надоедать тебе этим.
– Хорошо, хорошо. Прощай, матушка, – сказал Адам, целуя ее и торопливо отходя от нее. Он видел, что только этим средством мог положить конец разговору.
Лисбет оставалась еще на месте, защищая глаза и смотря ему вслед, пока он не исчез из виду. Она вполне чувствовала значение слов Адама и, потеряв сына из виду и медленно возвращаясь в хижину, громко говорила сама с собой, ибо она имела обыкновение громко высказывать свои мысли в длинные дни, когда ее муж и сыновья были на работе:
– Эх, он скажет мне, что хочет привести ее в дом на днях. И станет она хозяйкою надо мной, и я должна смотреть на то, как она, пожалуй, возьмет тарелки с синими ободочками, да, может быть, разобьет их, а ведь ни одна из них не разбита с тех пор, как мой старик и я купили их на ярмарке, вот двадцать лет будет в Троицу. Эх! – продолжала она все громче, хватая со стола вязанье. – Она никогда не станет вязать чулок парням или надвязывать следы, пока я жива. А когда я умру, он вспомнит, что никто не потрафит на его ногу и след так, как потрафляла его старая мать. Она, кажется, вовсе не умеет суживать и вязать пятку, и свяжет ему такие длинные пальцы, что он и сапога-то не наденет. Вот что происходит, если женишься на молоденькой девчонке. Мне было уж тридцать лет, и отцу столько же, когда была наша свадьба, и то мы были еще довольно молоды. Она будет просто дрянь в тридцать лет, а выходит замуж, когда у нее и зубы-то еще не все прорезались.
Адам шел так скоро, что был у ворот двора еще до семи часов. Мартин Пойзер и дед еще не возвращались домой с луга: все были на лугу, даже до черной с рыжими пятнами таксы; никто не сторожил двора, кроме бульдога, и когда Адам подошел к дверям, отворенным настежь, он увидел, что в светлой, чистой общей комнате не было никого. Но он догадался, где могли быть мистрис Пойзер и еще некто; таким образом, он постучал в дверь и своим звучным голосом произнес:
– Здесь мистрис Пойзер?
– Войдите, мистер Бид, войдите, – крикнула мистрис Пойзер из сырни. – Она всегда так называла Адама, когда принимала его у себя в доме. – Войдите в сырню, если хотите, а то я в эту минуту не могу бросить сыр.
Адам вошел в сырню, где мистрис Пойзер и Нанси прессовали первый вечерний сыр.
– Ну, вы, верно, подумали, что пришли в мертвый дом, – сказала мистрис Пойзер Адаму, когда он остановился в открытых дверях, – все на лугу. Но Мартин, наверно, скоро возвратится: они оставят сено в копнах на ночь, так что завтра прежде всего примутся убирать его. Я была принуждена оставить при себе Нанси, рассчитывая, что Хетти должна собирать красную смородину сегодня вечером: эта ягода поспевает совершенно некстати, именно когда вовсе нет рук. А детей нельзя послать за ягодами: они кладут больше себе в рот, чем в корзинку, это все равно что поручить осам собирать ягоды.
Адаму очень хотелось сказать, что он пойдет в сад, пока не возвратится мистер Пойзер, но у него не хватило на это духу, он сказал:
– В таком случае, я мог бы взглянуть на вашу самопрялку и узнать, что с ней делать. Она, может быть, стоит у вас в доме там, где я могу найти ее?
– Нет, я убрала ее в гостиную направо. Но погодите, пока я сама могу сходить за ней и показать вам ее. Я была бы очень рада, если б вы теперь пошли в сад и сказали Хетти, чтоб она прислала сюда Тотти. Ребенок прибежит сюда, если позовешь его, а я знаю, что Хетти позволит ей есть слишком много смородины. Я буду вам очень обязана, если вы сходите и пошлете ее сюда; потом там, в саду, теперь прелестные ланкастерские розы, вам будет приятно взглянуть на них. Но вам, может быть, хочется сыворотки. Я знаю, вы любите сыворотку, как любят ее по большей части все те, которым не нужно приготовлять ее самим.
– Благодарю вас, мистрис Пойзер, – сказал Адам, – глоток сыворотки доставляет мне всегда истинное наслаждение. Из-за нее я готов отказаться от пива.
– Конечно, конечно, – сказала мистрис Пойзер, доставая небольшую белую чашечку с полки и погружая ее в кадку с сывороткой, – запах хлеба приятен всем, кроме булочника. Мисс Ирвайн всегда говорит: «О, мистрис Пойзер, я с завистью смотрю на вашу сырню, я с завистью смотрю на ваших цыплят, и что за прелестная вещь ферма, право!» А я говорю: «Да, ферма – прекрасная вещь для тех, кто смотрит на нее и не знает, сколько хлопот сопряжено с ней, сколько нужно и поднимать, и стоять, и мучиться внутри нее».
– Ну, мистрис Пойзер, вы не захотели бы жить где-либо, кроме фермы, где вы так хорошо справляетесь, – сказал Адам, принимая чашечку, – и что ж вы можете видеть с большим удовольствием, если не красивую дойную корову, стоящую по колено в траве, парное молоко, пенящееся в кадке, свежее масло, готовое в продажу, телят и кур?.. За ваше здоровье! Желаю, чтоб вы всегда имели силу надзирать за вашей сырней и служить примером для всех жен фермеров в наших краях.
Мистрис Пойзер нельзя было уличить в слабости, будто она улыбалась комплименту, но по ее лицу разлилось, как прокрадывающийся солнечный луч, спокойное удовольствие и придало более обыкновенного кроткое выражение ее сероголубым глазам, когда она посмотрела на Адама, пившего сыворотку… Ах! кажется, я вкушаю эту сыворотку теперь, сыворотку с столь нежным запахом, что его можно назвать благоуханием, и с мягкою скользящею теплотой, наполняющей воображение тихой, счастливой мечтательностью. И в моих ушах звучит легкая музыка капающей сыворотки, сливающаяся с чириканьем птички, находящейся за проволочною сеткой окна, выходящего в сад и оттеняемого высокой калиной.
– Еще немножко, мистер Бид? – спросила мистрис Пойзер, когда Адам поставил чашку.
– Нет, благодарю вас. Я пойду теперь в сад и пришлю к вам малютку.
– Пожалуйста, да скажите ей, чтоб она пришла к матери в сырню.
Адам обошел кругом по двору, где обыкновенно стояли копны, но где теперь не было их, к деревянной калитке, которая вела в сад, некогда прекрасный огород усадьбы; теперь же, если б не красивая кирпичная стена с каменным отлогим карнизом по одной стороне ее, настоящий фермерский сад с крепкими годовыми цветами, неподрезанными фруктовыми деревьями и овощами, росшими вместе в беззаботном, полунебрежном изобилии. В это время густых листьев, распустившихся цветов и полных кустарников искать кого-нибудь в таком саду было все равно что играть в прятки. Тут начинали цвести высокие розы и ослепляли глаз своим розовым, белым и желтым цветом; там были дикий ясмин и калина в больших размерах и в беспорядке, потому что не подрезались; там возвышались целые стены из листьев красных бобов и позднего гороху; в одном направлении там был целый ряд густого орешника, а в другом – огромная яблоня с голым округом под ее низко раскинувшимися ветвями. Но что значило одно или два голые места? Сад был так обширен. Крупные бобы занимали в нем столь большое пространство, что Адаму пришлось сделать девять или десять больших шагов, чтоб дойти до конца дорожки с неподрезанной травой, пробегавшей около них; что ж до других растений, то для них было места гораздо больше, чем сколько им было нужно, так что при ежегодном посеве всегда оставались широкие гряды, обросшие крестовником. Даже розовые деревья, у которых Адам остановился, чтоб сорвать розу, имели вид, будто росли дикими; все они путались вместе густыми массами, в это время щеголяя раскрывшимися лепестками, которые почти все были полосатые, розовые с белым, что мимоходом сказать, вероятно, велось со времени соединения домов йоркского и ланкастерского. Адам весьма хорошо выбрал плотную провансальскую розу, едва видную, полузадушенную бездуханными щеголихами соседками, и держал ее в руке (он думал, что ему будет легче, если у него будет что-нибудь в руке), идя в отдаленный конец сада, где, ему помнилось, был самый большой ряд кустов смородины, неподалеку от тисовой беседки.
Но, отойдя от роз на несколько шагов, он услышал, что кто-то тряс большой сук; потом голос мальчика произнес:
– Ну же, Тотти, держи твой передничек… вот тебе, голубушка!
Голос слышался из веток высокого вишневого дерева. Адам без труда различил в них небольшую детскую фигуру с синим передником, сидевшую в удобном положении, где ягоды были гуще всего. Без сомнения, Тотти была внизу за забором из гороха. Да, вот ее шляпка, сползшая на спину, вот ее жирное личико, страшно выпачканное красным соком, обращенное кверху, к вишневому дереву, между тем как она растопырила свой маленький кругленький ротик и красный запачканный передник, чтоб получить обещанные падающие гостинцы. К сожалению, я должен сказать, что более половины падавших вишен были тверды и желты, а не сочны и красны, но Тотти не тратила времени в бесполезных жалобах и уже высасывала третью из самых сочных вишен, когда Адам сказал:
– Ну, Тотти, теперь есть у тебя вишни. Беги с ними домой к маменьке, она зовет тебя, в сырню. Беги сию же минуту… Вот так, моя умница.
Он поднял ее своими могучими руками и поцеловал, когда произносил эти слова, – церемония, которую Тотти сочла скучной помехой в уничтожении вишен; и когда он опустил ее на землю, то она молча пустилась рысью к дому, продолжая сосать по дороге ягоды.
– Томми, друг мой, берегись, чтоб тебя не подстрелили, как птичку-воровку, – сказал Адам, подвигаясь далее к кустам смородины.
Он мог видеть большую корзинку в конце аллеи. Хетти не могла быть далеко от нее, и Адам почти чувствовал, что она смотрела на него. Между тем, когда он повернул за угол, она стояла спиной к нему и, наклонившись, собирала низко висевшие ягоды. Странно, что она не слышала, как он подошел, – может быть, оттого, что она производила шелест листьями. Она вздрогнула, заметив, что кто-то был вблизи, и вздрогнула так сильно, что уронила чашку с ягодами, и потом, когда увидела Адама, ее побледневшее лицо вдруг покрылось глубоким румянцем. Этот румянец заставил его сердце забиться новым счастьем. Хетти никогда не краснела прежде при виде его.
– Я испугал вас, – сказал он в сладостной надежде, что то, что он говорил, не имело значения, так как Хетти, казалось, чувствовала столько же, сколько и он. – Позвольте мне подобрать ягоды.
Это сделалось скоро: ягоды упали только спутанною массою на траву, и Адам, поднявшись и передавая ей чашку, прямо смотрел ей в глаза с покорной нежностью, нераздельной с первыми мгновениями любви, исполненной надежды.
Хетти не отводила глаз, ее румянец уменьшился, и она встретила его взор с выражением спокойной грусти, которое было приятно Адаму, ибо оно так мало походило на то, что он видел в ней прежде.
– Уж тут немного осталось ягод, – сказала она, – я теперь скоро кончу.
– Я помогу вам, – сказал Адам, принес большую корзинку, которая была уж почти полна смородины, и поставил ее близ кусто в.
Не было произнесено ни слова более, пока они собирали смородину. Сердце Адама было слишком полно, говорить он не мог – думал, что Хетти знала все, что было у него на сердце. Но все-таки она не была равнодушна к его присутствию, она покраснела, увидев его, и потом в ней была эта черта грусти, что, конечно, означало любовь, так как это противоречило с ее обыкновенным обращением, часто казавшимся ему равнодушием. И он мог смотреть на нее постоянно, когда она наклонялась над ягодами, между тем как ровные вечерние солнечные лучи прокрадывались сквозь густые ветви яблони и покоились на ее круглой щеке и шее, будто и они также любовались ею. Для Адама это было время, которое человек меньше всего может забыть впоследствии, – время, когда он думает, что первая любимая им женщина каким-нибудь ничтожным признаком, словом, тоном, взглядом, трепетом губы или века извещает, что она наконец начинает любить его взаимно. Признак так незначителен, он едва заметен для уха или глаза, его нельзя описать никому, это просто прикосновение пера, а между тем он, кажется, изменят все бытие человека, беспокойная страсть погружается в очаровательное неведение всего, кроме настоящей минуты. Сколько наших ранних радостей исчезает совершенно из нашей памяти! Мы никогда не можем припомнить радость, с которой мы прислонялись головою к груди матери или ездили на спине отца в детстве; без всякого сомнения, эта радость внедряется в нашу природу, как солнечный свет давно прошедшего утра внедряется в нежную мягкость абрикоса, но она навсегда исчезла из нашего воображения, и мы может только веровать в радость детства. Но первое радостное мгновение в нашей первой любви – мечта, возвращающаяся к нам до самого конца и приносящая с собою легкое дрожание чувства, столь же сильное и особенное, как возвращающееся впечатление сладостного благоухания, навеянного на нас в давно прошедший час блаженства. Это воспоминание придает более острый оттенок нежности, питает безумие ревности и присовокупляет последнюю резкость нестерпимым мукам отчаяния.
Хетти, склонившуюся над красными кистями, ровные лучи, проникавшие чрез шпалеры ветвей яблони, густой сад, окружавший его, собственное волнение, когда он смотрел на нее и верил, что она думает о нем и что им нечего было говорить, – Адам помнил все это до последней минуты своей жизни.
А Хетти? Вы знаете очень хорошо, что Адам ошибался в ней. Подобно многим другим мужчинам, он думал, что признаки любви к другому были признаками любви к нему самому. Когда Адам приблизился, невидимый ею, она была погружена, как обыкновенно, в мысли и размышления о том, когда может возвратиться Артур; звук шагов какого бы то ни было мужчины имел бы на нее то же самое влияние… она чувствовала бы, что это мог быть Артур, прежде чем имела время видеть, и кровь, покинувшая ее щеки в колебании минутного чувства, снова возвратилась бы при виде кого-нибудь другого в такой же степени, как и при виде Адама. Он не ошибался, думая, что с Хетти произошла перемена: беспокойства и опасения первой страсти, волновавшие ее, одержали верх над ее тщеславием, дали ей впервые испытать это ощущение бесполезной подчиненности чувству другого, пробуждающее ищущую опору, умоляющую женственность даже в сердце пустейшей женщины, которая когда-либо может испытывать ее, и создает в ней чувствительность к кротости, которая прежде никогда в ней не обнаруживалась. Впервые Хетти чувствовала, что в робкой, но мужественной нежности Адама было что-то успокаивающее для нее; она хотела, чтоб с ней обращались с любовью. О, как жестоко было переносить отсутствие, молчание, очевидное равнодушие после тех минут страстной любви! Она не опасалась, что Адам будет терзать ее любовными объяснениями и льстивыми речами, как ее другие обожатели: он всегда был так скромен с ней; она без боязни могла наслаждаться чувством, что этот сильный, бодрый человек любил ее и был близ нее. Ей никогда не приходило в голову, что Адам был также достоин сожаления, что и для Адама также должно наступить время страдания.
Мы знаем, Хетти не первая женщина, которая благосклоннее обращается с человеком, любящим ее напрасно, потому что сама она начала любить другого. Это очень старая история, но Адам не знал ее вовсе и упивался сладостным заблуждением.
– Довольно, – сказала Хетти после некоторого времени. – Тетушка говорила, чтоб я оставила несколько ягод на кустах. Ну, теперь я снесу их домой.
– Хорошо, что я пришел снести корзинку, – сказал Адам, – она была бы слишком тяжела для ваших маленьких ручек.
– Нет, я могла бы снести ее обеими руками.
– О, как это мило, – сказал Адам, улыбаясь, – и вам столько же времени потребовалось бы дойти до дому, сколько крошечному муравью, который несет гусеницу. Случалось ли вам когда-нибудь видеть, как эти крошечные создания таскают вещи, которые вчетверо больше их самих?
– Нет, – сказала Хетти равнодушно, не интересуясь узнать трудности муравьиной жизни.
– О! я, бывало, часто наблюдал за ними, когда был мальчиком. Но теперь, видите, я могу нести корзинку одною рукою, как пустую ореховую шелуху, и подать вам другую руку, чтоб вы могли опереться на нее. Не хотите ли? Ведь большие руки, как мои, для того и созданы, чтоб на них опирались маленькие ручки, как ваши.
Хетти слабо улыбнулась и взяла его под руку. Адам посмотрел на нее, но ее глаза мечтательно были обращены в другой угол сада.
– Не случалось ли вам бывать в Игльделе? – сказала она, когда они медленно шли к дому.
– Да, – сказал Адам, радуясь, что она обращалась с вопросом, касавшимся его самого, – десять лет назад, когда я был мальчиком, я был там с отцом, чтоб узнать о какой-нибудь работе. Это чудное место – скалы и пещеры, каких вы никогда в жизни не видели. Пока я не был там, я не имел настоящего понятия о скалах.
– Во сколько времени дошли вы туда?
– Ну, нам пришлось идти около двух дней. Но можно доехать и меньше чем в день, у кого есть превосходная лошадь. Капитан, я уверен, доедет туда в девять или десять часов: он славный ездок. И я не удивлюсь, если он возвратится завтра же. У него слишком живой характер, чтоб долго оставаться в этом уединенном местечке, притом же одному, там ведь нет ничего, кроме дрянной гостиницы в той части, куда он отправился удить. Я желал бы, чтоб он вошел во владение своим имением, это было бы очень хорошо для него, ему нашлось бы тогда вдоволь дела, и он делал бы хорошо, несмотря на то что так молод, ведь он знает вещи гораздо лучше многих людей вдвое старше его. Он очень ласково говорил со мною намедни, что одолжит мне денег для того, чтоб завести какое-нибудь дело; и если б действительно дело дошло до того, то я скорее захочу быть обязанным ему, чем кому-либо другому на свете.
Бедный Адам был сманен говорить об Артуре, думая, что Хетти будет приятно знать, как молодой сквайр был готов подать ему дружескую руку помощи, – этот факт входил в его виды на будущее, и ему было приятно, чтоб оно показалось многообещающим в ее глазах. И действительно, Хетти слушала его с интересом, причем в ее глазах появился новый блеск и на губах показалась полуулыбка.
– Как хороши теперь розы! – продолжал Адам, останавливаясь и смотря на них. – Посмотрите! Я украл прелестнейшую из них, но не с тем, чтоб оставить ее себе. По моему мнению, эти все розовые и с более тонкими зелеными листьями красивее полосатых, как вам кажется?
Он опустил корзинку и вынул розу из петли.
– Эта прекрасно пахнет, – сказал он, – а полосатые без запаху. Приколите ее к платью, а потом вы можете поставить в воду. Было бы жаль дать ей завянуть.
Хетти взяла розу, смеясь при приятной мысли, что Артур мог возвратиться так скоро, если б захотел. В ее мыслях блеснули надежда и блаженство, и в внезапном порыве веселости она сделала то, что очень часто делала прежде: вколола розу в волосы немного повыше левого уха. Нежное удивление на лице Адама слегка омрачилось неприятным неудовольствием. Любовь Хетти к украшениям именно больше всего раздражала его мать, и сам он не любил этого, насколько ему было возможно не любить что-нибудь относившееся к ней.
– А, – сказал он, – так носят леди на портретах на Лесной Даче, они по большей части имеют цветы, перья или золотые вещи в волосах, при всем том я не люблю смотреть на них. Они всегда напоминают мне собою разукрашенных женщин, которых я видел в балаганах на треддльстонской ярмарке. Может ли что-нибудь красить женщину лучше ее собственных волос, когда они вьются так, как ваши? Если женщина молода и красива, то, по моему мнению, она может нам лучше понравиться, если одета просто. Вот Дина Моррис очень мила, несмотря на то что носит простой чепчик и платье. Мне кажется, будто лицо женщины не нуждается в цветах – само оно почти как цветок. А уж о вашем-то лице можно сказать это, уверяю вас.
– О, очень хорошо, – сказала Хетти, несколько надувшись и выдергивая розу из волос. – Я надену Динин чепчик, когда мы войдем в комнату, и вы посмотрите, лучше ли я в нем. Она оставила один здесь, и он может служить мне для образца.
– Нет, нет, я не хочу, чтоб вы носили чепчик методисток, как Дина. По моему мнению, такой чепчик очень некрасив, и когда я видел ее здесь, то, бывало, думал, что ей нехорошо одеваться различно от других людей. Но я, собственно, никогда не замечал ее до последней недели, когда она пришла известить мою мать; по моему мнению, чепчик идет к ее лицу в том же почти роде, как чашечка желудя к самому желудю, и я не думаю, чтоб она была так же хороша и без чепчика. Но у вас другого рода лицо; я хотел бы, чтоб вы были именно такими, как теперь, чтоб ничто не мешало вашей собственной наружности. Все равно когда человек поет хорошую песню, то вам неприятно, если колокольчики звенят и мешают этим звукам.
Он снова взял ее под руку и посмотрел на нее нежно. Он опасался, не подумает ли она, что он читал ей наставление, воображая, как мы все склонны делать это, что она чувствовала все мысли, которые он выразил только вполовину. Больше всего он боялся омрачить облаком блаженство этого вечера. Ни за что на свете он, однако ж, не заговорил бы с Хетти о своей любви, пока эта начинающаяся благосклонность к нему не обратилась в несомненную любовь. В своем воображении он видел, как перед ним расстилались длинные годы будущей жизни, когда он будет счастлив правом называть Хетти своею: он мог довольствоваться весьма немногим в настоящее время. Итак, он снова поднял корзинку со смородиной, и они пошли далее.
Сцена совершенно изменилась в эти полчаса, что Адам был в саду. Двор теперь был полон жизни: Марти впускал в ворота кричавших гусей и злостно дразнил гусака, шипя на него; дверь житницы стонала на своих петлях, когда Алик затворял после раздачи корма лошадям; лошадей выводили поить при сильном лае всех трех собак и при беспрестанных возгласах: «гуп!» Тима-пахаря, будто можно было ожидать, что тяжелые животные, опускавшие кроткую, понятливую морду и поднимавшие косматые ноги так осторожно, дико устремятся по всем направлениям, кроме настоящего. Все возвратились с луга, и когда Хетти и Адам вошли в общую комнату, мистер Пойзер сидел на треугольном стуле, а дед против него в большом кресле, смотря на все с выражением приятной надежды, между тем как накрывали ужин на дубовом столе. Мистрис Пойзер сама постлала скатерть – скатерть из тканного дома полотна с блестящим пестрым рисунком, приятного для глаз бледнокоричневого цвета – словом, скатерть, какую любят видеть все хорошие хозяйки, – не какую-нибудь белую лавочную ветошь, которая вся разлезлась бы тотчас же, а добрую, дома вытканную скатерть, которая хватит на два поколения. Холодная телятина, свежий салат и филей с начинкой, конечно, имели соблазнительный вид для голодных людей, обедавших в половине первого. На большом сосновом столе у стены стояли блестящие оловянные тарелки, ложки и чашки, приготовленные для Алика и его товарищей, ибо хозяин и его слуги ужинали недалеко друг от друга; это было тем приятнее, что, если мистеру Пойзеру приходило в голову сделать какое-нибудь замечание насчет работы завтрашнего утра, Алик мог тотчас же слышать это.
– А, Адам! Очень рад видеть вас, – сказал мистер Пойзер. – Что, да вы помогали Хетти собирать смородину, а? Ну, садитесь же, садитесь. Ведь скоро три недели, как вы ужинали с нами в последний раз, да и хозяйка подала нам сегодня филей с славной начинкой. Я очень рад, что вы пришли.
– Хетти, – сказала мистрис Пойзер, взглянув в корзинку, чтоб увидеть, хороша ли смородина, – сбегай наверх и кликни Молли. Она укладывает Тотти спать. Надо, чтоб она налила элю. Нанси занята в сырне. А ты пригляни за ребенком. Да к чему это ты позволила ей убежать от тебя вместе с Томми и начинить себя ягодами так, что она уж не может есть здоровую пищу?
Это было сказано тоном тише обыкновенного, между тем как муж разговаривал с Адамом, ибо мистрис Пойзер строго придержалась правил приличия, и, по ее мнению, с молодой девушкой не следовало обращаться резко в присутствии порядочного человека, ухаживающего за нею, поступать таким образом было бы нечестно. Всякая женщина была молода в свою очередь и должна была испытывать свое счастье в супружестве, счастье, которое другие женщины не должны были портить из уважения, точно так, как торговка на рынке, продавшая всю корзину яиц, не должна стараться о том, чтоб лишить другую знакомого покупателя.
Хетти торопливо побежала наверх, не будучи в состоянии без труда ответить на теткин вопрос, а мистрис Пойзер вышла поискать Марти и Томми и привести их ужинать.
Скоро все уселись – два румяных мальчика, по одному с каждой стороны около бледной матери; одно место было оставлено для Хетти между Адамом и ее дядей. Алик вошел также, сел в свой отдаленный угол и принялся есть холодные крупные бобы с большого блюда своим карманным ножом, находя в них такое наслаждение, что не променял бы их на отличнейшие ананасы.
– Сколько времени эта девушка нацеживает эль, право, – сказала мистрис Пойзер, накладывая всем по кусочку начиненного филея. – Я думаю, она поставила кружку и забыла поворотить кран, ведь об этих девчонках вы можете думать все: они поставят пустой чайник на огонь, да потом и придут через час посмотреть, кипит ли вода.
– Да она наливает и для людей, – сказал мистер Пойзер. – Ты должна была сказать ей, чтоб она принесла нам кувшин раньше.
– Сказать ей? – молвила мистрис Пойзер. – Да мне пришлось бы истратить весь дух в моем теле и взять еще меха, если б нужно было говорить этим девушкам все, что им не скажет их собственное остроумие. Не хотите ли вы уксусу в салат, мистер Бид?.. Да, вы правы, что нет. Он портит вкус филея, как мне кажется. Что это за кушанье, когда вкус мяса находится в графинчиках с уксусом или с маслом? Есть люди, которые делают дурное масло и думают, что соль скрадет это.
Внимание мистрис Пойзер было тут развлечено появлением Молли, которая несла большой кувшин, две маленькие кружки и четыре пивных стакана, все наполненные элем или полпивом, – замечательный пример хватающей силы, которою обладает человеческая рука. Рот бедной Молли был раскрыт несколько более обыкновенного, когда она шла, устремив глаза на двойной ряд посуды в руках, в совершенном неведении относительно выражения в глазах своей хозяйки.
– Молли, я не видала девушки, подобной тебе… как подумаешь о твоей бедной матери-вдове и о том, что я взяла тебя почти безо всякого аттестата и что я тысячу и тысячу раз говорила…
Молли не видала молнии, и гром тем сильнее потряс ее нервы, чем менее она была приготовлена к нему. Под неопределенным беспокойным чувством, что она должна вести себя в чем-то иначе, она несколько ускорила шаги к отдаленному сосновому столу, где могла поставить свои стаканы, – ее нога задела за передник, который развязался, и она упала с треском и брызгами в лужу пива; за тем последовали взрыв хихиканья со стороны Марти и Томми и серьезное «Элло!» со стороны мистера Пойзера, видевшего, что его наслаждение элем было столь неприятным образом отдалено на несколько времени.
– Вот так! – продолжала мистрис Пойзер едким тоном, вставая и подходя к шкафу, между тем как Молли стала уныло подбирать обломки посуды. – Ведь сколько раз я говорила тебе, что это случится. Вот и простись теперь с твоим месячным жалованьем… и еще больше, чтоб заплатить за этот кувшин, который был у меня в доме десять лет и до сегодня оставался цел… С тех пор как ты здесь, в доме, ты столько перебила посуды, что и пастор забранился бы… Господи, прости мне мои слова! И если б это было кипящее сусло из котла, то и тут произошло бы то же самое: ты обварилась бы и, очень вероятно, изувечилась бы на всю жизнь… нельзя знать, что еще случится с тобою со временем, если ты будешь вести себя таким образом. Кто бы посмотрел на вещи, которые ты покидала, тот подумал бы, что ты одержима пляской святого Вита. Жаль, что все куски посуды, которую ты перебила, не выставлены напоказ для тебя, хотя. сколько бы ты ни слушала, ни смотрела, все это будет бесполезно для тебя… можно думать, что ты просто закалена в своих недостатках.
В это время у бедной Молли слезы текли ручьем, и в своем отчаянии на быстрое движение пивного потока к ногам Алика она превратила передник в швабру, между тем как мистрис Пойзер, отворив шкаф, устремила на нее жгучий взор.
– Ах, – продолжала она, – что тут и размазывать, только больше придется подтирать. Говорю тебе, что все это твое упрямство – ни у кого нет призвания бить, если только приниматься за дело как следует. Но деревянным людям надобно и обращаться с деревянными вещами… Конечно, я должна взять коричневый с белым кувшин, который не бывает в употреблении и трех раз в год, да сама спуститься в погреб, да, может быть, схватить там смерть, захворав воспалением…
Мистрис Пойзер отвернулась от шкафа, держа в руке коричневый с белым кувшин, когда она вдруг заметила что-то на другом конце в кухне; может быть, привидение произвело на нее такое сильное впечатление оттого, что она уже дрожала и была расстроена, или, может быть, битье посуды, подобно другим преступлениям, имеет заразительное влияние. Как бы то ни было, она вытаращила глаза и остолбенела, как духовидец, и драгоценный коричневый с белым кувшин упал на пол, навсегда расставшись с своим рыльцем и ручкою.
– Ну, кто же видел что-нибудь подобное? – сказала она, вдруг понизившимся голосом, с минуту окидывая комнату блуждающим взором. – Я думаю, кружки заколдованы. А все вот эти скверные глазуревые ручки… скользят из руки словно улитка.
– Ну, и ты позволяешь собственной плетке бить тебя по лицу, – сказал ее муж, принимаясь теперь хохотать вместе с мальчишками.
– Конечно, очень хорошо смотреть и скалить зубы, – возразила мистрис Пойзер. – Но бывает время, когда посуда кажется живою и вылетает из рук, словно птица. Все равно что стекло иногда стоит себе спокойно, да вдруг и треснет. Что должно разбиться, то разобьется… Я в жизнь свою не роняла никаких вещей и всегда могла держать их, иначе я не сберегла бы во все это время посуду, которую купила к моей свадьбе… Да что ты, Хетти, с ума сошла? Что это значит, что ты спускаешься таким образом и заставляешь думать, будто привидение ходит в доме?
В то время как говорила мистрис Пойзер, поднялся новый взрыв хохота, причиненный не столько тем, что она вдруг стала смотреть с фаталистической точки зрения на битье кружек, сколько странным видом Хетти, поразившим ее тетку. Маленькая шалунья нашла черное теткино платье и приколола его кругом шеи, чтоб оно походило на платье Дины, зачесала волосы как можно ровнее и повязала Динин высокий сетчатый чепец без каймы. Конечно, было довольно смешно и неожиданно видеть вместо бледного серьезного лица и кротких серых глазах Дины, приходивших на память при виде платья и чепчика, круглые розовые щеки и кокетливые темные глаза Хетти. Мальчики соскочили со стульев и прыгали вокруг нее, хлопая в ладони; даже Алик издал тихий брюшной смех, когда обратил свой взор от бобов на девушку. Под прикрытием этого шума мистрис Пойзер вышла в заднюю кухню, чтоб послать Нанси в погреб с большою оловянной мерой, заключавшею в себе некоторую вероятность быть свободною от колдовства.
– Ну, Хетти, голубушка, ты что, сделалась методисткой? – спросил мистер Пойзер, спокойно и медленно наслаждаясь смехом, как наслаждаются только дородные люди. – Тебе следует прежде вытянуть подлиннее твое лицо, не так ли, Адам? Для чего это напялила ты на себя эти вещи, а?
– Адам сказал, что чепчик и платье Дины нравятся ему больше моих платьев, – сказала Хетти, скромно садясь на свое место. – Он говорит, что люди кажутся лучше в безобразных платьях.
– Нет, нет, – сказал Адам, любуясь ею. – Я сказал только, что они, кажется, идут к Дине. Но если б я сказал, что вы будете казаться в них хорошенькою, то я сказал бы только истину.
– Ну, а ты думала, что Хетти привидение, не так ли? – сказал мистер Пойзер жене, которая в это время возвратилась и снова села на свое место. – Ты казалась такою испуганною, как… как…
– Что тут болтать о том, как я казалась, – сказала мистрис Пойзер, – наружностью не починишь кружек, все равно что смехом; я вижу это. Мистер Бид, мне досадно, что вам так долго приходится ждать эля, но его принесут сию минуту. Распоряжайтесь, пожалуйста, как дома; вот холодный картофель, я знаю, вы любите его. Томми, я пошлю тебя спать сию же минуту, если ты не перестанешь смеяться. Что тут смешного, хотела бы я знать! Чем смеяться, я скорее заплакала бы при виде чепца этой бедняжки; а есть такие, которые сделались бы гораздо лучше, если б могли походить на нее во многих других отношениях, а не в том только, что носить ее чепчик. Никому здесь в доме не годится подшучивать над дочерью моей сестры, когда она только что уехала от нас и у меня болело сердце, когда я расставалась с нею. А я знаю только одно, что случись какое-нибудь несчастье, если б я, например, слегла в постель или дети лежали при смерти… кто знает, что может случиться… или если б между скотом случился падеж – словом, если б все пошло кверху дном… тогда, я говорю, мы, может быть, рады опять увидеть чепчик Дины и ее лицо под чепчиком, все равно с каймою или без каймы. Ведь она одно из тех созданий, которые имеют самую светлую наружность в дождливый день и любят вас еще больше, когда вы больше всего нуждаетесь в любви.
Мистрис Пойзер, как вы можете заметить, знала, что ужасное, скорее всего, в состоянии изгнать комическое.
Томми, который имел чувствительный характер, очень любил свою мать и, кроме того, столько наелся вишен, что мог совладеть со своими чувствами менее обыкновенного, так был поражен страшною картиною возможной будущности, представленною мистрис Пойзер, что начал плакать; и добродушный отец, снисходительный ко всем слабостям, только не к нерадению фермеров, сказал Хетти:
– Лучше сними поди эти вещи, милая моя, твоей тетке неприятно видеть их.
Хетти снова отправилась наверх, и принесенный эль послужил приятным развлечением, потому что Адам должен был высказать о новой варке свое мнение, которое могло быть только лестным для мистрис Пойзер. Затем следовали прения о тайнах пивоварения, о нелепости скряжничания хмелем и сомнительной экономии в приготовлении солода дома. Мистрис Пойзер беспрестанно имела возможность изъясняться по этим предметам с достоинством, так что, когда кончился ужин, кувшин с элем был наполнен снова и трубка мистера Пойзера закурена, она снова была в чрезвычайно хорошем расположении духа и тотчас же, по просьбе Адама, принесла сломанную самопрялку для осмотра.
– А, – сказал Адам, осматривая ее со вниманием, – да здесь придется порядком токарной работы. А славная прялка! Мне нужно взять ее с собою в токарную мастерскую в деревню и починить ее там, а то дома у меня нет всего нужного для токарной работы. Если вы потрудитесь прислать ее завтра утром в мастерскую мистера Берджа, то я приготовлю вам ее к среде. Я уж сколько раз думал, – продолжал он, смотря на мистера Пойзера – как бы мне завестись дома всем нужным для того, чтоб производить тонкую столярную работу. Я всегда делал такие безделицы на досуге, и они выгодны, потому что на них идет больше работы, нежели материала. Я думаю вот открыть самим по себе с Сетом небольшое производство по этой части, потому что я знаком с одним человеком в Россестере, который будет брать у нас все, что мы успеем сделать, кроме заказов, которые можем получить здесь в окружности.
Мистер Пойзер с участием занялся проектом, который, казалось, служил шагом вперед к тому, чтоб Адам стал «хозяином». Мистрис Пойзер одобрила план устроить подвижной шкаф, который мог бы вмещать в себе мелочные запасы, пикули, посуду и домашнее белье, все это сжатое до крайней степени, но в величайшем порядке. Хетти, снова в собственной одежде, откинув косыночку назад в этот теплый вечер, сидела и чистила смородину у окна, где Адам мог ее очень хорошо видеть. Таким образом, приятно шло время, пока Адам не встал, чтоб уйти. Все настоятельно просили, чтоб он скоро еще раз посетил их, но никто не удерживал его долее: в это рабочее время умные люди не хотели подвергаться риску быть сонными в пять часов утра.
– Я пойду от вас еще дальше, – сказал Адам. – Я хочу навестить мистера Масси, он не быль вчера в церкви, и я не видал его целую неделю. Я не помню, чтоб он до этих пор хоть раз не пришел в церковь.
– Да, – сказал мистер Пойзер, – мы ничего не слышали о нем. Ведь теперь праздники у мальчиков, и мы не можем дать вам никакого сведения.
– Неужели же вы думаете отправиться к нему так поздно? – сказала мистрис Пойзер, складывая свое вязанье.
– О! мистер Масси сидит очень долго, – сказал Адам. – Да и вечерняя школа еще не кончилась. Некоторые могут приходить только поздно: им так далеко идти. И сам Бартль никогда не идет спать раньше одиннадцати.
– Ну, не хотела бы я, чтоб он жил здесь, – сказала мистрис Пойзер. – Он накапает вам везде свечным салом, а вы того и гляди, что поскользнетесь и свалитесь на пол, когда только что встанете утром.
– Конечно, одиннадцать часов – это поздно… да, это поздно, – сказал старый Мартин. – И никогда в жизни я не оставался на ногах до такой поры, разве только в свадьбу, в крестины, в великий годовой праздник или на ужине во время жатвы. Одиннадцать часов – это поздно.
– Ну, я часто сижу и позже двенадцати, – сказал Адам, смеясь, – только не для того, чтоб особенно поесть или пить, а чтоб особенно поработать. Спокойной ночи, мистрис Пойзер, спокойной ночи, Хетти.
Хетти только улыбнулась, она не могла подать руку, потому что ее руки были выкрашены и вымочены соком смородины, но все остальные от души пожали большую поданную им руку и сказали:
– Приходите же, приходите скорее!
– Подумайте-ка об этом, – сказал мистер Пойзер, когда Адам уж вышел за ворота, – сидеть позже двенадцати и за особенной работой! Не много найдется людей двадцати шести лет, которых можно было бы запрячь в одни оглобли с ним. Если ты можешь поддеть Адама себе в мужья, Хетти, то уж я тебе ручаюсь в том, что будешь ездить когда-нибудь в собственной телеге на рес сорах.
Хетти с ягодами шла через кухню, и ее дядя не заметил, как она с презрением несколько откинула голову назад в ответ на его слова. Ездить в телеге казалось ей действительно в настоящее время очень жалкою участью.
XXI. Вечерняя школа и приходский учитель
Дом Бартля Масси находился в числе рассеянных на краю общины, разделявшейся дорогой, которая вела в Треддльстон. Адам дошел от мызы до него в четверть часа, и, положив руку на щеколду у дверей, он мог видеть в незанавешенное окно восемь или девять голов, наклоненных над столами, которые освещались тонкими макаными свечами.
Когда он вошел, то застал урок чтения, и Бартль Масси только кивнул головою, предоставляя ему сесть, где захочет. Он пришел сегодня не для урока, и его голова была слишком полна личными делами, слишком полна последними двумя часами, проведенными им в присутствии Хетти, так что он не был в состоянии заняться книгою, пока кончится ученье; таким образом, он сел в угол и смотрел на все рассеянно. Этот род зрелища Адам видел почти еженедельно в продолжение нескольких лет; он знал наизусть все арабески, украшавшие образец почерка Бартля Масси, висевший в рамке над головою школьного учителя для того, чтоб служить высоким идеалом умам его учеников; он знал корешки всех книг на полке, прибитой по выбеленной стене над шпильками для грифельных досок; он верно знал, сколько зерен вышло из колоса индийской ржи, висевшего на одной из балок; он давным-давно истощил средства своего воображения, стараясь представить себе, какой вид имел пук высохшей и походившей теперь на кожу водоросли в своем родном элементе и как она росла там; и с того места, где он сидел, он не мог ничего разобрать на старой карте Англии, висевшей на противоположной стене, потому что время изменило ее приятный желто-бурый цвет в нечто похожее на цвет хорошо выгоревшей пенковой трубки. Действие, которое не прерывалось, было ему почти так же знакомо, как и самая сцена, тем не менее привычка не сделала его равнодушным к этому, и даже в настоящем расположении духа, погруженный в собственные мысли, Адам ощущал мгновенное движение прежнего сочувствия, когда смотрел на грубых людей, с трудом державших перо или карандаш скорченными руками или смиренно трудившихся над своим уроком чтения.
Класс чтения, сидевший теперь на скамейке перед столом школьного учителя, состоял из трех самых отсталых учеников. Адам мог бы узнать это без труда: ему стоило только взглянуть на лицо Бартли Масси, когда он смотрел сверх очков, которые спустил на хребет носа, не нуждаясь в них при настоящем деле. Лицо имело обычное самое кроткое выражение; седые, густые брови, под более острым углом, дышали сострадательною благосклонностью, и рот, обыкновенно сжатый и с несколько выдвинутою нижнею губою, был полуоткрыт, так что всегда мог подсказать слово или слог в помощь в одно мгновение. Это благосклонное выражение было тем любопытнее, что неправильный орлиный нос школьного учителя, несколько сдвинутый на одну сторону, имел несколько грозный вид; к тому же его лоб имел особенное напряжение, которое в глазах всех служит признаком резкого нетерпеливого нрава: синие вены выступали наружу, как струны, под прозрачною желтою кожею, и грозное выражение лба не смягчалось никакой лысиною, так как седые, щетинистые коротко остриженные волосы торчали над лбом теперь так же густо, как и в молодости.
– Нет, Билль, нет, – говорил Бартль ласковым тоном, кивая Адаму, – сложи снова, и тогда, может быть, ты узнаешь, что выйдет из с, у, х, и. Ты знаешь, что этот же самый урок ты читал на прошлой неделе.
Билль был здоровый детина, двадцати четырех лет от роду, отличный каменопильщик, который мог получать столь же хорошее жалованье, как всякий из ремесленников его лет, но урок чтения из односложных слов был для него гораздо труднее распилки самого твердого камня. Буквы, жаловался он, были так «необыкновенно похожи одна на другую, что их почти никак нельзя было отличить», и в занятии пильщика не встречалось мелочных различий, какие существовали между буквой с загнутым кверху хвостиком и буквой с опущенным книзу хвостиком. Но Билль имел твердое намерение выучиться читать, основывавшееся главнейшим образом на двух причинах: во-первых, Том Гезло, его двоюродный брат, мог все читать прямо с листа, все равно печатное или писанное. Том прислал ему письмо из-за двадцати миль, в котором уведомлял, как ему счастье улыбалось на свете и как он получил место старшего работника. Во-вторых, Сам Филлипс, пиливший вместе с ним, выучился читать, когда ему стукнуло двадцать лет, а что мог исполнить такой небольшой малый, как Сам Филлипс (рассуждал Билль), то могло быть исполнено и им, так как он мог сплюснуть Сама, как кусок мокрой глины, если б потребовали обстоятельства. Вот он и был здесь, указывая своим огромным пальцем на четыре слова сразу и наклоняя голову на одну сторону, чтоб лучше схватить глазом одно слово, которое должно было различить из всей группы. Объем знания, которым должен был обладать Бартль Масси, казался ему до того темным и обширным, что воображение Билля отступало при мысли об этом: он едва ли осмелился бы отрицать, что школьный учитель не участвует каким-нибудь образом в правильном возвращении дневного света и в переменах погоды.
Человек, сидевший рядом с Биллем, имел совершенно другой тип: он был кирпичник-методист, который, проведя тридцать лет своей жизни совершенно довольный своим невежеством, недавно принял веру и вместе с тем получил желание читать Священное Писание. Но и для него также учение было трудным занятием, и, выходя сегодня из дома, он, как обыкновенно, принес особенную молитву о помощи, видя, что предпринял тяжкий труд только ради питания своей души… для того, чтоб иметь в памяти большее изобилие текстов и гимнов, которыми можно было бы отдалять дурные воспоминания и прежние соблазны, или, короче сказать, дьявола. Кирпичник был известный браконьер; его подозревали, хотя и без достаточных к тому свидетельств, в том, что это он подстрелил ногу у соседнего смотрителя за дичью. Так или иначе, достоверно, однако ж, что вскоре после упомянутого происшествия, которое совпало с прибытием в Треддльстон ревностного проповедника-методиста, в кирпичнике заметили большую перемену, и хотя он по всей стране все еще был известен под своим старым прозвищем Старая Сера, ничто, однако ж, не вселяло в нем больший ужас, как то, что имело какое-нибудь сношение с этим неблаговонным элементом. Он был широкогрудый малый с пылким характером, который помогал ему лучше пропитаться религиозными идеями, нежели успевать в сухом процессе приобрести только человеческое знание алфавита. Его решимость была даже несколько потрясена собратом-методистом, уверявшим его, что буква только препятствует душевному развитию, и даже выразившим опасение, что Сера уж слишком горячо заботился о знании, делающем человека напыщенным.
Третий начинающий был более обещающий ученик. Он был высок ростом, но худощав и жилист, почти одних лет с Серой, имел весьма бледное лицо и руки, выпачканные в темносиней краске. Он был красильщик, который, погружая в краску дома выделанную шерсть и юбки старух, воспламенился желанием гораздо больше узнать о чудных тайнах цветов. Он уже пользовался высокою репутацией в околотке за свое крашение и непременно хотел открыть методу, посредством которой можно было бы уменьшить дороговизну кармина и яркокрасной краски. Москательщик в Треддльстоне подал ему мысль, что он может избавиться от больших трудов и издержек, если выучится читать; и вот он стал посвящать свободные часы вечерней школе, решив про себя, что его «сынишко» пусть, не теряя времени, отправится в дневную школу мистера Масси, лишь только подрастет.
Трогательно было видеть, как эти трое дюжих малых, носивших на себе ясные признаки тяжкого труда, заботливо наклонялись над истертыми книгами и с трудом разбирали: «Трава зелена», «Палки сухи», «Хлеб зрел» – весьма трудный урок после столбцов с простыми словами, похожими одно на другое, кроме первой буквы. Словно три грубых животных употребляли смиренные усилия, чтоб узнать, как можно было им сделаться человечными И это трогало нежнейшую фибру сердца Бартли Масси. Только для таких взрослых детей, своих учеников, не имел он суровых эпитетов и нетерпеливых тонов. Он не был одарен невозмутимым характером, и в музыкальные вечера можно было заметить, что терпение вовсе не было для него легкой добродетелью, но в этот вечер, когда он смотрел чрез очки на Билля Доунза, пильщика, наклонявшего голову на сторону и глядевшего на буквы с, у, х, и до слепоты, его глаза имели самое кроткое и самое поощряющее выражение.
После читального класса подошли два молодые парня, лет с шестнадцати до девятнадцати, с мнимыми счетами, которые писали на своих грифельных досках и теперь должны были сделать счисление наизусть немедленно, – испытание, выдержанное ими с таким недостаточным успехом, что Бартль Масси, глаза которого были устремлены на них сверх очков с зловещим выражением в продолжение нескольких минут, произнес наконец горьким, чрезвычайно резким тоном, останавливаясь при каждой фразе и стуча по полу шишковатой палкой, которую держал между ног:
– Ну, видите, вы делаете это нисколько не лучше, как две недели назад, и я скажу вам отчего. Вы хотите научиться считать – очень хорошо. Но вы думаете, для того чтоб выучиться считать, вам только нужно приходить ко мне и считать у меня около часа два или три раза в неделю; а лишь только вы надели шапки и вышли из дверей, как уже и выбросили все дочиста из головы. Вы ходите себе посвистывая и не думаете ни о чем, словно ваши головы проточные канавы, через которые проходит всякий мусор, случайно попадающийся на дороге; и если в них попадет хорошая мысль, то и ее очень скоро вынесет вон. Вы думаете, что познания достаются дешево: придете да заплатите Бартлю Масси пятиалтынный в неделю, а он вас научит цифрам без всяких хлопот с вашей стороны. Но, я вам скажу, познания не приобретаются тем, что вы только будете платить пятиалтынный: если вы хотите знать арифметику, то должны думать о ней постоянно и усердно заниматься мысленно счислением. Все на свете вы можете обратить в цифры, потому что во всем есть какое-нибудь число… даже в дураке. Вы можете говорить самим себе: «Я один дурак, а Джек другой; если б моя дурацкая голова весила четыре фунта, а Джекова три фунта, три унции и три четверти, то на сколько драхм была бы моя голова тяжелее Джековой?» Человек, который искренно хочет научиться арифметике, должен задавать себе задачи, составлять суммы в голове; когда он сидит за своей башмачной работой, он может считать стежки по пяти, потом назначить цену своим стежкам, хоть, например, денежку, и потом счесть, сколько он мог бы заработать в час; потом спросить себя, сколько денег он мог бы заработать в день, считая таким же образом; потом – сколько получили бы десять работников, работая таким образом три, двадцать или сто лет, и все это время иголка его будет ходить так же скоро, как если б он оставлял свою голову пустой, чтоб в ней мог плясать дьявол. Словом, я скажу вам вот что: я не хочу иметь в своей вечерней школе человека, который не будет стараться выучиться тому, чему приходит учиться так же усердно, как если б он хотел выйти из мрачной пещеры на ясный дневной свет. И не прогоню человека за то, что он глуп. Если б Вилли Тафт, идиот, захотел учиться чему-нибудь, я не отказался бы учить его. Но я не хочу бросать хорошие знания людям, думающим, что могут приобрести их за пятиалтынный и унести с собою, как унцию нюхательного табаку. Итак, вы больше не ходите ко мне, если не можете показать, что работали собственной головой, а вместо того будете думать, что можете платить за мою голову: «Пусть, мол, работает за нас». Вот вам мое последнее слово.
При заключительной фразе Бартль Масси ударил своею шишковатою палкой гораздо громче, и расстроенные парни встали с своих мест с угрюмым видом. К счастью, другим ученикам приходилось только показать тетради для писания, в различных степенях успеха с каракулей до ровного письма; и простые черты пером, хотя и они неверные, менее раздражали Бартля, нежели неверная арифметика. Он был несколько строже обыкновенного к букве Z Якова Стори. Бедный Яков написал целую страницу этой буквы, но все буквы верхушкою навыворот, и неясно понимал, что буквы были что-то не такие. Но он заметил в извинение, что эта буква была почти вовсе не нужна; по его мнению, она была поставлена только, чтобы, может быть, окончить алфавит, хотя и знак а мог бы так же хорошо выполнить это дело.
Наконец все ученики взялись за шляпы и пожелали учителю спокойной ночи. Адам, зная привычки своего старого учителя, встал и спросил:
– Загасить свечи, мистер Масси?
– Да, мой друг, да, все, исключая этой, которую я снесу в дом, да заодно заприте-ка наружную дверь, так как вы неподалеку от нее, – сказал Бартль, приноравливаясь поудобнее взять палку, которая должна была помочь ему сойти со скамьи.
Едва ступил он на пол, как стало видно, почему палка была ему действительно необходима: левая нога была гораздо короче правой. Но учитель был так деятелен при своем увечье, что последнее едва ли можно было считать несчастьем; и если б вы увидели, как он шел по школьному полу и поднялся в кухню, то вы, может быть, поняли бы, почему резвые мальчики воображали иногда, что шаг учителя может быть ускорен до неопределенной степени и что он с своею палкой может догнать их даже на самом быстром беге.
В ту минуту, как он показался у дверей кухни со свечою в руке, в углу у печки раздался слабый визг, и коричневая с темными пятнами сука, с умным выражением, на коротких ногах и с длинным телом, из породы, известной прежнему немеханическому поколению под именем вертельщиков, поползла по полу, виляя хвостом и останавливаясь на каждом шагу, словно ее привязанность колебалась между корзинкой в углу у печки и господином, которого она не могла оставить без приветствия.
– Ну, хорошо, Злюшка, хорошо. Что твои детки? – сказал учитель, торопливо подходя в угол к печке и держа свечу над низкою корзиной, где два совершенно слепых щенка таращили голову к свету из гнезда фланели и шерсти.
Злюшка не могла даже видеть без болезненного волнения, как ее господин смотрел на них; она вскочила в корзинку, через минуту выскочила из нее опять и вела себя с истинно женским безумием, хотя все это время имела умный вид, приличествующий карлице с большой старческой головой и телом на самых коротеньких ножках.
– А! да у вас, я вижу, завелось семейство, мистер Масси? – улыбаясь, сказал Адам, когда вошел в кухню. – Как же это? Я думал, что это против закона здесь.
– Закон? К чему тут искать закона, если мужчина стал до того глуп, что впустил женщину в дом? – сказал Бартль, отворачиваясь от корзинки с некоторой горечью. Он всегда называл Злюшку женщиною и, по-видимому, совершенно потерял сознание, что употреблял фигуральное выражение. – Если б я знал, что Злюшка женщина, я не стал бы удерживать мальчиков, чтоб они утопили ее. Но, получив ее в руки, я должен был оставить ее у себя. А теперь видите, что она принесла мне… плутовка, лицемерка… – Бартль произнес последние слова скрипучим тоном упрека и посмотрел на Злюшку, которая опустила голову и обратила на него глаза с стыдливым выражением. – И распорядилась так, что принесла щенят в воскресенье в самое время службы. Я опять и опять желал бы быть человеком кровожадным, тогда я удавил бы одною веревкой и мать, и щенят.
– Я рад, что не случилось чего-нибудь худшего и что только это задержало вас дома, – сказал Адам. – Я боялся, не захворали ли вы в первой раз в жизни. И я очень сожалел, что вас не было в церкви вчера.
– Да, мой друг, знаю почему, – сказал Бартль ласково, подходя к Адаму и положив руку ему на плечо, которое приходилось почти в уровень с его головою. – Вам выпал трудный путь. Но я надеюсь, что для вас наступит и лучшее время. Мне надо передать вам новости. Но прежде я поужинаю, потому что голоден, очень голоден. Садитесь, садитесь.
Бартль вошел в небольшую кладовую и вынес отличный домашний хлеб; в этом одном он был расточителен в эти дорогие времена. Он ел хлеб раз в день вместо овсяной лепешки и оправдывал себя в этом, говоря, что школьному учителю необходим мозг, а овсяная лепешка слишком много стремится к костям, а не к мозгу. Потом он вынес кусок сыру и квартовый кувшин, увенчанный пеной. Все это он поставил на круглый сосновый стол, придвинутый к большому креслу в углу у печки; с одной стороны стола находилась корзинка Злюшки, с другой – подоконник с немногими сложенными в кучу книгами. Стол был так чист, словно Злюшка была отличная хозяйка в клетчатом переднике; таков же был каменный пол, и старые резные дубовые шкаф, стол и стулья (которые в настоящее время были бы проданы за высокую цену в аристократические дома, хотя в тот период пауковых ножек и накладных купидонов Бартль приобрел их за бесценок) были настолько свободны от пыли, насколько могли быть все вещи к концу летнего дня.
– Ну же, мой друг, принимайтесь, принимайтесь! Не станем говорить о делах, пока не поужинаем. Никто не может быть умен при пустом желудке. Но, – сказал Бартль, снова вставая с кресла, – я должен подать ужин и Злюшке – провались она! – хотя она и употребит его на то, чтоб напитать этих ненужных щенят. Женщины все бывают одинаковы… У них нет ума, который им нужно было бы питать, таким образом, корм их обращается или на жир или на щенят.
Он вынес из кладовой тарелку с остатками; Злюшка тотчас же устремила на нее глаза и, выскочив из корзинки, принялась лизать с необычайною поспешностью.
– Я уже поужинал, мистер Масси, – сказал Адам, – и посижу так, пока вы будете ужинать. Я был на мызе, а там, вы знаете, ужинают рано – там не любят поздней поры.
– Я не знаю распределения времени там, – сказал Бартль сухо, нарезывая хлеб и не пренебрегая коркой. – В этот дом я хожу редко, хотя и люблю мальчиков, да и Мартин Пойзер человек хороший. Для меня в этом доме слишком много женщин, а я ненавижу звук женских голосов: они всегда или жужжат или пищат, жужжат или пищат. Мистрис Пойзер покрывает разговор своим голосом, как дудка; что ж касается молодых девушек, то мне смотреть на них – все равно что смотреть на водяные куколки… ведь я знаю что из них выйдет… жалящие комары… да, жалящие комары. Вот, выпейте-ка элю, мой друг, он налит для вас.
– Нет, мистер Масси, – сказал Адам, которому причуды своего старого друга казались сегодня серьезнее обыкновенного, – не будьте так жестоки к существам, которых Бог создал быть нашими спутницами в жизни. Рабочему человеку было бы плохо жить без жены, которая должна смотреть за домом и пищей и вносить в дом чистоту и спокойствие.
– Вздор! Может ли умный человек, подобный вам, верить в такую нелепую ложь и говорить, будто женщина вносит в дом спокойствие? Это одна выдумка, потому что женщины существуют, и надобно же найти для них какое-нибудь дело. Поверьте, все под луной, что только должно быть сделано, мужчина может сделать лучше женщины, разве только родить детей, да и в этом-то деле на женщину, право, жаль смотреть, лучше, если б это было предоставлено мужчинам. Поверьте, женщина будет вам печь пирог каждую неделю всю свою жизнь, и никогда не узнает, что, чем краснее печь, тем меньше нужно времени для печенья. Поверьте, женщина будет варить вам похлебку каждый день в продолжение двадцати лет и никогда не подумает о том, чтоб вымерить настоящую пропорцию муки и молока… немного больше или меньше, по ее мнению, ничего не значит… вот похлебка и выходит по временам нехороша; если она дурна, то тут виновата мука, или молоко, или вода. Посмотрите на меня: я сам пеку хлеб, и между всеми моими хлебами в продолжение целого года нет никакой разницы, но если б у меня в доме была еще какая-нибудь женщина, кроме Злюшки, то я должен был бы только молить Бога при каждом печении о том, чтоб он дал мне терпение, если б хлеб нехорошо поднялся. Что ж касается чистоты, то мой дом чище всякого другого в общине, хотя половина домов набита женщинами. Мальчик Билля Бекера приходит помочь мне как-нибудь утром, и мы без всяких хлопот в час вычистим все, на что женщине понадобится три часа, да все это время она будет посылать вам под ноги ведра с водой и расставит по середине пола на целые полдня каминную решетку и кочерги, так что вы и ноги разобьете о них. Не говорите мне, что Бог создал эти существа, чтоб быть нашими спутницами в жизни. Может быть, действительно он создал Еву для того, чтоб она была спутницей Адама в раю: там не приходилось портить кушанья, там не было другой женщины, с которой можно было бы кудахтать и делать неприятности; да и то вы знаете, что за беду она сделала при первом удобном случае. Но это мнение нечестивое, небиблейское, будто женщина есть благодать для мужчины в настоящее время; после этого вы можете сказать, что змеи и осы, свиньи и дикие звери также благодать, между тем как они зло, принадлежащее к нашему испытанию, зло, которого человек имеет законное право избегать, сколько может, в этой жизни, в надежде освободиться от него навсегда в будущей… в надежде освободиться от него навсегда в будущей.
Бартль до того разгорячился и разгневался во время этой тирады, что даже забыл о своем ужине и употреблял нож только для того, чтоб стучать рукой по столу. Но к концу речи удары сделались столь резки и часты и голос столь гневен, что Злюшка почувствовала себя обязанной выскочить из корзинки и неопределенно залаять.
– Молчать, Злюшка! – заворчал Бартль, обращаясь к ней. – Ты точно все другие женщины: всегда сунешься с своею речью, не узнав прежде, в чем дело.
Злюшка снова возвратилась в свою корзинку, униженная, а ее господин продолжал ужинать в молчании, которое Адам не хотел прерывать: он знал, что старик будет в лучшем расположении духа, когда поужинает и закурит трубку. Адам очень часто слышал, как он говорил таким образом, но все-таки не был знаком с прошлой жизнью Бартля настолько, чтоб знать, основывалась ли его точка зрения на семейную жизнь на опыте. Касательно этого предмета Бартль был нем; даже было тайной, где он жил прежде последних двадцати лет, в продолжение которых, к счастью крестьян и ремесленников окрестной страны, он поселился между ними как их единственный школьный учитель. Если решались обратиться к Бартлю с некоторого рода вопросом по этому предмету, то учитель всегда возражал: «О, я видел много мест… я долгое время был на юге»… и жители Ломшейра скорее готовы были спросить о каком-нибудь особенном городе или селении в Африке, нежели на «юге».
– Ну, мой друг, – сказал наконец Бартль, наполнив себе вторую кружку эля и закурив трубку, – ну, теперь мы поболтаем. Но скажите мне прежде, не слышали ли вы особенных новостей сегодня?
– Нет, – сказал Адам, – нет, сколько мне помнится.
– А, это содержится в тайне, это содержится в тайне, кажется. Но я узнал об этом случайно, и новость может касаться вас, Адам, в противном же случае я подумаю, что не умею различить квадратный фут от кубического.
Здесь Бартль несколько раз затянулся громко и быстро, серьезно смотря в это время на Адама. Нетерпеливый болтливый человек не думает, что может поддержать огонь в трубке, куря спокойно и верно; он всегда дает ей почти потухнуть и потом наказывает ее за такую небрежность. Наконец он сказал:
– Сачелля разбил паралич. Я узнал об этом от мальчика, посланного в Треддльстон за доктором, сегодня утром раньше семи часов. Ему уж далеко за шестьдесят, вы знаете; он уж едва ли перенесет это.
– Ну, – сказал Адам, – я думаю, приход больше обрадуется, нежели опечалится о том, что он должен слечь. Он был человек самолюбивый, злостный, переносчик при всем том, никому им не сделал столько вреда, как самому старому сквайру. Впрочем, порицать за это нужно самого же сквайра: такого глупого человека он сделал управляющим по всем частям, и только для того, чтоб сберечь издержки и не иметь порядочного управителя, который надзирал бы за имением. И он потерял больше от дурного управления лесами, я в том уверен, нежели сколько могли бы стоить ему два управителя. Если Сачелл отправится, то надобно ожидать, что его место займет человек лучше его, но все-таки я не вижу, каким образом это обстоятельство может касаться меня.
– А я так вижу это, а я так вижу это, – сказал Бартль, – а кроме меня еще другие. Капитан скоро будет совершеннолетним – это вам так же хорошо известно, как и мне, и надобно ожидать, что у него теперь будет больше голоса в делах. А я знаю, да и вы также знаете желание капитана касательно лесов, если б только представился благоприятный случай к перемене. Он при всех говорил, что сделал бы вас управителем лесов завтра же, если б только это было в его власти. Вот и Карроль, буфетчик мистера Ирвайна, слышал, как капитан говорил это пастору несколько дней назад. Карррль заглянул к нам, когда мы собрались и курили трубки в субботу вечером у Кассона, и рассказал об этом; а если кто-нибудь скажет о вас доброе слово, то пастор всегда поддакнет, за это я вам поручусь. Я могу вам сказать, что у Кассона было довольно говорено об этом деле, и некоторые, правда, бросали и каменьями в вас. Ведь если ослы примутся петь, то вы знаете, что выйдет за музыка.
– А мистер Бердж слышал, как вы говорили обо мне? – сказал Адам. – Или его не было там в субботу?
– Нет, он ушел еще до прихода Карроля, а Кассон – вы знаете, он всегда знает все лучше других, – настаивал на том, что управление лесом следовало бы поручить Берджу. «Человек зажиточный, – говорил он, – который около шестидесяти лет все возился с строевым лесом, Адам Бид мог бы точно так же действовать под его руководством, да и трудно предположить, чтобы сквайр назначил такого молодого парня, как Адам, когда есть под рукой люди и старше и лучше его». Но я сказал ему: «Это прекрасное замечание с вашей стороны, Кассон. Ну, Бердж – человек, который сам должен покупать лес для себя; неужели вы отдадите леса в его руки и позволите, чтоб он торговал в свою пользу? Вы, я думаю, не допустите, чтоб ваши посетители сами записывали бы мелом, что выпили – не правда ли?.. что ж касается лет, это все-таки зависит от достоинства напитка. Ведь всем нам очень хорошо известно, кто был правой рукой Джонатана Берджа во всех делах».
– Благодарю вас за доброе слово, мистер Масси, – сказал Адам – Но при всем том Кассон был отчасти прав. Не очень это вероятно, чтоб старый сквайр согласился назначить меня: я оскорбил его года два назад, и он не простил мне этой обиды.
– Что, как же это случилось? Вы никогда не говорили мне об этом, – сказал Бартль.
– О! это была сущая глупость. Я делал рамку для ширмочки Лидии – вы знаете, она всегда занимается своею гарусною работою, – и она дала мне подробные приказания касательно этой ширмочки, тут столько было разговоров и размериваний, словно нужно было дом построить. Как бы то ни было, работа была очень миленькая, и я охотно занялся ею. Но знаете, эти маленькие безделки стоят очень много времени. Я же работал над этой вещью только в свободное время, часто поздно ночью, а между тем должен был нередко ходить в Треддльстон, то за кусочком меди, то за другими пустыми принадлежностями. Я выточил крошечные шишечки и ножки и сделал резную работу по образцу так мило, как только могло быть. Я был необыкновенно доволен своею работою, когда она была готова. Когда я снес ее в дом, то мисс Лидия приказала послать меня в гостиную, чтоб показать мне, как вставить вышиванье, чрезвычайно миленькую работу, Иаков и Рахиль целуются, а кругом овцы, словно картина, и старый сквайр сидел тут же в комнате; он все больше сидит с ней. Ну, она была очень довольна ширмочкой и потом хотела знать, что стоит. Я не говорю как попало, вы знаете, во мне нет этого; я рассчитал все очень аккуратно, хотя и без всякой записки, и сказал: один фунт тринадцать шиллингов. Это значило заплатить за материалы и заплатить мне, но вовсе не слишком много за мою работу. Но старый сквайр при этом взглянул на меня, поглядел, знаете, по-своему на ширмочку и сказал: «Один фунт тринадцать за такую игрушку! Лидия, моя милая, если вы должны тратить деньги на такие вещи, зачем же вы не покупаете их в Россетере, а платите двойную цену за такую топорную работу, такие вещи вовсе не дело плотника, как Адам. Дайте ему гинею, но уж никак не более». Ну, мисс Лидия, я думаю, поверила ему, да и сама она нельзя сказать, чтоб охотно расставалась с деньгами… она в сущности недурная женщина, но выросла у него под большим пальцем; таким образом она стала рыться в своем кошельке и покраснела как лента. Но я поклонился и сказал: «Нет, благодарю вас, сударыня, я подарю вам ширмочку, если угодно. Я назначил за работу правильную цену, и знаю, что работа сделана хорошо. Прошу вашу милость извинить меня, но я знаю, что вы не получите такой ширмочки в Россетере менее чем за две гинеи. Я охотно отдаю вам мою работу, она исполнена в мое собственное время, и до нее нет дела никому, кроме меня, но если вы хотите заплатить мне, то я не могу взять меньше той цены, которую спросил, потому что тогда, пожалуй, можно было бы сказать, будто я спросил больше, чем следовало. С вашего позволения, сударыня, желаю вам доброго утра». Я поклонился и вышел, так что она не успела ничего сказать: она стояла с кошельком в руке и имела почти глупый вид. Я вовсе не думал выказать неуважения и говорил, как только мог вежливо, но я не могу поддаться человеку, который хочет доказать, что я стараюсь обмануть его. Вечером лакей принес мне один фунт тринадцать, завернутые в бумагу. Но с тех пор я видел очень ясно, что старый сквайр не может терпеть меня.
– Это очень вероятно, очень вероятно, – сказал Бартль в раздумье. – Только одним способом можно было бы помирить его с вами, это – доказать ему, что в этом заключается его собственный интерес.
– Ну, не знаю, – сказал Адан. – Сквайр довольно проницателен; но одной проницательности еще недостаточно для того, чтоб человек мог видеть, в чем именно заключается его интерес. Требуются еще совесть и вера в хорошее и дурное, я вижу это очень ясно. Вам едва ли удастся когда-нибудь заставить старого сквайра поверить, что он получит такой же барыш прямым путем, как уловками и изворотами, да и кроме того, у меня нет ни малейшей охоты работать под его начальством; я не хотел бы ссориться ни с каким джентльменом, в особенности же с старым джентльменом под восемьдесят лет, а знаю, мы недолго жили бы в согласии друг с другом. Если б капитан был хозяином в имении – о! тогда это было бы другое дело: у него есть и совесть и желание делать добро, и я скорее был бы готов работать для него, чем для кого-нибудь другого на свете.
– Хорошо, хорошо, мой друг, если счастье стучится к вам в дверь, не высовывайте голову в окно и не говорите ему, чтоб оно отправлялось по своим делам, вот и все. Вы должны приучаться к равному и неравному в жизни, точно так же, как и в цифрах. Я скажу вам теперь, как говорил десять лет тому назад, когда вы отколотили молодого Майка Гольдсворта за то, что он хотел сбыть вам фальшивый шиллинг, не узнавши вперед, шутит ли он или поступает серьезно. Мы слишком торопливы и спесивы и готовы оскалиться на всякого, кто вам не по сердцу. Если я немного вспыльчив и упрям, то это еще не беда – я старый школьный учитель и никогда не пожелаю забраться на шест повыше. Но к чему же истратил я столько времени и учил вас писать, чертить и мерить, если вы не подвинетесь вперед в свете и не покажете людям, что есть же какое-нибудь преимущество, когда имеешь на плечах голову, а не тыкву? Неужели вы хотите задирать нос при всяком удобном случае, потому что он слышит запах, которого не замечает никто, кроме вас? Это такая же глупая мысль, как та, которую вы сказали прежде, будто жена приносит с собою уют в дом рабочего человека. Вздор и пустяки!.. Вздор и пустяки! Пусть думают так дураки, которые не сумели уйти далее простого сложения. Да и хорошо сложение-то! Дурак да еще дура, и в продолжение шести лет их будет еще шесть дураков… все они одной цены, большие и малые, и сколько их ни складывай, они не делают никакой разницы в сумме.
В то время как Бартль горячо увещевал Адама быть хладнокровным и благоразумным, трубка погасла; чтоб увенчать речь, Бартль неистово зажег спичку о заслонку, после чего принялся тянуть дым с свирепой решимостью, снова устремив глаза на Адама, который старался не рассмеяться.
– В том, что вы говорите, много истины, мистер Масси, – начал Адам, когда почувствовал, что может быть совершенно серьезен, как и всегда. – Но вы согласитесь в том, что я не могу строить свое дело на случайностях, которые, может быть, никогда и не сбудутся. Я знаю, что я должен делать: я должен работать так хорошо, как могу, инструментами и материалами, которыми располагаю. Если счастье улыбнется мне, я подумаю о том, что вы мне говорили, но до тех пор я только должен полагаться на собственные руки и на собственную голову. Я обдумываю теперь небольшой план, хочу заняться с Сетом производством изделий из красного дерева и таким образом получать фунт или два лишних. Но теперь уж поздно… я не доберусь домой раньше одиннадцати, а мать, пожалуй, еще не спит – она теперь беспокоится более обыкновенного. Итак, желаю вам спокойной ночи.
– Погодите-ка, мы проводим вас до ворот, ночь сегодня отличная, – сказал Бартль, взяв палку.
Злюшка тотчас же была на ногах, и, не произнеся более ни слова, все трое пошли при сиянии звезд к небольшим воротам вдоль картофельных гряд Бартля.
– Приходите в пятницу вечером, если можете, мой милый, – сказал старик, затворив за Адамом калитку и прислонясь к ней.
– Приду, приду, – сказал Адам, шагая к полосе освещенной луною бледной дороги.
Он был единственным движущимся предметом на всем обширном пространстве. Только два серых осла виднелись перед дикими терновыми кустарниками, но они стояли смирно, как статуи, как серая кровля глиняной избы, находившейся несколько дальше. Бартль не сводил глаз с двигавшейся фигуры, пока она не скрылась во мраке, между тем как Злюшка, принужденная в эту минуту делить свою привязанность, два раза уже сбегала домой и одарила своих щенят беглыми ласками.
– Да, да, – бормотал школьный учитель, когда исчез Адам, – вот выступаешь ты теперь мерно, да, выступаешь, но ты не выступал бы так, если б не была в тебе частичка старого хромого Бартля. И самый крепкий теленок должен сосать что-нибудь. Многие из этих высоких, неуклюжих малых никогда не узнали бы азбуки, если б не Бартль Масси. Ну, хорошо, Злюшка, дурочка, ну что, что там такое? Мне надо идти домой, не правда ли? Конечно, у меня уж нет больше собственной воли. А эти щенята, как ты думаешь, что я буду делать с ними, когда они станут вдвое выше тебя?.. Ведь я уверен, что их отец не кто иной, как толстый бульдог Вилла Бекера, не так ли, а, лукавая шлюха?
Тут Злюшка подобрала хвост между ног и побежала вперед домой. Ведь есть вещи, которые хорошо воспитанная женщина не хочет знать.
– Но к чему говорить с женщиной, имеющей детей? – продолжал Бартль. – У нее нет совести ни на грош… ни на грош… совесть вся ушла в молоко!
Книга третья
XXII. Сборы к празднеству
Наступило тридцатое июля; то был один из полудюжины теплых дней, которые иногда выпадают среди дождливого английского лета. В последние три или четыре дня дождя не было вовсе, и для этого времени года погода стояла превосходная: пыли было меньше обыкновенного на темно-зеленых изгородях и на дикой ромашке, усыпавшей дорогу по сторонам, а между тем трава была довольно суха, так что дети безопасно могли кататься по ней, на небе не виднелось ни облачка, а была только обширная полоса света, мягкой зыбью расстилавшаяся вверх до отдаленного горизонта. Погода превосходная для июльских увеселений вне дома, но, конечно, не лучшее время года, когда стоило бы родиться. Природа, кажется, делает в то время жаркую паузу – все прелестнейшие цветы уже отцвели; сладостное время раннего роста и неопределенных надежд миновало, между тем время жатвы и уборки хлеба с поля еще не наступало, и мы содрогаемся при мысли о возможных бурях, которые могут уничтожить драгоценный плод в момент его спелости. Лес весь имеет один темный, однообразный зеленый цвет; телеги, нагруженные сеном, уже не тянутся более по дорогам, рассыпая благоухающие частички на ветви ежевики; пастбища там и сям имеют несколько подгорелый вид, а между тем рожь еще не получила последнего блеска, образуемого красным и золотистым отливом; ягнята и телята утратили все признаки невинной, резвой прелести и стали глупыми молодыми овцами и коровами. Но это время есть время отдыха на ферме, это пауза между жатвой сена и пшеницы, и фермеры и поселяне в Геслопе и Брокстоне думали, что капитан хорошо делает, становясь совершеннолетним именно в то время, когда они, не развлекаясь, могут сосредоточить свои мысли на вкусе эля в большой бочке, который варили осенью после рождения наследника и который должно было почать в его двадцать первый день рождения. Воздух дышал весельем от звона церковных колоколов весьма рано в это утро, и всякий поторопился окончить нужную работу до полудня: около этого времени надобно было подумать о том, чтоб приготовиться в дорогу на Лесную Дачу.
Полуденное солнце проникало в спальню Хетти, где не было занавески, чтоб умерить жар солнечных лучей, падавших на голову девушки, когда она смотрелась в старое пестрое зеркало. Что ж, у нее только и было что это зеркало, в котором она могла видеть свою шею и руки, потому что небольшое висячее зеркало, которое принесла она из смежной комнаты, из прежней комнаты Дины, не показывало ее лица ниже небольшого подбородка и красивой части шеи, где округлость щек сливалась с другою округлостью, оттеняемою темными, прелестными кудрями. А сегодня она больше обыкновенного думала о своей шее и руках, потому что при танцах вечером она не наденет косынки, и накануне она приводила в порядок свое пестренькое, розовое с белым платьице, чтоб спустить рукава длиннее или сделать их короче, как хотела. Она была одета теперь точно так, как должна будет одеться вечером, в шемизетке из настоящих кружев, которые тетка одолжила ей на этот чрезвычайный случай, но без всяких других украшений; она сняла даже свои небольшие круглые сережки, которые носила ежедневно. Но, очевидно, надобно было сделать что-то еще, прежде чем она наденет косынку и длинные рукава, которые ей нужно было носить днем, потому что теперь она отперла ящик, содержавший в себе ее тайные сокровища. Прошло более месяца с тех пор, когда мы видели, как она открывала этот ящик, и теперь он заключает в себе новые сокровища, которые настолько драгоценнее старых, что последние сдвинуты в угол. Хетти теперь уж не подумает вдеть в уши большие цветные стеклянные серьги, потому что… посмотрите! У нее прелестная пара золотых серег с жемчугом и гранатами, плотно лежащих в миленькой небольшой коробочке, подбитой белым атласом. О, с каким наслаждением вынимает она эту маленькую коробочку и смотрит на серьги! Не рассуждайте об этом, мой философ-читатель, и не говорите, что Хетти, будучи очень красива, должна была знать, что это ничего не значило, были ли на ней какие украшения или нет, и что сверх того, смотря на серьги, которые она не могла надеть вне своей спальни, она едва ли могла чувствовать удовлетворение, так как тщеславие, в сущности, относится к впечатлениям, производимым на других. Вы никогда не вникнете в натуру женщин, если вы рациональны в такой чрезвычайной степени. Старайтесь скорее совлечь с себя все рациональные предрассудки, и старайтесь так, будто вы изучаете психологию канарейки; наблюдайте только за движениями этого прелестного кругленького создания, когда оно наклоняет голову набок, бессознательно улыбаясь при виде серег, гнездящихся в маленькой коробочке. Ах! вы думаете, что улыбка девушки относится к лицу, которое дало ей эти серьги, и что ее мысли отлетели назад к той минуте, когда они были положены в ее руки. Нет, иначе зачем же желала она получить серьги более всего прочего? А я знаю, что она страстно желала иметь серьги из всех украшений, которые только могла себе представить.
– Миленькие, крошечные уши! – сказал Артур, намереваясь ущипнуть их однажды вечером, когда Хетти сидела подле него на траве без шляпки.
– Как хотелось бы мне иметь красивые сережки! – сказала она в одну минуту, почти прежде, нежели знала, что говорила, – желание было так близко к губам, что так и спорхнуло при слабейшем вздохе.
И на следующий же день, только на прошлой неделе, Артур съездил верхом в Россетер для того, чтоб купить их. Это желание, выраженное столь наивно, казалось ему прелестнейшею детскою выходкой, он никогда до того не слышал ничего подобного, и он завернул коробку во множество оберток, чтоб видеть, как Хетти будет развертывать с возрастающим любопытством, пока наконец ее глаза обратятся на него с новым восторгом.
Нет, она не думала больше всего о подарившем, когда улыбалась, смотря на серьги, потому что теперь она вынимает их из коробки не для того, чтоб прижать к губам, а чтоб вдеть в уши… на одну только минуту, желая видеть, как они красивы, когда она глядит украдкой на них в зеркало на стене, давая голове то одно положение, то другое, как птичка, прислушивающаяся к чему-нибудь. Невозможно быть благоразумным в отношении к серьгам, когда смотришь на нее; для чего же существуют такие изящные жемчуга и кристаллы, если не для украшения таких маленьких ушей? Нельзя даже порицать крошечную круглую дырочку, которую они оставляют, когда вынут их из ушей; может быть, водяные нимфы и подобные милые бездушные существа имеют такие крошечные круглые дырочки в ушах уж от природы для того, чтоб вдевать в них драгоценные камни. И Хетти, должно быть, одна из них; трудно предполагать, что она женщина, имеющая перед собою и судьбу женщины, – женщина, в неведении юности создающая легкую ткань безрассудства и тщетные надежды, которые в будущем могут охватить и стеснить ее неприязненным отравленным одеянием, которое вдруг изменит ее воздушные, обыкновенные ощущения, ощущения бабочки, в жизнь, исполненную глубокой человеческой тоски.
Но она не может оставить серьги в ушах долго, иначе, пожалуй, заставит ждать дядю и тетку. Она поспешно кладет их снова в коробочку и запирает. Когда-нибудь ей можно будет носить серьги, какие она захочет, и уж теперь она живет в невидимом мире блестящих нарядов, прозрачного газа, мягкого атласа и бархата, какие горничная на Лесной Даче показывала ей в гардеробе мисс Лидии; она уже чувствует браслеты на руках и ходит по мягкому ковру перед высоким зеркалом. Но у нее в ящике есть одна вещь, которую она смеет надеть сегодня, потому что может привесить ее к цепочке из темнокоричневых бус, которую всегда носила при необыкновенных случаях, с крошечною плоскою скляночкой для духов, скрытою на груди; и она должна надеть свои коричневые бусы – без них ее шея покажется как-то неоконченной. Хетти не так любила медальон, как серьги, хотя это был премиленький большой медальон с эмалевыми цветочками на обороте и красивым золотым ободочком вокруг стекла, за которым виднелся слегка завитой локон светло-русых волос, служивший фоном для двух небольших темных кудрей. Она должна спрятать медальон под платьем, и никто не увидит его. Но у Хетти есть еще другая страсть, она была только несколько слабее ее любви к украшениям, и эта другая страсть заставляла ее охотно носить медальон даже скрытым на груди. Она носила бы его всегда, если б смела встретить вопросы тетки о ленте вокруг шеи. Таким образом теперь она надела его на цепочку темнокоричневых бус и замкнула цепочку, положив ее вокруг шеи. Цепочка не была очень длинна, так что медальон висел немного ниже края ее лица. И теперь ей оставалось только надеть длинные рукава, новую белую газовую косыночку и соломенную шляпку, украшенную сегодня белыми лентами, а не розовыми, которые уж немного полиняли от лучей июльского солнца. Эта шляпка была каплею горечи в чаше Хетти сегодня, потому что она не была совершенно новой, все увидят, что она полиняла несколько против белых лент, и Хетти была уверена, что и у Мери Бердж будет новая шляпка. Чтоб утешить себя, она посмотрела на тонкие белые бумажные чулки. Действительно, они были очень милы, и она отдала за них почти все лишние деньги. Мечты о будущем не могли сделать Хетти нечувствительной к торжеству в настоящем времени; капитан Донниторн, она была в том убеждена, любил ее так, что никогда и не подумает смотреть на других, но эти другие не знают, как он любит ее, и она ни за что не хотела показаться ему на глаза в изношенном и дрянном наряде хотя бы на короткое время.
Все семейство собралось в общей комнате, когда сошла вниз Хетти; все, конечно, были в воскресных платьях. Колокола так гудели в это утро в честь двадцать первой годовщины рождения капитана, и все дело было справлено так рано, что Марти и Томми находились в некотором беспокойстве, пока мать не уверила их, что идти в церковь не составляло части сегодняшнего веселья. Мистер Пойзер полагал, что дом надобно просто запереть и оставить без всякого присмотра, «потому что, говорил он, нечего опасаться, что вломится кто-нибудь: все будут на Лесной Даче, воры и все. Если мы запрем дом, все мужчины могут уйти, ведь такого дня они не увидят два раза в жизни». Но мистрис Пойзер отвечала чрезвычайно решительно:
– С тех самых пор, как я стала хозяйкою, я никогда не оставляла дом без всякого присмотра и никогда не сделаю этого. Довольно таскалось тут около дома бродяг подозрительного вида в последнюю неделю, которые могут унести все наши окорока и ложки. Все они имеют сношения друг с другом, эти бродяги… Еще слава Богу, что не пришли они к нам, не отравили собак, не зарезали всех нас в постели врасплох когда-нибудь в пятницу, ночью, когда у нас деньги в доме, чтоб заплатить работникам. И очень может быть, что бродяги эти знают так же хорошо, как и мы сами, куда мы идем. Будьте уверены, что если уж черт захочет, чтоб совершилось как-нибудь дело, то найдет и средства к тому.
– Что за вздор!.. Зарежут нас в постели! – сказал мистер Пойзер. – Ведь в нашей комнате есть ружье – не правда ли? – а у тебя такие уши, что ты услышишь, если мышь начнет грызть ветчину. Впрочем, если ты думаешь, что не будешь спокойна, то Алик может оставаться дома до обеда, а Тим может возвратиться к пяти часам, и тогда Алик отправится в свою очередь. Они могут спустить Гроулера, если кто захочет сделать какой-нибудь вред; к тому же и Аликова собака готова схватить зубами бродягу, стоит только Алику мигнуть ей.
Мистрис Пойзер приняла это предложение, но считала благоразумным запереть в доме все как можно крепче. В последнюю минуту перед отправлением в путь Нанси, молочница, заперла в общей комнате ставни, хотя окно этой комнаты, находившееся под непосредственным надзором Алика и собак, по всем предположениям, не могло быть выбрано для нападения со взломом.
Крытая телега без рессор уже стояла на месте, готовая везти все семейство, за исключением мужской прислуги; мистер Пойзер и дед сели спереди, а внутри было место для всех женщин и детей; чем полнее была телега, тем лучше, потому что тогда тряска не причиняла такой боли, а к полной фигуре и толстым рукам Нанси можно было прислониться, как к отличной подушке. Но мистер Пойзер ехал не скорее как шагом, чтоб как можно менее подвергаться тряске в этот жаркий день; тут было и время обмениваться приветствиями и замечаниями с пешеходами, отправлявшимися по той же дороге, испещряя тропинки между зеленеющими лугами и золотистыми нивами крапинками движущихся ярких цветов; там и сям виднелся ярко-красный жилет, согласовавшийся с маком, который очень густо рос между созревшей пшеницей и беспрестанно кивал своею макушкою, или темно-синий шейный платок, концы которого развевались поперек совершенно новой белой блузы. Весь Брокстон и весь Геслоп должны были собраться на Лесной Даче и веселиться там в честь наследника; по внушению мистера Ирвайна, было сделано даже распоряжение, чтоб привезти из Брокстона и Геслопа в одной из телег сквайра всех стариков и старух, ни разу не бывавших так далеко по эту сторону горы в последние двадцать лет. Церковные колокола загудели теперь снова и в последний уже раз, так как звонари должны были спуститься вниз, чтоб также принять участие в пиршестве; и, прежде чем замолкли колокола, раздались звуки приближавшейся другой музыки, так что даже старая бурка, степенная лошадь, которая везла телегу мистера Пойзера, навострила уши. То был оркестр «Клуба взаимного вспоможения» в своем полном блеске, то есть в ярко-голубых шарфах с синими лентами и со знаменем, где изображена была каменоломня, окруженная девизом: «Да продлится братская любовь!»
Телеги, разумеется, не должны были въезжать во двор дачи. Всем следовало сходить у ворот и отсылать повозки назад.
– Ну, дача и теперь уж словно ярмарка, – сказала мистрис Пойзер, когда вышла из телеги и увидела группы, рассеянные под большими дубами, и мальчишек, бегавших под лучами палящего солнца и не спускавших глаз с высоких шестов, увенчанных развевавшейся в воздухе одеждой, которая должна была сделаться призом успешных лазунов. – Не думала я, чтоб в двух приходах было столько народа. С нами крестная сила! Что за жара не в тени! Поди сюда, Тотти, а то твое личико загорит от жара, как уголь! Ведь на открытом месте можно сварить обед и сберечь дрова. Я пойду в комнату мистрис Бест прохладиться.
– Погоди-ка, погоди немножко, – сказал мистер Пойзер. – Вон едет телега с стариками. Ведь этого не удастся увидеть еще раз, как они слезут да пойдут все вместе. Ведь ты, батюшка, чай, помнишь некоторых из них молодыми?
– Еще бы, еще бы, – сказал молодой Мартин, медленно расхаживая под портиком привратницкой ложи, откуда мог видеть, как слезало с телеги общество стариков. – Я помню, как Яков Тэфт пятьдесят миль преследовал шотландских бунтовщиков, когда они отступили от Стонитона.
Он чувствовал себя совершенно молодым человеком, с долголетнею жизнью впереди, видя, как геслопский патриарх, старый дедушка Тафт, в коричневом колпаке, слезал с телеги и шел к нему, опираясь на две палки.
– А, мистер Тэфт! – крикнул старый Мартин, собрав все силы своего голоса. Он знал, что старик был совершенно глух, но не мог погрешить против приличия, требовавшего приветствия. – Вы просто молодец молодцом. Вы можете веселиться сегодня, несмотря на ваши девяносто лет с хвостиком.
– Ваш покорнейший слуга, господа, ваш покорнейший слуга, – сказал дедушка Тэфт дискантом, заметив, что был не один.
Группа стариков прошла – под присмотром сыновей и дочерей, так же старых и седых, – по последнему повороту дороги, доступному для повозок, к дому, где был приготовлен для них особенный стол. Семейство же Пойзер благоразумно пустилось по траве под тенью больших деревьев, не упуская, однако ж, из виду передней части дома с покатым лужком и клумбами цветов или красивой полосатой палатки на краю лужка, образовывавшей прямые углы с двумя обширнейшими палатками, стоявшими по обеим сторонам открытого, зеленеющего пространства, назначенного для игр. Дом был бы не что иное, как обыкновенным квадратным жилищем времен королевы Анны, если б не развалины старого аббатства, к которым он примыкал с одной стороны почти таким же образом, как вам иногда удается видеть новый фермерский дом, выдвигающийся чинно и высоко рядом с более старыми и низкими фермерскими службами. Красивые старые развалины стояли несколько в глубине, под тенью высоких дубов, но солнце ударяло теперь на более высокую и выдававшуюся вперед часть дома; все шторы были спущены, и весь дом, казалось, спал в это жаркое полуденное время.
Хетти с грустью смотрела на дом: Артур, конечно, находился где-нибудь в надворных комнатах, с большим обществом, и не мог знать, что она уже была тут, и ей не удастся увидеть его долго, долго… не раньше как после обеда, когда, говорили, он выйдет из дома, чтоб сказать речь. Но Хетти ошибалась в своих предположениях. Не было вовсе большого общества, кроме семейства Ирвайн, за которым рано утром послали карету, и в эту минуту Артур не был в надворной комнате, а ходил с пастором по широким каменным коридорам старого аббатства, где расставлены были длинные столы для всех фермеров и фермерской прислуги. Он имел сегодня вид очень красивого молодого британца, в веселом расположении духа, в яркоголубом сюртучке, по самой последней моде; его рука уж не покоилась более на перевязи. К тому же он имел открытую и искреннюю наружность, но искренние люди имеют свои тайны, а тайны не оставляют признаков на молодых лицах.
– Клянусь честью, – сказал он, когда они вошли в прохладные галереи, – кажется, поселянам-то лучше всех: в этих коридорах можно обедать с наслаждением в жаркий день. Ваш совет превосходен, Ирвайн, касательно обеда… чтоб обед был как можно порядочнее и спокойнее… и только для фермеров, в особенности же потому, что я, говоря откровенно, получил только ограниченную сумму. Хотя дедушка и говорил мне о carte blanche, однако ж не мог одолеть себя и довериться мне, когда дошло дело до денег.
– Это ничего не значит, вы еще больше доставите удовольствия таким спокойным образом, – сказал мистер Ирвайн. – При подобных случаях люди постоянно смешивают щедрость с кутежом и беспорядком. Конечно, это звучит очень важно, если говорят, что вот было изжарено столько-то цельных баранов и быков и ели все, кто только захотел прийти, но на делето обыкновенно случается так, что все обедали без удовольствия. Если люди получат хороший обед и умеренное количество эля среди дня, то они будут в состоянии веселиться за игрою, когда наступит вечерняя прохлада. Конечно, вы не можете помешать тому, чтоб некоторые не напились к вечеру, но пьянство и мрак лучше идут друг к другу, нежели пьянство и дневной свет.
– Ну, надеюсь, таких найдется немного. Я не звал никого из Треддльстона, устроив для них пирушку в городе. Потом у меня Кассон и Адам Бид и еще несколько порядочных людей будут смотреть за раздачей эля в шалашах и позаботятся о том, чтоб разгул не зашел уж слишком далеко. Теперь пойдемте наверх посмотреть обеденные столы для больших фермеров.
Они поднялись по каменной лестнице, которая вела просто в длинную галерею над нижними коридорами, в галерею, куда были изгнаны во времена последних трех поколений все запыленные, негодные старые картины, заплесневелые портреты королевы Елизаветы и ее фрейлин, генерала Монка с выбитым глазом, Даниила уж в слишком глубоком мраке между львами и Юлия Цезаря верхом, с орлиным носом и лавровым венком, держащего в руке комментарии.
– Отлично, право, что спасли эту часть старого аббатства, – сказал Артур. – Если я когда-нибудь сделаюсь здесь хозяином, то возобновлю эту галерею в лучшем вкусе; у нас в целом доме нет ни одной комнаты, которая была бы хоть в третью долю так велика, как эта… Вот этот второй стол для жен и детей фермеров: мистрис Бест говорит, что для матерей и детей будет спокойнее отдельно. Я намеревался посадить детей ко мне и составить с ними настоящую семейную группу. Я сделаюсь старым сквайром для этих мальчишек и девчонок со временем, и они будут рассказывать своим детям, насколько я был красивее своего собственного сына, когда был молодым человеком. Вон дальше еще стол для женщин и детей. Но вы увидите всех… надеюсь, вы подниметесь вместе со мною после обеда?
– Да, непременно, – сказал мистер Ирвайн. – Я во что бы ни стало хочу слышать вашу девственную речь к арендаторам.
– И это еще не все, вам приятно будет услышать еще кое-что другое, – сказал Артур. – Пойдемте в библиотеку, там я вам расскажу все по порядку, пока дедушка в гостиной с дамами. Это кое-что удивит вас, – продолжал он, когда они сели. – Дедушка наконец переменил свое мнение.
– Как, насчет Адама?
– Да, мне нужно было бы съездить к вам, чтоб рассказать об этом, но я был так занят. Я, помните, говорил вам, что уж отказался рассуждать с ним об этом деле; я думал, что это будет напрасно. Но вчера утром он велел сказать мне, чтоб я зашел к нему сюда, прежде чем выйду из дому, и решительно поразил меня, сказав, что уж совершенно обдумал все новые распоряжения, которые должен сделать по случаю болезни Сачелля, заставляющей последнего оставить дела, и что он намерен назначить Адама к управлению лесами, дать ему жалованье одну гинею в неделю и предоставить в его распоряжение пони, которая будет содержаться здесь. Я полагаю, это можно объяснить тем, что он уж сначала видел всю выгодную сторону плана, но имел какое-то особенное нерасположение к Адаму, которое нужно было преодолеть; кроме того, факт, что я предлагаю что-нибудь, служит для него обыкновенно причиной, чтоб не согласиться на это предложение. В дедушке вы встретите любопытнейшие противоречия: так, я знаю, что он хочет оставить мне все деньги, им сбереженные, и что он, весьма вероятно, посадит бедную тетушку Лидию, которая была его рабою всю жизнь, только на пятьсот фунтов ежегодного дохода, ради того чтоб оставить мне более, а между тем мне кажется иногда, что он положительно ненавидит меня именно за то, что я его наследник. Я думаю, если б я сломал себе шею, то он счел бы это величайшим несчастьем, какое только могло бы постигнуть его, а между тем ему, кажется, доставляет удовольствие наполнять мою жизнь одними мелочными неприятностями.
– А, мой друг, не только любовь женщины есть (жесткая любовь), как говорил старик Эсхил; на белом свете существует изобилие «нелюбящей любви» в мире мужского рода. Но расскажите же мне об Адаме. Принял он должность? Я не думаю, чтоб она была гораздо выгоднее его настоящих занятий, хотя, конечно, он при ней будет иметь довольно много свободного времени, которым может располагать, как хочет.
– Да, и я сомневался в том, что он примет, когда говорил ему, и сам он сначала, казалось, колебался. Он возразил, что, по его мнению, не будет в состоянии удовлетворить дедушке. Но я просил его, чтоб он, из личного расположения ко мне, устранил причину, которая могла бы препятствовать ему принять это место, если ему действительно нравится занятие и если ему не приходится оставить что-нибудь более выгодное для него. И он уверял меня, что ему нравится это место чрезвычайно: оно будет для него большим шагом вперед в делах и даст ему возможность привести в исполнение то, что он давно уже хотел сделать, перестать работать у Берджа. Он говорит, что у него хватит довольно времени для того, чтоб надзирать за своим собственным небольшим делом, которым будет заниматься с Сетом и которое, может быть, даже будет в состоянии увеличивать мало-помалу. Таким образом, он наконец согласился, и я устроил, чтоб он обедал с большими арендаторами сегодня. Я хочу объявить им о назначении и попрошу их выпить за здоровье Адама. Это небольшая драма, которую я сочинил в честь моего друга Адама. Он прекрасный малый, и я рад случаю, который позволяет мне показать людям, что я думаю так.
– Драма, которая заставляет друга Артура гордиться тем, что он играет в ней прекрасную роль, – сказал мистер Ирвайн, улыбаясь; увидев, однако ж, что Артур покраснел, продолжал мягче: – Вы знаете, моя роль всегда роль старого хрыча, который не видит ничего удивительного в молодых людях. Я не люблю признаваться, что горжусь своим воспитанником, когда он делает милые вещи, но на этот раз я решился играть роль доброго старичка и поддержу ваш тост в честь Адама. А что, ваш дедушка поддался и на другое дело и согласился взять себе в управляющие почтенного человека?
– О, нет! – сказал Артур, вскочил со стула с нетерпеливым видом и, заложив руки в карман, принялся ходить по комнате. – У него какие-то особенные планы касательно отдачи внаем лесной фермы, и он хочет выторговать известный запас молока и масла для дома. Но об этом я не спрашиваю его, потому что это бесит меня уж чересчур. Кажется, он все хочет делать сам и не желает видеть никого в образе управляющего. Я, однако ж, право, удивляюсь, какая у него энергия.
– Ну, теперь отправимся к дамам, – сказал мистер Ирвайн, также вставая. – Я хочу рассказать матушке, какой великолепный трон приготовили вы для нее в палатке.
– Да, и кстати нам нужно также идти завтракать, – сказал Артур. – Теперь, я думаю, два часа. Начинают бить в медную доску: это зовут арендаторов.
XXIII. За столом
Когда Адам узнал, что должен обедать наверху с большими фермерами, он стал несколько беспокоиться при мысли, что таким образом возвышен над своею матерью и Сетом, которые должны были обедать в нижних коридорах. Но мистер Мильз, буфетчик, уверял его, что капитан Донниторн отдал особенные приказания об этом и очень рассердится, если Адам не будет там.
Адам кивнул головою и подошел к Сету, стоявшему в нескольких шагах от него.
– Брат Сет, – сказал он, – капитан прислал сказать, чтоб я обедал наверху, он непременно желает этого, говорит мистер Мильз; таким образом, это значило бы вести себя дурно, если б я не пошел туда. Но мне не нравится, что я должен сидеть над тобою и матерью, как будто я лучше своей собственной плоти и крови. Тебе, я надеюсь, не будет неприятно это?
– Нет, нет, брат, – сказал Сет, – твой почет есть и наш почет, и если ты получаешь уважение, то достиг его собственными достоинствами. Чем выше я вижу тебя надо мною, тем лучше, пусть только останутся при тебе братские чувства. Это происходит оттого, что ты назначен к лесам, и это только справедливо. Такое место есть место доверия, и теперь ты стал выше обыкновенного работника.
– Конечно, – сказал Адам, – никто, однако ж, не знает еще об этом ни слова. Я ничего не говорил мистеру Берджу о том, что оставляю его, и не хочу говорить об этом никому, пока он не узнает, потому что ему будет это очень неприятно, без сомнения. Все удивятся, увидев меня там, и, очень вероятно, начнут делать различные догадки о причине и делать вопросы, потому что в последние три недели было столько разговоров насчет назначения меня к этой должности.
– Ну, ты можешь сказать, что тебе приказали прийти, не объяснив причины. И это правда. А матушка будет рада и в восторге. Пойдем и расскажем ей.
Адам не был единственным гостем, приглашенным наверх по другим причинам, а не потому только, что он способствовал увеличению доходов. В двух приходах были другие люди, значение которых происходило скорее от должности, нежели от кармана; к числу таких принадлежал и Бартль Масси. В этот жаркий день он шел, прихрамывая, медленнее обыкновенного. Таким образом, Адам оставался позади, когда колокол звонил к обеду, чтоб взойти наверх вместе со своим старым другом. У него не хватало духу присоединиться к семейству Пойзер при публичном случае. Без всякого сомнения, случай быть подле Хетти представится еще в течение дня, и Адам утешал себя этим, не желая подвергаться тому, чтоб его дразнили Хетти: высокий, красноречивый, безбоязненный мужчина был весьма робок и недоверчив в своем ухаживании.
– Ну, мистер Масси, – сказал Адам, когда подошел Бартль, – сегодня я обедаю с вами наверху: капитан приказал.
– А! – сказал Бартль, останавливаясь и держа одну руку назади. – Значит, тут есть что-то особенное, что-то особенное. Не слыхали ли вы, что хочет делать старый сквайр?
– Слышал, – сказал Адам. – Я скажу вам, что знаю, так как я уверен, что вы попридержите ваш язык, если захотите; надеюсь, вы не пророните ни словечка, пока это не станет известно всем, потому что я имею особенные причины не разглашать этого.
– Доверьтесь мне, мой друг, доверьтесь. У меня нет жены, которая стала бы выпытывать у меня что-нибудь, потом побежала бы от меня и давай кудахтать об этом на весь мир. Если вы хотите довериться кому-нибудь, то доверьтесь только холостяку, непременно холостяку.
– Итак, вчера наконец решили, что я буду иметь надзор за лесами. Капитан послал за мною, чтоб предложить мне это, когда я ставил здесь шесты и другие вещи, и я согласился. Но если кто-нибудь наверху станет спрашивать об этом, то не замечайте вопросов и постарайтесь заговорить о чем-нибудь другом. Вы очень обяжете этим меня. Ну, теперь пойдемте, мы, кажется, остались почти последними.
– Не бойтесь, я знаю, что делать, – сказал Бартль, тронувшись с места. – Эти новости будут хорошею приправою для моего обеда. Да, да, мой друг, вы пойдете вперед. Я могу поручиться, что ни у кого в графстве не найдется такого, как у вас, верного глаза для измерений и такой способной к вычислениям головы, да и вас хорошо учили… хорошо учили.
Когда они взошли наверх, то вопрос, который Артур оставил нерешенным, вопрос о том, кому быть президентом и кому вице-президентом, все еще служил предметом жарких прений, так что появление Адама прошло незамеченным.
– Само собою разумеется, – говорил мистер Кассон, – что старый мистер Пойзер, как старше всех здесь в комнате, должен сидеть за столом на первом месте. Недаром же я был буфетчиком пятнадцать лет, уж как же мне не знать всего, что касается обедов.
– Нет, нет, – говорил старый Мартин, – я предоставляю это моему сыну, я уж теперь не арендатор, пусть мой сын займет мое место. И старые люди имели свою очередь, теперь они должны уступить молодым.
– А я так думаю, самый значительный фермер имеет и прав больше самых старых, – сказал Лука Бриттон, не любивший критика мистера Пойзера. – Вот мистер Гольдсворт имеет земли больше всех других в имении.
– Ну, – сказал мистер Пойзер, – скажем лучше, пусть тот займет первое место, у кого самая беспорядочная земля, – тогда кто удостоится этой чести, не будет иметь завистников.
– А, вот мистер Масси! – сказал мистер Крег, который, оставаясь нейтральным в споре, желал только примирения. – Учитель в состоянии сказать вам, на чьей стороне право. Кому занять первое место за столом, мистер Масси?
– Конечно, самому толстому, тогда он не будет отымать места у других, а другой толстяк должен сидеть на конце стола.
Этот счастливый способ окончания спора произвел сильный смех, для этого, впрочем, было бы достаточно и меньшей шутки. Мистер Кассон, однако ж, считал несовместным с своим достоинством и высшими знаниями присоединиться к смеявшимся, пока не оказалось, что указали на него как на второго толстяка. Мартин Пойзер-младший, как толще всех, был избран президентом, а мистер Кассон, как второй толстяк, вице-президентом. Благодаря этому назначению Адам, стоявший в это время на конце стола, был, конечно, немедленно замечен мистером Кассоном, который, будучи до этих пор слишком занят упомянутым вопросом, не заметил появления молодого плотника. Мы знаем, что мистер Кассон считал Адама несколько надутым и важным – по его мнению, господа уж слишком много хлопотали о молодом плотнике; они вовсе не хлопотали о мистере Кассоне, несмотря на то что он был отличным буфетчиком в продолжение пятнадцати лет.
– А, мистер Бид! Вы принадлежите к числу тех, которые шибко идут вперед, – сказал он, когда сел Адам. – Мне помнится, вы прежде не обедали здесь.
– Нет, мистер Кассон, – сказал Адам своим звучным голосом, который могли слышать все, сидевшие за столом, – я ни разу не обедал здесь прежде, но нахожусь здесь по желанию капитана Донниторна и надеюсь, что это никому не будет неприятно.
– Нет, конечно нет, – раздалось несколько голосов, – мы очень рады, что вы здесь. Кто же может быть недоволен этим?
– А вы споете нам после обеда «За горами – за долами». Не правда ли? – сказал мистер Чоун. – Я чрезвычайно люблю эту песню.
– Что вы говорите! – сказал мистер Крег. – Можно ли сравнить ее с какой-нибудь шотландской песнью? Я сам никогда, разумеется, не пою: есть у меня дело и получше этого. Человек, у которого в голове имена и природа растений, разумеется, не может иметь пустого места, чтоб помнить песни. Но один мой троюродный брат, погонщик, имел редкую память на шотландские песни. Правда, ему было не о чем больше и думать.
– Шотландские песни! – сказал Бартль презрительно. – Я так наслышался этих шотландских песен, что мне достаточно на всю жизнь. Они только и годятся на то, чтоб пугать птиц, то есть английских птиц, потому что шотландские птицы, может быть, поют по-шотландски, я этого не знаю. Дайте мальчишкам волынку вместо погремушек, и я отвечаю вам за то, что зерно будет цело.
– Да, есть люди, которые находят удовольствие в том, чтоб ругать то, чего они вовсе не знают, – сказал мистер Крег.
– Шотландские песни все равно что сварливая баба, – продолжал Бартль, не обращая ни малейшего внимания на замечание мистера Крега, – в них беспрестанно повторяется все одно и то же, и ни одна из них не имеет совести остановиться. Всем, кто слышал шотландские песни, кажется, словно они спрашивают о чем-то человека, который глух, как старый Тэфт, и никогда не могут добиться какого-нибудь ответа.
Адаму не было особенно неприятно, что он сидел рядом с Кассоном: с этого места он мог видеть Хетти, сидевшую недалеко от него за другом столом. Хетти, впрочем, даже и не заметила до этих пор его присутствия, потому что все время сердилась на Тотти, которая беспрестанно втаскивала ноги на скамейку, по древнему обычаю, и тем угрожала наделать пыльные следы на Хеттином розовом с белым платье. Только что успевала Хетти сдернуть долой крошечные толстенькие ножонки, как они уж снова были на скамейке, потому что глазенки Тотти, выпученные на большие блюда, были слишком заняты отыскиванием плум-пудинга, и малютка вовсе не сознавала, что происходило с ее ножонками. Хетти вышла совершенно из терпения и наконец, надувшись и насупив брови, почти со слезами на глазах сказала:
– Милая тетушка, крикните, пожалуйста, на Тотти: она все поднимает ноги и мнет мне платье.
– Ну, что еще такое сделал ребенок? Она никогда не может угодить на тебя, – сказала мать. – Пусти ее ко мне, мне уж она не надоест.
Адам смотрел на Хетти и видел, как она надулась и насупила брови, как черные глаза, казалось, становились больше от подступавших, причиненных капризом слез. Кроткая Мери Бердж, сидевшая довольно близко и видевшая, что Хетти сердилась и что глаза Адама были устремлены на последнюю, думала, что такой умный человек, как Адам, вероятно, рассуждает о том, как ничтожна красота в женщине, имеющей такой дурной нрав. Мери была добрая девушка, не позволявшая себе предаваться дурным чувствам, но она думала, что так как Хетти имела дурной нрав, то лучше было бы, чтоб Адам знал это. И это было совершенно справедливо, что, если б Хетти не была красавица, она в эту минуту показалась бы очень дурной и неприятной, и никто не мог бы ошибиться в своем нравственном мнении о ней. Но действительно в ее сердитом виде было что-то очень очаровательное: он гораздо более походил на наивную печаль, нежели на досаду, и строгий Адам вовсе не порицал ее поведения. Он чувствовал только в некотором роде забавное сожаление, как будто видел кошечку, поднимавшую спинку, или маленькую птичку с взъерошенными перьями. Он не мог догадываться, что возбуждало ее досаду, но был в состоянии чувствовать только то, что она была красивейшее создание на свете и что, если б это было в его власти, ничто в мире не заставило бы ее сердиться. И немного спустя, когда Тотти ушла от нее, она встретила его взор, и на ее лице отразилась самая ясная улыбка в то время, как она кивнула ему головою. В этом была некоторая доля кокетства: Хетти знала, что Мери Бердж смотрит на нее и на Адама; но ее улыбка была для Адама упоительна.
XXIV. Заздравные тосты
Когда обед кончился и начата была большая бочка эля, назначенного ко дню рождения, для толстого мистера Пойзера было очищено место сбоку от стола, а во главе поставлены два стула. Уж совершенно решили, что должен был делать мистер Пойзер, когда появится молодой сквайр, и в последние пять минут на его лице выражалось развлечение, его глаза были устремлены на мрачный портрет, висевший против него, руки заняты перебиранием денег и других предметов в карманах его панталон.
Когда вошел молодой сквайр рядом с мистером Ирвайном, все встали, и этот момент почтения был весьма приятен для Артура. Он с удовольствием чувствовал свою собственную важность, и, кроме того, он считал очень важным, что пользовался любовью этих людей: ему было приятно думать, что они чувствовали к нему искреннее, особенное уважение. Удовольствие, ощущаемое им, отразилось на его лице, когда он сказал:
– Дедушка и я надеемся, что все наши друзья здесь обедали с удовольствием и нашли эль моего дня рождения хорошим. Мистер Ирвайн и я пришли выпить эль с вами, и, я уверен, всем нам еще более понравится то, что разделит с нами пастор.
Все взоры обратились теперь на мистера Пойзера, который, все еще работая своими руками в карманах, заговорил с такою же осторожностью, с какой бьют часы с медленным боем:
– Капитан! Мои соседи поручили мне говорить за них сегодня, потому что там, где все люди думают совершенно одинаково, достаточно и одного говорящего вместо двадцати. Хотя мы, может быть, и имеем различные мнения о многих предметах – один человек распоряжается на своей земле так, а другой иначе, – и если б речь зашла об обрабатывании земли, то я не стал бы говорить только о своем собственном, я скажу, что все мы, однако ж, согласны в мнении о нашем молодом сквайре. Почти все мы знали вас, когда вы были мальчиком, и знали за вами только добрые и благородные поступки. Вы обещаете много прекрасного и действуете по обещанию, и мы с радостью ожидаем того времени, когда вы будете нашим помещиком, так как мы уверены, что вы ко всем будете справедливы и никому не сделаете хлеба горьким, если только это будет в вашей власти. Вот что я думаю и вот что думаем мы все; а когда человек сказал, что думает, то пусть он лучше на этом и остановится: эль не сделается лучше от того, что будет стоять долее на столе. Я не скажу еще, как нам понравился эль, потому что мы не могли пить его, пока не выпили за ваше здоровье; но обед был хорош, и кто обедал не с удовольствием, тот сам виноват. Что ж касается до участия пастора в нашем веселье, то ведь очень хорошо известно, что ему рад весь приход, где бы он ни показался; и я надеюсь, и все мы надеемся, что он доживет до тех пор, когда мы станем стариками, а дети наши станут взрослыми мужчинами и женщинами, а ваша честь – человеком семейным. Мне больше нечего сказать о настоящем времени. Итак, выпьем за здоровье нашего молодого сквайра… трижды три ура!
Затем раздались дружные клики, аплодисменты, чоканье, стук и снова крики с бесконечным da capo, приятнее звуков величественной музыки в ушах, получающих подобную дань впервые. Артур почувствовал движение совести во время речи мистера Пойзера, но оно было столь незначительно, что не могло уничтожить удовольствия, которое он ощущал при таких похвалах. Впрочем, разве он не заслужил того, что было сказано о нем? Если и было что-нибудь в его поведении, что не понравилось бы мистеру Пойзеру, если б только это было известно ему, то ничье поведение не выдержит слишком близкого разбора, а Пойзер едва ли узнает об этом. Впрочем, что ж он сделал особенного? Он, может быть, зашел немного далеко в волокитстве, но другой человек на его месте поступил бы гораздо хуже, и вреда от того не будет, конечно, уж вреда не будет никакого, потому что в первый же раз, когда он будет с Хетти наедине, он объяснит ей, что она не должна серьезно думать о нем или о том, что случилось. Вы видите, Артуру было необходимо быть довольным собой: он должен освободиться от беспокойных мыслей при помощи добрых намерений относительно будущего времени, которые можно образовать так быстро, что он успел быть озабоченным и снова сделаться спокойным, прежде чем мистер Пойзер окончил свою медленную речь, и когда пришло время говорить ему, то он был уже в совершенно веселом расположении.
– Благодарю вас всех, добрые друзья и соседи, – сказал Артур, – за доброе мнение обо мне и искренние чувства ко мне, которые выразил мистер Пойзер от имени вашего и своего собственного, и моим искреннейшим желанием будет всегда заслужить их. Мы можем ожидать, что я буду со временем вашим помещиком, если буду жив. Действительно, на основании этого ожидания дедушка желал, чтоб я праздновал этот день и пришел в вашу среду теперь; и я смотрю на свое будущее положение не только как на дающее власть и удовольствие мне самому, но как на положение дающее мне средства делать добро ближним. Такому молодому человеку, как я, едва ли следует говорить много о фермерстве вам, так как вы по большей части гораздо старше и опытнее меня; тем не менее этот предмет всегда возбуждал мою любознательность, и я изучил его, насколько позволял мне случай. Когда со временем имение перейдет в мои руки, то первым моим желанием будет доставлять моим арендаторам всякое поощрение, которое находится во власти помещика, именно улучшая их землю и стараясь ввести лучший способ земледелия. Я желаю, чтоб все мои почтенные арендаторы смотрели на меня как на своего лучшего друга, и ничто не сделает меня столь счастливым, как то, если я буду в состоянии уважать каждого человека в имении и, в свою очередь, пользоваться уважением всех. Я считаю неуместным входить в частности в настоящую минуту, только отвечая на ваши добрые надежды касательно меня, объявляя вам, что мои собственные надежды согласуются с ними… что я желаю привести в исполнение именно то, чего вы ожидаете от меня. Я совершенно согласен с мнением мистера Пойзера: когда человек сказал все, что он думает, то ему лучше замолчать. Но удовольствие, ощущаемое мною оттого, что вы пили за мое здоровье, было бы неполно, если б мы не выпили за здоровье моего деда, заменившего мне обоих родителей. Итак, я подожду, пока вы выпьете со мною за его здоровье сегодня, когда он желал, чтоб я явился среди вас как будущий представитель его имени и фамилии.
Может быть, никто из присутствующих, кроме мистера Ирвайна, не совершенно понимал и одобрял того, как грациозно Артур предложил выпить за здоровье своего деда. Фермеры думали, что молодому сквайру было довольно хорошо известно, как они ненавидели старого сквайра, и мистрис Пойзер сказала: «Напрасно тронул он горшок с прокислым супом». Сельский ум не тотчас схватывает утонченности хорошего тона. Но нельзя же было отвергнуть тост; и когда все снова стихло, Артур сказал:
– Благодарю вас за моего деда и за себя, и теперь я желаю сообщить вам еще нечто для того, чтоб вы могли разделить со мною мое удовольствие о том, так как я надеюсь и уверен, что это доставит вам удовольствие. Кажется, здесь не найдется человека, который бы не уважал, а я уверен, есть между вами и такие, которые высоко ценят моего друга Адама Бида. Всем в околотке хорошо известно, что нет человека, на слова которого можно было бы положиться более, нежели на его слова, что все, что он только ни предпримет, он делает хорошо и что он так же печется об интересе тех, у которых работает, как о своем собственном. Я с гордостью объявляю, что очень любил Адама в детстве и с тех пор не лишился моих прежних чувств к нему; это, кажется, доказывает, что я узнаю хорошего малого, когда найду его. Я уже давно желал, чтоб он получил управление лесами в имении, составляющими весьма ценную статью дохода, и желал не только потому, что высоко ценю его характер, но и потому, что он обладает познаниями и ловкостью, делающими его способным к этой должности. И я счастлив, сообщая вам, что и дед мой желает того же, и теперь уже решено, что Адам будет управлять лесами. Эта перемена, я убежден, принесет большую пользу имению. Я надеюсь, вы немного погодя выпьете со мною за его здоровье и пожелаете ему возможного счастья в жизни, которое он так заслуживает. Но есть у меня здесь друг еще старше Адама Бида, и мне не нужно говорить вам, что это мистер Ирвайн. Вы, я уверен, согласитесь со мною, что мы прежде всего должны выпить за его здоровье. Я знаю, все вы имеете основание любить его, но никто из его прихожан не имеет столько причин любить его, как я. Итак, наполним стаканы и выпьем за здоровье нашего превосходного пастора… трижды три ура!
Этот заздравный тост был принят со всем восторгом, которого явно недоставало предыдущему. Конечно, то был самый живописный момент в сцене, когда мистер Ирвайн поднялся, чтоб говорить, и все лица присутствовавших в комнате обратились к нему. Его лицо поражало своею высшей утонченностью более, нежели лицо Артура, в сравнении с окружавшими лицами. Лицо Артура было скорее обыкновенное британское лицо, и великолепие его новомодного платья было сродни вкусу в костюме молодого фермера, нежели пудра мистера Ирвайна и его хорошо вычищенная, но и хорошо поношенная черная одежда, которая, казалось, была его любимым костюмом при необыкновенных случаях, потому что он обладал таинственным секретом никогда не носить платья, имевшего вид нового.
– Уж не впервые, – сказал он, – должен я благодарить моих прихожан за выражение их добродушия, но расположение ближних принадлежит к числу таких вещей, которые, чем старее, тем становятся драгоценнее. Действительно, наша приятная встреча сегодня служит доказательством того, что когда доброе становится совершеннолетним и, по всей вероятности, будет еще жить, то мы имеем причину этому радоваться, а отношения между нами, как пастора и прихожан, достигли совершеннолетия два года назад, потому что вот уж двадцать три года, как я пришел в первый раз в вашу среду, и я вижу теперь многих стройных и красивых молодых людей здесь, также цветущих молодых женщин, которые смотрели на меня, когда я крестил их, далеко не так ласково, как, к счастью, они смотрят на меня теперь. Но вы, я уверен, не удивитесь, когда я скажу, что из всех молодых людей один, в котором я принимаю сильнейшее участие, мой друг мистер Артур Дон-ниторн, которому вы только что высказали ваше уважение. Я имел удовольствие быть его воспитателем в продолжение нескольких лет и, натурально, имел возможность узнать его коротко, чего не могло случиться ни с кем другим из присутствующих здесь; и я с гордостью и удовольствием уверяю вас, что разделяю ваши высокие надежды касательно его и вашу уверенность в том, что он обладает качествами, которые сделают его прекрасным помещиком в то время, когда он займет между вами это важное положение. Мы чувствуем одинаково в большей части предметов, в которых человек пятидесяти лет может одинаково чувствовать с юношей двадцати одного года. Так, он только что выразил чувство, которое я разделяю с ним от всей души, и я не желал бы не воспользоваться случаем, чтоб выразить это. Это чувство состоит в том, как он ценит и уважает Адама Бида. О людях, занимающих видное положение, конечно, думают и говорят больше и их добродетели восхваляются больше, нежели достоинство людей, жизнь которых протекла в скромном ежедневном труде. Но каждый умный человек знает, как необходим этот скромный ежедневный труд и как важно для нас то, чтоб он был хорошо исполнен. И я вполне разделяю мнение моего друга мистера Артура Донниторна, что когда человек, обязанность которого заключается в такого рода труде, показывает характер, делающий его примером в его положении, то его достоинство должно быть признаваемо. Он один из тех, которому подобает честь, и его друзья должны с радостью почитать его. И знаю Адама Бида, и хорошо знаю как работника и как сына и брата, и я скажу простейшую истину, говоря, что уважаю его так, как только можно уважать кого-либо на свете. Но я говорю с вами не о чужом; некоторые из вас его короткие друзья, и я уверен, что здесь не найдется человека, который не знал бы его настолько, чтоб не от души выпил с нами за его здоровье.
Когда мистер Ирвайн остановился, Артур вспрыгнул с своего места и, наполнив стакан, воскликнул:
– Весь стакан за Адама Бида, и пусть Адам наживет сыновей, столь же честных и искусных, как он сам!
Никто из слушателей, даже и Бартль Масси, не был в таком восторге от этого тоста, как мистер Пойзер: как ни трудной работой была его первая речь, он непременно вскочил бы и произнес другую, если б не понимал, что подобная вещь будет совершенно выходить из порядка дел. Итак, он нашел исход своему чувству, выпив свой эль необыкновенно быстро и поставив стакан со взмахом руки и решительным стуком. Если Джонатан Бердж и немногие другие и были не совсем довольны этим случаем, они, тем не менее, всеми силами старались казаться довольными, и все, по-видимому, отвечали на тост единодушным восторгом.
Когда Адам встал, чтоб благодарить своих друзей, он был бледнее обыкновенного. Очень натурально, он был сильно тронут данью, которую ему приносили публично: он находился среди всего своего ограниченного мира, и последний собрался тут, чтоб оказать ему честь. Он не чувствовал робости при мысли о том, что ему надобно говорить, так как его не смущали ни мелкое тщеславие, ни недостаток в словах. В нем не было заметно ни неловкости, ни замешательства. Он стоял, по своему обыкновению, твердо и прямо, несколько откинув голову назад и держа руки совершенно спокойно, с грубым достоинством, свойственным умным, честным, стройным работникам, которые знают свои обязанности на этом свете.
– Я совершенно поражен удивлением, – сказал он, – я вовсе не ждал такого назначения, потому что оно принесет больше того, что я получаю теперь, но тем более я должен быть благодарен вам, капитан, и вам, мистер Ирвайн, и всем моим друзьям здесь, которые выпили за мое здоровье и пожелали мне всего хорошего. Нелепо было бы с моей стороны, если б я сказал, что вовсе не заслуживаю мнения, которое вы имеете обо мне. Я не выразил бы вам своей благодарности, если б сказал, что вы знали меня с детства, а между тем не были столько проницательны, чтоб узнать мой настоящий характер. Вы думаете, если я примусь за какую-нибудь работу, то сделаю ее хорошо, все равно заплатят ли мне много или мало, и это правда. Мне было бы стыдно находиться здесь между вами, если б это не была правда. Но мне кажется, это просто обязанность человека и этим нечего гордиться, и я ясно понимаю, что никогда не делал больше своей обязанности. Что бы мы ни делали, мы только пользуемся тем духом и теми силами, которые даны нам. Таким образом, я убежден, что ваше расположение ко мне не есть долг, который мне следует, а добровольный дар; итак, я принимаю это с благодарностью. Что ж касается нового занятия, которое я получаю теперь, то я скажу только, что принял его по желанию капитана Донниторна и постараюсь оправдать его ожидания. Мне не хотелось бы ничего другого в жизни, как работать для него и знать, что, добывая себе насущный хлеб, я забочусь и о его интересах – по моему твердому убеждению, он один из тех джентльменов, которые желают делать доброе и справедливое и оставить свет лучше, чем они нашли его, что, по моему верованию, может делать каждый, джентльмен или простолюдин, тот, кто пускает в ход большие предприятия и имеет на то деньги, или тот, кто исполняет свое дело собственными руками. Больше мне нечего сказать о том, что я чувствую относительно капитана, я надеюсь показать это моими делами в продолжение остальной моей жизни.
Мнении о речи Адама были различны: некоторые женщины шепотом говорили друг другу, что он выказался недостаточно признательным и говорил как нельзя более гордо; но мужчины по большей части были того мнения, что никто не мог сказать прямее и что Адам был просто молодец. Между тем как шепотом передавались эти замечания, а также и другие вопросы, о том, например, как распорядится старый сквайр касательно назначения нового управителя и возьмет ли он себе дворецкого, оба джентльмена встали и пошли к столу, где сидели женщины и дети. Тут, натурально, не было крепкого эля, а были вино и десерт: великолепной крыжовник для молодых и хороший херес для матерей. Мистрис Пойзер сидела во главе стола, и Тотти была теперь у нее на коленях, глубоко уткнув свой крошечный носик в рюмку с вином и отыскивая плававшие в ней орешки.
– Как вы поживаете, мистрис Пойзер? – спросил Артур. – Я думаю, вы были довольны, услышав, какую славную речь произнес ваш муж сегодня?..
– О, сэр, мужчины по большей части бывают так неразвязны. Вам отчасти приходится догадываться о том, что они думают, словно вы имеете дело с бессловесными существами.
– Как! уж не думаете ли вы, что могли бы сказать речь лучше его? – спросил мистер Ирвайн, смеясь.
– Конечно, сэр. Если мне нужно сказать что-нибудь, то я обыкновенно могу найти слова для этого, слава Богу. Но я вовсе не хочу этим порицать своего мужа: он, правда, говорит мало, но уж и твердо держится того, что скажет.
– Право, я в восторге от этого прекрасного общества, – сказал Артур, посматривая на румяных детей. – Тетушка и мисс Ирвайн скоро придут сюда поздороваться с вами. Они испугались шума заздравных тостов, но им было бы стыдно, если б они не навестили вас за столом.
Он продолжал идти, разговаривая с матерями и ласково гладя по голове детей, между тем как мистер Ирвайн довольствовался тем, что стоял спокойно и кивал головою издалека, желая, чтоб никто не отвращал своего внимания от молодого сквайра, героя торжества. Артур не решался остановиться подле Хетти, а только поклонился ей, когда проходил по противоположной стороне. Глупая девушка чувствовала, как ее сердце наполнялось неудовольствием. Какая женщина бывала довольна, если ей казалось, что с ней обращались небрежно, даже когда она знала, что эта небрежность служила только маской любви? Хетти воображала, что она уж давно не переживала столь несчастного дня. В ее мечты проникли на минуту холодный дневной свет и действительность: Артур, который, казалось, был так близок к ней только несколько часов назад, был разлучен с ней, как герой большой процессии разлучен с ничтожным зрителем в толпе.
XXV. Игры
Танцы собственно должны были начаться только в восемь часов, но для мальчиков и девушек, которым захотелось бы потанцевать раньше на траве под тенью, была музыка под рукой – разве труппа благотворительного клуба не была способна играть превосходные жиги, хороводы и матросские плиски? Кроме того, была нанята большая труппа из Россетера, которая своими удивительными духовыми инструментами и надутыми щеками приводила маленьких мальчиков и девчушек в неописанный восторг. Мы почти могли бы умолчать о скрипке Джошуа Ранна, которой он запасся, движимый благородною предусмотрительностью на случай, если у кого-нибудь найдется достаточно чистый вкус для того, чтоб предпочесть для своих танцев соло на его инструменте.
Между тем лишь только солнце скрылось с большого открытого пространства перед домом, как начались и игры. Тут, конечно, стояли хорошо намыленные шесты, на которые должны были лезть мальчишки и молодые парни, были устроены беги для старух, беги в мешках; тут находились большие тяжести, которые должны были поднимать сильные мужчины, и длинный список вызовов к фокусам, исполнение которых было делом чести, – так, например, проскакать как можно большее пространство на одной ноге. Все это были штуки, в которых, по общему мнению, уж непременно отличится перед прочими на славу Жилистый Бен – самый проворный и живой малый в околотке. В заключение должен был происходить бег ослов – самый величественный бег из всех, который основывался на великой идее социалистов: каждый ободряет осла, принадлежащего другому, выигрывает же самый жалкий осел.
Вскоре после четырех часов Артур привел величественную старую мистрис Ирвайн, в великолепном штофном платье, в украшениях и черных кружевах, за которой следовала и вся фамилия, к возвышенному месту в полосатой палатке, где она должна была раздавать призы победителям. Важная, церемонная мисс Лидия просила позволения уступить эту королевскую должность старой величественной леди, и Артур с удовольствием воспользовался случаем, который давал ему возможность угодить крестной матери в ее страсти к важности. Старый мастер Донниторн, изящно-чистый, пропитанный духами сухощавый старик, вел мисс Ирвайн с своей обычной слишком точной кислой вежливостью; мистер Гавен вел мисс Лидию, в изящном шелковом платье персикового цвета, имевшую беспристрастный и принужденный вид; и последним шел мистер Ирвайн со своею бледною сестрою Анною. Из всех друзей семейства один мистер Гавен был приглашен сегодня: большой обед для всех соседних помещиков был назначен на завтра, сегодня же следовало употребить все силы на то, чтоб угостить на славу арендаторов.
Перед палаткой был вырыт ров, разделявший лужок от парка, но для прохода победителей был сделан временный мостик, и группы людей, стоявших на лугу или сидевших там и сям на скамьях, тянулись с каждой стороны открытого пространства от белых палаток до рва.
– Какое, право, прелестное зрелище! – сказала старая леди своим низким голосом, когда села и окинула взором светлую сцену с темно-зеленым фоном. – И, вероятно, это последний праздник, который я вижу… Если вы только не поспешите жениться, Артур. Но смотрите, чтоб у вас была очаровательная невеста, а то я скорее соглашусь умереть, не видав ее.
– Вы так ужасно взыскательны, крестная, – сказал Артур. – Я боюсь, что никогда не буду в состоянии угодить вам своим выбором.
– Могу вас уверить, что ни за что не прощу вам, если она не будет красавица. Не думайте, чтоб вы могли примирить меня с нею, выставляя на вид ее любезность, ведь всегда люди стараются этим извинить существование некрасивых людей. Далее, она не должна быть глупа: это нам будет вовсе не кстати, потому что вами нужно управлять, а глупая женщина не может управлять вами. Кто этот высокий, молодой парень, Адольф, с кротким лицом? Вон тот… он стоит без шляпы и так заботится о высокой старухе, которая стоит рядом с ним… это, конечно, его мать. Я очень люблю видеть подобные сцены.
– Как, неужели вы не знаете его, матушка? – сказал мистер Ирвайн. – Это Сет Бид, брат Адама, методист, но весьма хороший малый. Бедный Сет, по-видимому, был очень убит и расстроен в последнее время. Я думал сначала, что он горюет об отце, который умер такою горестною смертью. Но Джошуа Ранн сказал мне, что Сет хотел жениться на этой молоденькой методистке-проповедни це, которая была здесь с месяц назад, а она отказала ему.
– А! я припоминаю, что слышала о ней. Но тут бесконечное множество людей, которых я не знаю: все так выросли и переменились с тех пор, как я встречала их на своих прежних прогулках.
– Какое у вас отличное зрение, – сказал старый мистер Донниторн, державший перед глазами двойное стекло, – когда вы можете видеть выражение лица этого молодого человека на таком расстоянии. Для меня его лицо представляет только бледное мутное пятно. Но зато мое зрение окажется лучше вашего, когда нам придется смотреть на близкие предметы. Я могу читать мелкую печать без очков.
– А, мой дорогой сэр, вы близоруки уж с самого детства. Близорукие глаза сохраняются лучше всех других. Мне нужны весьма сильные очки для того, чтоб я могла читать, но зато мои глаза видят все лучше и лучше предметы на далеком расстоянии. По моему мнению, если б я могла прожить еще пятьдесят лет, то не могла бы видеть всего, что было бы в кругу зрения других людей, как человек, который стоит в колодце и не видит ничего, кроме звезд.
– Посмотрите, – сказал Артур, – старухи уже приготовляются бегать взапуски. За которую держите вы пари, Гавен?
– Выиграет длинноногая, если только им нужно пробежать один конец, в противном же случае вон та, небольшая, жилистая такая старушка.
– Вот семейство Пойзер, матушка, не слишком далеко отсюда по правую руку, – сказала мисс Ирвайн – Мистрис Пойзер смотрит на вас. Поклонитесь ей, пожалуйста.
– Непременно, – сказала старая леди, благосклонно кланяясь мистрис Пойзер. – Не должно пренебрегать женщиной, которая присылает мне такой отличный сливочный сыр… Бог ты мой! что за жирный ребенок у нее на коленях! Но кто эта прелестная девушка с темными глазами?
– Это Хетти Соррель, – сказала мисс Лидия Донниторн, – племянница Мартина Пойзера, очень порядочная молодая девушка и с приятною наружностью. Моя горничная выучила ее тонкому шитью, и она весьма изрядно починила мне кружева… действительно, очень изрядно…
– Да она шесть или семь лет живет у Пойзер, матушка, и вы непременно видели ее, – сказала мисс Ирвайн.
– Нет, дитя мое, я никогда не видала ее; по крайней мере, не такою, какова она теперь, – сказала мистрис Ирвайн, продолжая смотреть на Хетти. – Приятная наружность. Нет, этого мало, она совершенная красавица! С самой молодости своей я не видала такого прелестного создания! Как жаль, что такая красавица гибнет между фермерами, когда хорошие фамилии без состояния так страшно нуждаются в таких девушках! Право, можно сказать, что она выйдет за человека, который и тогда считал бы ее такою же красавицею, если б у нее были круглые глаза и рыжие волосы.
Артур не решался обратить взоры на Хетти все время, пока мистрис Ирвайн говорила о ней. Он показывал вид, что не слышит и что все его внимание обращено на какой-то предмет на противоположной стороне. Но он, не глядя на нее, видел ее довольно хорошо; он представлял себе ее еще большею красавицею, слыша, как восхваляли ее красоту. Нам известно, что мнение других людей, было словно родным климатом для ощущений Артура; им необходим был именно этот воздух для того, чтоб лучше всего развиться и окрепнуть. Да, она была довольно красива для того, чтоб вскружить голову кому угодно: каждый на его месте сделал и чувствовал бы то же самое. И после всего этого отказаться от нее, как он решился сделать, было бы с его стороны поступком, о котором он всегда будет вспоминать с гордостью…
– Нет, матушка, – сказал мистер Ирвайн в ответ на ее последние слова, – в этом я не могу согласиться с вами. Простой народ не совсем так глуп, как вы воображаете. Самый обыкновенный человек, имеющий свою долю смысла и чувства, сознает разницу между милой, изящной женщиной и обыкновенною. Даже собака чувствует разницу в их присутствии. Может быть, простолюдин не лучше собаки способен объяснить впечатление, которое производит на него изящная красота, но он чувствует это.
– Бог ты мой, Адольф, ну как может старый холостяк, как вы, знать про эти вещи?
– О! напротив, в этих-то вещах старые холостяки умнее женатых, потому что имеют больше времени для более общих наблюдений. Тонкий критик женщин никаким образом не должен сковывать своего суждения, называя одну женщину своею. Но в пример того, что я говорил, я вам скажу, что мне сообщила методистка-проповедница, о которой я только что упоминал. Она рассказывала мне, что проповедовала перед самыми грубыми рудокопами, и последние всегда обращались с нею с величайшими уважением и лаской. Причиной этому то, хотя она этого и не знает, что она сама дышит такою нежностью, утонченностью, непорочностью. Такая женщина окружена чем-то небесным, к чему не может быть нечувствителен и самый грубый. человек.
– Сюда идет славная женщина или девушка за получением приза, кажется, – сказал мистер Гавен. – Она, должно быть, участвовала в беганье взапуски в мешках, которое началось еще до нашего прихода.
«Женщина или девушка» была наша старая знакомка Бесси Кренедж, иначе Чадова Бесс. Ее большие румяные щеки и загорелые от солнца лицо, шея и руки страшно разгорелись, так что если б она была случайно небесным светилом, то показалась бы величественною. К сожалению, я должен сказать, что Бесси опять надела серьги после отъезда Дины и носила еще другие малоценные украшения, какие только могла собрать. Кто мог бы заглянуть в сердце бедной Бесс, тот заметил бы поразительное сходство в крошечных надеждах и беспокойствах ее и Хетти. Преимущество, может быть, оказалось бы на стороне Бесси относительно чувства. Но вы знаете, как отличались они зато друг от друга наружностью. Вам захотелось бы потрепать Бесси за уши, а Хетти вам страстно хотелось бы поцеловать.
Бесси увлеклась в затруднительное беганье, частью благодаря своей резвой веселости, частью же в надежде добыть хороший приз. Говорили, что между призами есть салопы и другая одежда. Девушка подошла к палатке, обмахиваясь платком; ее круглые глаза блестели торжеством.
– Вот приз для первого бега в мешках, – сказала мисс Лидия, взяв большой пакет со стола, где были разложены призы, и подавая его мистрис Ирвайн, прежде чем Бесси взошла в палатку. – Прекрасное камлотовое платье и кусок байки.
– Вы, я полагаю, не думали, что приз выиграет такая молоденькая, тетушка? – сказал Артур. – Но можете ли вы найти чего-нибудь другого для девушки и оставить это угрюмое платье для старухи?
– Я накупила только полезных и прочных вещей, – сказала мисс Лидия, поправляя свои кружева. – Я вовсе не думала поощрять любви к нарядам в молодых женщинах этого звания. У меня есть ярко-красный салоп, но он назначен для старухи, которая выиграет.
Речь мисс Лидии вызвала несколько насмешливое выражение на лице мистрис Ирвайн, когда она посмотрела на Артура, между тем как Бесси взошла в палатку и несколько раз быстро присела.
– Это Бесси Кренедж, матушка, – сказал мистер Ирвайн добродушно, – Чада Кренеджа дочь. Помните вы Чада Кренеджа, кузнеца?
– Как же, помню, – сказала мистрис Ирвайн. – Ну, Бесси, вот твой приз: прекрасные теплые вещи для зимы. Я уверена, что тебе немалого труда стоило выиграть их в этот жаркий день.
Бесси надула губы, увидев безобразное, тяжелое платье, казавшееся также весьма теплым и неприятным в этот июльский день; без неудовольствия нельзя было даже и нести эту большую, невзрачную вещь. Она снова присела несколько раз, не поднимая глаз, и с усиливающимся дрожанием в уголках около рта вышла из палатки.
– Бедняжка! – сказал Артур. – Она, кажется, обманулась в своих ожиданиях. Я желал бы, чтоб она получила что-нибудь другое, более по вкусу.
– Она на вид очень дерзкая молодая девушка, – заметила мисс Лидия, – уж таким-то я вовсе не намерена покровительствовать.
Артур безмолвно решил, что он попозже сделает Бесси денежный подарок, чтоб она могла купить себе то, что ей более нравится. Но она, не зная предстоявшего ей утешения, сошла с открытого места, где ее можно было видеть из палатки, и, бросив ненавистную ношу под дерево, принялась плакать, при беспрестанном поддразнивании маленьких мальчишек. В этом положении увидела ее рассудительная замужняя двоюродная сестра, которая, не теряя времени, передала трудного ребенка на попечение мужа и подошла к плакавшей.
– Что случилось с тобой? – спросила Бесси женщина, поднимая пакет и тщательно рассматривая его. – Ведь не о том ты, я думаю, плачешь, что задохлась от жара, бегая таким сумасшедшим образом. Вот зато дали тебе несколько кусков хорошего камлоту и байки; по справедливости-то следовало дать это тем, у кого хватило ума удерживаться от подобных глупостей. Ты можешь подарить мне кусок этого камлота ребенку на рубашку. Ты ведь всегда была такая добренькая, Бесси, уж это можно про тебя сказать.
– Возьми хоть все, мне этого добра не нужно, – сказала Бесс брюзгливо, принимаясь отирать слезы и оправляясь.
– Ну, хорошо, уж я, пожалуй, возьму, если тебе так хочется избавиться от этого, – сказала бескорыстная кузина, быстро отходя от нее с узлом из опасения, чтоб Бесс не переменила своего мнения.
Но веселая девушка была одарена благословенною эластичностью духа, которая охраняла ее от грызущей печали; и так как теперь наступила великая пора для бега ослов, то ее разочарование совершенно исчезло в приятных усилиях, с которыми она старалась разгорячить последнего осла шипением, между тем как мальчишки употребляли в дело палки. Но вся сила ослиного ума заключается в том, что он принимает ход обратный тому, какого настоятельно требуют доводы; впрочем, если рассмотреть ближе, это требует такой же нравственной силы, как и прямой порядок; и осел, о котором идет речь, доказал, что обладает нравственною понятливостью, остановившись, как мертвый, именно в то время, когда удары достигли самой сильной степени. Беспредельны были крики толпы, совершенно светел смех Билля Доунза, каменнопильщика и счастливого владетеля превосходной скотины, стоявшей хладнокровно и на окоченелых ногах среди своего торжества.
Для мужчин Артур сам приготовил призы, и Билль был осчастливлен блестящим карманным ножом, который был снабжен столькими клинками и буравчиками, что с ним человеку не страшно было попасть на пустынный остров. Лишь только он возвратился из палатки с призом в руке, как увидели, что Жилистый Бен намеревался позабавить общество, прежде чем господа уйдут обедать, экспромтом и даровым представлением, именно матросскою пляской, главная идея которой была заимствована у других, но танцор намеревался развить ее таким особенным и сложным образом, что никто не мог отказать ему в похвале за оригинальность. Жилистый Бен гордился своим искусством в танцевании (это дарование производило большое впечатление каждый годовой праздник), и эту гордость следовало только слегка возвысить лишним количеством хорошего эля для убеждения Бена в том, что господа будут очень поражены именно его подвигами в матросской пляске. Это намерение решительно поддерживал в нем Джошуа Ранн, заметивший, что справедливость требовала сделать что-нибудь приятное для молодого сквайра взамен того, что он сделал для них. Подобное мнение в такой важной личности покажется вам не столько удивительным, когда вы узнаете, что Бен просил мастера Ранна аккомпанировать ему на скрипке, и Джошуа был вполне уверен, что хотя в танце, может быть, не будет ничего особенного, зато уж музыка вознаградит публику.
Адам Бид, находившийся в одной из больших палаток, где был развит этот план, сказал Бену, что лучше он не делал бы из себя дурака. Но такое заключение сразу заставило Бена решиться на исполнение своей мысли: уж он ни за что не отказался бы от того, над чем Адам Бид задирал кверху нос.
– Что это, что это? – спросил старый мистер Донниторн. – Это вы, что ли, устроили, Артур? Наш дьячок идет со скрипкой, а за ним проворный парень с цветком в петле.
– Нет, – отвечал Артур, – я ничего не знаю об этом. Клянусь Юпитером, он начинает танцевать! Это один из плотников… я забыл его имя в эту минуту.
– Это Бен Кренедж, Жилистый Бен, как его прозывают, – сказал мистер Ирвайн, – кажется, довольно пустой малый. Анна, моя милая, кажется, это царапанье на скрипке расстраивает ваши нервы, вы очень ослабнете. Дайте я сведу вас в комнаты, вы там можете отдохнуть до обеда.
Мисс Анна встала очень охотно, и добрый брат увел ее, между тем как Джошуа после предварительного царапанья разразился песнью «Белая кокарда», из которой намеревался перейти к разнообразным мелодиям посредством целого ряда переходов, которые, благодаря своему хорошему слуху, он исполнял действительно с некоторым искусством. Как был бы он огорчен, если б узнал, что общее внимание было слишком поглощено пляской Бена, для того чтоб кто-либо слушал его музыку.
Случалось ли вам когда-нибудь видеть, как пляшет настоящий английский простолюдин один? Вы, может быть, видели простолюдина в балете, улыбающегося, как фарфоровый пастушок, грациозно выворачивающего ноги и вкрадчиво двигающего головою. Это столько же похоже на действительность, как «Вальс птиц» ручного органа походит на настоящее пение птиц. Жилистый Бен ни разу не улыбнулся; он был так серьезен как танцующая обезьяна, так серьезен, словно экспериментальный философ, желавший узнавать на собственной своей особе количестве сотрясений и разнообразие угловатостей, которые могут быть даны человеческим членам.
Желая загладить обильный хохот, раздававшийся в полосатой палатке, Артур беспрестанно хлопал в ладони и кричал браво. Но Бену удивлялся один человек, глаза которого следовали за его движениями с горячею важностью, не уступавшей важности Бена. То был Мартин Пойзер, сидевший на скамейке и державший между ногами Томми.
– Как ты думаешь об этом? – спросил он свою жену. – Он пляшет по музыке так верно, словно часы. Я также большой был мастер плясать, когда был полегче, но никогда не мог потрафить с такою точностью, как этот.
– А по моему мнению, о членах не стоит и говорить, – возразила мистрис Пойзер. – У него довольно пусто в верхней части тела, иначе он никогда не мог бы плясать и бить ногами таким образом, как будто бешеная стрекоза, тогда как господа смотрят на него. Я вижу, они просто помирают со смеху.
– Ну, что ж, тем лучше, это, значит, забавляет их, – сказал мистер Пойзер, который неохотно становился на раздражающую точку зрения. – Но они, кажется, идут обедать. Мы пройдемся немножко – не правда ли? – и посмотрим, что делает Адам Бид. Он должен присматривать за напитками и другим угощением: он вряд ли много веселится.
XXVI. Танцы
Артур выбрал для бальной комнаты переднюю залу. Это было весьма благоразумно, потому что в ней воздух был чище, чем во всех других комнатах. Она имела то преимущество перед прочими, что имела выход в сад, а также сообщение с другими комнатами. Нельзя сказать, конечно, чтоб каменный пол был очень удобен для танцев, но ведь большей части танцоров было известно, какое наслаждение доставляет пляска в рождественские праздники на кухонном каменном полу. Передняя зала принадлежала к числу тех, которые придают окружающим комнатам вид чуланов; она была украшена штукатурною работою – ангелами, трубами и гирляндами цветов на высоком потолке и большими медальонами с изображением разных героев на стенах, чередовавшихся со статуями в нишах. Такую комнату нельзя было не убрать хорошенько зеленью, и мистер Крег очень гордился тем, что имел случай выказать свой вкус и свои тепличные растения. Широкие ступени каменной лестницы были покрыты подушками, назначенными местом сидения для детей, которым было позволено оставаться до половины десятого с няньками для того, чтоб видеть танцы; и так как в этих танцах принимали участие только главные арендаторы, то на всех места было более чем довольно. Свечи были вставлены в очаровательные фонари из цветной бумаги, развешенные высоко между зелеными ветвями, и фермерские жены и дочери, которые заглядывали сюда украдкой, были убеждены, что ничто не могло быть великолепнее этого зрелища; теперь они вполне знали, в какого рода комнатах жили король и королева, и с некоторым сожалением думали о своих родственницах и знакомых, не имевших такого прекрасного случая, узнать, как живут в большом свете. Фонари были уже зажжены, хотя солнце село только недавно и вне дома господствовал тот тихий свет, при котором мы, кажется, видим все предметы яснее, чем в самое ясное время дня.
Зрелище вне дома было прелестно, фермеры и их семейства двигались по лужку, между цветами и кустарниками, или по широкой прямой дороге, которая шла от восточного фасада и по обеим сторонам которой расстилался ковер мшистой травы, где там и сям росли то темный кедр с плоскими сучьями, то большая ель в виде пирамиды, легко касаясь земли своими ветвями, концы которых представляли бахрому бледнозеленого цвета. Группы крестьян в парке начинали мало-помалу редеть: молодых привлекали огни, которые начинали блестеть из окон галереи в аббатстве, комнаты, назначенной им для танцев, а некоторые рассудительные люди думали, что была пора отправиться потихоньку домой. К последним принадлежала и Лисбет Бид, и Сет намерен был идти с нею, не только из одной сыновней привязанности: совесть не допускала его принять участие в танцах. День этот показался Сету довольно печальным: воспоминание о Дине никогда не преследовало его так настойчиво, как на этом празднике, с которым она решительно не имела ничего общего. Ее образ представлялся ему еще живее, когда он смотрел на беззаботные лица и разноцветные наряды молодых женщин, – так мы еще более чувствуем красоту и величие изображения Мадонны, когда оно скрывается от нас на минуту за обыкновенною головою в шляпке. Но присутствие Дины в его мыслях помогало ему только лучше переносить нрав его матери, который становился сварливее к вечеру. Бедная Лисбет испытывала странную борьбу чувств. Ее радость и гордость, причиненная почестью, которую оказывали ее возлюбленному сыну Адаму, начинали уступать в борьбе с ревностью и брюзгливостью, возобновившимися в то время, когда Адам пришел сказать ей, что капитан Донниторн просил его присоединиться к танцорам в передней зале. Адам мало-помалу выходил из пределов ее власти; она желала возвращения прежней беспокойной жизни, ведь тогда Адам больше заботился бы о том, что говорила и делала его мать.
– Вот еще новость! – сказала она. – Ты тут толкуешь о танцах, когда и пяти недель еще не прошло с тех пор, как твоего отца положили в могилу. Мне бы, право, также следовало быть там с ним вместе, а не оставаться здесь и занимать на земле место людей веселее меня.
– Нет, матушка, не смотри на это таким образом, – сказал Адам, решившийся кротко обращаться сегодня с матерью, – я вовсе не думаю танцевать, а только буду смотреть. И если капитан желает, чтоб я был там, то я не могу сказать: нет, я лучше не останусь! Ведь это покажется, как будто я думаю, что знаю лучше его. А ведь ты знаешь, как он вел себя относительно меня сегодня.
– Ну, да ты уж сделаешь так, как тебе хочется. Твоя старуха мать не имеет никакого права мешать тебе. Что она такое? Старая шелуха, из которой ты уж и выскользнул, как спелый орех.
– Ну, хорошо, матушка, – сказал Адам, – я скажу капитану, что тебе будет неприятно, если я останусь, и что по этому случаю я иду домой… я надеюсь, что он не рассердится на меня за это… да, впрочем, мне и самому хочется этого.
Он произнес эти слова с некоторым усилием: на деле ему очень хотелось быть в этот вечер близ Хетти.
– Нет, нет, я не хочу, чтоб ты сделал это… молодой сквайр, может, рассердится. Ступай и делай то, что он тебе приказал, а я и Сет мы пойдем домой. Я знаю, это большая честь для тебя, что на тебя обращают такое внимание; и кому же более гордиться этим, как не твоей матери? Разве мало у нее было беспокойств все эти годы, когда она растила тебя и ходила за тобой?
– В таком случае прощай, матушка, прощай брат. Не забудьте о Джипе, когда придете домой, – сказал Адам, направляясь к воротам парка, где он надеялся встретиться с семейством Пойзер; он был так занят после обеда, что не имел времени поговорить с Хетти.
Его глаза вскоре открыли в некотором отдалении группу людей, в которой он узнал тех, кого искал; они возвращались к дому по широкой, усыпанной песком дороге, и он ускорил шаг, желая присоединиться к ним.
– А, Адам! очень рад, что вижу вас опять наконец, – сказал мистер Пойзер, который нес на руках Тотти. – Теперь вы немножко повеселитесь, я надеюсь, так как ваше дело кончено. Вот Хетти просили танцевать множество молодых людей, и я только что спрашивал ее, дала ли она вам слово танцевать с вами, а она говорит: «Нет».
– Да я и не думал танцевать сегодня вечером, – сказал Адам, уже готовый изменить свое решение, когда взглянул на Хетти.
– Что за вздор! – сказал мистер Пойзер. – Ведь все решительно будут танцевать сегодня, все, кроме старого сквайра и мистрис Ирвайн. Мистрис Бест говорила, что мисс Лидия и мисс Ирвайн будут танцевать и что молодой сквайр возьмет мою жену на первый танец и с нею откроет бал; таким образом, она будет принуждена танцевать, хотя уж и перестала танцевать с самого Рождества, когда родился наш последний ребенок. Вам стыдно будет стоять да смотреть только, Адам. А вы еще такой славный парень и можете танцевать не хуже других.
– Нет, нет, – сказала мистрис Пойзер, – это было бы непристойно. Я знаю, танцы – глупость; но если вы будете останавливаться перед всякою вещью, потому что это глупость, то вы не далеко уйдете в жизни. Когда для вас приготовлен бульон, то вы должны есть и крупу, иначе уж не трогайте и бульона.
– В таком случае если Хетти будет танцевать со мною, – сказал Адам, уступая доводам ли мистрис Пойзер или чему-нибудь другому, – то я прошу на тот танец, на который она только свободна.
– У меня нет кавалера на четвертый танец, – отвечала Хетти, – если вы хотите, я буду танцевать с вами.
– Послушайте, – сказал мистер Пойзер, – но вы должны танцевать и первый танец, Адам, а то это покажется странным. Ведь здесь множество миленьких девушек, из которых можете выбрать любую, а девушкам куда как неприятно, когда мужчины стоят возле них и не приглашают их.
Адам сознавал справедливость замечания мистера Пойзера: для него было бы не совсем ловко не танцевать ни с кем, кроме Хетти. Вспомнив, что Джонатан Бердж имел некоторое основание чувствовать себя обиженным сегодня, он решился попросить Мери Бердж на первый танец, если она не была приглашена никем.
– Вот на больших часах бьет восемь, – сказал мистер Пойзер, – мы должны теперь поторопиться и войти в залу, не то сквайр и леди будут там раньше нас, а это было бы не совсем то прилично.
Когда они вошли в залу и трое детей, отданные на попечение Молли, были посажены за лестницу, створчатые двери в гостиную отворились, и Артур вышел в своем мундире. Он вел мистрис Ирвайн к покрытому ковром возвышению, украшенному тепличными растениями; здесь должны были сидеть мистрис Ирвайн, мисс Анна и старый мистер Донниторн и оттуда смотреть на танцы, как короли и королевы в сценических представлениях. Артур надел мундир, чтоб доставить удовольствие арендаторам, говорил он, для которых его военный сан казался едва ли менее сана первого министра. Он нисколько не противился угодить им таким образом: мундир представлял его фигуру в очень выгодном свете.
Старый сквайр, прежде чем сел на свое место, обошел кругом всю залу, раскланиваясь с арендаторами и обращаясь с вежливыми речами к женам. Он был всегда вежлив, но фермеры, после долгого недоразумения, поняли наконец, что эта утонченность в обращении была одним из признаков жестокости. Многие заметили, что он оказывал сегодня самую изысканную вежливость мистрис Пойзер, как-то особенно расспрашивая ее о здоровье, советуя ей укрепить свои силы холодною водою, как делал он, и избегать всех лекарств. Мистрис Пойзер приседала и благодарила его с большим достоинством, но когда он отошел от нее, она произнесла шепотом, обращаясь к мужу:
– Даю голову на отсечение, что он затевает против нас какую-нибудь скверную штуку. Черт уж не станет вилять хвостом даром.
Мистер Пойзер не имел времени отвечать, потому что теперь Артур подошел к ним и сказал:
– Мистрис Пойзер, я пришел просить вашей руки на первый танец, а вас, мистер Пойзер, позвольте свести к тетушке, потому что она хочет иметь вас своим кавалером.
Бледные щеки жены вспыхнули от сильного чувства необыкновенной чести, когда Артур вывел ее на первое место в зале; но мистер Пойзер, в котором лишний стакан воскресил юношеское доверие к его приятной наружности и чрезвычайной ловкости в танцах, очень гордо последовал за ними, втайне лаская себя надеждою, что мисс Лидия никогда в жизни не имела кавалера, который мог бы приподнять ее с полу так ловко, как он. Для того чтоб уравновесить почести, которые следовало оказать обоим приходам, мисс Ирвайн танцевала с Лукой Бриттоном, самым многоземельным брокстонским фермером, а мистер Равен пригласил мистрис Бриттон. Мистер Ирвайн, усадив свою сестру Анну, ушел в галерею аббатства, как условился с Артуром прежде, посмотреть, как веселились поселяне. Между тем все менее значительные пары заняли свои места: Хетти вел неизбежный мистер Крег, а Мери Бердж – Адам; затем раздались звуки музыки, и славный контрданс, лучший из всех танцев, начался.
Жаль, что пол не был выстлан досками, на таком полу мерное топанье толстых башмаков было бы лучше всякого барабана. Веселое топанье, милостивое киванье головой, грациозное подавание рук – где можем мы увидеть все это теперь? Каким приятным разнообразием было бы для нас, если б мы видели иногда вместо голых шей и громадных кринолин, пытливых взоров, исследующих костюмы, и томных мужчин в лакированных сапогах, двусмысленно улыбающихся, если б мы, вместо всего этого, могли опять увидеть эту простую пляску скромно одетых матрон, на несколько минут откинувших в сторону заботы о доме и о сырне, только воспоминающих свою молодость, но не старающихся казаться молодыми, не чувствующих ревности к молодым девушкам, окружающим их, но гордящихся ими, праздничное веселье дюжих мужей, строящих милые комплименты своим женам, как, бывало, во время их сватовства, парней и девушек, немного смущенных и застенчивых с своими танцорами и танцорками и не знающих, с чего начать разговор…
Только одно обстоятельство могло мешать удовольствию, которое находил в этом танце Мартин Пойзер: он все время находился в близком соприкосновении с Лукой Бриттоном, этим неопрятным фермером. Он хотел уже придать своему взору некоторую леденящую холодность, когда подавал руку фермеру, но так как вместо оскорбительного Луки против него была мисс Ирвайн, то он боялся, что заморозит не ту особу, которую хотел. Таким образом, он предоставил своему лицу выражать веселье, неохлажденное никакими нравственными суждениями.
Как забилось сердце Хетти, когда Артур приблизился к ней! Он почти вовсе не смотрел на нее сегодня; теперь он должен был взять ее за руку. Пожмет ли он ей руку? посмотрит ли он на нее? Ей казалось, она непременно заплачет, если он не подаст никакого признака чувства. Но вот он подошел к ней… он взял ее за руку… да, он пожал ей руку. Хетти побледнела, когда посмотрела на него одно мгновение и встретила его взор, прежде чем танец успел унести его от нее. Это бледное лицо произвело на Артура действие, походившее на начало неопределенной боли, действие, которое не оставляло его, между тем как он должен был танцевать, улыбаться и шутить по-прежнему. Лицо Хетти будет непременно иметь такое выражение, когда он сообщит ей то, что должен был сообщить, а он никогда не будет в состоянии вынести это выражение, он снова будет безрассудным и снова увлечется. А в действительности выражение лица Хетти вовсе не имело того значения, которое он придавал ему: оно было только признаком происходившей в ней борьбы между желанием, чтоб он обратил внимание на нее, и опасением, что она не будет в состоянии скрыть это желание от других. Но лицо Хетти выражало более того, что она чувствовала. Есть лица, получающие от природы мысль и высокое и трогательное выражение, которые не принадлежат к простой человеческой душе, порхающей за ними, но которые говорят о радостях и печалях прошедших поколений; есть глаза, говорящие о глубокой любви, которая, без всякого сомнения, была и находится где-нибудь, только не при этих глазах, может быть, при бледных глазах, не выражающих ничего, подобно тому, как народный язык может быть напоен поэзией, совершенно непонятной устам, говорящим на нем. Это выражение лица Хетти возбудило в Артуре тягостную боязнь, которая, однако ж, заключала в себе какую-то страшную тайную радость, радость о том, что она любила его слишком сильно. Ему предстоял тяжкий труд: в эту минуту он чувствовал, что отдал бы три года своей юности, если б мог быть так счастлив, чтоб предаться без угрызений совести своей страсти к Хетти.
Эти несвязные мысли бродили в его уме, когда он шел с мистрис Пойзер, которая запыхалась от усталости и втайне думала, что ни судья, ни суд присяжных не заставят ее протанцевать еще один танец, и просил ее отдохнуть в столовой, где был приготовлен ужин, к которому гости могла подходить, когда им было угодно.
– Я просила Хетти не забыть, что ей придется танцевать с вами, сэр, – сказала добрая, простодушная женщина. – Она ведь такая ветреница, что, пожалуй, даст слово на все танцы. Таким образом, сказала ей, чтоб она не обещала слишком многим.
– Благодарю вас, мистрис Пойзер, – сказал Артур несовершенно спокойно. – Теперь сядьте в это покойное кресло, а Мильз подаст вам, чего вам захочется лучшего.
И он торопливо отошел от нее, чтоб найти себе другую пожилую даму: сначала он должен был отдать подобающую честь замужним женщинам, а потом уже и обратиться к молодым. Итак, контрдансы, топанье, милостивое киванье и грациозное подавание рук пошли себе веселою чередою.
Наконец дошла очередь и до четвертого танца, которого не мог дождаться сильный, важный Адам, будто был восемнадцатилетний юноша-белоручка. Все мы очень похожи друг на друга, когда любим в первый раз. Адаму едва ли случалось коснуться руки Хетти иначе, как при беглом приветствии; до настоящего случая он танцевал с нею только однажды. Его взоры беспрестанно преследовало ее в этот вечер против его воли, и он еще более был упоен любовью. Она, казалось ему, держала себя так мило, так скромно, вовсе не кокетничала сегодня, улыбалась менее обыкновенного, даже дышала какой-то сладостною грустью. «Да благословит ее Бог! – думал он. – Я сделал бы жизнь ее счастливою, если б только могла сделать ее счастливою твердая рука, которая бы работала для нее, и сердце, которое любило бы ее».
Затем им невольно овладевали очаровательные мечты о том, что вот он приходит домой с работы и прижимает Хетти к сердцу; он чувствует, что ее щека нежно касается его щеки… Адам совершенно забыл, где находился, и ему было бы все равно, если б музыка и топанье ногами превратились в шум дождя и рев ветра.
Но теперь третий танец кончился, и Адам мог подойти к Хетти и просить ее руку. Она стояла на другом конце залы близ лестницы, перешептываясь с Молли, которая только что передала спящую Тотти ей на руки, а сама побежала за шалями и шляпками, которые находились на площадке. Мистрис Пойзер взяла с собою двух мальчиков в столовую, чтоб дать им пирога прежде отправления их домой в телеге с дедушкой. Молли должна была следовать за ними как можно скорее пешком.
– Позвольте мне подержать ее, – сказал Адам, когда Молли направилась к лестнице. – Дети так тяжелы, когда спят.
Хетти обрадовалась помощи, потому что держать Тотти на руках, и держать стоя, было ей вовсе неприятно. Но эта вторичная передача имела то несчастное действие, что разбудила Тотти, которая не уступала другим детям ее лет в капризах, если ее будили не вовремя. В то время как Хетти передавала ее на руки Адама и еще не успела выдернуть свои руки, Тотти открыла глаза и немедленно ударила левым кулаком по руке Адама, правой же рукою схватила за шнурок с коричневыми бусами вокруг шеи Хетти. Медальон выскочил из-за ее платья, шнурок тотчас же оборвался, и беспомощная Хетти увидела, что бусы и медальон рассыпались далеко по полу.
– Мой медальон, мой медальон! – сказала она громким, испуганным шепотом, обращаясь к Адаму. – О бусах не беспокойтесь.
Адам уж заметил, куда упал медальон – последний привлек его взор, лишь только выскочил из-за платья. Медальон упал на деревянное возвышение, где сидели музыканты, а не на каменный пол; а когда Адам поднял его, то увидел стекло и под ним темный и светлый локоны. Он упал этою стороною кверху, и стекло не разбилось. Адам перевернул его в руке и увидел золотую эмалированную спинку.
– Ему не сделалось ничего, – сказал он, подавая медальон Хетти, которая не была в состоянии взять вещь, потому что обеими руками держала Тотти.
– О! это все равно, я вовсе не забочусь об этом, – сказала Хетти, которая была бледна и теперь покраснела.
– Все равно? – спросил Адам серьезно. – А мне показалось, что вы очень испугались насчет его. Я подержу эту вещь, пока вам можно будет взять ее, – прибавил он спокойно, закрывая медальон рукою и тем желая доказать ей, что не хотел еще раз взглянуть на него.
Между тем Молли возвратилась с шляпкой и шалью, и лишь только взяла она Тотти, как Адам передал медальон в руки Хетти. Она взяла его с видом равнодушия и положила в карман. В душе же своей она была раздосадована на Адама и недовольна им, потому что он видел медальон; тем не менее она решилась теперь не обнаруживать никаких признаков волнения.
– Посмотрите, – сказала она, – все уж становятся на места. Пойдемте.
Адам молча повиновался. Смутная тревога овладела им. Разве Хетти имела возлюбленного, которого он не знал, потому что никто из ее родственников – он был в том уверен – не подарит ей такого медальона, и никто из ее обожателей, с которыми он был знаком, не обращал на себя такого внимания Хетти, каким непременно должен был пользоваться тот, кто подарил ей медальон. Адам терялся в совершенной невозможности найти человека, на которого могли бы упасть его опасения. С ужасным мучением мог он только чувствовать, что в жизни Хетти было что-то неизвестное ему, что в то время, как он убаюкивал себя надеждою, что она полюбит его, она уже любила другого. Удовольствие, которое он ожидал найти, танцуя с Хетти, исчезло. Его глаза, останавливаясь на ней, имели какое-то беспокойное, вопрошавшее выражение. Он не мог вспомнить, что бы сказать ей; она, с своей стороны, была также не в духе и также не хотела говорить. Оба они обрадовались, когда танец кончился.
Адам решился не оставаться долее: он не был никому нужен и никто не заметит, если он ускользнет потихоньку. Лишь только он вышел из дверей, как пошел своим обычным быстрым шагом, торопясь, сам не зная почему, занятый грустною мыслью о том, что воспоминание об этом дне, полном почести и надежд для него, было отравлено навсегда. Вдруг, когда он уже прошел довольно далеко по парку, он остановился, пораженный светом воскреснувшей надежды. Ведь он был глупцом, которому вздор показался большим несчастьем. Хетти, которая так страстно любила наряжаться, может быть, и сама купила ту вещь. Она, казалось, была слишком ценна для девушки… она, казалось, походила на вещи, которые лежали на белом атласе в большом магазине ювелира в Россетере. Но Адам обладал весьма несовершенными понятиями о ценности подобных вещей; по его мнению, она, конечно, стоила не больше гинеи. Может быть, в рождественской кружке у Хетти и было столько денег, и – кто знал? – может быть, она настолько была ребенком, что истратила их таким образом; она была так молода! она не могла не любить наряды! Но в таком случае отчего же она так испугалась сначала, так изменилась в лице, а после показывала вид, что ей было все равно? О! да ведь ей было стыдно, что он увидел, какая щегольская вещь была у нее. Она сознавала, что поступила дурно, истратив деньги на эту вещь, и знала, что Адам порицал страсть к нарядам. Это было доказательством, что она заботилась о том, что он любил и чего не любил. Судя по его молчанию и важности, она должна была подумать, что он был очень недоволен ею, что он готов был осудить ее слабости строго и жестоко. И когда он шел теперь тише, предаваясь размышлениям об этой новой надежде, он только беспокоился о том, что его поведение может охладить чувство Хетти к нему, потому что последняя точка зрения на это дело непременно должна быть верна. Каким образом могла Хетти иметь возлюбленного, которому она платила взаимностью и которого он, Адам, не знал совершенно? Она никогда не отлучалась из дома дяди долее как на день, она не могла иметь знакомых, которые не приходили бы на мызу, не могла иметь коротких друзей, которые не были бы известны ее дяде и тетке. Безрассудно было бы думать, что медальон был подарен ей возлюбленным. Он был вполне уверен, что небольшой локон темных волос был ее собственный; он не мог делать догадок о светлых волосах, находившихся под темным локоном, потому что не совсем ясно видел их. То могли быть волосы ее отца или матери, умерших, когда она была ребенком, и естественно, что она вложила туда и локон своих собственных волос.
И вот Адам лег спать, утешенный, создав самому себе замысловатую ткань вероятностей, самую верную завесу, которую только умный человек может поставить между собою и истиною. Его последние мысли перед сном слились с мечтою, которая перенесла его на мызу; там он был снова вместе с Хетти и просил ее простить его в том, что он был так холоден и молчалив.
В то время как Адам предавался этим мечтам, Артур вел Хетти к танцу и говорил ей едва слышным, торопливым голосом: «Я буду в лесу послезавтра в семь часов, приходите, как можете, раньше». И безрассудные радости и надежды Хетти, испуганные просто вздором и потому отлетевшие назад на небольшое расстояние, теперь снова запорхали, не сознавая настоящей опасности. Она была счастлива впервые во весь этот длинный день и желала, чтоб танец продолжался несколько часов. Артур также желал этого, он позволит себе только эту последнюю слабость, думал он, а человек никогда не находится с более сладостною томностью под влиянием страсти, как в то время, когда он решился поработить ее завтра.
Но желания мистрис Пойзер были совершенно противоположны этим: ее голова была полна грустных предчувствий о том, что завтра утренний сыр поспеет позже, вследствие прибытия семейства домой в позднюю пору. Теперь, когда Хетти исполнила свою обязанность, протанцевала один танец с молодым сквайром, мистер Пойзер должен был выйти и посмотреть, приехала ли за ними телега, потому что было уже половина одиннадцатого, и, несмотря на полуробкое возражение с его стороны, что это кажется неприличным, если они уедут первые, мистрис Пойзер настаивала на своем намерении, все равно, будет ли то прилично или неприлично.
– Как, вы уже отправляетесь домой, мистрис Пойзер? – спросил старый мистер Донниторн, когда она подошла проститься и присела. – Я думал, что мы не расстанемся ни с кем из наших гостей раньше одиннадцати. Мистрис Ирвайн и я уж люди пожилые, а мы не намерены уйти от танцев раньше того времени.
– О, ваша милость! господа-то могут оставаться до поздней поры, при свечах: у них нет забот о сыре на душе. А для нас уж и теперь довольно поздно, да и нельзя внушать коровам, будто их не нужно доить так рано завтра утром. Итак, если вам будет угодно извинить нас, позвольте нам проститься.
– Ну, – сказала она мужу, когда они сели в телегу, – я лучше согласилась бы варить пиво и стирать в один и тот же день, чем провести один из этих веселых дней. Ведь утомительнее всего толкаться из одного угла в другой и смотреть выпучив глаза, не зная хорошенько, чем бы заняться в следующую минуту. И при этом изволь-ка иметь всегда на лице улыбку, словно торговец в рыночный день, а то, чего доброго, люди сочтут тебя невежей. И в заключение, что ж остается у вас после всего этого? Желтое лицо, оттого что вы наелись вещей, которые вам не по нраву.
– Нет, нет, – сказал мистер Пойзер, находившийся в самом веселом расположении духа и чувствовавший, что он пережил сегодня великий день, – тебе вовсе не мешает иногда повеселиться немного. И ты танцуешь нисколько не хуже других. Я всегда скажу, что ни одна из всех женщин нашего околотка так не легка на ногу, как ты. И это была большая честь для тебя, что молодой сквайр пригласил тебя прежде других; это, полагаю, случилось оттого, что я сидел во главе стола и сказал речь. Да и Хетти также… У нее никогда не было прежде такого кавалера: бравый молодой джентльмен в мундире. Тебе это послужит предметом разговора, Хетти, когда ты состаришься, как ты танцевала с молодым сквайром в день его совершеннолетия.
Книга четвертая
XXVII. Кризис
То было во второй половине августа, недели три после рождения. В северной внутренней части Ломшейрскаго графства уже началась жатва пшеницы, но к уборке хлеба нельзя было приступить еще несколько времени, по случаю проливных дождей, причинивших наводнения и большие убытки вообще во всей стране. Благодаря своей веселой нагорной местности и орошаемым ручейками долинам, брокстонские и геслопские фермеры были спасены от последних несчастий; а так как я не могу иметь притязаний на то, что они были исключительными фермерами, которым общее благо было ближе собственного к сердцу, то вы заключите из этого, что они не очень-то были недовольны быстрым возвышением цены на хлеб, пока существовала надежда, что они будут собирать хлеб неповрежденным; а несколько ясных дней и сухие ветры поддерживали в фермерах эту надежду.
Восемнадцатое августа было одним из таких дней, когда солнечный свет казался яснее во всех глазах по случаю мрака, предшествовавшего ему. Большие массы облаков пробегали по голубому небу и своими летучими тенями, казалось, оживляли большие круглые холмы за Лесною Дачею. Солнце скрывалось на мгновение и потом снова сияло жарко, как возвратившаяся радость. Ветер срывал с кустарников, образовывавших изгороди, листья, все еще зеленые. Около ферм раздается звук захлопывающихся дверей; в фруктовых садах падают яблоки; ветер совершенно покрывает гривами морды лошадей, блуждающих по сторонам дороги, покрытым зеленью, и по общему выгону. А между тем ветер, казалось, был частью общей радости о том, что солнце сияло. Веселый день для детей, бегавших вокруг ферм и кричавших во всю мочь для того, чтоб узнать, не могут ли они покрыть своими голосами сильнейшие порывы ветра. Взрослые также были в хорошем расположении духа, надеясь на лучшие дни, когда спадет ветер. Дай только Бог, чтоб зерно было не совсем спело, иначе ветер сдует его из колоса и рассеет по земле как несвоевременный посев.
А между тем и в такую погоду человек может подвергнуться убийственному несчастью. Если справедливо, что природа в известные моменты как бы носит в себе предчувствие о судьбе одного человека, то не должно ли быть справедливо и то, что она, кажется, нисколько не печется о другом и не замечает его? Нет ни одного часа, в который не родились бы и радость и отчаяние; нет утреннего света, который не приносил бы с собою новой боли сильной печали, равно как и новых сил гению и любви. Ведь нас такое множество, и наша участь так различна – можно ли удивляться, что расположение натуры находится часто в строгом контрасте с великим кризисом нашей жизни? Мы дети обширной семьи; научимся же, как научаются такие дети, не ожидать, что о наших ушибах будут много заботиться, а довольствоваться небольшим уходом и небольшими ласками и тем более станем помогать друг другу.
Для Адама этот день был тяжел: в последнее время он исполнял почти двойную работу. Он продолжал заниматься, как старший работник, у Джонатана Берджа, пока на его место не найдется удовлетворительный человек; а Джонатан не торопился искать себе такого человека. Но он весело исполнял лишнюю работу, потому что его надежды касательно Хетти снова прояснились. После дня рождения каждый раз, когда она видела его, она, казалось, делала усилия, чтоб обращаться с ним как можно ласковее, она будто хотела доказать ему, что простила его молчание и холодность во время танца. Он ни разу не упоминал о медальоне. Он был слишком счастлив, что она улыбалась ему, чувствовал себя еще счастливее, потому что замечал в ней более смиренный вид, что-то особенное, приписывая это развитию женской нежности и серьезности. «Ах! – беспрестанно думал он, – ведь ей только семнадцать лет; еще немного – и она уже не будет так беззаботна. И ее тетка всегда рассказывает, как она проворна при работе. Она, я уверен, будет такою женою, что матушке никогда не удастся и поворчать на нее». Правда, он видел ее дома только два раза со дня рождения. Однажды в воскресенье, когда он намеревался зайти на ферму из церкви, Хетти присоединилась к обществу старших слуг с Лесной Дачи и пошла домой с ними, будто хотела поощрить мистера Крега. «Она уж очень расположена к этим людям из экономкиной комнаты, – заметила мистрис Пойзер. – Что меня касается, то я никогда особенно не жаловала господских слуг… они почти все похожи на жирных собачонок знатных леди, что вот не годятся ни дом сторожить, ни на жаркое, а только на показ». Другой раз вечером она ушла в Треддльстон купить какие-то вещи, хотя, к его немалому удивлению, возвращаясь домой, он увидел в некотором расстоянии, как она шла по дороге, которая вовсе не вела из Треддльстона. Но когда он торопливо подошел к ней, она была очень ласкова и просила его возвратиться с ней на ферму, когда он довел ее до ворот двора. Она прошла несколько дальше по полям, возвращаясь из Треддльстона, потому что ей не хотелось идти домой, говорила она: на чистом воздухе было так мило, а ее тетка вечно делает столько хлопот, когда ей, Хетти, нужно идти со двора. «О, пожалуйста, пойдемте к нам!» – сказала она, когда он, пожимая ей руку, хотел проститься с ней у ворот; и он не мог устоять против ее желания. Таким образом он вошел с ней, и мистрис Пойзер удовольствовалась только легким замечанием, сказав, что Хетти пришла позже, чем ее ожидали; а Хетти, которая, казалось, была не совсем в духе при встрече с ним, улыбалась, болтала и с необыкновенною предусмотрительностью старалась угодить всем.
Он видел ее тогда в последний раз, но надеялся, что завтра у него найдется свободного времени зайти на ферму. Сегодня, он знал, был тот день, в который она ходит на Лесную Дачу шить у горничной; итак, он постарается поработать сегодня вечером как можно больше, чтоб быть свободным завтра.
В числе других работ Адам имел надзор над некоторыми починками в той части лесной фермы, которую до настоящего времени занимал Сачелль, как управляющий, и которую, если верить слухам, старый сквайр предоставлял занять какому-то хвату в сапогах с отворотами; некоторые поселяне видели, как последний однажды проезжал верхом по парку. Что сквайр решился на починки, это можно было только объяснить его желанием получить арендатора, хотя общество, собиравшееся по субботам вечером у мистера Кассона, единогласно утверждало за своими трубками, что не найдется человека с здравым смыслом, который захотел бы взять лесную ферму, если к ней не будет присоединено больше пашни. Впрочем, как бы то ни было, починки приказано было произвести со всевозможною поспешностью; и Адам, занимаясь от мистера Берджа, выполнял приказание с обычною энергией. Но сегодня, поработав в другом месте, он мог прийти на лесную ферму только поздно после обеда. Тут он заметил, что часть старой крыши, которую он рассчитывал сохранить, села. Ясно было, что из этой части строения нельзя было сделать ничего хорошего; ее нужно было сломать до основания. Адам немедленно составил в голове план, как снова выстроить эту часть так, чтоб тут были самые удобные хлева для коров и телят и помещение для всякой утвари, и все это без больших издержек на материалы. Таким образом, когда разошлись работники, он сел, вынул свою карманную книжку и занялся черчением плана и подробным означением требовавшихся материалов, желая показать все это мистеру Берджу завтра утром и склонить его, чтоб он уговорил сквайра согласиться на предложение Адама. Сделать какое-нибудь хорошее дело, как бы оно ни было мало, всегда было удовольствием для Адама, и он сидел на отрубке, над книгою, лежавшею на чертежном столике, по временам тихо посвистывая и поворачивая голову набок с едва заметною улыбкою самодовольства, даже гордости, потому что если Адам любил хорошее дело, он также любил и думать: «Я сделал это!» Я полагаю, что те только люди свободны от этой слабости, которые никакую работу не могут назвать своею собственною. Было уж почти семь часов, когда он кончил и опять надел свою куртку. Окинув кругом глазами всю работу, он заметил, что Сет, который работал здесь сегодня, забыл взять с собою свою корзинку с инструментами. «Вот хорошо, парень-то оставил здесь свои инструменты, – подумал Адам, – а он должен работать в мастерской завтра. Ну, есть ли на свете такой рассеянный малый! Он непременно забыл бы голову, если б она не была прикреплена у него к плечам. Ну, счастье еще, что они попались мне на глаза: я снесу их домой».
Строения лесной фермы находились на самом конце парка, на расстоянии десяти минут ходьбы от аббатства. Адам приехал туда на своем пони, намереваясь по дороге домой подъехать к конюшням и оставить там свою лошадку. У конюшен он встретил мистера Крега, пришедшего посмотреть на новую лошадь капитана, на которой последний должен был уехать послезавтра. Мистер Крег задержал Адама, чтоб рассказать, как все слуги должны будут собраться у ворот двора и пожелать молодому сквайру всякого благополучия в то время, как он выедет из дома, так что, когда Адам вышел в парк, бросив корзинку с инструментами на плечи, солнце уже почти садилось, посылая горизонтальные багровые лучи между большими стволами старых дубов и украшая каждое голое местечко земли мимолетным блеском, который придавал этому местечку вид брильянта, брошенного на траву. Ветер теперь стих, и только легкий ветерок шевелил листьями с тонкими стебельками. Кто просидел дома весь день, был бы рад пройтись теперь; но Адам достаточно был на чистом воздухе и желал сократить свой путь домой. Он для того намеревался пройти парк поперек и пройти чрез рощу, где не был уже несколько лет. Он быстро прошел парк, идя по тропинкам между папоротником, сопровождаемый по пятам Джипом; он не останавливался любоваться великолепными изменениями света, даже едва заметил это… а между тем чувствовал присутствие его каким-то тихим, счастливым благоговением, которое сливалось с его деловыми труженическими мыслями. И как мог он не чувствовать этого? Даже олени чувствовали это и становились робче.
Мало-помалу мысли Адама возвратились к тому, что говорил мистер Крег об Артуре Донниторне; он рисовал себе его отъезд и перемены, которые могут случиться к тому времени, когда он возвратится; затем его мысли с любовью представили ему старые сцены товарищества, существовавшего между Адамом и молодым сквайром в детстве, остановились на добрых качествах Артура, которыми Адам гордился, как все мы гордимся добродетелями людей, стоящих в обществе выше вас и обращающихся с нами с уважением. Счастье такого сердца, как у Адама, заключающего в себе большую потребность любви и благоговения, столько зависит от того, что оно может думать о чувствовать о других! И Адам не составил себе идеального мира умерших героев, он немного знал о жизни людей прошедшего времени, он должен был отыскивать себе людей, к которым мог бы привязаться с любовью и благоговением, между теми, с которыми обращался. Приятные мысли об Артуре придали более обыкновенного кроткое выражение его смелому, грубому лицу; может быть, они были также причиною, по которой Адам, отворив старые зеленые ворота, при входе в рощу остановился, чтоб потрепать Джипа и сказать ему ласковое слово.
После этой паузы он снова тронулся в путь по широкой извилистой дорожке, которая вела через рощу. Что за дивные буки! Адам больше всего приходил в восторг от прекрасного дерева. Как зрение рыболова становится проницательнее на море, так и деревья могли прояснить чувства Адама гораздо лучше, чем другие предметы. Он помнил их, как живописец помнил все крапинки и свили на их коре, все кривизны и узлы их ветвей; он даже часто, стоя и любуясь ими, измерял их вышину и объем с математическою точностью. Таким образом, нам не покажется странным, что Адам, несмотря на свое желание возвратиться домой скорее, не мог не остановиться перед любопытным огромным буком, который увидел перед собой на повороте дороги; он непременно хотел убедиться в том, что это было только одно дерево, а не два, сросшиеся вместе. Всю жизнь свою он помнил эти минуты, когда спокойно рассматривал бук, как человек помнит последний взор, брошенный им на родной кров, где протекла его юность, прежде чем он достиг поворота дороги и родной дом исчез у него из виду. Бук стоял у последнего поворота, где роща оканчивалась сводом из ветвей, из которого открывался вид на восточную сторону; и, когда Адам отошел от дерева, намереваясь продолжать путь, его взор упал на две фигуры шагах в двадцати перед ним.
Он остановился неподвижно, как статуя, и почти так же побледнел. Две фигуры стояли одна против другой, держась за руки, как бы прощаясь. В то время как они наклонились друг к другу, чтоб поцеловаться, Джип, бежавший по хворосту, выскочил на дорогу и, заметив их, издал резкий лай. Они, вздрогнув, разошлись… одна бросилась к воротам и торопливо вышла из рощи, другая, повернувшись, медленно, как бы прогуливаясь, стала подходить к Адаму, который все еще стоял, пораженный и бледный, крепче сжимая палку, на которой держал корзинку с инструментами на плече, и устремив на приближавшуюся фигуру взгляд, в котором удивление быстро сменялось свирепостью.
Лицо Артура Донниторна горело – он, по-видимому, был очень взволнован. Артур старался заглушить неприятные чувства тем, что выпил сегодня за обедом вина несколько более обыкновенного и теперь все еще находился под довольно льстивым влиянием напитков, так что смотрел на эту вовсе нежеланную встречу с Адамом не так строго, как это случилось бы во всякое другое время. Впрочем, хорошо еще, что именно Адам увидел его вместе с Хетти: он был умный малый и не разболтает об этом другим. Артур был уверен, что отделается от него шуткой и сразу удовлетворительно объяснит дело. И вот он небрежно подвигался к Адаму с обдуманною беспечностью; его горевшее лицо, его вечернее платье и тонкое белье, его белые, покрытые кольцами руки, полузасунутые в карманы жилета, – все это освещалось странным вечерним светом, который легкие облачка подхватили у самого зенита и изливали теперь между верхушками деревьев над ними.
Адам все еще оставался неподвижен, смотря на приближавшегося к нему Артура. Теперь ему было понятно все: медальон и все другое, что казалось ему сомнительным; ужасно жгучий свет открывал ему тайные буквы, изменявшие смысл прошедшего. Если б только он пошевелил мускулом, то неизбежно бросился бы на Артура как тигр; но в смутных волнениях, наполнявших эти длинные минуты, он обещал себе не следовать порыву страсти, он хотел только высказать, чего требовала справедливость. Он стоял, как бы обращенный в камень какой-то невидимою силою, но эта сила была его собственная твердая воля.
– А, Адам, – сказал Артур, – ты любовался прелестными старыми буками – не так ли? Да, но к ним нельзя приближаться с топором: это священная роща. Я встретил нашу хорошенькую Хетти Соррель, когда отправлялся в мою клетку… в эрмитаж, вон туда. Ведь не должна же она идти домой по этой дороге так поздно. Вот я и довел ее до ворот и попросил поцеловать меня за труды. Но теперь я должен отправиться назад: эта дорога дьявольски сыра. Спокойной ночи, Адам. Я увижусь с тобою завтра, чтоб проститься, ты знаешь.
Внимание Артура было слишком поглощено ролью, которую играл он сам, чтоб он вполне мог заметить выражение лица Адама. Он не смотрел Адаму прямо в лицо, но небрежно окидывал взором деревья, окружавшие его, потом поднял ногу, чтоб взглянуть на подошву своего сапога. Он старался не говорить больше ничего, он бросил достаточно пыли в глаза честного Адама и, произнеся последние слова, пошел своей дорогой.
– Позвольте, сэр, на одну минуту, – сказал Адам суровым, твердым голосом, не оборачиваясь. – Мне нужно сказать вам два слова.
Артур остановился в изумлении. Людей чувствительных скорее поразит перемена тона, чем неожиданные слова, а Артур имел всю чувствительность любящего и в то же время тщеславного характера. Его изумление возросло еще более, когда он увидел, что Адам не пошевелился, а стоял к нему спиною, как бы приглашая его возвратиться на прежнее место. Чего же хотел он? Он намеревался обратить это дело в серьезную сторону. Черт бы его побрал! Артур чувствовал, что начинал терять терпение. Покровительственное расположение всегда имеет свою более низкую сторону, и в замешательстве, причиненном негодованием и беспокойством, Артур полагал, что человек, к которому он был так благосклонен, как к Адаму, не находился в таком положении, которое давало бы ему право критиковать поведение своего покровителя. А между тем он находился под властью – как случается со всяким, чувствующим себя виноватым, – человека, мнением которого он дорожит. Несмотря на гордость и негодование, в его голосе слышались и мольба и гнев, когда он сказал:
– Чего ты хочешь, Адам?
– Я хочу, сэр, – отвечал Адам тем же жестким тоном, все еще не оборачиваясь, – я хочу, сэр, чтоб вы не обманывали меня вашими легкими словами. Сегодня не в первый раз встретились вы с Хетти Соррель в этой роще, и не в первый раз целовали вы ее.
Артур испытывал страх при неизвестности, насколько слова Адама основывались на знании и насколько лишь на догадках. Его негодование увеличилось от этой неизвестности, которая не дозволила ему сообразить благоразумный ответ. Возвысив голос, он резко сказал:
– Ну, сэр, так что ж?
– А вот что: вместо того чтоб поступать, как следует человеку прямому и достойному уважения, каким мы все считали вас, вы разыграли роль себялюбивого, легкомысленного негодяя. Вы знаете так же хорошо, как и я, к чему это должно привести, когда джентльмен, как вы, целует молодую женщину, как Хетти, волочится за ней и делает ей подарки, которые она должна прятать из страха, чтоб не увидели другие. И я вам повторяю, вы разыгрывали роль себялюбивого, легкомысленного негодяя, хотя эти слова режут мне сердце, и мне легче было бы лишиться правой руки.
– Я, однако ж, должен сказать тебе, Адам, – отвечал Артур, обуздывая возраставший гнев и стараясь снова возвратиться к небрежному тону, – ты не только чертовски дерзок, но и городишь вздор. Всякая хорошенькая девушка не так глупа, как ты, чтоб предполагать, будто если джентльмен восхищается ее красотою и обращает на нее некоторое внимание, то у него на уме что-нибудь особенное. Всякий мужчина любит пошутить с хорошенькой девушкой, и всякая хорошенькая девушка любит, чтоб с нею шутили. Чем большее расстояние отделяет нас друг от друга, тем меньше беды в этом, потому что в таком случае она едва ли станет обманывать себя.
– Я не знаю, что, по-вашему, значит шутить, – сказал Адам. – Если шутить, по-вашему, значит, обращаться с женщиною так, как будто вы любите ее, а между тем не любить ее вовсе, то, по-моему, так не может поступать человек честный; а что нечестно, то ведет к беде. Я не дурак, и вы не дурак, и вы знаете лучше, чем говорите. Вы знаете, можно ли дать огласку тому, как вы вели себя с Хетти без того, чтоб она не упала во мнении всех и не покрыла стыдом и беспокойствами себя и своих родственников? Какая нужда в том, что, целуя ее и делая ей подарки, вы не имели ничего особенного в мыслях? Ведь другие-то не захотят поверить, чтоб вы делали все это так. Не говорите мне также о том, что она не может обманывать себя. Я скажу вам, вы так наполнили ее сердце мыслью о вас, что, может быть, отравили ее жизнь, и она никогда не полюбит другого мужчину, который был бы для нее хорошим мужем.
Артур почувствовал мгновенное облегчение в то время, как говорил Адам. Он заметил, что Адам не имел положительных сведений о прошедшем и что сегодняшняя несчастная встреча не была бедою, которую нельзя было бы загладить. Адама еще можно было обмануть. Чистосердечный Артур поставил себя в такое положение, когда его единственной надеждою оставалась только успешная ложь. Надежда несколько смягчила его гнев.
– Хорошо, Адам, – сказал он тоном дружеской уступки, – ты, может быть, прав. Я, может быть, зашел уж слишком далеко, обратив внимание на эту красивую девочку и украв у нее поцелуй несколько раз. Ты такой серьезный, степенный малый, ты не можешь понять, как легко соблазняться на такую шутку. Уверяю тебя, я ни за что на свете не захотел бы причинить беспокойства и огорчения ей и добрым Пойзерам нарочно! Но, кажется, ты смотришь на это уж слишком серьезно. Ты знаешь, я уезжаю отсюда немедленно, таким образом, уж не буду делать проступков в этом роде. Но пора нам проститься, – добавил Артур, поворачиваясь и намереваясь продолжать свой путь, – и уж перестать говорить об этом деле. Все это скоро забудется.
– Клянусь Богом, нет! – завопил Адам с бешенством, которое более не был в состоянии обуздывать, бросив на землю корзинку с инструментами и выступая вперед прямо к Артуру.
Вся его ревность и чувство личного оскорбления, которые до этого времени он старался подавить, наконец одержали верх над ним. Кто ж из нас в первые минуты острой тоски может сознавать, что наш ближний, посредством которого нам причинена тоска, вовсе не думал сделать нам вред? Инстинктивно возмущаясь против страдания, мы снова делаемся детьми и требуем существенного предмета, на который могли бы излить наше мщение. Адам в эту минуту мог только чувствовать, что у него отнята Хетти, вероломно отнята человеком, в которого он верил. Он стоял перед Артуром лицом к лицу, устремив на него свирепый взор; губы его были бледны, руки судорожно сжимались, резкий тон, каким он до этого времени принуждал себя выражать более чем справедливое негодование, уступил глубокому взволнованному голосу, который, казалось, потрясал Адама в то время, как он говорил.
– Нет, это не скоро забудется, что вы стали между нею и мною, когда она могла бы любить меня… нет, это не скоро забудется, что вы похитили у меня счастье, тогда как я считал вас лучшим другом и человеком с благородною душою, быть полезным которому я гордился. И вы целовали ее и не думали при этом ничего особенного – а?.. Я никогда в жизни не целовал ее, но я на целые годы готов был бы закабалить себя в тяжкую работу, чтоб получить право целовать ее. И все это кажется вам пустяками. Что вам думать о поступке, который может причинить вред другим, когда вам хочется только пошутить немного, не имея притом ничего особенного в мыслях. Мне не нужны ваши милости, потому что вы не тот, за кого я принимал вас. Никогда больше в жизни не стану я считать вас своим другом. Мне будет приятнее, если вы будете действовать как мой враг и сразитесь со мною на этом же месте, где я стою: только в этом заключается удовлетворение, которое вы можете сделать мне.
Бедный Адам, которым овладело бешенство, не находившее для себя другого исхода, стал сбрасывать с себя куртку и шапку. Он был совершенно ослеплен страстью и не мог заметить перемену, происшедшую с Артуром в то время, как он говорил: губы Артура были теперь так же бледны, как и у Адама, сердце его страшно билось. Известие, что Адам любил Хетти, было ударом, который заставил его в настоящую минуту увидеть себя в том свете, в каком негодование представляло его Адаму, и смотреть на страдания Адама не только как на последствие, но как на элемент его проступка. Слова ненависти и презрения, которые пришлось услышать ему в первый раз в жизни, казались ему жгучим оружием, которое оставляло на нем неизгладимые рубцы. Прикрывающее вину самоизвинение, которое редко оставляет нас совершенно, когда другие уважают нас, на минуту покинуло его, и он лицом к лицу стоял с первым большим невозвратным злом, подобного которому он никогда не совершал до того времени. Ему было только двадцать один год; и три месяца назад, нет, даже гораздо позже, он с гордостью мыслил о том, что никто не будет в состоянии сделать ему справедливый упрек когда-либо в жизни. В первом порыве, если б на то хватило времени, он, может быть, обратился бы к Адаму с словами умилостивления; но едва лишь Адам сбросил куртку и шапку, как заметил, что Артур стоял бледный и без движения, все продолжая держать руки в карманах своего жилета.
– Что? – сказал он. – Неужели вы не захотите сразиться со мною, как следует порядочному человеку? Вы знаете, что я вас не ударю, пока вы будете стоять так.
– Ступай Адам, – сказал Артур, – я вовсе не хочу драться с тобою.
– Нет, – отвечал Адам с горечью, – вы не хотите драться со мною… вы думаете, что я простолюдин, которого вы можете оскорблять, не подвергаясь за то ответственности.
– Я никогда и не думал оскорблять тебя, – сказал Артур с возвращавшеюся досадою, – я не знал, что ты любишь ее.
– Но вы заставили ее полюбить вас, – сказал Адам. – Вы человек двуличный, я никогда не поверю вам более ни слова.
– Ступай прочь, говорю тебе, – сказал Артур гневно, – или нам обоим придется раскаиваться.
– Нет, – отвечал Адам взволнованным голосом, – клянусь, я не уйду отсюда, не подравшись с вами. Вы ждете, чтоб я вас принудил к тому каким-нибудь другим образом? Ну, так я вам скажу, что вы трус и подлец и что я презираю вас.
Румянец снова быстро разлился по лицу Артура; в одну минуту его белая правая рука сжалась в кулак и быстро, как молния, нанесла удар, который заставил Адама отшатнуться. Его кровь в настоящую минуту волновалась так же, как и у Адама, и оба соперника, забыв чувства, которые питали друг к другу прежде, дрались с инстинктивною свирепостью барсов, среди увеличивавшихся сумерек, еще более мрачных в лесу. Джентльмен с изящными руками мог бы поспорить с работником во всем, кроме физической силы, и искусство, с которым Артур умел отражать удары, дало ему возможность продлить борьбу на несколько минут. Но в битве между невооруженными людьми победа на стороне сильного, если сильный знает свое дело, и Артура должен был сломить ловконаведенный удар Адама, как чугунный брус должен сломить стальной прут. Удар последовал скоро, и Артур упал головою в куст папоротника, так что Адам мог только различить его тело, одетое в черное платье.
Он все еще стоял во мраке, ожидая, когда Артур встанет. Удар был теперь нанесен; для него он напрягал всю силу своих нервов и мышц – что ж было хорошего в этом? Чего же достигал он дракою? Он только удовлетворил собственной страсти, только утолил свое мщение. Он не спас Хетти, не изменил случившегося; все было точно так же теперь, как до этого времени, и он почувствовал отвращение к суете своего бешенства.
Но отчего же не вставал Артур? Он лежал без всякого движения, и время казалось Адаму продолжительным… Боже праведный! неужели удар был слишком силен для него? Адам содрогнулся при мысли о своей собственной силе, когда, под впечатлением этого страха, опустился на колени возле Артура и приподнял его голову из папоротника. На лице не было никакого признака жизни: глаза были закрыты, зубы стиснуты. Ужас, быстро охвативший Адама, овладел им совершенно и заставил его поверить, что действительно было отчего прийти в ужас. Адам видел на лице Артура только смерть, а перед смертью он был бессилен. Он не сделал ни малейшего движения, но стоял на коленях, как образ отчаяния с пристальным взором перед образом смерти.
XXVIII. Дилемма
Прошло только несколько минут, измеренных по часам, хотя они показались Адаму весьма продолжительными, когда он заметил луч сознания на лице Артура и слабую дрожь, пробежавшую по его телу. Сильная радость, наполнившая его душу, снова вызвала в нем прежнее расположение к молодому сквайру.
– Чувствуете вы какую-нибудь боль, сэр? – спросил он нежно, развязывая Артуров галстук.
Артур обратил на Адама неопределенный взгляд, за которым последовал легкий трепет, как бы произведенный возвращающимся сознанием, но он только снова содрогнулся и не произнес ни слова.
– Чувствуете вы какую-нибудь боль, сэр? повторил Адам дрожащим голосом.
Артур приподнял руку к пуговицам жилета и, когда Адам расстегнул жилет, продолжительно вздохнул.
– Опусти голову, – сказал он едва слышно, – и, если можно, дай воды.
Адам нежно опустил голову снова на папоротник и, вынув инструменты из своей тростниковой корзинки, побежал между деревьями на край рощи, граничивший с парком; там под склоном протекал ручеек.
Когда он возвратился, неся в руках корзинку, из которой сочилась вода, но которая была еще наполовину наполнена водой, Артур глядел на него с еще более возвратившимся сознанием.
– Можете ли вы почерпнуть воды рукою, сэр? – сказал Адам, снова становясь на колени, чтоб приподнять голову Артура.
– Нет, – отвечал Артур, – намочи галстук и примачивай им голову.
Вода, по-видимому, приносила ему пользу: он скоро приподнялся больше, опираясь на руку Адама.
– Чувствуете вы какую-нибудь боль внутри, сэр? – снова спросил Адам.
– Нет… никакой, – сказал Артур все еще слабо, – только я немного ослаб…
Погодя немного, он сказал:
– Кажется, я лишился сознания, когда ты сшиб меня с ног.
– Да, сэр, – сказал Адам. – Но, слава Богу! я уж опасался чего-нибудь худшего.
– Что, ты думал, что уж покончил меня, да?.. Помоги мне стать на ноги. Я чувствую себя страшно разбитым, и у меня ужасно кружится голова, – сказал Артур, когда встал, опираясь на руку Адама, – твой удар, должно быть, был словно удар тарана. Я не думаю, что могу идти один.
– Опирайтесь на меня, сэр, я доведу вас, – сказал Адам. – Или не хотите ли посидеть немного, вот здесь, на моей куртке, а я буду поддерживать вас. Вам, может быть, сделается лучше минуты через две или через три.
– Нет, – сказал Артур. – Я пойду в эрмитаж… там, кажется, есть у меня водка. Туда есть ближайшая дорога, вот немного подальше, неподалеку от ворот. Пожалуйста, помоги мне дойти туда.
Они шли медленно, часто останавливаясь, но не произнося более ни слова. В обоих сосредоточение мыслей на настоящем времени, сопровождавшее первые минуты возвратившегося сознания Артура, теперь уступило место живому воспоминанию о предшествовавшей сцене. Уж было почти совершенно темно между деревьями, где шла узенькая тропинка, но в кругу, образуемом елями, окружавшими эрмитаж, было довольно места для того, чтоб свет месяца, теперь увеличивавшийся с каждою минутою, мог проникать в окна. Их шаги были неслышны на толстом ковре из еловых игл, и внешняя тишина, казалось, еще возвышала их внутреннее сознание. Артур вынул ключ из кармана и положил его в руку Адама, чтоб последний отпер дверь. Адам вовсе не знал, что Артур меблировал старый эрмитаж и сделал его своим местом уединения. Отворив дверь, он удивился, когда увидел уютную комнату, в которой, судя по всем признакам, Артур бывал часто.
Артур оставил руку Адама и бросился на оттоман.
– Ты, верно, найдешь где-нибудь мою охотничью фляжку, – сказал он, – кожаный футляр с фляжкой и стаканом.
Адаму недолго пришлось искать.
– Тут очень немного водки, сэр, – сказал он, оборотив фляжку вверх дном над стаканом и держа против света, – едва лишь на этот маленький стаканчик.
– Подай хоть столько, – сказал Артур жалобным тоном, происходившим от физического изнеможения.
Когда он выпил несколько маленьких глотков, Адам сказал:
– Не сбегать ли мне лучше в дом, сэр, и принесть еще водки? Я могу сбегать туда и возвратиться очень скоро. Ведь вам будет трудно дойти домой, если вам нечем будет подкрепить силы.
– Да, сходи. Но не говори, что мне нездоровится. Вызови моего человека, Пима, и скажи ему, чтоб он спросил ее у Мильза, но не говорил, что я в эрмитаже. Принеси также воды с собой.
Адам почувствовал облегчение, получив дело, которое заставляло его действовать. Оба они почувствовали облегчение при мысли, что будут разлучены друг с другом на короткое время. Но быстрый шаг Адама не мог утишить сильную тоску, которую он ощущал, думая о последнем несчастном часе, или с сосредоточенным страданием переживая его и видя за ним всю новую, грустную будущность.
Артур продолжал лежать несколько минут после того, как Адам ушел; но скоро он тихо встал с оттомана и медленно осмотрелся кругом при слабом лунном свете, отыскивая что-то. Он искал небольшой восковой огарок, стоявший между лежавшими в беспорядке материалами для письма и рисования, но ему потребовалось еще более времени, чтоб найти средства зажечь свечу. Когда Артур зажег наконец свечу, то осторожно обошел всю комнату, как бы желая убедиться, что там действительно было что-нибудь или не было ничего. Наконец он нашел вещицу, которую спрятал сначала в свой карман, а потом, подумав немного, снова вынул оттуда и глубоко зарыл в корзинку с ненужными бумагами. Эта вещица была небольшая женская розовая шелковая косыночка. Он поставил свечку на стол и опять бросился на оттоман, задыхаясь от истощения.
Когда возвратился Адам со своими запасами, Артур дремал; приход плотника разбудил его.
– Вот хорошо, – сказал Артур, – я ужасно слаб, и мне непременно нужно подкрепить себя водкой.
– Я рад, что вы зажгли свечу, сэр, – сказал Адам. – Мне уж становилось досадно, что я не спросил фонаря.
– Нет, нет, свечи хватит насколько нужно… Теперь я скоро буду в состоянии встать на ноги и отправиться домой.
– Я на могу уйти раньше, пока не увижу, что вы счастливо добрались до дому, сэр, – сказал Адам, запинаясь.
– Да, лучше будет, если ты подождешь. Присядь.
Адам сел, и они оставались друг против друга в неловком безмолвии. Артур медленно пил водку с водой, которая, видимо, начинала оживлять его. Он принял более удобное положение; телесные впечатления, казалось, мало-помалу теряли свою силу над ним. Адам с большим удовольствием следил за этою переменою; и когда стали рассеиваться его опасения насчет положения, в котором находился Артур, он опять почувствовал нетерпение, известное всякому, кто должен был подавить свое справедливое негодование, видя физическое состояние виновного. Он, однако ж, думал, что, прежде чем будет в состоянии возвратиться к увещаниям, ему нужно исполнить еще одно, именно сознаться в том, что было несправедливого в его собственных словах. Может быть, ему потому так сильно хотелось сделать признание, чтоб снова дать свободу своему негодованию; и когда он заметил, что спокойствие Артура начинало возвращаться, слова опять и опять приступали к его губам и отступали назад, удерживаемые мыслью о том, что лучше, пожалуй, будет все объяснения отложить до завтра. Все время, пока они молчали, они и не смотрели друг на друга, и Адам предчувствовал, что если они начнут говорить, как будто они вспомнили о прошедшем, если посмотрят друг на друга с полным сознанием, то непременно воспламенятся гневом. Итак, они сидели молча, пока восковой огарок, догорая, не замерцал в подсвечнике, и это безмолвие становилось все более неловким для Адама. Тут Артур снова налил себе еще водки с водой, потом, закинув руку за голову и притянув ногу к себе, принял положение, доказывавшее, что его физические боли прекратились. При этом виде Адам не мог преодолеть искушения, побуждавшего его сказать то, что было у него на душе.
– Вы начинаете чувствовать себя лучше, сэр, – сказал он, когда свеча загасла и оба они полускрывались друг от друга при слабом лунном свете.
– Да, я не чувствую себя, однако ж, совершенно хорошо… Я очень ленив и не расположен пошевелиться, но пойду домой, когда выпью этот прием.
Последовала небольшая пауза, прежде чем Адам сказал:
– Я не мог переломить гнева своего и наговорил вам вещей, которые несправедливы. Я не имел никакого права сказать, будто вы знали, что делали мне оскорбление: у вас не было основания знать это; я всегда хранил, как только мог, в тайне то, что чувствовал к ней.
Он снова остановился.
– И, может быть, – продолжал Адам, – я слишком строго осудил вас… Я склонен к тому, чтоб быть строгим; и вы, может быть, из легкомыслия пошли далее, чем, по моему мнению, было возможно человеку с сердцем и совестью. Мы не созданы все одинаково и можем ошибочно осуждать один другого. Богу известно, что я больше всего был бы рад иметь о вас лучшее мнение.
Артур хотел идти домой, не сказав более ни слова. Его мысли были в тягостном замешательстве; его тело слишком слабо для того, чтоб он мог желать каких-нибудь дальнейших объяснений в этот вечер, а между тем он почувствовал облегчение, когда Адам снова начал прежний разговор таким образом, что ему можно было отвечать почти без затруднений. Артур находился в несчастном положении откровенного, великодушного человека, сделавшего ошибку, которая заставляет обман казаться необходимостью. Природное побуждение на правду отвечать правдою, встретить истину откровенным сознанием – это побуждение следовало подавить, и обязанность стала вопросом тактики. Его поступок уже оказывал на нем свое действие, уже деспотически управлял им и заставлял его согласиться на такой образ действия, который противоречил его обыкновенным чувствам. Единственная цель, которую, казалось, он мог иметь в виду теперь, состояла в том, чтоб обманывать Адама до крайней степени, добиться того, чтоб Адам был о нем лучшего мнения, чем он заслуживал. И когда он услышал слова честного извинения, когда он услышал грустный призыв, которым Адам, окончил свою речь, он был принужден радоваться оставшемуся по неведению доверию, которое под этим подразумевалось. Он не отвечал немедленно, потому что ему нужно было быть рассудительным, а не правдивым.
– Перестань говорить о нашем гневе, Адам, – сказал он наконец очень томно, потому что ему было неприятно обдумывать слова. – Я прощаю минутную несправедливость: она была весьма естественна при преувеличенных понятиях, которые ты составил себе мысленно. Я надеюсь, то, что мы дрались, не помешает нам быть по-прежнему друзьями и на будущее время. Победа осталась на твоей стороне, и этому так и следовало быть, потому что из нас обоих я, кажется, был менее прав. Ну, пожмем же друг другу руку.
Артур протянул руку, но Адам остался неподвижен.
– Мне не хочется сказать «нет» на это, сэр, – сказал он, – но я не могу пожать вам руку, пока мне не будет ясно, какое значение мы придаем этому. Я был не прав, говоря, будто вы, зная, нанесли мне оскорбление; но я не был не прав в том, что говорил прежде касательно вашего поведения с Хетти, и не могу пожать вам руку, словно считаю вас также своим другом, как прежде, пока вы не разъясните все это дело лучше.
Артур подавил свою гордость и досаду и опустил руку. Несколько минут он молчал и потом сказал, как только мог, равнодушно:
– Я не знаю, что ты понимаешь под объяснением, Адам. Я уж сказал, что ты слишком серьезно думаешь о пустой шутке. Но если ты даже и справедливо предполагаешь, что шутка эта опасна, то ведь я уезжаю в субботу, и тогда все кончится. Что ж касается огорчения, которое тебе причинило это, то я, право, очень сожалею об этом. Больше я ничего не могу сказать.
Адам не произнес ни слова, но встал со стула и обернулся лицом к одному из окон, будто созерцал черноту освещенных луною елей; на деле же он сознавал только борьбу, происходившую внутри его. Бесполезно было бы теперь оставаться при своем решении переговорить завтра, он должен говорить теперь и на месте. Но прошло несколько минут, прежде чем он обернулся и, подойдя ближе к Артуру, который продолжал лежать, остановился и устремил на него свой взор.
– Я лучше буду говорить ясно, – сказал он с очевидным усилием, – хотя мне это вовсе не легко. Видите, сэр, как бы это вам ни казалось, а для меня это вовсе не вздор. Я не принадлежу к числу людей, которые могут волочиться сначала за одной женщиной, а потом за другой, и я не думаю, что разница тут не очень велика, которую из них возьму. Любовь, которую я чувствую к Хетти, совершенно другого рода; эту любовь, по моему убеждению, могут понимать только те, кто способен чувствовать ее, да Бог, ниспосылающий ее им. Она для меня дороже всего в мире, кроме моей совести и моего доброго имени. И если справедливо то, что вы говорили все это время, если это была только пустая шалость и шутка, как вы называете это, и эта шутка совершенно кончится с вашим отъездом, ну, в таком случае я могу ждать и надеяться, что сердце ее когда-нибудь обратится ко мне. Мне становится досадно при мысли, что вы захотите говорить мне ложь, и я поверю вашему слову, какой бы вид ни имели вещи.
– Ты больше обидел бы Хетти, чем меня, не веря моим словам, – возразил Артур почти свирепо, вскочив с оттомана и сделав несколько шагов, но он тотчас же снова опустился на стул, и произнес более слабым голосом: – Ты, кажется, забываешь, что, подозревая меня, взводишь обвинения на нее.
– Нет, сэр, – сказал Адам более спокойным голосом, как бы вполовину облегченный; он имел слишком прямой характер для того, чтоб делать различие между прямою неправдою и косвенною. – Нет, сэр, обстоятельства между вами и Хетти не одинаковы. Вы, что бы вы ни делали, вы делали с открытыми глазами; но разве вы знаете, что было у нее в мыслях? Ведь она не что иное, как ребенок, о котором всякий человек, имеющий совесть, обязан заботиться. И что бы вы ни думали, я знаю, что вы привели ее мысли в замешательство. Я знаю, она отдалась вам всем сердцем, многие вещи, которых я не понимал прежде, стали мне ясны теперь. Но вы, кажется, очень равнодушны к тому, что может чувствовать она… вы об этом не думаете вовсе.
– Боже мой, Адам, да оставь ты меня наконец в покое! – неистово воскликнул Артур. – Я уж довольно чувствую это, а ты все еще больше мучишь меня.
Он заметил свою нескромность, лишь только слова сорвались у него с языка.
– Хорошо, в таком случае, если вы чувствуете это, – возразил Адам с жаром, – если вы чувствуете, что могли вызвать в ней ложные мысли и заставили думать, что любите ее, между тем как у вас в голове не было ничего подобного, в таком случае я должен обратиться к вам с требованием… я говорю не за себя, а за нее. Я требую, чтоб вы уничтожили ее заблуждение, прежде чем уедете отсюда. Вы уезжаете отсюда не навсегда; и если оставите ее при мечте, что питаете к ней те же самые чувства, какие она питает к вам, то все ее мысли последуют за вами, и несчастье только увеличится. Ваше объяснение причинит ей жгучую боль теперь, но спасет ее от страданий впоследствии. Я прошу вас написать письмо, и вы можете быть уверены, я позабочусь о том, чтоб она получила его: в нем скажите ей всю истину и порицайте себя за то, что вели себя так, как не имели никакого права вести себя с молодой женщиной, которая вам не пара. Я говорю прямо, сэр, но я не могу говорить другим образом. В этом обстоятельстве никто не может позаботиться о Хетти, кроме меня.
– Я могу сделать то, что мне кажется нужным в этом случае, – сказал Артур, приходя все в большее негодование от беспокойства и смущения, – не делая тебе никаких обещаний. Я приму меры, какие покажутся мне приличными.
– Нет, – возразил Адам резким, решительным тоном, – не того мне нужно. Я должен знать, на какой земле стою; я должен быть вполне уверен, что вы положили конец тому, чего вы не должны были никогда начинать. Я не забываю, какое уважение обязан оказывать вам как джентльмену, но в этом деле мы находимся друг к другу в отношении человека к человеку, и я не могу отступить.
Несколько минут не было ответа. Затем Артур сказал:
– Я увижусь с тобою завтра. Теперь я более не могу выдержать: я не здоров.
Произнеся эти слова, он встал и взял свою фуражку, как бы намереваясь идти.
– Дайте слово, что вы больше не увидите ее! – воскликнул Адам в порыве возвратившегося гнева и подозрения, подступив к двери и прислонившись к ней спиною. – Или скажите, что она никогда не может быть моей женой, скажите, что вы лгали, или обещайте мне то, чего я от вас требую.
Адам, вымолвив такое решительное требование, стоял как страшный образ рока перед Артуром, который, сделав два или три шага вперед, тотчас же остановился, слабый, дрожащий, больной душою и телом. Обоим казалась продолжительною внутренняя борьба, происходившая в Артуре, когда наконец он слабо сказал:
– Да, я обещаю. Пусти меня.
Адам отодвинулся от двери и отворил ее; но когда Артур дошел до ступени, то снова остановился и прислонился к дверному косяку.
– Вы не совсем здоровы и не можете идти одни, сэр, – сказал Адам, – возьмите опять мою руку.
Артур не дал ответа и тотчас же пошел вперед, сопровождаемый Адамом; но, сделав несколько шагов, снова остановился и холодно сказал:
– Кажется, я должен тебя побеспокоить. Теперь становится поздно, и, пожалуй, обо мне станут еще тревожиться дома.
Адам подал руку, и они пошли вперед, не говоря друг с другом ни слова, пока не достигли места, где лежали корзина и инструменты.
– Я должен подобрать инструменты, сэр, – сказал Адам, – они принадлежат брату. Я боюсь, чтоб они не заржавели. Подождите, пожалуйста, одну минуту.
Артур остановился молча, и опять они не произнесли ни слова, пока не достигли бокового входа, откуда он надеялся пройти в дом незамеченным. Он сказал тогда:
– Благодарю. Тебе больше не зачем беспокоиться.
– В какое время было бы мне удобно увидеться с вами завтра, сэр? – спросил Адам.
– Ты можешь прийти сюда в пять часов и сказать, чтоб мне доложили о тебе, – сказал Артур, – никак не ранее.
– Спокойной ночи, сэр, – произнес Адам.
Но он не услышал никакого ответа. Артур вошел в дом.
XXIX. Следующее утро
Артур провел не бессонную ночь: он спал долго и хорошо. Люди смущенные не лишаются сна, если только они довольно утомлены. Но в семь часов он позвонил и привел в изумление Пима, объявив ему, что намерен встать и чтоб к восьми был ему приготовлен завтрак.
– Вели оседлать мою лошадь к половине девятого и скажи дедушке, когда он сойдет вниз, что мне сегодня лучше и что я поехал верхом.
Проснувшись, он лежал в постели с час, но не мог оставаться долее. Когда мы лежим в постели, то воспоминания о нашем вчерашнем дне бывают слишком тягостны для нас; если только человек может встать хотя бы для того, чтоб свистать или курить, он живет в настоящем, которое представляет известное сопротивление прошедшему; он испытывает ощущения, которые защищаются против деспотических воспоминаний. Если б можно было собрать чувства и вывести из них среднее число, то оказалось бы, конечно, что сожаление, упреки и оскорбленная гордость производят на деревенского джентльмена более легкое действие в сезон охоты и стрельбы, чем в позднюю весну и лето. Артур сознавал, что когда он поедет верхом, то почувствует в себе более мужества. Даже присутствие Пима, прислуживавшего ему с обычным уважением, действовало на него успокоительно после вчерашнего дня. При чувствительности Артура к мнению других, утрата уважения Адама наносила его самодовольству удар, который заставлял его воображать, что он упал в глазах всех. Так внезапный страх, причиненный какой-нибудь действительною опасностью, заставляет слабонервную женщину бояться даже сделать шаг вперед, потому что везде она видит одну только опасность.
Артур, вам известно, имел любящий нрав. Делать приятное своим ближним было для него столь же легко, как дурная привычка; это было простым исходом его слабостей и хороших качеств, его эгоизма и его симпатии. Он не любил видеть страдания, а любил, чтоб на нем, как на виновнике удовольствия, останавливались полные признательности взоры. Семилетним мальчиком он однажды столкнул ногою горшок с супом старика садовника без всякого другого побуждения, а только из желания пошалить, не подумав, что это был обед старика; но когда он узнал, что его поступок имел неприятное последствие, то вынул свой любимый рейсфедер и перочинный ножик с серебряным черенком из кармана и предложил их в вознаграждение. Он оставался тем же Артуром с тех пор: все оскорбления он старался заставить забыть благодеяниями. Если и была в его характере какая-нибудь горечь, то она могла проявляться только в отношении человека, который отказался бы от поданной им, Артуром, руки примирения. И может быть, наступило уже время, когда должна была подняться эта горечь. В первую минуту Артур почувствовал просто огорчение и угрызения совести, узнав, что в его отношениях к Хетти было вовлечено счастье Адама. Если б была какая-нибудь возможность сделать десятеричное удовлетворение, если б подарки или другие поступки могли возвратить Адаму довольство и уважение к нему, как к благодетелю, Артур сделал бы это не только без малейшего колебания, но чувствовал бы себя еще более связанным с Адамом и никогда не отказался делать ему вознаграждение. Но Адам не мог получить никакого удовлетворения, его страдания не могли совершенно уничтожиться; какие-нибудь примирительные поступки, совершенные быстро, не могли возвратить его уважение и привязанность. Адам стоял как непоколебимое препятствие, против которого не помогало никакое давление, как живое олицетворение того, во что Артур со страхом отказывался верить: невозможности загладить свой дурной поступок. Слова гордого презрения, отказ, которым Адам встретил протянутую ему руку, власть, которую он показал над Артуром в последнем их разговоре в эрмитаже, а более всего, воспоминание о том, что он был сшиблен с ног, – факт, с которым с большим трудом примиряется человек, если даже поражение произошло при самых геройских обстоятельствах, – все это производило в Артуре оскорбительную боль, сильнее угрызений совести. Как был бы рад Артур, если б мог убедить себя, что не причинил никакого вреда! И если б никто не говорил ему противного, он тем легче мог бы убедить себя в том. Немезида едва ли может сковать себе меч из нашей совести, из страданий, которые производят в нас страдания, причиненные нами; такой материал редко дает возможность получить из него действительное оружие. Наше нравственное чувство приучается к обычаям хорошего общества и улыбается, когда улыбаются другие. Но если какой-нибудь невежа вздумает назвать наши поступки грубыми именами, тогда Немезида способна восстать на нас. Так было и с Артуром: суждение Адама о нем, оскорбительные слова Адама разрушили доводы, которыми Артур ласкал свою совесть.
Нельзя сказать, чтоб Артур до открытия Адама был совершенно спокоен. Борьба и намерения превратились в угрызения совести и страшную тоску. Его приводило в отчаяние положение Хетти и его собственное, так как он принужден был расстаться с девушкою. Когда он составлял решения и когда уничтожал их, то всегда заботился о том, к чему может повести его страсть, и видел, что она быстро должна будет кончиться разлукою. Но, обладая слишком пылкою и нежною натурою, он не мог не страдать при мысли о расставании и постоянно чувствовал беспокойство за Хетти. Он узнал ту мечту, в которой она жила; узнал, что она мечтала быть леди, которая будет наряжаться в шелк и атлас. Когда он впервые заговорил с ней о своем отъезде, она с трепетом просила, чтоб он позволил ей ехать с ним и женился на ней. Вот это-то знание, столь тягостное для него, придавало упрекам Адама самую раздражающую язвительность. Он не сказал ни слова с целью вселять в ней обманчивые надежды; ее иллюзии все были сотканы ее собственным ребяческим воображением; но он обязан был сознаться, что они были сотканы наполовину по его собственным поступкам. И еще в последний вечер он увеличил зло, не решаясь даже намекнуть Хетти об истине: он был обязан утешать ее нежными, полными надежд словами, опасаясь повергнуть ее в страшное отчаяние. Он тонко чувствовал положение, в котором находился, чувствовал всю грусть дорогого существа в настоящем и с еще более мрачною тоской думал, какое упорство обнаружат ее чувства в будущем. Это была единственная забота, лежавшая на нем тяжелым гнетом. Всех других он мог избегнуть полным надежды самоубеждением. Вся эта история происходила в глубокой тайне; Пойзеры не имели и тени подозрения. Никто, кроме Адама, не знал о том, что случилось, да вряд ли удастся узнать об этом кому-нибудь и впредь. Артур настойчиво внушил Хетти, что если она словом или взглядом обнаружит малейшую короткость между ними, то это может иметь роковые последствия; а Адам, которому вполовину была известна их тайна, скорее поможет им скрывать, чем выдаст ее. Правда, это было несчастное дело, но незачем было делать его хуже, чем было в действительности, воображаемыми преувеличениями и предчувствием беды, которая, может быть, никогда и не случится. Временная печаль Хетти была самым дурным последствием; он решительно отклонял мысли от дурных последствий, которых неизбежность нельзя было положительно доказать. Но… но Хетти, может быть, ожидало другое беспокойство… А может быть, после этого он будет иметь возможность сделать для нее много и вознаградить ее за все слезы, которые она прольет из-за него. Выгодами, которые доставят ей его заботы о ней в будущем, она будет обязана печали, которой подвергалась в настоящем. Так, нет худа без добра. Таков уж благодетельный порядок дел на свете.
Не намерены ли вы спросить: может ли это быть тот самый Артур, который два месяца назад обладал такою свежестью чувства, такою тонкою честью, который содрогался при одной мысли оскорбить только чувство и считал решительно невозможным остановиться на какой-нибудь более положительной обиде, который полагал, что его собственное самоуважение было высшим судилищем, чем какое-либо внешнее мнение? – тот самый, уверяю вас, только при различных обстоятельствах. Наши поступки управляют нами в такой же степени, в какой мы управляем нашими поступками; и до тех пор, пока мы не знаем, какое собственно было или будет соединение внешних фактов с внутренними, по которому человек составляет критику своих поступков, нам лучше и не думать о том, что нам вполне известен его характер. В наших действиях существует ужасное понуждение, которое сначала может превратить честного человека в обманщика и потом примирить его с этою переменою по той причине, что второй дурной поступок представляется ему уже под видом единственного возможного справедливого поступка. Действие, на которое до исполнения его вы смотрели и с здравым смыслом и с свежим, неомраченным чувством, составляющим верный глаз души, рассматривается впоследствии сквозь лупу остроумного извинения, сквозь которую все вещи, называемые людьми красивыми и безобразными, представляются по своей ткани письма схожими одна с другой. Европа примиряется с fait accompli; таким же образом поступает и отдельная личность, пока это спокойное примирение не будет встревожено судорожным возмездием.
Никто не может избегнуть этого развращающего действия обиды на собственное чувство справедливости человека, и это действие оказывалось в Артуре тем значительнее, что он сознавал в себе сильную потребность в самоуважении, которое было его лучшим хранителем в то время, как его совесть находилась в спокойном состоянии. Самообвинение было для него слишком тягостно; он не мог встретить его смело. Он должен был убедить себя, что не был достоин весьма сильного порицания. Он даже стал сожалеть, что находился в необходимости обманывать Адама: этот образ поведения был так противен честности его натуры. Но потом он думал опять, что ведь ему только и оставался этот образ действия.
Но какова бы там ни была его вина, последствия ее делали его довольно несчастным: он чувствовал себя несчастным относительно Хетти, относительно письма, которое обещал написать и которое казалось в эту минуту страшно варварским поступком. А по временам сквозь все эти рассуждения с быстротой молнии пробегало внезапное побуждение страсти, увлекавшее его пренебречь всеми последствиями и увезти Хетти, все же другие соображения послать к черту.
В этом настроении духа четыре стены его комнаты были для него невыносимою тюрьмой; они, казалось, вгоняли в комнату и теснили на него весь рой противоречащих мыслей и борющихся чувств, из которых одна часть непременно рассеялась бы на чистом воздухе. Ему оставался какой-нибудь час или два, чтоб собрать свои мысли, и голова его должна быть ясна и спокойна. Верхом на Мег, упиваясь свежим воздухом этого прекрасного утра, он будет в состоянии больше владеть собою.
Прелестное животное изгибало на солнце дугою свою гнедую шею, ударяло передними ногами по песку и дрожало от удовольствия, когда господин трепал по морде, гладил его и говорил с ним ласковее обыкновенного. Артур любил Мег еще больше, потому что она не знала его тайн. Но Мег была так же хорошо знакома с душевным состоянием своего господина, как знакомы многие другие ее пола с душевным состоянием милых молодых джентльменов, которые заставляют сердца их биться трепетным ожиданием.
Артур проехал рысью около пяти миль за Лесную Дачу, пока не достиг подошвы холма, где ни изгороди, ни деревья не окаймляли дороги. Тут он бросил поводья на шею Мег и приготовился собрать свои мысли.
Хетти знала, что их вчерашняя встреча должна быть последнею перед отъездом Артура. Устроить еще одно свидание, не возбуждая подозрения, было решительно невозможно. Она, как испуганное дитя, не была в состоянии думать ни о чем, а только плакала при одном намеке на разлуку и потом поднимала лицо, чтоб ее слезы исчезли под поцелуями. Он только и мог, что утешать ее и убаюкивать, чтоб она продолжала мечтать. Письмо было бы страшно резким средством к ее пробуждению. А между тем, что говорил Адам, была истина: оно спасет ее от продолжительного заблуждения, которое может быть гораздо хуже резкого, немедленного страдания. Притом же это было и единственное средство для удовлетворения Адама, который должен быть удовлетворен по многим причинам. Если б он еще раз мог видеть ее! Но это было невозможно: между ними была такая колючая изгородь препятствий и неблагоразумие может иметь роковые последствия. А если б он мог увидеть ее еще раз, что ж вышло бы из этого хорошего? Он страдал бы еще более при виде ее отчаяния и при воспоминании о том. Вдали от него все, что окружало ее, служило для нее побудительною причиною владеть собою.
Вдруг его воображение охватил, как тень, страх, страх о том, чтоб Хетти в своей горести не сделала над собою какого-нибудь насилия, вслед за этим страхом его охватил другой, и тень стала еще мрачнее. Но он оттолкнул все эти опасения со всею силою юности и надежды. На каком основании было ему рисовать будущее такими мрачными красками? Ведь представлялось столько же вероятностей, что случится противное. По мнению Артура, он вовсе не заслуживал того, чтоб обстоятельства разыгрались дурно; до настоящего времени он никогда не думал сделать что-нибудь такое, чего бы не одобряла его совесть: его привели к этому обстоятельства. Он был безусловно уверен, что в глубине души своей был действительно добрый малый и Провидение не поступит с ним сурово.
Что бы там, однако ж, ни было, не в его власти изменить то, что должно случиться теперь: все, что он мог сделать, это принять такой образ действия, какой казался наилучшим в настоящую минуту. И он убедил себя, что этот образ действия был – уничтожить все препятствия, существовавшие между Адамом и Хетти. Может быть, ее сердце действительно после некоторого времени обратится к Адаму, как говорил последний; в таком случае во всей этой истории не было еще большой беды, если только Адам все так же пламенно желал иметь Хетти своею женой. Конечно, Адам быль обманут, и обманут таким образом, что Артур счел бы это глубоким злом, если б это совершилось над ним самим. Это рассуждение расстраивало утешительную надежду. При этой мысли щеки Артура разгорелись даже от стыда и раздражения. Но что ж оставалось делать человеку в подобной дилемме? Честь его не позволяла ему произнести хотя бы одна слово, которое могло бы повредить Хетти: его первым долгом было беречь ее. Ради своей собственной пользы он никогда не решился бы сказать или сделать что-нибудь против истины. Боже праведный! каким он был жалким глупцом, что поставил себя в такую дилемму. А между тем если только у человека были какие-нибудь извинения, так именно у него. Жаль, что последствия определяются поступками, а не извинениями.
Итак, он должен написать письмо. Это было единственное средство, обещавшее разрешение того затруднительного положения, в котором Артур находился. Слезы навернулись на глазах Артура, когда он подумал, как Хетти будет читать письмо. Но ведь и ему так же тяжело писать это письмо. Он не делал того, что было легко для него самого, и последняя мысль помогла ему дойти до решении. Нарочно он никогда не мог решиться на поступок, который приносил с собою страдания другому и нисколько не беспокоил его самого. Даже порыв ревности при мысли о том, что он уступает Хетти Адаму, убедил его, что он приносит жертву.
Дойдя до этого заключения, он повернул Мег и поехал домой снова рысью. Прежде всего он напишет письмо, а остальное время дня он уже посвятит другим делам: так ему не будет времени оглянуться назад. К счастью еще, что Ирвайн и Гавен приедут к обеду, а завтра в двенадцать часов он будет находиться от Лесной Дачи на расстоянии целых миль. В этом постоянном занятии заключалось некоторое обеспечение против непреодолимого побуждения, которое могло овладеть им, побуждения броситься к Хетти с каким-нибудь безумным предложением, которое погубило бы все. Быстрее и быстрее скакала чувствительная Мег при каждом незначительном знаке своего всадника и наконец пошла быстрым галопом.
– Кажется, говорили, что молодому барину нездоровилось вчера вечером, – сказал угрюмый старый грум Джон во время обеда в людской. – А как он скакал-то сегодня утром! Удивительно, что его лошадь не распалась надвое!
– А может быть, по этому-то и видно, что он болен, – ответил шутник-кучер.
– Ну, так пусть бы пустили ему кровь за это, когда так, – еще угрюмее возразил Джон.
Адам рано утром заходил на Лесную Дачу, чтоб узнать о здоровье Артура. Узнав, что молодой сквайр поехал кататься, он перестал беспокоиться о том, какие последствия имели его удары. Ровно в пять часов он опять зашел на дачу и сказал, чтоб доложили о нем. Через несколько минут Пим сошел вниз с письмом в руке и передал его Адаму. «Капитан, – сказал он при этом, – очень занят и не может видеть его, и написал все, что он хотел сказать ему». Письмо было адресовано Адаму, но он открыл его тогда только, когда вышел из дверей. В нем заключалась запечатанная записка, адресованная Хетти. Внутри конверта Адам прочел:
«В приложенном письме я написал все, что ты желал. Предоставляю тебе решить как лучше: передать ли его Хетти или возвратить мне? Спроси еще раз самого себя, не причинишь ли ты ей этою мерою большей боли, чем одним молчанием.
Нам нет необходимости еще раз видеться друг с другом теперь. Мы встретимся с лучшими чувствами через несколько месяцев.
А. Д.
«Быть может, он и прав в том, что нам незачем видеться с ним, – подумал Адам. – К чему нам встречаться для того, чтоб еще наговорить друг другу жестких вещей? К чему нам встречаться для того, чтоб пожать друг другу руку и сказать, что мы опять друзья? Мы ведь больше не друзья, и лучше не иметь и притязаний на это. Я знаю, прощение есть долг человека, но, по моему мнению, это значит только, что человек выкинул из головы все мысли о мщении, это не может значить, что ваши прежние чувства снова возвратятся, потому что это невозможно. Он для меня уж не тот же самый человек, и я не могу чувствовать к нему то же самое. Боже мой! я не знаю, чувствую ли я теперь то же самое к кому бы то ни было; мне кажется, что я все мерил свою работу неверною меркой, и теперь мне надобно перемерить все снова».
Но вскоре все мысли Адама поглотил вопрос: следует ли передать Хетти письмо? Артур доставил самому себе некоторое облегчение, предоставив решение Адаму, не предупредив его; и Адам, не предававшийся колебаниям, теперь колебался. Он решился сначала исследовать свой путь, удостовериться, как можно лучше, в каком состоянии находилось сердце Хетти, прежде чем он решится передать письмо.
XXX. Передача письма
В следующее воскресенье Адам присоединился к Пойзерам, отправлявшимся домой из церкви, надеясь получить приглашение идти домой с ними. Письмо у него было в кармане, и он очень заботился о том, чтоб иметь возможность поговорить с Хетти наедине.
Он не мог видеть ее лицо в церкви, потому что она переменила свое место, и, когда он подошел к ней, чтоб пожать ее руку, ее манеры были неопределенны и неестественны. Он ожидал этого. Сегодня она в первый раз встречалась с ним с того времени, как она видела, что он застал ее с Артуром в роще.
– Пойдемте с нами, Адам, – сказал мистер Пойзер, когда они дошли до поворота.
Как только они вышли на поля, Адам осмелился предложить руку Хетти.
Дети вскоре дали им случай немного отстать от прочих, и тогда Адам сказал:
– Не удастся ли вам устроить так, чтоб вы вышли погулять со мною в саду сегодня вечером, если погода будет хороша, Хетти? Мне нужно поговорить с вами особенно.
– Очень хорошо, – ответила Хетти.
Обстоятельство, что она будет разговаривать с Адамом о чем-то особенном, беспокоило ее так же, как и Адама: ей очень хотелось знать, что он думал о ней и об Артуре. Она знала, что он должен был видеть, как они целовались, но не имела никакого понятия о сцене, происшедшей между Артуром и Адамом. Сначала она думала, что Адам будет очень сердит на нее и, может быть, скажет ее дяде и тетке, но ей уж никак не приходило на мысль, что он осмелится сказать что-нибудь капитану Донниторну. Это было для нее облегчением, что он обошелся с нею сегодня так ласково и хотел говорить с ней одной. Она дрожала, увидев, что он шел домой вместе с ними, так она опасалась, что он расскажет все, но теперь, когда он хотел говорить с нею, она должна узнать, что он думал и что он хотел делать. Она с некоторой уверенностью думала, что может убедить его не делать того, чего она не хотела, быть может, она даже заставит его поверить, что она вовсе и не думает об Артуре, и знала, что до тех пор, пока Адам будет иметь надежду получить ее согласие, он непременно сделает то, что ей будет угодно. Притом же она должна продолжать свою роль и показывать вид, будто поощряет Адама из опасения, чтоб ее дядя и тетка не рассердились и не стали подозревать, что у нее есть какой-нибудь тайный любовник.
Маленькая головка девушки была занята этими мыслями в то время, как Хетти шла с Адамом под руку и отвечала «да» или «нет» на его легкие замечания о том, что вот нынешнюю зиму будет птичкам очень много ягод на боярышнике и что едва ли хорошая погода простоит до завтрашнего утра, так как тучи уж очень низко нависли. Когда она догнали ее дядю и тетку, то она, не прерывая, могла преследовать свои мысли: мистер Пойзер утверждал, что хотя молодой человек и охотно идет под руку с женщиною, за которою ухаживает, он, однако ж, будет рад разумному разговору о деле. Что ж до самого фермера, то он очень интересовался узнать самые свежие новости касательно лесной фермы. Таким образом, во всю остальную дорогу он присвоил исключительно себе беседу Адама. Хетти же раскладывала свою тонкую ткань и рисовала себе свои небольшие сцены искусных очарований, когда она шла мимо изгородей под руку с честным Адамом, будто изящно одетая кокетка, сидящая одна в своем будуаре. Если только деревенская красавица в топорных башмаках имеет довольно пустое сердце, то удивительно, как ее умственные процессы походят на процессы леди в кринолине, живущей в высшем обществе и употребляющей весь свой изощренный ум на решение проблемы, каким образом она могла бы совершать безрассудства, не компрометируя себя. Может быть, сходство нисколько не уменьшалось оттого, что Хетти в это время чувствовала себя несчастною. Расставание с Артуром причиняло ей двойную боль. При волнениях страсти и тщеславия она испытывала темные, неопределенные опасения о том, что будущее может принять такой вид, который нисколько не будет походить на ее мечту. Она поддерживала себя утешительными исполненными надежды словами, которые Артур произнес при их последнем свидании: «Я возвращусь к Рождеству, и тогда увидим, что можно будет сделать». Она поддерживала себя уверенностью, что он так любил ее и что он никогда не будет счастлив без нее; и она все еще с удовольствием и гордостью мечтала о своей тайне, что она любима большим джентльменом, как преимуществом своим над всеми девушками, которых знала. Но неизвестность будущего, возможные случаи, которым она не могла придать никакой формы, стали давить ее подобно невидимой тяжести воздуха; она была одна на своем маленьком островке мечтаний, а вокруг нее было мрачное неизвестное водяное пространство, куда отправился Артур. Она не могла теперь поддерживать в себе твердости духа высокомерием, думая о будущем, а могла только созидать свою уверенность на прежних словах и ласках, осматриваясь на свое прошедшее. Но в настоящее время с вечера четверга ее смутные беспокойства почти совершенно заменились более определенным страхом о том, что Адам, может быть, объявит о случившемся ее дяде и тетке; таким образом его внезапное предложение переговорить с нею одной привело ее мысли в новое движение. Она чрезвычайно заботилась о том, чтоб не упустить благоприятного случая, представлявшегося ей в этот вечер, и после чая, когда мальчики отправлялись в сад и Тотти просилась идти с ними, Хетти с живостью, которая удивила мистрис Пойзер, сказала:
– Я пойду с нею, тетушка.
Адам сказал, что и он пойдет с ними, но это не удивило никого. Скоро он и Хетти остались вдвоем в аллее, окруженной орешниками, между тем как мальчики занялись в другом месте собиранием больших незрелых орехов, чтоб играть ими, а Тотти наблюдала за ними с созерцательным видом маленькой собачки. Еще так недавно, не больше двух месяцев назад, Адам стоял в этом саду рядом с Хетти, лаская себя восхитительными надеждами. Он часто вспоминал об этой сцене с четверга вечером: о солнечных лучах, пробивавшихся между ветвями яблонь, о красных гроздях смородины, о прелестной краске застенчивости, разлившейся по лицу Хетти. Он не мог отделаться от этого воспоминания и теперь в этот грустный вечер с нависшими тучами, но пытался подавить его, опасаясь, чтоб какое-нибудь волнение не побудило его высказать Хетти более, чем было нужно.
– После того что я видел в четверг вечером, Хетти, – начал он, – вы не сочтете с моей стороны слишком большою вольностью то, что я намерен сказать вам. Если б за вами ухаживал человек, который сделал бы вас своей женой, и если б я знал, что вы расположены к нему и намерены выйти за него замуж, то я не имел бы права сказать вам хотя бы одно слово об этом. Но когда я вижу, что вам объясняется в любви джентльмен, который никогда не может жениться на вас, да и не думает о том вовсе, то я считаю себя обязанным вступиться за вас. Я не могу говорить об этом с теми, кто заменяет вам родителей, потому что это может наделать лишние беспокойства.
Слова Адама избавили Хетти от страха об одном, но в них также заключалось значение, которое вызвало в ней сильное болезненное предчувствие. Она была бледна и дрожала, а между тем с гневом готова была противоречить Адаму, если б смела открыть свои чувства. Но она молчала.
– Ведь вы еще так молоды, Хетти, – продолжал он почти нежно, – и вы еще очень мало видели, что происходит на свете. Справедливость обязывает меня сделать все, что могу, чтоб спасти вас от беды, в которую вы можете впасть, не зная, куда вас ведут. Если б кто-нибудь, кроме меня, знал, что я знаю о ваших свиданиях с джентльменом и о подарках, которые вы от него получали, то о вас стали бы отзываться очень легко и вы потеряли бы во мнении у всех. И кроме того, вы будете страдать, потому что отдали сердце свое человеку, который никогда не может жениться на вас и который, следовательно, не может заботиться о вас всю жизнь.
Адам остановился и посмотрел на Хетти, которая срывала листья с орешника и обдирала их в руке. Все ее пустые планы и придуманные речи вышли у нее из головы, как дурно выученный урок, под страшным волнением, произведенным словами Адама. В их спокойной уверенности заключалась жестокая сила, угрожавшая охватить и совершенно уничтожить ее жалкие надежды и фантазии. Она желала сопротивляться ей, желала отбросить эти слова далеко гневным противоречием, но ею все еще управляла решимость скрывать то, что она чувствовала. Не будучи в состоянии измерить действие своих слов, она только из слепого побуждения произнесла теперь:
– Вы не имеете никакого права говорить, что я люблю его, – сказала она слабо, но с жаром, срывая шероховатый лист и принимаясь ощипывать его. Она была весьма красива при своей бледности и в волнении; ее черные детские глаза расширились, дыхание стало прерывистее. Сердце Адама заныло, когда он посмотрел на нее. Ах, если б только он мог утешить ее, успокоить и спасти от этого страдания, если б только у него была какого-нибудь рода сила, которая сделала бы его способным оживить ее бедное смущенное сердце, как он спас бы ее от какой бы то ни было физической опасности!
– Я думаю, что это должно быть так, – сказал он нежно. – Я не могу поверить, чтоб вы позволили человеку целовать вас добровольно, дарить вам золотую вещь с его волосами и ходили в рощу для свидания с ним, если б не любили его. Я не осуждаю вас за это, потому что, я знаю, это началось мало-помалу, пока наконец вы не были в состоянии бороться с этим. Я осуждаю его за то, что он, таким образом, украл вашу любовь, зная, что никогда не может вознаградить вас как должно. Он шутил с вами, делал вас своею игрушкою и вовсе не заботился о вас, как мужчина обязан заботиться.
– О, нет, не говорите этого! Он заботится обо мне; я знаю лучше вашего, – воскликнула Хетти. Все было забыто, кроме боли и досады, которые она испытывала при словах Адама.
– Нет, Хетти, – сказал Адам, – если б он заботился о вас как следует, то никогда не поступил бы с вами таким образом. Он сам говорил мне, что не думал ни о чем, когда целовал вас и делал вам подарки; он хотел даже заставить меня поверить, будто и вы смотрели на все это как на пустяки. Но я знаю лучше этого. Я всегда буду знать, что вы верили его любви и считали ее довольно сильной для того, чтоб он женился на вас, хотя он и джентльмен. Вот почему я и должен говорить с вами об этом, Хетти, из опасения, что вы будете обманывать себя ложными надеждами. Ему и в голову никогда не приходила мысль жениться на вас.
– Почем вы знаете? Как вы смеете говорить таким образом? – сказала Хетти, останавливаясь и задрожав.
Ужасная решительность, слышавшаяся в тоне Адама, поразила ее страхом. У нее не хватало присутствия духа рассуждать о том, что Артур имел свои причины не говорить правды Адаму. Ее слова и вид заставили Адама решиться: он должен был вручить ей письмо.
– Может быть, вы не можете поверить мне, Хетти, потому что слишком хорошо думаете о нем, воображаете, что он любит вас больше, нежели в действительности. Но у меня в кармане письмо, которое он сам написал, чтоб я передал его вам. Я не читал письма, но он говорит, что сказал в нем правду вам. Но прежде чем я отдам вам письмо, Хетти, подумайте хорошенько и не дозволяйте, чтоб оно взяло слишком большую власть над вами. Да если б он и захотел сделать этот безумный поступок – жениться на вас, – то из этого не вышло бы ничего хорошего для вас: оно в заключение-то не принесло бы счастья.
Хетти не сказала ничего: она почувствовала возрождение надежды, когда Адам упомянул о письме, которого он не читал. В письме непременно заключалось совершенно другое, чем то, что он думал.
Адам вынул письмо, но все еще держал его в руке, когда тоном нежной мольбы сказал:
– Не сердитесь на меня, Хетти, за то, что я причиняю вам эту боль. Видит Бог, я готов перенести в десять раз хуже только для того, чтоб избавить от нее вас. Подумайте! Никто, кроме меня, не знает об этом, и я буду заботиться о вас, как брат. Вы для меня все те же, как и всегда, так как я не верю, чтоб вы сознательно сделали что-нибудь дурное.
Хетти положила руку на письмо, но Адам не переставал держать его, пока не кончил говорить. Она не обратила внимания на то, что он говорил, она не слушала его. Но когда он перестал держать письмо, она положила его в карман, не открывая его, и потом пошла скорее, как бы желая войти в дом.
– Вы хорошо делаете, что не читаете его теперь же, – сказал Адам. – Прочтите его, когда будете одни. Но погодите немного, позовем детей: вы так бледны и у вас такой болезненный вид, ваша тетушка, пожалуй, заметит это.
Хетти слышала предостережение: оно напомнило ей о необходимости собрать ее природные силы скрытности, которые полууступили удару, причиненному словами Адама. И письмо было у нее в кармане: она была уверена, что в письме заключалось утешение, что бы там Адам ни говорил. Она бросилась отыскивать Тотти и вскоре снова появилась с возвратившимся румянцем на щеках, держа за руку Тотти, которая делала кислую гримасу, потому что была принуждена бросить незрелое яблоко, которое уже закусила своими крошечными зубенками.
– Ну-ка, Тотти, – сказал Адам, – поди сюда и садись на мои плечи, я тебя покатаю. Ну же, держись прямо. Вот как высоко! Да ты можешь схватить верхушки деревьев.
Какой крошечный ребенок отказывался когда-нибудь от утешения, состоящего в возвышенном чувстве, которое волнует его в то время, когда его крепко схватят и быстро поднимут кверху? Я не поверю, чтоб Ганимед плакал, когда орел поднялся с ним и поставил его впоследствии на плечо Юпитера. Тот-ти самодовольно улыбалась, посматривая вниз с своей безопасной высоты, и радостно заблистали глаза матери, стоявшей в дверях дома, когда она увидела Адама, приближавшегося со своею небольшою ношею.
– Да благословит Бог твое личико, моя пташечка! – сказала она, и сильная материнская любовь придала ее резкому взору чрезвычайную кротость, когда Тотти наклонилась вперед и протянула ручонки. В эту минуту она не видела Хетти и, не глядя на нее, только сказала: – Поди налей элю, Хетти, обе девушки заняты сыром.
Когда был налит эль и зажжена трубка дяди, нужно было снести Тотти на постель, потом опять принесть ее вниз в ночном капотике, потому что она плакала и не хотела спать. Потом нужно было приготовить ужин, и помощь Хетти требовалась беспрестанно. Адам оставался на мызе до тех пор, пока заметил, что мистрис Пойзер желала его ухода; он почти все это время постоянно заставлял разговаривать и ее и мужа для того, чтобы Хетти могла быть спокойнее. Он медлил, потому что хотел видеть ее вне опасности в этот вечер, и наслаждался при виде, как она умела владеть собой. Он знал, что она не имела времени прочесть письмо, но не знал, что ее поддерживала тайная надежда, надежда, что письмо противоречиво всему сказанному им. Ему было тяжело оставить ее, тяжело при мысли о том, что он несколько дней не узнает, как она переносит свою печаль. Но наконец он должен идти, и все, что он мог сделать, состояло в том, что он нежно пожал ей руку, когда сказал: «Прощайте!» Она поймет из этого, надеялся он, что если когда-либо захочет прибегнуть к его любви, то эта любовь существовала в нем в прежней степени. Как работали его мысли, когда он шел домой, придумывая полные сострадания извинения безумной страсти, относя всю ее слабость к милой чувствительности ее сердца, порицая Артура, причем все менее и менее намерен был допустить, что и его поведение могло подвергаться менее строгому осуждению! Его раздражение при мысли о страданиях Хетти, а также и при мысли о том, что он, может быть, навсегда лишался возможности жениться на ней, сделало его глухим ко всему, что могло бы оправдать ложного друга, причинившего горе. Адам был человек с ясным взглядом, прекрасною душою – словом, хороший малый, как в физическом отношении, так и в нравственном. Но и сам Аристид справедливый в ту минуту, когда был бы влюблен и чувствовал ревность, не был бы совершенно великодушен. Я вовсе не хочу утверждать положительно, что Адам в эти печальные дни ощущал только справедливое негодование и исполненное любви сострадание. Он мучился горькою ревностью, и в той мере, в какой любовь делала его снисходительным в суждениях о Хетти, горечь находила свободный исход в его чувствах относительно Артура.
«Мне всегда казалось, что ей можно было вскружить голову, – думал он. – Когда джентльмен с изящными манерами и в прекрасном платье, имеющий белые руки и говорящий таким образом, как обыкновенно умеют говорить господа, подходил к ней, ухаживал за нею дерзко, как не мог бы обращаться с нею человек ей равный. И я не думаю, чтоб после этого она когда-нибудь полюбила простолюдина».
Он невольно вытащил руки из кармана и посмотрел на них, на эти грубые ладони и поломанные ногти.
«А я ведь грубоватый малый. Как я вот подумаю, так, право, чем же я и могу-то понравиться женщине? А между тем я мог бы жениться на другой довольно легко, если б не отдал сердце ей. Но мне все равно, что бы ни думали обо мне другие женщины, если она не может любить меня. Она могла бы, пожалуй, любить меня так же, как и кого-нибудь другого, хотя здесь в окрестности мне некого было бы опасаться, если б он не стал между нами, но теперь я, может быть, покажусь ей ненавистным, потому что так не похож на него. Впрочем, этого нельзя еще сказать. Она может выйти на другую дорогу, когда убедится, что он все это время только шутил с нею. Она может почувствовать достоинства человека, который с благодарностью отдал бы ей всю свою жизнь. Но я навсегда должен выбросить все это из головы, как бы она там ни поступала… Я должен быть только благодарен, что не случилось ничего худшего, ведь не один я на белом свете не имею большого счастья. Много совершается хороших дел и с грустным сердцем. На то воля Божия, и этого с нас довольно: я думаю, что мы не узнали бы лучше Его, как все должно быть на свете, если б даже всю жизнь свою ломали голову над этим. Вот я непременно испортил бы всю мою работу, если б видел, что ее постигли горе и стыд, и все это благодаря тому человеку, о котором я всегда думал с гордостью. Так как судьба спасла меня от этого, то я не имею никакого права роптать. Если у человека члены остались целы, то он может перенести два-три острых удара».
Когда в этом месте своих размышлений Адам стал перелезать через плетень, где оканчивалась дорожка, по которой он шел, то заметил человека, шедшего по полю впереди его. Он узнал в нем Сета, возвращавшегося с вечерней проповеди, и поспешил догнать его.
– Я думал, ты будешь дома раньше меня, – сказал он, когда Сет обернулся, поджидая его, – потому что сегодня, против обыкновении, я позамешкался.
– Да и я опоздал. После митинга заговорился с Джоном Барнзом. Он недавно объявил себя в состоянии совершенства, и мне нужно было сделать ему один вопрос о его испытаниях. Этот вопрос один из тех, которые ведут тебя дальше, чем ожидаешь… такие вопросы уклоняются от прямого пути.
Минуты две или три они шли вместе молча. Адам вовсе не был расположен вдаваться в тонкости религиозных испытаний, но намеревался обменяться несколькими словами братской привязанности и доверия с Сетом. Такое побуждение проявлялось в нем редко, как ни сильно любили братья друг друга. Они почти никогда не говорили о личных своих делах или только намекали на домашние беспокойства. Адам, по природе своей, был скрытен во всех делах, касавшихся чувств, а Сет испытывал некоторую робость перед своим более практичным братом.
– Сет, – сказал Адам, положив руку на плечо брата, – нет ли у тебя известий о Дине Моррис с тех пор, как она отправилась отсюда?
– Есть, – отвечал Сет. – Она сказала мне, что я через несколько времени могу написать ей слова два о том, как мы живем и как матушка переносит свое несчастье. Вот я и писал ей недели две назад, упомянул, что у тебя новое место и что матушка стала поспокойнее. А в прошедшую среду я заходил на почту в Треддльстоне и нашел там письмо от нее. Не хочешь ли, может быть, прочесть? Я до сегодня не говорил тебе об этом, потому что ты, мне казалось, был так занят другими делами. Письмо читается очень легко; она просто удивительно пишет для женщины.
Сет вынул письмо из кармана и подал его Адаму.
– Да, брат, – сказал Адам, взяв письмо, – жесткое бремя выпало мне теперь на долю. Но ты не должен сердиться, если я стал несколько молчаливее и суровее обыкновенного. Беспокойство не мешает мне думать о тебе меньше. Я знаю, что мы будем привязаны друг к другу до гроба.
– Я вовсе не сержусь на тебя, Адам. Я хорошо понимаю, что это значит, когда ты по временам говоришь со мною меньше.
– Вот матушка отворяет дверь, чтоб посмотреть, нейдем ли мы, – сказал Адам, когда они взобрались на покатость. – Она, по своему обыкновению, сидела впотьмах. А, Джип, ты рад видеть меня?
Лисбет снова торопливо вошла в избу и зажгла свечу: она слышала приятный для нее шум шагов по траве прежде радостного лая Джипа.
– Ну, голубчики! Никогда время не казалось мне так длинно с тех пор, как я живу на свете, как в это воскресенье вечером. Что это могли бы вы делать оба до такой поздней поры?
– Ты не должна сидеть впотьмах, матушка, – сказал Адам, – от этого и время-то кажется тебе длиннее.
– Да для чего же жечь мне свечу в воскресенье, когда я сижу одна и когда грешно вязать что-нибудь? С меня довольно и дня, чтоб глазеть на книгу, которую я не могу читать. Разве это хорошо коротать так время, чтоб тратить понапрасну хорошую свечу? Но кто из вас хочет ужинать? Судя по этой поздней поре, я думаю, вы или умираете с голоду, или совершенно сыты.
– Я голоден, матушка, – сказал Сет, садясь за маленький столик, который был накрыт еще засветло.
– А я уж поужинал, – сказал Адам. – На, Джип, – прибавил он, взяв со стола холодную картофелину и трепля шероховатую, серую голову собаки, обращенную к нему.
– Зачем ты даешь еще собаке? – сказала Лисбет. – Я уж хорошо покормила ее. Я уж не забуду о ней, не бойся, ведь это все, что мне остается от тебя, когда я тебя не вижу по целым дням.
– Так поди же сюда, Джип, – сказал Адам. – Пойдем спать. Прощай, матушка. Я очень устал.
– Что с ним, не знаешь ли ты? – спросила Лисбет Сета, когда Адам отправился наверх. – Он ходит точно обреченный на смерть эти два-три дня… и такой печальный. Я зашла к нему в мастерскую сегодня утром после того, как ты ушел, а он сидит там и ничего не делает… даже и книги-то не было перед ним.
– Ведь у него теперь столько работы, матушка, – сказал Сет, – и, кажется, у него что-то есть на душе. Но не показывай и виду, что ты это замечаешь: он огорчится, если ты сделаешь это. Будь с ним как можно ласковее и не говори ничего такого, что может рассердить его.
– Что ты тут еще толкуешь, чтоб я не сердила его! И разве я обращаюсь когда-нибудь с ним неласково? Я завтра сделаю ему чудную лепешку к завтраку.
Адам сбросил с себя куртку и жилет и стал читать письмо Дины при свете своей маканой свечи:
«Любезный брат, Сет! Ваше письмо пролежало три дня на почте, прежде чем я узнала, что оно находится там: у меня не было столько денег, чтоб заплатить за экипаж, так как то было здесь время большой нужды и тяжких болезней, потому что шли страшные проливные дожди, будто небеса снова разверзлись. Таким образом, у меня не было денег наготове: откладывать деньги в такое время, когда столько людей нуждалось в настоящем во всех предметах, было бы недостатком веры, подобно тому, как сохранение манны израильтянами. Я говорю об этом для того, чтоб вы не приписывали чему-нибудь другому медленность моего ответа или не подумали, что я немного обрадовалась вашему наслаждению мирскими благами, выпавшими на долю вашего брата, Адама. Почтение и любовь, которыми вы окружаете его, не что иное, как долг: Бог ниспослал на него большие дары, и он пользуется ими, как пользовался патриарх Иосиф, который, будучи возвышен к месту власти и доверия, обнаруживал не меньшую нежность к своему родителю и к своему младшему брату.
Мое сердце привязалось к вашей престарелой матери с того времени, как Провидение дало мне возможность находиться вблизи ее в дни несчастья. Поговорите ей обо мне, скажите ей, что я часто помышляю о ней в вечернее время, когда сижу при слабом свете, как я делала это, когда была у нее, и мы держали одна другую за руки и я говорила слова утешения, которые давались мне. Ах! это благословенное время, неправда ли, Сет? когда дневной свет начинает угасать, и тело несколько утомлено работою и усилиями: тогда внутренний свет становится ярче, и нас наполняет более глубокое чувство опоры на божественную силу. Я сижу на моем кресле в темной комнате и закрываю глаза, и мне кажется, что и вне своего тела я никогда не могу чувствовать никакой нужды. Тогда самый труд, печаль, ослепление и грех, на которых останавливалось мое внимание и над которыми я готова была плакать – да, вся грусть детей человеков, которая охватывает меня, подобно внезапному мраку – все это я могу переносить с добровольным страданием, как будто принимаю участие в кресте Спасителя. Потому что я чувствую это, я чувствую это – Бесконечная Любовь также страдает, да, в полноте знания она страдает, она сокрушается, она сетует; и только слепое себялюбие желает быть свободным от печали, от которой стонет и которою терзается вся вселенная. Я твердо уверена, что это не есть истинное блаженство быть свободным от печали, тогда как в мире существуют печаль и грех: печаль, в таком случае, есть часть любви, а любовь не старается сложить ее с себя. И мне говорит это не один только дух: я вижу это в слове и деле Евангелия. Разве на небе не слышатся мольбы о заступничестве? Не там ли Человек Скорби с телом, которое было распято на кресте и с которым он вознесся на небо? И разве Он не то же, что Бесконечная Любовь, как наша любовь есть то же, что и наша печаль.
Я часто много терпела в последнее время от этих мыслей и с новою ясностью поняла значение этих слов: „Человек, любящий меня, да возьмет крест мой“. Я слышала, как развивали понимание этих слов и говорили, будто они означают беспокойства и гонения, которые мы навлекаем на себя, исповедуя Иисуса. Но, по моему мнению, это толкование узко. Под истинным крестом Спасителя разумеются грех и печаль этого мира – вот что тяжелым камнем лежало у него на сердце, – и этот-то крест мы должны разделять с Ним, из этой-то чаши мы должны пить с Ним, если хотим иметь часть в этой Божественной Любви, которая одно с его скорбью.
Что ж касается моей внешней жизни, о которой вы спрашиваете, то у меня есть все, и в изобилии. У меня была постоянная работа на мельнице, хотя другие руки и были отпущены на некоторое время; и физически я также окрепла значительно, так что не чувствую большой усталости после долгой ходьбы и разговора. Вы пишете, что остаетесь в вашей стране с матерью и братом; это доказывает мне, что вы имеете верное руководство: ясным указанием определено вам оставаться там, и искать большого благословения в другом месте было бы то же, что положить ложный дар на жертвенник и ожидать с неба огня, который воспламенил бы его. Мой труд и моя радость здесь среди гор, и иногда я думаю, что слишком привязалась жизнью к здешним жителям и что стала бы роптать, если б была отозвана отсюда.
Я с благодарностью прочла ваши новости о дорогих друзьях на господской мызе, потому что хотя я послала им письмо, по желанию тетушки, вскоре после того, как я возвратилась от них, но еще не получала от них никакого ответа. Моя тетушка не привыкла писать, а работы в доме хватит для нее на весь день, к тому же она слаба телом. Я истинно привязана к ней и к ее детям, как к ближайшим ко мне по плоти, да и ко всем в доме. Я беспрестанно переношусь к ним во сне, и часто среди работы и даже среди речи мне вдруг приходит в голову мысль о них, будто они находятся в нужде и несчастье, что, однако ж, мне не совершенно понятно. В этом должно заключаться какое-нибудь указание, но я жду более ясного поучения. Вы пишете, что все они здоровы.
Мы увидимся, я надеюсь, друг с другом снова в этой жизни, хотя, может быть, не на долгое время, потому что братья и сестры в Лидсе желают иметь меня в своей среде на короткий срок, когда я буду опять свободна оставить Снофильд.
Прощайте, дорогой брат, и между тем не прощайте. Дети Господа, которым было определено увидеться друг с другом лицом к лицу, исповедовать одну веру и чувствовать, что в обоих живет один и тот же дух, не могут быть разделены никогда, хотя между ними будут лежать и горы. Их души всегда развиты этим соединением и беспрестанно носят память друг о друге в своих мыслях, как будто это придает им новые силы. Ваша верная сестра и сподвижница во Христе, Дина Моррис.
Я не имею такого искусства писать слова мелко, как вы, и перо мое движется медленно. Таким образом я ограничиваюсь этим и говорю только немногое о том, что у меня в мыслях. Приветствуйте вашу матушку от меня поцелуем. Она просила меня при расставании поцеловать ее два раза».
Адам снова сложил письмо и сидел в раздумье, склонив голову на руку у изголовья кровати, когда Сет поднялся наверх.
– Читал ты письмо? – спросил Сет.
– Да, – сказал Адам. – Не знаю, что я должен был бы думать о ней и о ее письме, если б никогда ее не видел: я подумал бы, право, что женщина-проповедница отвратительна, но она одна из тех, у которых все, что бы они ни говорили, ни делали, кажется справедливым; мне казалось, что я вижу ее и слышу, как она говорит, когда читал письмо. Удивительно, право, как мне помнится ее наружность и ее голос. Она сделала бы тебя редким счастливцем, Сет, она именно такая женщина, какая тебе нужна.
– Что тут толковать об этом! – сказал Сет уныло. – Она говорила так твердо, а она ведь не из тех женщин, которые говорят одно, а понимать их надо иначе.
– Ну, ее чувства могут еще измениться со временем. Женщина может начать любить постепенно… даже сильнейший огонь не запылает в одно мгновение. Я советовал бы тебе известить ее когда-нибудь. Я мог бы устроить так, чтоб тебе удобно было отлучиться дня на три или на четыре, и ведь это была бы для тебя вовсе не дальняя дорога: только миль двадцать или тридцать.
– Я с большим удовольствием хотел бы увидеться с нею, и это все равно как бы то ни было далеко отсюда, если б только ей не было неприятно это, – отвечал Сет.
– Ей не будет неприятно это, – сказал Адам выразительно, вставая и сбрасывая с себя остальную одежду. – Это было бы для всех нас большим счастьем, если б она захотела иметь тебя своим мужем, потому что матушка удивительно как привязалась к ней и, казалось, была так довольна, имея ее при себе.
– Да, – сказал Сет с некоторой робостью. – И Дина любит также Хетти, она много заботится о ней.
Адам не отвечал на это, и между ними не было произнесено другого слова, кроме «покойной ночи».
XXXI. В Хеттиной спальне
Уже в это время не было так светло, чтоб можно было ложиться спать без свечи, даже в доме мистрис Пойзер, где дела по хозяйству оканчивались рано, и Хетти взяла с собою свечу, отправившись наконец наверх, в свою спальню, вскоре после ухода Адама, и заперла за собою дверь на задвижку.
Теперь она прочтет письмо. Оно должно, непременно должно успокоить ее. Каким образом Адам мог знать истину? Ведь от него можно было ожидать того, что он сказал.
Она поставила свечу и вынула письмо. Оно имело слабый запах роз, который заставил ее почувствовать, будто Артур находится вблизи ее. Она поднесла письмо к губам, и движение пришедших на память ощущений рассеяло весь страх на несколько мгновений. Но ее сердце как-то странно забилось и руки задрожали, когда она сломила печать. Она читала медленно: ей нелегко было разбирать почерк джентльмена, хотя Артур и старался писать четко.
«Дражайшая Хетти! я говорил истину, когда уверял, что любил вас, и никогда не забуду нашей любви. Я буду вашим верным другом до конца жизни, и надеюсь доказать это вам различными способами. Если я скажу вам в этом письме нечто такое, что огорчит вас, то не думайте, что это происходит от недостатка любви и нежности к вам: для вас я готов сделать все на свете, если б знал, что это действительно составит ваше счастье. Я не в состоянии спокойно думать о моей миленькой Хетти, проливающей слезы, когда меня нет около нее, и я не могу осушить их поцелуями; и если б я повиновался моей склонности, то в эту минуту не писал бы письма, а был бы с нею. Мне чрезвычайно тяжело расставаться с нею, еще тяжело писать слова, которые могут показаться ей неласковыми, хотя они истекают из самого истинного расположения.
Дорогая, дорогая Хетти! как ни была для меня сладостна наша любовь, как ни было бы сладостно для меня, если б вы любили меня всегда, я чувствую, что лучше было бы для нас обоих, если б мы никогда не знали этого счастья, и что на мне лежит обязанность просить вас: любите меня и думайте обо мне как можно меньше. Вся вина лежит на мне, потому что я не был в состоянии противиться страстному желанию, которое влекло меня к вам, хотя все это время сознавал, что ваше расположение ко мне могло причинить вам горесть. Я должен был бы сопротивляться своим чувствам. И я поступил бы таким образом, если б был лучше того, чем я в действительности, но так как нельзя изменить прошедшего, то в настоящее время я обязан спасти вас от всякого зла, которое в силах предупредить. А я чувствую, это будет большое несчастье для вас, если ваше расположение будет постоянно так обращено на меня, что вы не будете в состоянии думать о другом мужчине, который своей любовью мог бы сделать вас счастливее, чем я могу, и если вы будете постоянно ожидать в будущем того, что никак не может случиться. Дорогая Хетти! если б я сделал то, о чем вы говорили однажды, и женился на вас, то это было бы вашим несчастьем, а не благополучием, в чем вы сами непременно бы убедились в скором времени. Поверьте мне, вы тогда только будете счастливы, когда будете иметь мужем человека вашего же сословия; и если б я женился на вас теперь, то я только увеличил бы зло, которое сделал, уж не говоря, что поступил бы против долга в других отношениях жизни. Вы ничего не знаете, милая Хетти, о свете, в котором я всегда должен жить, и вы скоро перестали бы любить меня, убедившись, как мало между нами общего.
И так как я не могу жениться на вас, то мы должны расстаться… с этой минуты мы должны преодолеть чувства, влекущие нас друг к другу. Я чувствую себя несчастливым, говоря таким образом, но другого исхода нет. Сердитесь на меня, душа моя, я это заслуживаю, но верьте, что я всегда буду заботиться о вас, всегда благодарен вам, всегда помнить мою Хетти; и если б случилось несчастье, которого мы не предвидим теперь, будьте уверены, что я сделаю все, что находится в моей власти.
Я сказал вам, куда адресовать письмо, если вам нужно будет писать, но я все-таки помещаю внизу адрес, на случай, если вы забыли его. Пишите мне, однако ж, только о том, что я действительно могу сделать для вас, потому что, дорогая Хетти, мы должны стараться думать друг о друге как можно меньше. Простите меня и постарайтесь совершенно забыть обо мне, помня только о том, что я всю жизнь мою буду ваш верный друг.
Артур Донниторн».Медленно Хетти читала это письмо, и когда, прочитав его, подняла голову, то в старом тусклом зеркале отразилось бледное лицо, белое, как мрамор, с круглыми детскими формами, но с выражением грустной, вовсе не детской печали. Хетти не видела лица, она не видела ничего, она чувствовала только холод, и боль, и дрожь. Письмо с шелестом затряслось в ее руке. Она положила его. То было ужасное ощущение, этот холод и эта дрожь: оно совершенно рассеяло даже те мысли, которые произвело оно. Хетти встала, чтоб достать теплый салоп из платяного шкафа, закуталась в него и села, как бы думая только о том, чтоб согреться. Потом она более твердою рукою взяла письмо и принялась перечитывать его. Тогда только слезы скатились на ее щеки, крупные, быстро текущие слезы, которые ослепили ее и закапали письмо большими пятнами. Она сознавала только, что Артур поступал жестоко, что писал таким образом, поступал жестоко, что не хотел жениться на ней. Причины, по которым он не мог жениться на ней, не существовали в ее мыслях. Как могла она верить, что случится какое-нибудь несчастье от исполнения всего того, чего она так страстно желала и о чем так мечтала? У нее не было и идеи, по которой она могла бы составить себе понятие об этом несчастье.
Когда она снова бросила письмо, то заметила в зеркале свое лицо, оно было красно теперь и орошено слезами, оно почти казалось ей подругой, с которой она могла разделить свое горе, которая будет сожалеть о ней. Опираясь на локти, она наклонилась вперед и смотрела в эти черные влажные глаза, смотрела на эти дрожавшие губы и видела, как слезы становились крупнее и обильнее и как рот начинал судорожно искажаться от рыданий.
Ея незначительный мир мечтаний разбился вдребезги, ее недавно родившейся страсти был нанесен решительный удар, это причинило ее жаждавшей удовольствий природе страшную грусть, которая уничтожила всякое побуждение к сопротивлению и на время прервало ее гнев. Она сидела, рыдая, пока не погасла свеча, затем, утомленная, больная, оглушенная от продолжительных слез, бросилась на постель, не раздеваясь, и заснула.
В комнату проникал слабый свет раннего утра, когда проснулась Хетти, вскоре после четырех часов, с чувством неясного несчастья, причина которого становилась ясна для нее мало-помалу, по мере того как она, при слабом свете, начинала различать предметы, окружавшие ее. Вскоре ею овладела ужасавшая мысль о том, что ей нужно скрыть свою грусть, а также и переносить ее в этот скучный день, который наступал. Она не могла оставаться долее в постели, встала и подошла к столу. Там лежало письмо. Она открыла свой сокровенный ящик: там лежали серьги и медальон – все залоги ее кратковременного счастья, залоги пожизненной тоски, которая должна была следовать за ним. При виде этих небольших драгоценностей, которых она касалась и на которые смотрела с такою любовью, как на задаток своего будущего рая украшений, она мысленно переживала те минуты, когда они были даны ей с такими нежными ласками, с такими чудными, милыми словами, с такими жаркими взглядами, наполнявшими ее чудным, восхитительным изумлением, они были гораздо сладостнее всего, что она только могла вообразить себе на свете. И этот Артур, который разговаривал с ней и смотрел на нее таким образом, который будто находился с нею даже и теперь, который, она чувствовала, обнимал ее рукою, касался своими щеками ее щек, дыхание которого смешивалось с ее дыханием, был жестокий, жестокий Артур, написавший это письмо – письмо, которое она быстро хватала, мяла и снова открывала, чтоб прочесть это еще раз. Но полуонемевшее настроение духа, которое было следствием ее страшных рыданий вчерашней ночи, необходимо заставляло ее снова посмотреть на письмо и увидеть, действительно ли справедливы были ее грустные мысли, действительно ли письмо было в такой степени жестоко. Ей нужно было держать его у самого окна, иначе она не могла бы прочесть его при слабом свете. Да! оно было даже хуже… оно было еще более жестоко. Она снова смяла его с гневом. Она возненавидела написавшего это письмо… возненавидела его по той самой причине, что привязалась к нему всей своей любовью, всею девическою страстью и тщеславием, составлявшими эту любовь.
У нее не было слез в это утро: она пролила все слезы вчерашнюю ночь, а теперь сознавала бесслезную утреннюю скорбь, которая хуже первого удара, потому что заключает в себе будущее, как и настоящее. Каждое утро во всю ее будущность, как рисовало ее воображение, она встанет и будет чувствовать, что день не принесет ей никакой радости. Отчаяние безусловно, которое является в первые минуты нашего первого большого горя, когда мы еще не узнали, что значит нервность страдания и возможность исцелиться, вынести отчаяние и снова получить надежду. Когда Хетти томно начала снимать платья, в которых провела ночь, чтоб вымыться и вычесать голову, она испытывала болезненное ощущение, что ее жизнь будет влачиться все таким образом: ей всегда придется делать вещи, в которых она не находила никакого удовольствия, заниматься старым делом, видеть людей, о которых она никогда и не думала, ходить в церковь, в Треддльстон, к чаю к мистрис Бест и не иметь никакой счастливой мысли. Ее непродолжительные, ядовитые наслаждения навсегда похитили ее небольшие радости, некогда составлявшие прелесть ее жизни. Новое платье, приготовленное для треддльстонской ярмарки, вечеринка у мистера Бриттона в брокстонский годовой праздник, поклонники, которым она будет говорить: «Нет!» долгое время, и перспектива свадьбы, которая будет наконец, когда она получит шелковое платье и множество новой одежды сразу, – все это представлялось ей теперь неинтересным и скучным; каждая вещь будет утомлять ее, и у нее навсегда останется безнадежная жажда и страстное желание чего-то иного.
Она вяло раздевалась, но теперь приостановилась, прислонясь к темному старому платяному шкафу. Ее шея и руки были обнажены, волосы падали изящными локонами; они были так же прекрасны, как в тот вечер, два месяца назад, когда она ходила взад и вперед в этой самой спальне, воспламененная тщеславием и надеждой. Она не думала о своей шее и руках в настоящее время, даже к своей собственной красоте она была равнодушна. Она грустным взором окинула скучную старую комнату и потом бессмысленно посмотрела на рассветавшее утро. Не приходило ли ей в голову воспоминание о Дине? о ее словах предчувствия, которые рассердили ее, об искренней мольбе Дины вспомнить о ней, как о друге, в день несчастья? Нет, впечатление было слишком незначительно и не могло возвратиться. В это утро Хетти встретила бы равнодушно всякое выражение дружбы, всякое утешение, с которыми Дина могла бы обратиться к ней, как и все прочее, исключая своей убитой страсти. Она думала только о том, что не может более оставаться здесь и вести прежнюю жизнь; ей легче будет перенести что-нибудь совершенно новое, нежели снова погрузиться в старый, ежедневный круг занятий. Она хотела бы убежать в это самое утро, чтоб никогда более не увидеть старые лица. Но Хетти не обладала таким характером, который смело выступает против затруднений, который решается пренебречь своим твердым знакомым положением и с закрытыми глазами ринуться в неизвестное. Ее природа была тщеславная и жаждала наслаждений, а не страстная, и на какую-нибудь сильную меру должно было понудить ее только отчаяние ужаса. Для развития ее мыслей было немного места в узком кругу ее воображения, и она скоро остановилась на одном решении, которое ей нужно выполнить для того, чтоб освободиться от своей старой жизни: она попросит дядю отпустить ее на место в горничные. Девушка мисс Лидии поможет ей найти такое место, если будет знать, что Хетти имеет позволение от дяди.
Дошедши до этого заключения, она заплела волосы и стала мыться: ей казалось теперь более возможным сойти вниз и вести себя, как обыкновенно. Она намерена спросить дядю в тот же день. Хетти должна была перенести гораздо больше таких душевных страданий, какие переносила теперь, чтоб эти страдания оставили на ее цветущем здоровье глубокий след. Когда она оделась так же красиво, как всегда, в свое будничное платье, подобрав волосы под свой крошечный чепчик, равнодушный наблюдатель был бы более поражен свежей округлостью ее щек и шеи и черным цветом ее глаз и ресниц, чем какими-либо признаками грусти. Но когда она взяла смятое письмо и положила в ящик для того, чтоб не видеть его, тяжелые жгучие слезы, не приносившие никакой отрады, не так, как большие слезы накануне вечером, выступили на ее щеках. Она быстро отерла их, ведь она не должна плакать днем: никто не должен был видеть, как несчастна она была, никто не должен был знать, как она была обманута в своих ожиданиях. Мысль о том, что глаза тетки и дяди будут обращены на нее, вызвали в ней власть над собою, которая нередко сопровождает большой страх. В своем тайном несчастном положении Хетти видела перед собою возможность, что они когда-либо узнают о случившемся, так же точно, как больной и истощенный арестант думает о позорном столбе, может быть, его ожидающем. Они найдут ее поведение постыдным, а стыд был пыткой. Это-то и была совесть бедной маленькой Хетти.
Итак, она заперла комод и отправилась к своей утренней работе.
Вечером, когда мистер Пойзер курил трубку и его добродушие в это время достигло своей высшей степени, Хетти воспользовалась отсутствием тетки и сказала:
– Дядюшка, я хотела бы, чтоб вы позволили мне идти в горничные.
Мистер Пойзер выпустил трубку изо рта и несколько минут смотрел на Хетти с кротким изумлением. Она занималась шитьем и продолжала работать очень прилежно.
– Ну, как это пришло тебе в голову, моя милая? – сказал он наконец, после того, как выпустил дым, раскурив трубку.
– Я полюбила бы то занятие… и полюбила бы его больше, нежели фермерскую работу.
– Нет, нет, милая, ты воображаешь так, потому что не знаешь того занятия. Оно и вполовину не было бы так полезно для твоего здоровья и для твоего счастья в жизни. Мне было бы приятно, чтоб ты жила с нами, пока не получишь хорошего муженька. Ведь ты моя родная племянница и я не хотел бы, чтоб ты пошла в услужение, хотя бы и в дом джентльмена, пока у меня в доме есть место для тебя.
Мистер Пойзер замолчал и принялся раскуривать трубку.
– Я люблю швейную работу, – сказала Хетти, – и могла бы получать хорошее жалованье.
– Разве тетка немножко погорячилась с тобою? – спросил мистер Пойзер, не обращая внимания на последний довод Хетти. – Ты не должна огорчаться этим, моя милая, ведь она делает это для твоей же пользы, она желает тебе добра. Немного найдется неродных теток, которые стали бы делать для тебя то, что она делает.
– Нет, я не сержусь на тетеньку, – сказала Хетти, – но мне больше нравится то занятие.
– Это хорошо, что ты поучилась немножко тому делу… и я тотчас же дал свое согласие, как только мистрис Помфрет захотела учить тебя: если случится что-нибудь дурное, так, по крайней мере, ты будешь знать не одно только дело. Но я никогда не желал, чтоб ты пошла в услужение, дитя мое. Наше семейство всегда ело собственный свой хлеб и сыр с незапамятных времен, все подтвердят тебе это – не так ли, батюшка? ведь вы не захотите, чтоб ваша внучка жила у чужих на жалованье?
– Ну уж нет, – возразил старый Мартин, растягивая слова, чтоб придать им столько же горечи, сколько и отрицания, и в то же время наклоняясь вперед и смотря на пол. – Девушка, однако ж, идет по матери. Какого труда стоило нам держать в руках, а все-таки она вышла замуж, без моего согласия, за человека, имевшего только две головы скота, тогда как ему на ферме нужно было бы иметь десять… Немудрено, что она умерла от воспаления, когда ей не было еще и тридцати лет.
Редко произносил старик такую длинную речь. Но вопрос сына упал, как искра на сухое топливо, на давнишнюю еще неугаснувшую злобу, которая всегда заставляла дедушку быть равнодушнее к Хетти, чем к детям его сына. Этот негодяй Сор-рель промотал все имущество ее матери, а в жилах Хетти текла кровь Сорреля.
– Бедная женщина, бедная женщина! – сказал Мартин-младший, недовольный тем, что вызвал жестокость, с которою вспоминал старик о прошедшем. – Впрочем, ей только не улыбнулась судьба. Но Хетти может иметь положительного, степенного мужа, какого только может иметь девушка в нашем околотке.
Вымолвив этот многозначительный намек, мистер Пойзер снова прибегнул к своей трубке и к своему молчанию, посматривая на Хетти, чтоб увидеть, не обнаруживала ли она какого-нибудь признака, что отказалась от своего необдуманного желания. Но вместо этого Хетти, против собственной воли, начала плакать, частью с досады на то, что ей отказывали в просьбе, частью же от своего горя, которое она должна была скрывать весь день.
– Ну, полно же, полно! – сказал мистер Пойзер тоном шутливого упрека, – Как можно нам плакать об этом? Пусть плачут вот те, у кого дома нет, а не те, кто желает бросить свой дом. Как ты думаешь об этом? – спросил он, обращаясь к жене, которая в это время возвратилась в общую комнату, занимаясь вязаньем с жаром и поспешностью, будто это движение было необходимым ее отправлением, как у морского рака дрожание усиков.
– Думать?.. Ну, я думаю, что вот у нас очень, очень скоро раскрадут всю домашнюю птицу, а все благодаря этой девушке, которая забывает запирать кур на ночь. Ну, а теперь что такое случилось с тобой, Хетти? О чем ты плачешь?
– Да вот, хочет идти в горничные, – сказал мистер Пойзер. – А я говорю, что мы можем пристроить ее лучше.
– Я уж думала, что она набрала себе в голову вздор какой-то. Я видела, что она целый день все ходила надувши губы и не открывая рта. А все оттого, что вот завела знакомство с этими слугами на Лесной Даче. Дураки мы были, что пускали ее к ним. Она думает, что будет жить там гораздо лучше, чем с своими родными, которые приняли ее, когда она была не больше Марти, да вырастили. Ведь она думает, что все занятие горничной состоит в том, чтоб носить платья лучше тех, в которых она родилась; будьте уверены, что она так думает. Ведь она с самого утра и до поздней ночи думает только о том, какую бы тряпку накутать на себя; и я спрашиваю ее часто, не хочет ли она стоять чучелом на поле, потому что тогда она вся будет состоять из тряпок снаружи и внутри. Никогда не дам я своего согласия на то, чтоб она пошла в горничные, до тех пор, пока у нее будут добрые друзья, которые будут заботиться о ней, пока она не выйдет замуж за кого-нибудь получше тех лакеев, которые ни то ни се, ни простолюдины, ни джентльмены, а все-таки хотят жить жирно, и которые в состоянии спрятать руки под полы своих сюртуков да заставить, чтоб жены их работали для них.
– Ну, конечно, – сказал мистер Пойзер, – мы должны найти ей другого мужа, не такого, как этот народ, да и есть у нас под рукой человек получше. Ну, перестань же плакать, дурочка, ступай-ка спать. Я найду для тебя что-нибудь получше места горничной. А это ты уж лучше выкинь из головы.
Когда Хетти ушла наверх, он сказал:
– Я никак понять не могу с чего это она взяла уйти от нас. Я думал, что она расположена к Адаму Биду; по крайней мере, в последнее время мне казалось, что ей нравилось его ухаживание.
– А кто ее знает, что ей нравится, ничто не производит на нее влияния, словно она высохшая горошина. Я уверена, что даже эта девушка, Молли, даром что она так бесит нас, я уверена, что даже она побольше Хетти призадумалась бы, если б захотела оставить нас и детей, несмотря на то что она у нас всего-то год вот будет в Михайлов день. Но она забрала себе в голову эту мысль, чтоб сделаться горничной, оттого что часто бывала между теми слугами. И как мы не догадались, к чему это может повести, когда позволили ей ходить учиться тонкой работе? Но конец этому будет у меня очень скоро.
– Тебе жаль было бы расстаться с нею, если б только это не было к ее же добру, – сказал мистер Пойзер. – Она тебе полезна при работе.
– Жаль? Конечно. Я привязана к ней больше, чем она заслуживает, эта бесчувственная девчонка; а она еще хочет оставить нас таким образом! Не могла же я иметь ее при себе эти семь лет, делать для нее все и учить всему, чему можно, без того, чтоб не привязаться к ней. А я-то вот ткала полотно и все это время думала только о том, чтоб сделать для нее постельное и столовое белье, когда она выйдет замуж; думала, что она останется жить в одном с нами приходе и всегда будет у нас на глазах… Дура я этакая, что заботилась о ней хоть в чем-нибудь, когда она нисколько не лучше вишни с твердою косточкою.
– Нет, нет, ты не должна уж слишком горячиться из-за пустяков, – сказал мистер Пойзер, ласкательно. – Она привязана к нам – за это я могу поручиться. Но она молода и забирает себе в голову вещи, которые не может и объяснить-то как следует. Ведь молодая лошаденка часто сама себе не может дать отчета, отчего ей так хочется бегать.
Ответы ее дяди, однако ж, произвели еще другое действие на Хетти, кроме того, что привели ее в отчаяние и заставили плакать. Она очень хорошо знала, кого он имел в своих мыслях, намекая на свадьбу и на положительного, степенного мужа, и когда она снова пришла в спальню, то возможность выйти замуж за Адама представилась ей в новом свете. В сердце, где не действуют сильные привязанности, где не существует чувства высшей справедливости, к которому могло бы оно обратиться в своих волнениях, чтоб получить силу переносить все спокойно, в таком сердце одним из первых результатов горя бывает неопределенное, отчаянное побуждение к какому-нибудь поступку, который мог бы изменить настоящее положение. Мечта бедной Хетти о последствиях, всегда бывшая только узким фантастическим исчислением ее собственных вероятных удовольствий и страданий, была теперь совершенно вытеснена отчаянным раздражением под влиянием настоящего страдания. Она готова была решиться на один из тех судорожных, безосновательных поступков, которые несчастных мужчин и женщин из временного горя повергают в целую жизнь мучений.
Отчего же бы ей и не выйти за Адама? Теперь ей все равно, что бы она ни делала, лишь бы это произвело в ее жизни какую-нибудь перемену. Она была уверена в глубине души своей, что он все еще желает жениться на ней, а какая-нибудь другая мысль о счастье Адама, в этом отношении, еще никогда не приходила ей в голову.
«Странно! – скажете вы, может быть. – Странно это побуждение к такому образу действия, который мог бы казаться самым возмутительным в ее настоящем расположении духа, и побуждение, явившееся уже во вторую ночь ее печали!» Да, поступки такой маленькой, ничтожной души, какова была у Хетти, боровшейся со всем, что есть серьезного, печального в судьбе человеческого существования, действительно странны. Таковы бывают движения небольшого корабля без балласта, бросаемого в разные стороны на бурном море. Что за прекрасный вид имел он со своими разноцветными парусами при ярких солнечных лучах, падавших на него в то время, когда он стоял на якоре в тихом заливе!
«Пусть же тот, кто сорвал корабль с якоря, и отвечает за весь вред, который причинится судну!» – скажете вы опять.
Да, но это все-таки не спасет корабля, прелестного корабля, который всю жизнь свою мог бы служить предметом радости.
XXXII. Мистер Пойзер режет правду-матку
В следующую субботу вечером происходил в гостинице Донниторнского Герба весьма жаркий спор относительно события, случившегося в тот же самый день и заключавшегося нисколько не менее, как во втором появлении хвата в сапогах с отворотами. Одни уверяли, что это был просто арендатор, договаривавшийся о лесной ферме; другие же, что то был будущий управитель; мистер Кассон, который лично был свидетелем посещения незнакомца, презрительно утверждал, что это был не кто иной, как дворецкий, каким до него был Сачелль. Никто и не думал отрицать свидетельство мистера Кассона о том, что он видел незнакомца, несмотря на то, содержатель гостиницы приводил в подтверждение своих слов различные обстоятельства.
– Я сам видел его, – рассказывал он, – я видел, как он ехал по лугу, окруженному дикими яблонями, на лошади с голою мордой. Я только что хотел выпить пинту – это было утром в половине одиннадцатого, в это время я всегда выпиваю пинту так же аккуратно, как часы, – вот вижу, что Польз едет в своей телеге, и кричу ему: «У вас нынче будет изрядно ячменя, Польз, если только вы позаботитесь о себе». Потом я обошел кругом двора, где ставятся копна, и вышел на треддльстонскую дорогу. В то самое время, как я подходил к большому ясеневому дереву, вдруг вижу, как этот человек в сапогах с отворотами едет на лошади с голою мордой. Вот не пошевелить мне членом, если это неправда. Я остановился, пока он подъехал, и говорю: «Доброго утра, сэр», говорю. Мне хотелось услышать, каким языком он говорит, чтоб знать из здешнего ли он края. Вот и говорю: «Доброго утра, сэр. Славная погода стоит дли ячменя сегодня! Его можно будет убрать немало, если, Бог даст, простоит так». А он и говорит: «Да, вы, может быть, и правы; а впрочем, наверное сказать нельзя», – говорит. Из его слов я и узнал, – продолжал мистер Кассон, подмигивая, – что он не из-за ста миль приехал к нам. Ведь, чай, мой выговор показался ему странным, как всем вам ломшейрцам кажется выговор всякого человека, который говорит настоящим английским языком.
– Настоящим языком! – сказал Бартль Масси презрительно. – Ваш язык так же походит на настоящий, как писк поросенка на арию, которую играют на рожке с клапанами.
– Ну, не знаю, – отвечал мистер Кассон с гневною улыбкою. – Я думаю, человек, который терся между господами с детства, может знать, что такое настоящий язык, почти так же хорошо, как школьный учитель.
– Ну, конечно, – сказал Бартль тоном саркастического утешения, – вы говорите настоящим языком, но он настоящий язык только для вас. Козел Майка Гольдсворта кричит бэ-э-э, так он и должен кричать, и было бы неестественно, если б он издавал другой звук.
Так как все остальное общество состояло из жителей Ломшейра, то против мистера Кассона поднялся дружный смех, и содержатель счел благоразумным возвратиться к прежнему вопросу, который не только не был истощен в один этот вечер, но еще возобновлен на кладбище перед службою на другой день, с новым любопытством, которое сопровождает все новости, когда присутствует при сообщении их новый человек. А новый слушатель был Мартин Пойзер, который как выражалась жена его, «никогда не ходил нализываться с людьми из этой кассоновской шайки, которые только сидят да насасываются, и на вид ни дать ни взять треска с красной башкой».
Вероятно, по причине беседы, которую мистрис Пойзер вела с своим мужем, когда они возвращались домой из церкви, касательно этого загадочного незнакомца, эта почтенная женщина немедленно подумала о нем, когда дня два спустя стояла на пороге дома с вязаньем в руках, предаваясь досугу с удовольствием, что всегда случалось с ней после того, как все было вычищено после обеда, и увидела старого сквайра, въезжавшего к ним на двор на черном пони, в сопровождении Джона-грума. Впоследствии она всегда приводила в пример своего предвидения, в котором действительно заключалось что-то более чем ее собственная замечательная проницательность, что в ту самую минуту, как она увидела сквайра, она подумала: «Мне вовсе не покажется удивительным, если он приехал из-за того человека, который берег лесную ферму, и потребует от Пойзера, чтоб он сделал для него что-нибудь так, даром. Но дурак будет Пойзер, если сделает».
Ясно, что предстояло что-то необыкновенное: старый сквайр посещал своих арендаторов редко; и хотя в продолжение последних двенадцати месяцев мистрис Пойзер повторяла в своем уме множество речей, и не таких, которые бы не имели никакого значения, речей, с которыми она решительно намеревалась обратиться к сквайру в следующий же раз, когда он появится на господской мызе, тем не менее речи мистрис Пойзер всегда оставались при ней.
– Здравствуйте, мистрис Пойзер, – сказал старый сквайр, выпучив на нее свои близорукие глаза; такой взгляд его, замечала миссис Пойзер, «всегда расстраивал ее, словно вы были насекомое и он вот хочет убить вас своим ногтем».
Тем не менее она отвечала: «К вашим услугам, сэр» – и присела с видом совершенного уважения, приближаясь к нему. Она не была такой женщиной, которая стала бы дурно обращаться с старшими и действовать вопреки катехизису приличий без строгого к нему возбуждения.
– Ваш муж дома, мистрис Пойзер?
– Да, сэр, только он на дворе, где копна. Я сию минуту пошлю за ним. Не угодно ли вам сойти с лошади и войти в дом?
– Благодарю вас. Я так и сделаю. Мне хотелось бы посоветоваться с ним об одном дельце, но оно относится и до вас в такой же степени, если только не более. Я хотел бы знать и ваше мнение.
– Хетти, сбегай за дядей и позови его сюда, – сказала мистрис Пойзер, когда они вошли в дом и старый джентльмен низко поклонился в ответ на приветствие Хетти, между тем как Тотти, зная, что ее передник был выпачкан вареньем из крыжовника, стояла, прислонясь лицом к большим часам, и посматривала оттуда только украдкой.
– Что за прелесть эта старая кухня! – сказал мистер Дон-ниторн, осматриваясь кругом с удовольствием. Он говорил всегда так же обдуманно, мерно, вежливо, все равно были ли его слова сладки как сахар или ядовиты. – И как вы удивительно чисто содержите ее, мистрис Пойзер! Знаете ли, я люблю ваш дом больше всех других в имении.
– В таком случае, сэр, если он действительно так нравится вам, то я была бы очень рада, если б вы приказали сделать в нем кой-какие починки. Обшивка в таком положении, что нам от крыс и мышей просто житья нет, а в погребе вода будет вам по колено, если вам угодно посмотреть, но я полагаю, что вы поверите мне и на слово. Не угодно ли вам присесть, сэр?
– Нет еще, я должен видеть вашу сырню. Я не видел ее несколько лет, а между тем все решительно не могут нахвалиться вашим прекрасным сыром и маслом, – сказал сквайр, вежливо показывая вид, что не думает, будто мог существовать какой-нибудь вопрос, в котором он и мистрис Пойзер были бы несогласны между собою. – Кажется, я вижу, что дверь отперта вот там. Вы не должны удивляться, если я брошу завистливый взгляд на ваши сливки и масло. Я уж никак не думаю, чтоб сливки и масло мистрис Сачелль выдержали какое-нибудь сравнение с вашими.
– Я не могу ничего сказать об этом, сэр. Мне редко приходится видеть чужое масло. Правда, у некоторых такое масло, что на него и смотреть не нужно, достаточно одного запаха.
– Вот это мне нравится! – сказал мистер Донниторн, окидывая взором сырой храм опрятности, но оставаясь возле дверей. – Я уверен, что я завтракал бы с большим аппетитом, если б знал, что сливки и масло, которые подаются мне, из этой сырни. Очень вам благодарен. Право, посмотреть на все это – истинное удовольствие. К несчастью, мое легкое расположение к ревматизму заставляет меня остерегаться сырости: я присяду в вашей уютной кухне… А, Пойзер! как вы поживаете? Все работаете, я вижу, как всегда. Я смотрел превосходную сырню вашей жены, лучшей хозяйки во всем приходе, не так ли?
Мистер Пойзер только что вошел в комнату, без сюртука и с расстегнутым жилетом; его лицо было немного краснее обыкновенного, оттого что он усердно подбрасывал сено. Он стоял, румяный, круглый и веселый, перед маленьким, жилистым, холодным старым джентльменом, как наливное яблоко рядом с тощим диким яблоком.
– Не угодно ли вам сесть на это кресло, сэр? – сказал он, подвигая несколько вперед покойное кресло своего отца. – Вам будет в нем поспокойнее.
– Нет, благодарю вас, я никогда не сижу в покойном кресле, – отвечал старый джентльмен, садясь на небольшой стул недалеко от двери. – Знаете ли, мистрис Пойзер… садитесь, пожалуйста, садитесь и вы, Пойзер… я не доволен с некоторого времени управлением сырней мистрис Сачелль. Кажется, ее метода не так хороша, как ваша.
– Право, сэр, я об этом судить не могу, – возразила мистрис Пойзер сухо; она свертывала и развертывала свое вязанье и с ледяным взором смотрела в окно, продолжая стоять против сквайра. Пусть Пойзер садится, если хочет, думала она, уж она-то не намерена сесть, словно хочет поддаться такому сладкоречивому льстецу.
Мистер же Пойзер, не имевший ни ледяного вида, ни ледяных чувств, сел на свой треногий стул.
– И теперь, Пойзер, когда Сачелль слег, я намерен передать лесную ферму почтенному арендатору. Я уж устал иметь ферму на своей шее… в таком случае, как вам известно, хорошего не выйдет ничего. Трудно найти удовлетворительного управителя; и думаю, что я и вы, Пойзер, и вот ваша отличная жена можем по этой причине войти в известное соглашение, которое всем вам доставит выгоду.
– О!.. – произнес мистер Пойзер, с выражением добродушного непонимания, в чем может состоять это соглашение.
– Если вы желали, чтоб я говорила, сэр, – сказала мистрис Пойзер, удостоив мягкость своего мужа взглядом, в котором выражалось сожаление, – вы, конечно, знаете лучше меня, но я решительно не вижу, что нам за дело до лесной фермы. Нам довольно хлопот и с нашей собственной. Не то чтоб я не была рада, услышав, что в ваш приход явится порядочный человек, были в нашем приходе и такие, про которых нельзя было отозваться в этом смысле.
– Вы, вероятно, будете считать мистера Терлэ превосходным соседом, уверяю вас. Вы непременно будете рады, что согласились на предложение, о котором я намерен сообщить вам, в особенности же, я надеюсь, потому что вы найдете его столь же выгодным для себя, как и для него.
– В самом деле, сэр, если это клонится к нашей же выгоде, то мне приходится слышать впервые о предложении подобного рода. Я думала: обыкновенно те получают выгоды на этом свете, которые сами умеют искать их; тем же, которые ждут, пока выгоды придут к ним сами, придется ждать долго.
– Дело в том, Пойзер, – сказал сквайр, не обращая внимания на теорию о светском благоденствии мистрис Пойзер, – при лесной ферме для той цели, которую имеет Терлэ, слишком много луговой земли и слишком мало пахотной, и он принимает ферму только на таком условии, чтобы сделать некоторый обмен. Его жена, по-видимому, не такая отличная хозяйка по части приготовления сыра и масла, как ваша. Теперь план, который я задумал, состоит в том, чтоб сделать небольшой обмен. Если б вы взяли пустотные луга, вы могли бы увеличить ваше сырное производство, а это дело должно быть так выгодно под управлением вашей жены, и я должен просить вас, мистрис Пойзер, чтоб вы снабжали мой дом молоком, сливками и маслом по рыночным ценам. С другой стороны, Пойзер, вы могли бы отдать Терлэ верхнюю и нижнюю полосы, и, право, в нашем сыром климате вы не были бы от того в убытке. Вы подвергаетесь меньшему риску, владея лугами, нежели владея нивами.
Мистер Пойзер сидел, нагнувшись вперед, держа локти на коленях, склонив голову на сторону и скривив рот. Очевидно, он сосредоточил все свое внимание на том, чтоб кончики пальцев, встречаясь, с совершенною аккуратностью представляли остов корабля. Человек он был слишком тонкий, чтоб не понять, в чем тут было дело, и не предвидеть в точности, с какой точки зрения будет смотреть на этот предмет его жена. Но он не любил давать ответы неприятные, разве только если дело касалось фермерской деятельности, он всегда готов был на уступку, лишь бы только не вступать в спор, наконец, все это дело касалось более его жены, нежели его. Таким образом, помолчав несколько минут, он поднял голову и кротко спросил:
– Что ты скажешь на это?
Мистрис Пойзер все время, пока молчал ее муж, не спускала с него глаз, в которых выражалась холодная строгость, но теперь она, покачав, отвернула голову, устремила ледяной взор на противоположную крышу коровьего хлева и, сколов свое вязанье свободною иглою, крепко сжала его в руках:
– Что я скажу об этом? А вот что: ты можешь делать, как хочешь, с твоими нивами, отдавать их или не отдавать до окончания твоей аренды, срок которой кончится вот в Михайлов день или, собственно, в Благовещение, через год; но я ни за что не возьму на свою шею еще луговой земли, ни из дружбы, ни за деньги… А ведь тут, сколько я могу видеть, нет ни дружбы, ни денег; тут есть дружба, да любовь некоторых людей к самим себе, да деньги, которые перейдут в чужие карманы. Знаю я, что есть люди на свете, которые родились, чтоб владеть землею, а другие, чтоб в поте лица трудиться на ней…
Тут мистрис Пойзер остановилась, чтоб перевести дух.
– И я знаю, что христианский долг велит людям повиноваться своим старшим, насколько плоть и кровь в состоянии вынести. Но никакой помещик в Англии, будь хоть это сам король Георг, не заставит меня сделаться мученицей, работать так, чтоб на мне остались одни лишь кости да кожа и терзаться, словно я масляник, который только годен для вмещения в себя масла.
– Нет, нет, дорогая мистрис Пойзер, конечно нет, – сказал сквайр, все еще уверенный в своей силе убеждения, – вы не должны мучить себя работой. Но неужели вы не думаете, что ваша работа скорее уменьшится, а не увеличится в таком случае? В аббатство требуется столько молока, что от увеличения вашей сырни у вас немного прибавится дела по производству сыра и масла. А я думаю: продажей молока вы извлечете наибольшие выгоды из вашей сырни, не так ли?
– Конечно, это правда, – сказал мистер Пойзер.
Он был не в состоянии скрыть мнение в деле фермерских выгод и забыл, что в этом случае этот вопрос не был чисто отвлеченным.
– Ну, не думаю! – сказала мистрис Пойзер с горечью, нехотя поворотив голову к мужу и смотря на пустое кресло. – По-моему, соглашаться с этим могут мужчины, которые сидят в углу у камина и воображают, все вот на свете так устроено, что может входить одно в другое. Если б вы могли сделать пудинг тем, что думали бы о тесте, то приготовить обед было бы легко. Каким образом знать мне, будет ли молоко требоваться постоянно? Кто поручится мне в том, что через какие-нибудь два-три месяца прислуге в аббатстве не будут выдаваться деньги, а ведь тогда она будет на своем коште и молоко мое уже не будет требоваться? Ведь тогда мне и ночи придется не спать, а все иметь в своей голове двадцать галенков молока. Дингаль не станет брать масла больше теперешнего; пусть он платит исправно хоть за то, сколько берет теперь. И должны мы будем откармливать свиней, пока будем принуждены умолять на коленях мясника, чтоб он только взял их, да половина их передохнет у нас от угрей. А доставка и переноска молока, которая займет человека и лошадь по крайней мере полдня, ведь это, я полагаю, нужно же вычесть из прибыли? Но есть люди, которые станут держать решето под насосом и надеяться, что донесут в нем воду до места.
– Это затруднение касательно доставки молока… это затруднение вы не будете иметь, мистрис Пойзер, – сказал сквайр, думавший, что этот переход к подробностям указывал на некоторое расположение к мировой сделке со стороны мистрис Пойзер. – К вам будет аккуратно приезжать Бетелль с телегою и пони.
– О, сэр, прошу извинить меня! Я не привыкла, чтоб господские слуги таскались у меня по двору, любезничали с обеими девками зараз, а те, уставив руки в бока, слушали всякого рода пустую болтовню, когда должны ползать на коленях и подмывать полы. Если уж мы должны разориться, то, во всяком случае, мы можем разориться иначе, а не тем, чтоб наша кухня превратилась в публичное место.
– Видите ли, Пойзер, – сказал сквайр, изменяя тактику и показывая вид, будто думал, что мистрис Пойзер вдруг удалилась от прений и оставила комнату, – вы можете пустошные луга обратить в пастбища. Я могу довольно легко устроиться как-нибудь иначе относительно снабжения молоком моего дома. Я не забуду, с какой готовностью вы ладили с вашим сменщиком и с вашим соседом. Я знаю, вы с радостью возобновите аренду на три года по истечении настоящего срока; иначе скажу вам: Терлэ, человек с некоторым капитальцем, с радостью взял бы обе фермы, которые так хорошо могли бы служить подмогой одна другой, – но я не хочу расставаться с вами, таким старым арендатором.
Для того чтоб привести мистрис Пойзер в совершенное раздражение, было достаточно устранить ее от дальнейших прений, даже без употребления заключительной угрозы, ее муж, действительно встревоженный возможностью оставить старое место, где он родился и вырос (он был уверен, что сквайр был способен на всякое дурное дело), хотел уж было начать кроткое и увещательное изъяснение того, что он находил неудобным покупать и продавать более скота, и вымолвил: «Но, сэр, это, кажется, было бы несколько жестоко…», как вдруг мистрис Пойзер прервала его, отчаянно решившись сказать всю правду сразу, теперь же, хотя бы затем полил целый дождь отказов и рабочий дом остался для нее единственным приютом.
– В таком случае, сэр, если я могу говорить… хотя, впрочем, я женщина, а есть люди, которые думают, что женщина довольно глупа и должна только стоять да смотреть, когда мужчины продают ее душу, но я имею право говорить, потому что приношу четверть дохода и экономлю другую четверть. Так позвольте мне сказать, если мистер Терлэ с такою готовностью берет ваши фермы, то было бы только жаль, если б он нанял эту. Не знаю, как ему понравится жить в доме, где существуют все казни египетские, где погреб наполнен весь водою и в нем дюжинами скачут по лестницам лягушки и жабы, где полы сгнили, где крысы и мыши грызут всякий кусочек сыру и бегают по головам, когда мы лежим в постели, так что, того и гляди, съедят нас заживо… слава Богу еще, что они не переели наших детей давным-давно. Хотела бы я посмотреть, найдется ли, кроме Пойзера, другой арендатор, который согласится на то, чтоб тут не было произведено никаких починок, пока дом не развалится совершенно… да и тогда пришлось бы ему кланяться и просить и принять на себя половинные издержки… да тут потребовали бы с него большую ренту, которую, дай только Бог, чтоб он получил с земли, тогда как он затратил уж прежде все свои деньги на землю. Увидим, найдете ли вы чужого человека, который захотел бы вести здесь такую жизнь: нужно родиться червяком в испорченном сыре, чтоб полюбить ее. Вы можете бежать от моих слов, сэр, – продолжала мистрис Пойзер, следуя за двери за старым сквайром, который, после первых минут необыкновенного изумления, встал и, грациозно и с улыбкою поклонившись ей рукой, вышел из комнаты, чтоб сесть на пони. Но ему было невозможно уехать немедленно, потому что Джон водил пони взад и вперед по двору и находился на довольно большом расстоянии от дверей, когда господин замышлял кликнуть его. – Вы можете бежать от моих слов, сэр, можете причинить нам под рукой какой-нибудь вред, потому что вы дружны с самим дьяволом, хотя и больше ни с кем, но я скажу вам однажды навсегда, мы не безгласные твари, которых могут употреблять во зло и из которых могут добывать деньги люди, имеющие в руках своих конец веревки, ведь мы знаем, как развязать узел. И если я одна только высказываю то, что у меня на душе, то в приходе и в окрестностях его найдется очень много людей, которые думают таким же образом. Ваше имя не лучше запаха серной спички для носа каждого. Разве только найдется двое-трое стариков, несогласных с ними, потому что вы, думая сберечь свою душу, даете этим старикам кусок фланели и несколько капель похлебки. И вы имеете полное право считать это самым незначительным сбережением, которое вы когда-либо делали, со всею вашею скаредностью.
В некоторых случаях две служанки и кучер могут быть ужасными слушателями; и когда сквайр удалялся на своем черном пони, то даже его дар близорукости не помешал ему заметить, что Молли, Нанси и Тим скалили зубы неподалеку от него. Может быть, он имел подозрение, что угрюмый старый Джон также смеялся сзади его, что действительно и было. Между тем бульдог, черно-рыжая такса, Аликова овчарка и гусак, шипевший на безопасном расстоянии от задних ног пони, в трогательном квартете воспроизводили мысли, которые мистрис Пойзер исполнила соло.
Лишь только, однако ж, мистрис Пойзер увидела удаление пони, как повернулась и бросила на обеих смеявшихся девушек взгляд, который заставил их в одну секунду убраться в заднюю кухню, и, выдернув иголку из своей работы, принялась вязать с обычною живостью, когда входила в дом.
– Ну, заварила же ты кашу! – сказал мистер Пойзер, несколько встревоженный, но, очевидно, чрезвычайно довольный решительным поведением своей жены.
– Да, знаю, что заварила, – отвечала мистрис Пойзер, – но я, по крайней мере, отвела душу, и теперь мне будет легче во всю мою остальную жизнь. Можно ли находить удовольствие в жизни, если вы должны быть всегда закупорены и только тайком по капельке высказывать, что у вас на душе, как бочонок с течью. Я не стану раскаиваться в том, что сказала, если даже мне придется дожить до таких же лет, до каких дожил старый сквайр. Но это вряд ли случится: кажется, именно те люди, которые не нужны здесь, не нужны и на том свете.
– Но тебе не захотелось бы оставить старое место от Михайлова дня через год, – сказал мистер Пойзер, – и переселиться в чужой приход, где ты никого не знаешь. Это было бы тяжело нам обоим, да и батюшке также.
– Э, что тут горевать! Многое множество может случиться от сегодня до будущего года Михайлова дня. Кто знает, может, к тому времени и капитан будет здесь господином, – отвечала мистрис Пойзер, смотревшая, против своего обыкновения, с точки зрения, полной надежды, на затруднения, которые произошли от ее собственных поступков, а не по вине других.
– Да я и не говорю, что надо горевать, – сказал мистер Пойзер, оставляя свой треногий стул и медленно подходя к двери, – но мне было бы досадно оставить старое место и приход, где я родился и вырос, а также и батюшка. Мне кажется, что мы оставим здесь наши корни и никогда более не врастем ни в какую почву.
XXXIII. Еще звенья
Ячмень был наконец убран весь, и празднества по случаю жатвы начались, не дожидаясь печальной уборки бобов. Яблоки и орехи были собраны и снесены в запасные кладовые; из фермерских домов исчез запах сыворотки; его заменил запах варившегося пива. Леса за лесною дачею и все деревья, образовывавшие изгороди, приняли какой-то торжественный вид под мрачными нависшими облаками. Михайлов день был близок, что можно было узнать по корзинам, наполненным доверху душистыми пурпуровыми дамасскими сливами, по маргариткам, также пурпурового цвета, но несколько бледнее цвета слив, по мальчикам и девушкам, оставлявшим места или искавшим себе новой работы и бродившим вдоль пожелтелых изгородей с своими узелками под мышкою. Но хотя и наступил Михайлов день, мистер Терлэ, этот желанный арендатор, не являлся на лесную ферму, и старый сквайр под конец принужден был определить нового дворецкого. В обоих приходах было в точности известно, что план сквайра был уничтожен, так как Пойзеры отказались «поддаться», и решительный образ действий мистрис Пойзер служил самым любимым предметом разговора во всех фермерских домах, чему только содействовало частое повторение. Новость, что «Бони»[18] возвратился из Египта, была, говоря сравнительно, вовсе не интересна, и поражение французов в Италии было ничто в сравнении с поражением, претерпенным старым сквайром от мистрис Пойзер. Мистеру Ирвайну приходилось слышать толки об этом во всех домах своих прихожан, за исключением только лесной дачи. Но так как он всегда с удивительным искусством избегал ссоры с мистером Донниторном, то мог дозволить себе удовольствие посмеяться над неудачею старого джентльмена только с своею матерью. Последняя объявила, что если б она была богата, то непременно назначила бы мистрис Пойзер пожизненную пенсию и настоятельно желала пригласить ее в дом пастора для того, чтоб услышать рассказ об этой сцене из собственных уст мистрис Пойзер.
– Нет, нет, матушка, – возразил мистер Ирвайн, – со стороны мистрис Пойзер то была неправильная расправа, а официальное лицо, как я, не должно поощрять неправильной расправы. Не должно быть известным, что я знаю о происходившем споре, иначе я лишусь небольшого доброго влияния, которое имею на старого сквайра.
– Ну, мне нравится эта женщина больше, чем ее сливочные сыры, – сказала мистрис Ирвайн. – Да у нее столько духу, что его хватило бы на трех мужчин, несмотря на то что у нее такое бледное лицо, да еще она говорит такие резкие вещи.
– Резкие! Да, у нее язык точно только что выточенная бритва, притом же она говорит очень оригинально: она одна из тех женщин неученых, но с острым природным умом, которые снабжают страну поговорками. Я передавал вам великолепное выражение, которое слышал от нее, когда она отзывалась о Креге, что он походит на петуха, думающего, будто солнце взошло только для того, чтоб послушать, как он кричит. Да в этой фразе просто Эзопова басня.
– Но ведь это будет скверное дело, если старый джентльмен выгонит их с фермы через год, в Михайлов день, а? – спросила мистрис Ирвайн.
– О! это не должно случиться. Притом же Пойзер такой славный арендатор, что Донниторн, вероятно, передумает еще раз и скорее переварит свой сплин, чем выгонит его вон. Но если в Благовещение он пошлет к ним уведомление в таком смысле, то Артур и я должны подвинуть небо и землю, чтоб смягчить его. Такие старые прихожане, как они, не должны оставлять приход.
– Ах! нельзя знать, что еще может случиться до Благовещения, – сказала мистрис Ирвайн. – Уже в день рождения Артура мне кинулось в глаза, что старик стал порядочно дряхл. Ты знаешь, ведь ему восемьдесят три года: ведь это, право, уж бессовестно жить так долго. Только женщины имеют право жить до такого возраста.
– Если у них есть сыновья-холостяки, которые решительно погибли бы без них, – сказал мистер Ирвайн, смеясь и целуя у матери руку.
Мистрис Пойзер, когда ее муж выразил при случае свое предчувствие об оставлении ими фермы, также отвечала: «Нельзя знать, что еще может случиться до Благовещения»; это было одно из тех неоспоримых общих выражений, которые обыкновенно передают известное мнение, вовсе не неоспоримое.
За исключением этого предчувствия, в доме семейства Пойзер все шло по-прежнему. Мистрис Пойзер казалось, что она заметила в Хетти удивительную перемену к лучшему. Очевидно, у девушки характер стал солиднее, и по временам казалось, из нее не выжмешь слов даже тележными веревками; она гораздо меньше заботилась о своем костюме и исполняла дело с большим прилежанием, не дожидаясь приказаний. И удивительно, право, что она в это время вовсе не хотела выходить со двора; да, ее даже нелегко было уговорить к этому; и когда тетка приказала ей прекратить ее еженедельные уроки на Лесной Даче, она перенесла это без малейшего ропота или неудовольствия. Надобно было предполагать, по всему этому, что она наконец почувствовала к Адаму сердечную привязанность, и ее внезапная прихоть, состоявшая в том, что девушка непременно хотела сделаться горничной, вероятно, произошла от простой ссоры или недоразумения между ними, которое теперь уже прошло. Это можно было заключить из следующего; каждый раз, когда Адам приходил на господскую мызу, Хетти, казалось, была в лучшем расположении духа и говорила более, чем в другое время, между тем как была почти скучна, когда случайно делал визит мистер Крег или кто-нибудь другой из ее поклонников.
Даже сам Адам наблюдал за ней сначала с лихорадочным беспокойством, которое уступило потом приятному удивлению и пленительной надежде. Пять дней спустя после передачи Артурова письма он решился снова зайти на господскую ферму, и нельзя сказать, чтоб он не опасался, не будет ли ей тягостно видеть его. Ее не было в общей комнате, когда он вошел туда; он разговаривал с мистером и мистрис Пойзер несколько минуть, и его сердце изнывало под гнетом страшной мысли, что вот тотчас ему сообщат о болезни Хетти. Но вскоре послышались знакомые ему легкие шаги, и, когда мистрис Пойзер спросила: «Ну, Хетти, где ж это ты была?», Адам принужден был обернуться, хотя боялся увидеть перемену, которая должна была выразиться на ее лице. Он был просто поражен, увидев, что она улыбалась, будто ей было приятно видеть его, что с первого взгляда она казалась такою же, как всегда; на ней был только чепчик, которого он никогда не видал до этого времени, когда приходил вечером. Однако ж, продолжая смотреть на нее в то время, как она вставала то за тем, то за другим или сидела за работой, он замечал в ней некоторую перемену: щеки ее были покрыты таким же румянцем, как всегда, улыбалась она столько же, сколько в последнее время, но что-то иное было в ее глазах, в выражении ее лица, во всех ее движениях, как казалось Адаму, что-то более жесткое, более старое, менее детское. «Бедняжка! – подумал он. – Чему ж тут и удивляться: она испытала первую сердечную боль. Но, благодарение Богу, у нее довольно твердости, чтоб переносить ее!»
Проходили недели, и он видел, что она всегда была рада его приходу, обращала к нему свое милое личико, будто хотела дать ему понять, что ей было приятно видеть его, продолжала исполнять свою работу так же ровно и не обнаруживала ни малейшего признака горя. Таким образом, Адам начал предполагать, что ее привязанность к Артуру непременно была более легкого свойства, чем он вообразил себе в первые минуты негодования и беспокойства, и что она была способна считать свою ребяческую фантазию, будто Артур влюблен в нее и женится на ней, глупостью, от которой излечилась вовремя. А может быть, и сбывается то, на что он надеялся иногда в свои самые радостные минуты, может быть, ее сердце действительно обращалось с большим жаром к человеку, который, она знала, питает к ней серьезную любовь.
Вы, может быть, думаете, что Адам был вовсе не проницателен в своих толкованиях и что умному человеку никаким образом не следовало вести себя так, как он вел себя, – влюбиться в девушку, у которой в действительности не было никаких достоинств, кроме красоты, приписывать ей какие-то воображаемые добродетели, даже быть до того снисходительным, чтоб плениться ею тогда, когда она уже полюбила другого, и ловить ее ласковые взоры, как терпеливая робкая собака ждет, когда господин ее удостоит ее взгляда. Но мы должны рассудить, что в столь сложном механизме, какова природа человеческая, трудно найти правила без исключений. Конечно, мне известно правило, что умные люди влюбляются в самых умных женщин своего знакомства, видят насквозь все очаровательное обольщение кокетливой красоты, никогда не воображают себя любимыми, когда их не любят, перестают любить при первом удобном случае и женятся на женщине, которая подходит к ним во всех отношениях, так что действительно исторгают одобрение всех девиц, живущих по соседству с ними. Но даже и в этом правиле случаются иногда исключения в течение столетий, а мой друг Адам был именно таким исключением. Что касается, однако ж, меня, то я уважаю его за то нисколько не меньше. Я думаю, что глубокая любовь, которую он питал к этой прелестной, кругленькой, походившей на цветочек черноглазой Хетти, действительно вовсе не зная ее внутреннего «я», проистекала из самой силы его природы, а не из неуместной слабости. Скажите, разве это признак слабости, если производит на вас впечатление великолепная музыка, если вы чувствуете, как ее дивная гармония проникает в тончайшие извилины вашей души, в изящные фибры жизни, куда не может достигнуть никакое воспоминание, и связывает все ваше существование, прошедшее и настоящее, в одну невыразимую вибрацию, наполняя вас в одно мгновение всею нежностью, всей любовью, которая была рассеяна в тяжкие годы, сосредоточивая в одно ощущение героического мужества или покорности все тяжело заученные уроки самоотверженной симпатии, сливая вашу настоящую радость с минувшим горем и ваше настоящее горе со всеми минувшими наслаждениями? Если нет, то нельзя также назвать слабостью, если на человека производят впечатление изящные очертания щеки, шеи и рук женщины, мягкая глубина ее умоляющих глаз или очаровательная детская надутость ее губ. Красота милой женщины походит на музыку: можно ли сказать что-нибудь более? Красота имеет выражение, которое выше единственной женской души, облеченной в нее, подобно тому, как слова гения имеют более обширное значение, чем мысль, внушившая их. То, что в глазах женщины производит в нас волнение более, чем любовь женщины, это, по-видимому, могущественная любовь другого мира, которая приблизилась к нам и заговорила за себя там; округленная шея, прелестные ручки с ямочками приводят нас в волнение чем-то более, чем своею прелестью: своею близкою связью с нежностью и спокойствием, какие мы только знали в жизни. Благороднейшая натура еще, скорее всего, видит это безличное выражение в красоте (излишне было бы говорить, что некоторые джентльмены с крашеными и некрашеными бакенбардами не понимают всего этого), а по этой причине самая благородная натура бывает часто более всего ослеплена в отношении к характеру единственной женской души, которую облекает красота. Таким образ ом, я опасаюсь, что трагедия человеческой жизни, вероятно, будет еще продолжительна, вопреки нравственным философам, у которых всегда наготове лучшие рецепты для избежания всяких ошибок подобного рода.
Наш добрый Адам не умел облечь свои чувства к Хетти в громкие фразы; он не мог вырядить в них свою тайну с видом знания; вы слышали, что он прямо называл свою любовь тайною. Он только знал, что вид его возлюбленной и воспоминание о ней производило в нем глубокое волнение, касаясь источни ка всей любви и нежности, всей веры и мужества, которыми он обладал. Мог ли он представить себе, что она ограниченна, себялюбива, жестока? Он создал душу, в которую веровал, из своей собственной, а его душа была велика, нежна и чужда себялюбия.
Надежды, которые он имел в отношении к Хетти, несколько смягчили его чувства к Артуру. Он стал уверять себя, что внимание Артура к Хетти непременно было легкого свойства; конечно, даже и это было дурно: человек, находившийся в таком положении, в каком находился Артур, не должен был позволить себе это, но его внимательность непременно была проникнута какой-то игривостью, которая, вероятно, ослепила его относительно опасности его волокитства и не допустила его завладеть сердцем Хетти вполне. В то время как для Адама росли новые надежды на счастье, его негодование и ревность стали уменьшаться. Хетти не была сделана несчастною; он почти думал, что нравился ей больше всех, иногда ему даже приходила в голову мысль, что дружба, которая одно время казалась умершей навсегда, могла бы воскреснуть в будущем, и ему не придется прощаться с большими старыми лесами, напротив, он полюбил их еще более, потому что они Артуровы. Эта новая надежда на счастье, последовавшая так быстро за печальным ударом, производила опьяняющее действие на рассудительного Адама, который всю свою жизнь привык только к сильному труду и к весьма умеренным надеждам. Неужели после всего этого ему действительно выпадет спокойная доля? По-видимому, так. В начале ноября Джонатан Бердж, убедившись в невозможности заменить Адама, решился наконец предложить ему участие в делах с одним только условием, что он будет по-прежнему посвящать им свою энергию и откажется от всякой мысли вести отдельно собственное дело. Зять или не зять, Адам сделался слишком необходимым, чтоб Бердж мог расстаться с ним; его умственная работа была для Берджа гораздо важнее его ремесленного искусства, так что управление лесами не составляло почти никакой разницы в достоинстве услуг Адама. Что ж касалось до закупки леса у сквайра, то для того без труда можно было призвать третье лицо. Адам видел теперь открытым перед собою расширившийся путь успешного труда, такой путь, к какому он чувствовал честолюбивое желание даже с того времени, когда был еще мальчиком. Ему, может быть, придется строить мост, городскую ратушу или завод. Он всегда думал, что дела Джонатана Берджа по постройкам все равно что желудь, из которого могло бы вырасти большое дерево. Итак, он согласился на предложение Берджа и отправился домой; голова его была полна живых мечтаний, в которых (мой утонченный читатель, быть может, будет неприятно поражен этим) образ Хетти порхал и улыбался планам для подготовки леса по самой дешевой цене, вычислениям, насколько станет дешевле кирпич с тысячи при доставке водою, и его любимой задаче, укреплению крыш и стен чугунными перекладинами особой формы. Что ж делать! энтузиазм Адама находился в этих предметах. Наша любовь проникает наш энтузиазм, подобно тому, как электричество проникает воздух, увеличивая его силу своим тонким присутствием.
Теперь Адам был бы в состоянии зажить отдельным домом и снабжать всем необходимым свою мать в старом. Его виды на будущее позволяли ему жениться в очень непродолжительном времени; и если Дина согласится выйти за Сета, то их мать, может быть, будет очень рада жить не вместе с Адамом. Но он решил про себя, что не станет торопиться, не станет подвергать испытанию чувство Хетти к нему, пока оно со временем не сделается сильным и твердым. Завтра, однако ж, после обедни он отправится на господскую мызу и сообщит там касавшиеся его новости. Мистер Пойзер, он знал, обрадуется им более, чем пятифунтовому билету, и он увидит, заблестят ли глаза у Хетти, когда она услышит эти новости. Быстро пройдут месяцы за всем, что будет наполнять его мысли, и эта безрассудная пылкость, овладевшая им в последнее время, не должна побуждать его к преждевременным речам. Между тем, когда он возвратился домой и, сидя за ужином, сообщил своей матери добрые вести, причем она почти заплакала от радости и требовала, чтоб он ел вдвое против обыкновенного по случаю такого счастья, он не мог преодолеть себя и нежно стал приготовлять мать к будущей перемене, говоря, что старый дом был слишком мал и они не могли оставаться в нем всегда все вместе.
XXXIV. Помолвка
Было сухое воскресенье, действительно веселый день для второго ноября. Солнце не сияло, но облака шли высоко, и ветер был так тих, что желтые листья, слетевшие на землю с вязов, образовывавших изгороди, вероятно, слетели просто от того, что завяли. Тем не менее мистрис Пойзер не пошла в церковь, потому что простудилась, и ее простуда была слишком серьезна, чтоб можно было пренебречь ею. Не более как две зимы назад она пролежала несколько недель благодаря простуде. Так как жена не шла в церковь, то и мистер Пойзер думал, что вообще ему лучше также остаться дома «для компании». Он, может быть, и не мог дать определенную форму причинам, по которым дошел до этого решения, но всякому опытному уму хорошо известно, что наши самые твердые убеждения нередко зависят от нежных впечатлений, для которых слова служат слишком грубым средством. Как бы то ни было, из семейства Пойзер никто не пошел в церковь после обеда, кроме Хетти и мальчиков; однако ж у Адама хватило настолько смелости, что он присоединился к ним после службы и сказал, что пойдет домой с ними, хотя всю дорогу через деревню он, казалось, преимущественно занимался с Марти и Томми, рассказывал им о белках в бинтонском леске и обещал взять их когда-нибудь туда. Но когда они вышли на поля, он сказал мальчикам:
– Ну-ка, кто из вас самый сильный ходок? Кто первый будет у ворот дома, тот первый отправится со мною в бинтонский лесок на осле. Но Томми должен начать свой путь вот от того столбика, потому что он младший.
До этого времени Адам никогда не вел себя так решительно, как влюбленный. Лишь только оба мальчика тронулись с места, как он посмотрел на Хетти и спросил умоляющим томом, будто уже спрашивал ее и она отказала ему: «Не хотите ли опереться на мою руку, Хетти?» Хетти взглянула на него, улыбаясь, и в одно мгновение положила свою кругленькую ручку на его руку. Ей не значило ничего взять Адама под руку, но она знала, что для него это было не вздор идти с нею под руку, и желала, чтоб он думал об этом таким образом. Сердце ее не билось скорее, и она смотрела на полуобнаженные изгороди и вспаханное поле с тем же чувством тягостной скуки, как и прежде. Но Адам почти не чувствовал земли под собою. Он думал: Хетти должна знать, что он прижимал ее руку немного, очень немного. Слова приливали к его губам, слова, которые он не смел произнести, которые он твердо решился не произносить еще несколько времени; и он молчал, пока они прошли все поле. Спокойствие и терпение, с которым он некогда ожидал любви Хетти, довольствуясь только присутствием девушки и мыслью о будущем, покинули его около трех месяцев назад со времени ужасного сотрясения. Волнения ревности придали его страсти новое беспокойство; страх и неизвестность были для него почти невыносимы. Но хотя он не мог говорить Хетти о своей любви, он сообщит ей о своих новых надеждах и посмотрит, будет ли ей это приятно. Таким образом, когда он достаточно подавил свое волнение, он сказал:
– Я хочу сообщить вашему дядюшке новости, которые удивят его, Хетти; я думаю, он обрадуется также, когда узнает эти новости.
– Что ж это такое? – равнодушно спросила Хетти.
– Видите ли, мистер Бердж предложил мне участвовать в его делах, и я принял это предложение.
В лице Хетти произошла перемена, конечно, вовсе не причиненная приятным впечатлением этих новостей. Действительно, она почувствовала мгновенную досаду и беспокойство. Она слышала, как часто намекал ее дядя на то, что Адам мог бы со временем жениться на Мери Бердж и получить участие в деле, если б только захотел, и соединила теперь оба предмета вместе и немедленно вообразила себе что Адам, может быть, отдалился от нее оттого, что случилось в последнее время, и обратился к Мери Бердж. С этою мыслью, и прежде чем она успела припомнить какие-нибудь причины, почему это могло бы быть несправедливо, ею снова овладело чувство одиночества и обманутого ожидания. Единственный предмет, единственный человек, на котором останавливались ее мысли в своей ужасной скуке, ускользал от нее, и капризное чувство несчастья наполнило ее глаза слезами. Она смотрела вниз, но Адам видел ее лицо, видел слезы, и, прежде чем успел кончить вопрос: «Хетти, дорогая Хетти! о чем плачете вы?», его пылкая, быстрая мысль пролетела по всем причинам, которые он мог постигнуть, и остановилась наконец вполовину на верной: Хетти думала, что он намерен жениться на Мери Бердж. Ей не хотелось, чтоб он женился; может быть, ей хотелось, чтоб он женился только на ней самой? Всякая осторожность исчезла, исчезли все причины быть осторожным, и Адам чувствовал только трепетную радость. Он наклонился к ней, взял ее за руку и сказал:
– Я мог бы жениться теперь, Хетти, я могу доставить жене спокойную жизнь, но я никогда не пожелаю жениться, если вы не выйдете за меня замуж.
Хетти посмотрела на него и улыбнулась сквозь слезы, как было в первый вечер, когда она находилась с Артуром в лесу, думала, что он не придет, а между тем он пришел. Облегчение и торжество, которые она чувствовала теперь, были слабее, но большие черные глаза и прелестные губы были так же прекрасны, как всегда, может быть, даже прекраснее, потому что в последнее время в Хетти развилась более роскошная женственность. Адам с трудом мог верить в блаженство этой минуты. Его правая рука держала ее левую, и он прижимал ее руку к самому сердцу, наклоняясь к ней:
– Действительно ли любите вы меня, Хетти? Хотите ли вы быть моею женой, которую я буду любить и о которой буду заботиться всю свою жизнь?
Хетти не говорила, но лицо Адама было очень близко к ее лицу, и она прислонилась своею круглою щечкою к его щеке, как кошечка. Она ждала, чтоб ее приласкали; она хотела чувствовать, будто Артур был снова с ней.
Адаму незачем было говорить после этого, и они почти более не разговаривали друг с другом во всю остальную дорогу.
– Могу я сказать об этом вашему дядюшке и вашей тетушке? – спросил он только.
– Да, – отвечала Хетти.
Красное пламя в камине на господской мызе освещало в этот вечер радостные лица, когда Хетти отправилась наверх, и Адам воспользовался благоприятным случаем сообщить мистеру и мистрис Пойзер и дедушке, что он видел возможность содержать жену теперь и что Хетти согласилась выйти за него замуж.
– Надеюсь, вы не станете делать возражений против того, чтоб я стал ее мужем, – сказал Адам. – Я, правда, человек еще небогатый, но она не будет нуждаться ни в чем, пока я могу работать.
– Возражений? – сказал мистер Пойзер, между тем как дедушка наклонился вперед и протяжно произнес: «Конечно, нет». – Какие возражения можем мы иметь против вас, мой друг? Что вы тут говорите, что еще небогаты! Да в вашей голове есть деньги, как есть деньги в засеянном поле, но на все нужно время. У вас довольно для начала, а мы можем дать вам домашних вещей, которые вам будут нужны. Ведь у тебя, я думаю, порядком припасено перьев и холста, не правда ли?
Этот вопрос, конечно, относился к мистрис Пойзер, которая сидела закутанная в теплую шаль и очень охрипла, так что не могла говорить с своею обыкновенною легкостью. Прежде всего она выразительно кивнула головой, но вскоре была не в состоянии противостоять искушению выразиться точнее.
– Это была бы плохая история, если б у меня не было перьев и холста, – сказала она хриплым голосом, – когда я не продаю ни одной птицы, не ощипав ее, а самопрялка работает все будни.
– Подойди, дружочек, – сказал мастер Пойзер, когда Хетти спустилась вниз, – подойди сюда и поцелуй нас, дай нам пожелать тебе счастья.
Хетти подошла очень спокойно и поцеловала толстого добродушного человека.
– Ну вот так! – сказал он, потрепав ее по плечу. – Теперь поди поцелуй тетку и дедушку. Я желаю пристроить тебя так же хорошо, как если б ты была моя родная дочь. Того же самого желает и твоя тетка – ручаюсь тебе в этом, потому что она обходилась с тобой в эти семь лет, Хетти, как с своею родною дочерью. Подойди, подойди сюда теперь, – продолжал он, уже шутливым тоном, лишь только она поцеловала тетку и старика. – Адам, я готов побожиться, также ждет поцелуя, и он имеет на то теперь полное право.
Хетти, улыбаясь, отошла к своему пустому стулу.
– В таком случае, Адам, возьмите сами, – настаивал мистер Пойзер, – иначе вы не мужчина.
Адам, этот высокий крепкий парень, встал, покраснев, как маленькая девочка, и, обняв Хетти, нагнулся и нежно поцеловал ее в губы.
Это была прелестная сцена, освещаемая пламенем, пылавшим в камине, потому что свечей не было. Да и к чему тут свечи, когда огонь был так ярок и отражался в оловянной посуде и полированном дубе? Никому не нужно было работать в воскресенье вечером. Даже Хетти чувствовала нечто похожее на довольство среди всей этой любви. Привязанность Адама к ней, ласки Адама не волновали ее страстью, не могли даже удовлетворить ее тщеславию, но жизнь не представляла ей в настоящее время ничего лучшего, а они обещали ей некоторую перемену.
Много было разговоров, прежде чем Адам ушел, о возможности найти дом, в котором он мог бы удобно поместиться. Свободным был только один домик в деревне, рядом с домиком Вилла Маскри, да и тот был теперь слишком мал для Адама. Мистер Пойзер настоятельно утверждал, что лучше всего было бы выехать Сету с матерью, а Адаму остаться в старом доме, который можно было бы увеличить через несколько времени, так как на дровяном дворе и в саду было довольно места. Но Адам не соглашался выселить мать из дома.
– Ну, хорошо, – сказал наконец мистер Пойзер, – нам нет никакой крайности решить все непременно сегодня вечером. Мы должны иметь время обсудить все хорошенько. Раньше Пасхи вам нечего и думать о свадьбе. Я не люблю долгого ухаживания, но надобно же время на то, чтоб устроить все как следует.
– Конечно, конечно, – сказала мистрис Пойзер смелым шепотом. – Нельзя же христианам жениться, как кукушкам, я так полагаю.
– А мне становится несколько страшно, – сказал мистер Пойзер, – когда подумаю, что мы, может быть, должны будем оставить этот дом и взять ферму милях в двадцати отсюда.
– Э-э-эх! – сказал старик, выпучив глаза на пол и размахивая вверх и вниз руками, опиравшимися на локотники его кресла. – Плохая будет это история, если мне придется оставить старое место и если меня похоронят в чужом приходе. Да и тебе, может, придется платить двойную цену за ферму, добавил он, взглянув на сына.
– Ну, батюшка, не тревожься прежде времени, – возразил Мартин-младший, – может быть, капитан возвратится домой и помирит нас с старым сквайром: я крепко рассчитываю на это. Ведь я знаю, капитан хочет, чтоб всем оказывали должную справедливость, где только это зависит от него.
XXXV. Тайный страх
Адам был очень занят в это время, от начала ноября и до начала февраля, и только изредка мог видеть Хетти, кроме воскресенья; несмотря на то, это было счастливое время, потому что оно все ближе и ближе придвигало к нему март, когда назначена была их свадьба. Все незначительные приготовления к новому хозяйству указывали на то, что желанный день приближался все более и более. Две новые комнаты были надстроены к старому дому, так как, после всех рассуждений, мать и Сет оставались жить с ними. Лисбет плакала так жалобно при мысли о расставании с Адамом, что он пошел к Хетти и спросил ее, будет ли она, из любви к нему, переносить странности его матери и согласится ли жить с нею. К его немалому восторгу, Хетти отвечала: «Да, мне все равно, живет ли она с нами или нет». Мысли Хетти в это время тяготило затруднение, которое было гораздо хуже странностей бедной Лисбет, и потому ей было не до них. Таким образом, Адам был утешен в своих обманутых ожиданиях, причиненных Сетом, когда последний возвратился из Снофильда, куда ходил, чтоб видеть Дину, и сказал: «Напрасно ходил я туда… сердце не влечет Дину к замужеству». Когда он сказал своей матери, что Хетти согласна на то, чтоб они жили вместе, и не было более нужды думать им о расставании, она сказала более довольным тоном, чем говорила с того времени, когда он сообщил ей о своем намерении жениться: «Голубчик мой, да я буду так тиха, как старая кошка, и работать только то, что она оставит мне и чего сама не захочет делать. Тогда нам не нужно будет делиться тарелками и всеми другими вещами, которые стояли все вместе на полке с твоего рождения».
Только одно облако омрачало по временам счастье Адама: Хетти казалась иногда несчастной. Но на все его заботливые, нежные вопросы она решительно отвечала, что была совершенно довольна и не желала ничего иного. И когда он видел ее в следующий раз, она была живее обыкновенного. Может быть, это происходило оттого, что она была слишком обременена работой и хлопотами в это время, так как вскоре после Рождества мистрис Пойзер снова захворала простудой, перешедшей в воспаление. Эта болезнь заставила ее не выходить из комнаты весь январь. Хетти должна была заправлять всем хозяйством внизу и вполовину даже заменять Молли в то время, как эта добрая девушка ухаживала за своей госпожой. И Хетти, казалось, предавалась своим новым занятиям с такою ревностью, работала с таким важным прилежанием, которое не обнаруживалось в ней прежде, что мистер Пойзер нередко говорил Адаму, не желает ли она показать тем ему, какой будет хорошею хозяйкою. «Боюсь только, – прибавлял добродушный человек, – чтоб девушка не пересилила себя; ей нужно будет отдохнуть немного, когда тетке можно будет сойти вниз».
Это желанное событие, когда мистрис Пойзер сошла вниз, произошло в первых числах февраля, когда мягкая погода согнала с бинтонских гор последний снег. В один из этих дней, вскоре после того, как тетка сошла вниз, Хетти отправилась в Треддльстон закупить кой-какие вещи к свадьбе, которые были нужны в хозяйстве и о которых она не позаботилась ранее, за что подверглась выговору со стороны мистрис Пойзер, заметившей, что, по ее мнению, «Хетти не позаботилась об этих вещах оттого, что они были не напоказ, а то она купила бы их довольно скоро».
Было около десяти часов, когда Хетти отправилась из дома, и легкая изморозь, выбелившая изгороди рано утром, исчезла, когда солнце взошло на безоблачном небе. В ясные февральские дни люди находятся под сильнейшим очарованием надежды, чем в какие-нибудь другие дни года. Как приятно останавливаться под мягкими лучами солнца и смотреть сквозь решетку, как терпеливые плуговые лошади поворачиваются в конце борозды, и думать, что у вас весь прелестный год впереди. Птицы, кажется, чувствуют то же самое: их ноты так же ясны, как ясный воздух. На деревьях и изгородях нет листьев, но как зелены покрытые травою луга, темно-пурпурово-коричневый цвет вспаханной земли и голые сучья имеют также свою красоту. Как приятен кажется этот мир, когда едешь в экипаже или верхом по долинам и холмам! Я часто думал таким образом, когда в чужих странах, где поля и леса своим видом напоминали мне поля и леса нашей английской провинции Ломшейр, где богатая земля была вспахана с такою же заботливостью, леса по легким покатостям спускались к зеленым лугам, я подходил к одному предмету, который стоял у дороги и напоминал мне, что я не в Ломшейре, к символу великой агонии – агонии креста. Он, может быть, стоял у яблони, покрытой кучею цветков, или на ниве, озаряемый светлыми солнечными лучами, или на повороте у опушки леса, где внизу журчал чистый ручеек. Если б на нашу землю пришел путешественник, которому была бы неизвестна история жизни людей на ней, то, конечно, этот символ агонии показался бы ему весьма странным среди этой радостной природы. Он не знал бы, что за этою яблоней, усеянною цветочками, или между золотистою рожью, или под нависшими ветвями леса могло скрываться человеческое сердце, бьющееся от тягостного беспокойства, быть может, молодая цветущая здоровьем и красотою девушка, не знающая, куда бы скрыться от быстро приближающегося позора, имеющая столько же житейской нашей опытности, сколько глупенький потерянный ягненок, блуждающий все далее и далее при наступлении ночи в пустынной степи, а между тем вкушающая самое горькое из горечи жизни.
Вот что скрывается иногда между освещенными солнцем полями и в фруктовых садах, где деревья усеяны цветами, и шум журчащего ручейка, если б вы поближе подошли к одному месту за небольшим кустарником, смешивался бы в ваших ушах с отчаянным человеческим рыданием. Неудивительно, что религия человека имеет в себе столько горя; неудивительно, что он нуждается в Страдающем Боге.
Хетти, в своем красном салопе и теплой шляпке, с корзиною в руках, поворачивает к калитке, находящейся сбоку от треддльстонской дороги, но вовсе не для того, чтоб как можно более насладиться солнечными лучами и с надеждою смотреть на долгий, открывающийся перед нею год. Она едва даже замечает, что солнце светит, и вот уже целые недели она имеет одну только надежду, которая заставляет ее содрогаться и трепетать. Она хочет только сойти с большой дороги, чтоб идти медленно и оставить заботы о том, какое выражение имеет ее лицо, когда она останавливается на раздирающих душу мыслях. Через калитку она может выйти на тропинку за обширными густыми изгородями. Ее большие темные глаза в замешательстве блуждают по полям, как глаза покинутого, бесприютного, нелюбимого существа, а не невесты прекрасного, нежного человека. Но в них нет слез: она выплакала все свои слезы в скучную ночь, перед сном. У следующего столбика дорожка разветвляется. Перед нею две дороги: одна вдоль изгородей, которая мало-помалу выведет ее на ее путь; другая пересекает поля и отведет ее гораздо дальше с дороги на скантлендзские низменные пастбища, где она не увидит никого. Она избирает последнюю и принимается идти несколько скорее, будто вспомнила о каком-то предмете, к которому стоило поторопиться. Скоро она достигает Скантлендза, где покрытая травою земля образует постепенный склон; она оставляет равнину и идет по склону. Дальше она видит группу деревьев еще ниже и направляет свои шаги туда. Нет, то не группа деревьев, а темный скрытый деревьями пруд, до того напоенный зимними дождями, что нижние ветви кустов бузины лежат глубоко под водой. Она садится на покрытый травой берег, прислонясь к нагнувшемуся стволу большого дуба, нависшего над мрачным прудом. Она часто думала об этом пруде по ночам в минувший месяц, и наконец теперь ей удалось видеть его. Она обнимает руками колени, нагибается вперед и задумчиво смотрит на воду, будто старается угадать, какого рода постель могут найти в ней ее молодые округленные члены.
Нет, у нее недостает мужества броситься в эту холодную водяную постель; да если б у нее и было на столько мужества, то ее могут найти, могут узнать, отчего она утопилась. Ей остается только одно: она должна уйти, уйти туда, где не могут найти ее.
С тех пор как она в первый раз почувствовала великий страх, несколько недель после помолвки с Адамом, она ждала и ждала, ослепленная неопределенною надеждой, что случится что-нибудь и избавит ее от ее ужаса, но она не могла ждать долее. Вся сила ее природы сосредоточивалась на одном усилии – скрывать все, что с нею случилось, и она с неодолимым страхом содрогалась при мысли о каком-нибудь образе действия, который мог бы клониться к открытию ее несчастной тайны. Каждый раз, как ей приходила в голову мысль написать к Артуру, она всегда отвергала ее: он не мог сделать для нее ничего такого, что защитило бы ее от открытия ее горя и презрения со стороны родных и соседей, которые теперь, когда исчезла ее воздушная мечта, снова составляли весь ее мир. Ее воображение более уж не рисовало ей блаженства с Артуром, потому что он не мог сделать ничего такого, что удовлетворило бы ее горести или смягчило ее. Нет, должно случиться что-нибудь другое, что-нибудь непременно случится и освободит ее от этого страха. В молодой, детской, неопытной душе постоянно есть эта слепая вера в какой-нибудь неопределенный случай. Мальчику или девушке также трудно поверить, что с ними действительно случится большое несчастье, как трудно им поверить, что они умрут.
Но теперь нужда страшно тяготила ее; теперь, когда был так близок срок свадьбы, она не могла долее оставаться при этой слепой уверенности. Она должна бежать отсюда, она должна скрыться туда, где не могут открыть ее никакие знакомые глаза. И потом ужас, который овладевал ею при мысли о выходе в свет, ей совершенно чуждый, показывал ей возможность видеться с Артуром – мысль, несколько успокаивавшая ее. Она чувствовала себя теперь такою беспомощной; чувствовала, что была не в состоянии составить себе будущее, что надежда броситься на него имела в себе какое-то облегчение, которое было сильнее ее тщеславия. В то время как она сидела у пруда и содрогалась при виде темной, холодной воды, надежда, что он примет ее нежно, будет заботиться и думать о ней, производила на все усыпляющее влияние, подобное влиянию теплоты, и это влияние сделало ее на время равнодушной ко всему прочему. И теперь она стала думать только о том, каким бы образом ей уйти из дома.
Недавно она получила от Дины письмо, полное самых искренних поздравлений по случаю будущей свадьбы, о которой она узнала от Сета. Когда Хетти прочла письмо дяде, то он сказал:
– Я желал бы, чтоб Дина теперь снова возвратилась к нам: она могла бы быть полезной твоей тетке, когда ты не будешь более у нас. Как ты думаешь, милая моя, если б ты отправилась повидаться с нею, когда станешь здесь несколько посвободнее, и поговорить, не возвратится ли она сюда с тобою? Тебе, может быть, удастся уговорить ее, если ты скажешь, что ее тетка нуждается в ней; она вот все пишет, что не в состоянии прийти к нам.
Хетти не понравилась мысль отправиться в Снофильд, она не чувствовала ни малейшего желания видеться с Диной и потому отвечала только:
– Это так далеко, дядюшка.
Но теперь она думала, что это посещение послужит для нее предлогом уйти. Она скажет тетке, возвратившись опять домой, что ей хотелось бы для разнообразия отправиться в Снофильд на неделю или дней на десять; а потом, доехав до Стонитона, где никто не знает ее, она отыщет дилижанс, который свезет ее в Виндзор. Артур был в Виндзоре, и она отправится к нему.
Лишь только Хетти твердо решилась привести в исполнение этот план, она поднялась с своего места на поросшем травою берегу пруда, взяла свою корзинку и отправилась в Треддльстон. Ей нужно же было купить свадебные вещи, для покупки которых она вышла из дома, хотя они и не будут нужны ей никогда. Она должна употребить все старания, чтоб не возбудить подозрения о своем намерении бежать.
Мистрис Пойзер была очень приятно изумлена, что Хетти хотела навестить Дину, повидаться с ней и постараться о том, чтоб она возвратилась с нею и была на свадьбе. Так как погода стояла хорошая, то Хетти незачем было мешкать, и Адам, пришедши вечером, сказал, если Хетти может отправиться завтра, то он постарается освободиться проводить до Треддльтона и сам посадит ее в дилижанс, отправляющийся в Стонитон.
– Как хотелось бы мне отправиться вместе с вами и охранять вас! – сказал он на другой день утром, облокотясь на дверцу дилижанса. – Но не оставайтесь, пожалуйста, больше недели, ведь и она покажется мне просто вечностью.
Он смотрел на нее нежно, и его мощная рука сжимала ее руку. Хетти ощущала чувство безопасности в его присутствии, она уже привыкла теперь к этому. О, если б она могла уничтожить прошедшее и не знать другой любви, кроме ее спокойного расположения к Адаму! Слезы навернулись у нее на глазах, когда она бросила на него последний взгляд.
«Да благословит ее Бог за то, что она так любит меня!» – подумал Адам, отправляясь снова к своим занятиям, сопровождаемый по пятам Джипом.
Но слезы Хетти не относились к Адаму, не относились к грусти, которая овладеет им, когда он узнает, что она исчезла от него навсегда; они относились к ее собственной жалкой участи, которая уносила ее от этого доброго, нежного человека, отдававшего ей всю свою жизнь, и бросала ее, как бедную, беспомощную просительницу, человеку, который будет считать своим несчастьем, что она была принуждена прибегать к нему.
В этот день в три часа, когда Хетти сидела наверху дилижанса, который, как говорили, должен был доставить ее в Ленстер, на одну из станций по дальней-дальней дороге в Виндзор, она неясно сознавала, что, может быть, весь этот трудный путь ведет к началу какого-нибудь нового несчастья.
А между тем Артур был в Виндзоре. Он, конечно, не рассердится на нее. Если он и не думал о ней, как прежде, то все-таки он обещался печься о ней.
Книга пятая
XXXVI. Путешествие, исполненное надежды
Длинное, одинокое путешествие с грустью на сердце, путешествие от родных и знакомых к чужим людям бывает тяжело и скучно даже для богатых, сильных, знающих людей, бывает тяжело даже тогда, когда нас призывает долг, а не принуждает к тому страх.
Каково же оно было для Хетти, для Хетти, над бедными, узкими мыслями которой, более уже не волновавшимися неопределенными надеждами, тяготел холодный определенный страх, которая все снова и снова перебирала тот же самый небольшой круг воспоминаний, все снова и снова представляла себе те же самые ребяческие, сомнительные картины будущности, видела в этом обширном мире только маленькую историю собственных удовольствий и страданий, которая имела так мало денег в кармане и такой длинный и трудный путь перед собою? Если она не была в состоянии ехать постоянно в дилижансе (а она была уверена в этом, потому что поездка в Стонитон стоила гораздо дороже, чем она ожидала), то, очевидно, ей придется обратиться к извозчичьим телегам и к тяжелым, медленным обозам. И сколько потребуется ей времени, чтоб достигнуть конца своего путешествия! Дюжий, старый кучер окбернскаго дилижанса, увидев миленькую молодую женщину между наружными пассажирами, пригласил ее сесть рядом с ним. Чувствуя, что ему, как мужчине и кучеру, следовало начать разговор шуткой, он тотчас же, лишь только дилижанс съехал с каменной мостовой, принялся придумывать острое словцо, которое было бы пригодно во всех отношениях. Несколько раз ударив кнутом лошадей и искоса посмотрев на Хетти, он приподнял губы над краем шарфа, которым был завязан, и сказал:
– Ведь он будет футов шести ростом, готов побожиться; ну, не правда ли?
– Кто? – спросила Хетти с некоторым смущением.
– Ну, разумеется, ваш возлюбленный, тот, которого вы оставили или к которому едете… который из них?
Хетти чувствовала, что она вся вспыхнула и потом побледнела. Она думала, этот кучер должен знать что-нибудь про нее. Он должен знать Адама и может сказать ему, куда она поехала. Деревенским жителям трудно поверить, будто тех, которые находятся на виду в собственном приходе, не знают и в других местах; и Хетти было так же трудно понять, что слова, сказанные совершенно случайно, могли близко приходиться к ее обстоятельствам. Она была так испугана, что не могла отвечать.
– Ну, вот, – сказал кучер, видя, что он не так угодил своей шуткой, как ожидал, – к чему ж вам истолковывать это сейчас же в слишком серьезную сторону? Если он повел себя с вами дурно, то возьмите другого. Такая хорошенькая девушка, как вы, может иметь возлюбленного, когда только захочет.
Страх Хетти рассеялся мало-помалу, когда она заметила, что кучер не делал более никаких намеков на ее личные дела, но все-таки это не позволило ей спросить его, какие были станции по дороге в Виндзор. Она сообщила ему, что отправляется немного подальше Стонитона. Когда она вышла у трактира, где дилижанс остановился, то, взяв корзинку, торопливо пошла в другую часть города. Составляя план отправиться в Виндзор, она не рассчитывала ни на какие затруднения; трудным казалось ей только уйти из дома. Когда она преодолела последнее, под предлогом посетить Дину, то все ее мысли отлетели к встрече с Артуром и к вопросу, как он обойдется с ней, и не останавливались ни на каком происшествии, которое могло случиться с ней на дороге. Путешествие было ей до того неизвестно, что она не могла вообразить себе решительно никаких подробностей, и, имея весь свой запас денег, свои три гинеи, в кармане, она думала, что была снабжена изобильно. Когда она увидела, чего ей стоило доехать до Стонитона, только тогда стало ее беспокоить путешествие, только тогда она впервые сознала свое невежество относительно тех мест, которые ей нужно было пройти на своем пути. Под гнетом этого беспокойства она бродила по угрюмым стонитонским улицам и наконец вошла в жалкую, небольшую гостиницу, где надеялась найти дешевую комнату для ночлега. Здесь она спросила хозяина, не может ли он сказать ей, на какие местечки ей нужно ехать, чтоб добраться до Виндзора.
– Ну, я и сам не могу хорошенько сказать вам об этом. Виндзор, должно быть, находится очень недалеко от Лондона, потому что там живет король, – ответил содержатель. – Во всяком случае, лучше всего вам прежде отправиться в Ашби, на юг. Но отсюда до Лондона разных местечек не меньше, чем домов в Стонитоне, сколько мне известно. Я сам никогда не путешествовал. Но, скажите, отчего это вы, такая молодая женщина, думаете пуститься в такую дальнюю дорогу, да еще вдобавок одни?
– Я отправляюсь к брату… он солдат и находится в Виндзоре, – сказала Хетти, испуганная пытливым взглядом содержателя. – Я не в состоянии ехать в дилижансе. Вам неизвестно, не едет ли какая-нибудь телега в Ашби завтра утром?
– Еще бы! как не быть телеге. Да кто ее знает, откуда она отправляется? Чтоб узнать об этом, вам придется обегать весь город. А я думаю, вам лучше всего отправиться пешком, авось на дороге кто-нибудь и догонит вас.
Каждое слово ложилось тяжелым свинцом на сердце Хетти: она видела теперь, что дорога перед нею становилась все длиннее и длиннее. Добраться даже до Ашби, казалось, было так трудно; на это, пожалуй, уйдет весь день, а между тем что же это значило против остающейся еще дороги? Но она должна исполнить свое намерение: она должна добраться до Артура. О, как сильно ныло ее сердце о том, чтоб она была теперь опять с кем-нибудь, кто стал бы заботиться о ней! До этого времени, вставая утром с постели, она была уверена, что увидит родные лица, людей, на которых она имела уже знакомые права. Ее самое длинное путешествие была поездка на женском седле в Россетер с ее дядей; ее мысли всегда искали праздничного отдыха в мечтах о наслаждениях, потому что все действительные жизненные заботы о ней лежали на других. И эта походившая на милую кошечку Хетти, еще немного месяцев назад не знавшая другой печали, кроме той, которую возбуждали в ней ревность при виде новой ленты на Мери Бердж или выговор тетки за то, что она не радела о Тотти, должна была теперь совершить свое трудное путешествие одна, оставив за собою свой мирный дом навсегда и не имея перед собой ничего, кроме трепетной надежды на отдаленное убежище. Теперь, когда она лежала в эту ночь на чужой, жесткой постели, она впервые поняла, что ее родной кров был счастливый, что ее дядя был очень добр к ней. Как ей хотелось бы теперь проснуться, как в действительности, в ее спокойной доле в Геслопе среди предметов и людей, которых она знала, с ее крошечным тщеславием относительно ее единственного лучшего платья и шляпки, и не имея ничего такого на душе, что приходилось бы ой скрывать от всех! Как бы ей хотелось теперь, чтоб вся остальная лихорадочная жизнь, которую она знала, кроме этого, была непродолжительным неприятным сновидением! Она подумала обо всем, что оставляла за собою, с грустным сожалением о самой себе; ее собственное несчастное положение наполняло ее сердце: в нем не было места для чужого горя. А между тем, до жестокого письма Артур был так нежен, так любящ; воспоминание об этом все еще имело для нее очарование, хотя и было не более как одною каплею утешения, которая только что позволяла переносить страдание. Хетти могла представить себе в будущем только скрытое от всех существование, а уединенная жизнь даже с любовью не имела для нее никакого наслаждения, тем более что эта жизнь сливалась с позором. Она не знала романов и принимала только слабое участие в ощущениях, служащих источником романа, так что начитанные леди, может быть, с трудом поймут ее душевное состояние. Она была слишком несведуща во всем, что выходило из пределов простых познаний и обычаев, в которых она выросла, и не имела никакой более определенной идеи о своей вероятной будущности, кроме той, что Артур, во всяком случае, будет заботиться о ней и защитит ее от гнева и презрения. Он не женится на ней, не сделает ее леди, а кроме этого, он, по ее мнению, не мог дать ей ничего такого, что возбуждало бы в ней страстное желание и тщеславие.
На другой день Хетти встала рано и, позавтракав только молоком и хлебом, отправилась по дороге в Ашби под тяжелым свинцовым небом с желтою полоской на краю горизонта, суживавшеюся, как последняя надежда. Теперь, упавши духом при мысли о дальности и затруднениях своего пути, она более всего боялась тратить деньги и сделаться такою бедной, что ей придется просить милостыню.
Хетти имела не только гордость гордой натуры, но и гордого класса, класса, платящего более всего пособий для бедных и более всего гнушающегося мыслью пользоваться этими пособиями. До этого времени ей еще не приходило в голову, что она может извлечь деньги из своего медальона и своих сережек, которые она имела при себе, и она призвала на память весь свой небольшой запас арифметики и знания цен, чтоб вычислить, сколько раз ей можно будет пообедать и сколько проехать за ее две гинеи и за ее несколько шиллингов, имевших такой меланхолический вид, словно бледный пепел другой, ярко сиявшей монеты.
Выйдя из Стонитона, она шла несколько первых миль бодро, назначая себе целью дерево, ворота или выдающийся куст на дороге на таком дальнем расстоянии, на каком она могла только различать эти предметы, и чувствовала слабую радость, когда достигала этой цели. Но когда она подошла к четвертому мильному столбу, к первому, который ей удалось заметить среди высокой трава, росшей по сторонам дороги, и прочла, что отошла от Стонитона четыре мили всего, мужество покинуло ее. Она прошла только это небольшое расстояние, а уже чувствовала усталость и почти снова была голодна от свежего утреннего воздуха, потому что хотя Хетти и была приучена к движению и труду в комнате, но не привыкла к продолжительной ходьбе, производящей совершенно другого рода усталость, нежели домашняя деятельность. Когда она смотрела на мильный столб, то почувствовала, что на ее лицо упало несколько капель: начинал идти дождь. То была новая беда, которая до того времени не приходила ей в голову, наполненную грустными мыслями. Совершенно убитая этим неожиданным увеличением ее горя, она села на выступ изгороди и начала истерически рыдать. Начало трудности подобно первому куску горькой пищи, который кажется невыносимым в первое мгновение; если, однако ж, нам нечем больше утолить наш голод, мы решаемся взять еще кусок и находим возможным продолжать. Когда у Хетти миновал порыв слез, она собрала свое слабевшее мужество. Шел дождь, и она должна была стараться достигнуть деревни, где могла бы найти отдых и приют. Утомленная, она пошла вперед, как вдруг услышала за собою гром тяжелых колес: ехала простая телега, еле двигаясь по дороге; извозчик шел лениво подле лошадей, хлопая бичом. Хетти, остановилась, поджидая телегу; если извозчик был человек не очень угрюмой наружности, думала она, то она попросит, чтоб он взял ее с собою. Когда телега поравнялась с нею, извозчик отстал, но впереди огромной повозки она увидела нечто такое, что ободрило ее. В прежнее время своей жизни она и не заметила бы этого, но теперь новая чувствительность, которую пробудило в ней страдание, было виною того, что этот предмет произвел на нее сильное впечатление. То было не что иное, как маленькая белая, с коричневыми пятнами эспаньолка, сидевшая на переднем выступе телеги, с большими робкими глазами и постоянно дрожавшим телом, свойственными, как вам, вероятно, известно, этим крошечным существам. Хетти, вы знаете, не обращала слишком много внимания на животных, но в эту минуту она чувствовала, будто было что-то общее между нею и этим беспомощным робким существом, и, не вполне понимая причину, она уже смелее решилась заговорить с извозчиком, который теперь догнал телегу. То был высокий, румяный человек, с мешком на плечах, заменявшим ему шарф или шинель.
– Не можете ли вы взять меня в телегу, если отправляетесь по дороге в Ашби? – спросила Хетти. – Я заплачу вам.
– Конечно, – сказал высокий молодец с медленною улыбкою, свойственною людям, тяжелым на подъем. – Я могу взять вас очень легко, и не нужно мне ваших денег, если вам все равно лежать немножко сжавшись на тюках с шерстью. Откуда вы? И что вам нужно в Ашби?
– Я иду из Стонитона. Мне далеко идти – в Виндзор.
– В услужение, что ли, или за чем другим?
– Я иду к брату; он солдат и находится там.
– Ну, я еду всего-то до Лейстера, и это-то довольно далеко, но я возьму вас, если вам все равно ехать немножко медленнее. Лошади и не почувствуют вашей тяжести, как не чувствуют тяжести вот этой собачонки, которую я нашел на дороге недели две назад. Она, должно быть, потерялась и вот с тех пор все дрожит. Ну-ка, давайте вашу корзинку да подойдите сзади, я вас подсажу в телегу.
Лежать на тюках с шерстью, при щели, оставленной между занавесками покрышки для прохода воздуха, было теперь для Хетти истинной роскошью, и она пролежала в полудремоте несколько часов, пока извозчик не подошел спросить ее, не хочет ли она выйти из телеги и поесть чего-нибудь; сам он шел пообедать вот в эту харчевню. Поздно ночью приехали они в Лейстер, и таким образом прошел второй день путешествия Хетти. Она издержала деньги только на пищу, но чувствовала, что не будет в состоянии перенести такую медленную езду еще один день, и утром отправилась к конторе дилижансов, чтоб спросить о дороге в Виндзор и узнать, позволят ли ей средства проехать часть расстояния снова в дилижансе. Нет! расстояние было слишком велико, дилижансы были слишком дороги: она должна отказаться от них. Но пожилой приказчик в конторе, тронутый ее миловидным, озабоченным личиком, написал ей имена главных местечек, чрез которые она должна пройти. Это было ее единственным утешением в Лейстере, потому что мужчины смотрели во все глаза, когда она проходила по улице, и в первый раз в своей жизни Хетти желала, чтоб никто не смотрел на нее. Она снова отправилась в путь; но в этот день она была счастливее, потому что ее скоро догнала извозчичья телега, доставившая ее в Гинкли, а благодаря возвращавшейся коляске с пьяным почтальоном, который напугал ее тем, что ехал как Ихой, сын Нимши, делал ей различные шутливые замечания, оборачиваясь задом на своем седле, она еще до ночи была в самой середине лесистого Ворикшейра. Но ей говорили, что до Виндзора все еще оставалось почти сто миль. О, как обширен был этот свет и как трудно было для нее найти в нем дорогу! По ошибке она попала в Стратфорд-на-Авоне, так как она видела, что Стратфорд был помещен в ее списке местечек, а там ей сказали, что она далеко отошла от своей настоящей дороги. Только на пятый день прибыла она в Стони-Стратфорд. Какой незначительною кажется эта дорога, когда вы смотрите на карте или вспоминаете о ваших приятных поездках на луговые берега Авона или оттуда. Но как утомительно длинна была она для Хетти! Ей казалось, будто эта страна с ровными полями и изгородями, разбросанными домиками, деревнями и рыночными городками, которые все были так схожи в ее равнодушных ко всему этому глазах, не должна иметь конца, и она должна бродить среди них всегда, измученная, поджидая у пошлинных застав какую-нибудь телегу и потом видя, что телега везла ее только небольшое расстояние, иногда только до какой-нибудь фабрики не дальше мили. Она с отвращением входила в публичные дома, где должна была обедать и делать вопросы, потому что в них всегда были праздношатающиеся мужчины, смотревшие на нее во все глаза и грубо подшучивавшие над ней. Ее тело было также чрезвычайно утомлено в эти дни новой усталости и беспокойства; в эти дни она казалась гораздо бледнее и утомленнее, чем во все время тайного страха, которое она пережила дома. Когда наконец она достигла Стони-Стратфорда, ее нетерпение и усталость восторжествовали над ее экономическою осторожностью; она решилась ехать в дилижансе всю остальную дорогу, хотя бы ей стоило это всех остальных денег. В Виндзоре ей не нужно будет ничего, ей нужно будет только найти Артура. Когда она заплатила за проезд в последнем дилижансе, у нее оставался один только шиллинг; и когда она вышла из дилижанса у гостиницы под вывеской «Зеленый человек» в Виндзоре в двенадцать часов на седьмой день, голодная и ослабевшая от изнеможения, то кучер подошел к ней и просил не забыть его. Она опустила руку в карман и вынула шиллинг, но слезы навернулись у нее на глазах, когда она почувствовала свою слабость и подумала, что она отдавала свои последние средства получить пищу, которая действительно была ей необходима, прежде чем она отправится отыскивать Артура. Когда она протягивала шиллинг, то обратила свои темные, полные слез глаза на кучера и спросила:
– Можете вы мне сдать полшиллинга?
– Нет, нет, – ответил тот грубым голосом, но добродушно, – не нужно… оставьте шиллинг себе.
Содержатель «Зеленого человека» стоял довольно близко, чтоб быть свидетелем этой сцены; а он был такой человек, у которого обильная еда служила для того, чтоб поддерживать его добродушие, так же как и его особу, в наилучшем состоянии. А прелестное, влажное от слез личико Хетти непременно нашло бы чувствительную фибру в большей части людей.
– Войдите, молодая женщина, войдите, – сказал он, – и закусите чего-нибудь. Вы порядком изнурены, я могу видеть это. – Он взял ее за руку и сказал жене: – Вот, голубушка, сведи эту молодую женщину в гостиную; она немного расстроена.
Слезы Хетти катились быстро. Это были только истерические слезы: она думала, что у нее не было теперь причины плакать, и ей было досадно, что от слабости и усталости она была не в состояния удержать слезы. Наконец она была в Виндзоре, недалеко от Артура.
Она смотрела жадными, голодными глазами на хлеб, мясо и пиво, которые принесла ей хозяйка, и в продолжение нескольких минут забыла обо всем, предавшись услаждающим ощущениям при удовлетворении голода и восстановлении истощенных сил. Хозяйка сидела против нее в то время, как она ела, и смотрела на нее пристально. И неудивительно: Хетти сняла шляпку, и ее локоны рассыпались; вид усталости придавал еще более трогательное выражение юности и красоте ее лица; потом глаза доброй женщины обратились на ее фигуру, которую Хетти не приложила старания скрыть при торопливом одевании во время своего путешествия, а чужой глаз открывает то, что проходит незамеченным со стороны знакомых ничего не подозревающих взоров.
– Ну, вы не очень-то в состоянии путешествовать, – заметила она, бросив взгляд на руку Хетти, не украшенную свадебным кольцом. – Вы издалека?
– Да, – отвечала Хетти, побуждаемая этим вопросом к большей власти над собою и чувствуя себя бодрее после еды. – Да, я прошла порядочное расстояние и чрезвычайно утомилась. Но теперь мне лучше. Но можете ли вы сказать, какой дорогой пройти мне к этому месту?
При этих словах Хетти вынула из кармана лоскуток бумаги; то был конец Артурова письма, где он написал свой адрес.
В то время как она говорила, содержатель гостиницы вошел в комнату и стал смотреть на нее так же пристально, как смотрела его жена. Он взял лоскуток бумаги, который Хетти подавала через стол, и прочел адрес.
– Что ж вам нужно в этом доме? – спросил он.
Содержатели гостиниц и все люди, не имеющие собственного срочного дела, уже по природе своей делают как можно более вопросов, прежде чем дадут ожидаемый от них ответ.
– Мне нужно видеть джентльмена, который живет там, – отвечала Хетти.
– Да там нет джентльмена, – возразил содержатель. – Он закрыт, этот дом, и закрыт сегодня вот две недели. Какого джентльмена нужно вам? Может, я и сообщу вам, где его найти.
– Мне нужно капитана Донниторна, – дрожащим голосом произнесла Хетти, и сердце болезненно сжалось, когда она услышала, что обманулась в своем ожидании: сразу найти Артура.
– Капитана Донниторна? Погодите немного, – сказал содержатель медленно. – Не был ли он в ломшейрской милиции? Молодой офицер высокого роста, такой белолицый, с рыжеватыми бакенбардами… У него был человек по имени Пим!
– О, да, – сказала Хетти. – Вы знаете его… где он?
– Порядочное число миль отсюда. Ломшейрская милиция выступила в Ирландию, она выступила вот уж две недели.
– Посмотри! Ей дурно, – сказала хозяйка, подбегая, чтоб поддержать Хетти, которая потеряла сознание от своего несчастья и походила теперь на прекрасный труп.
Они перенесли ее на софу и расстегнули платье.
– Тут, я подозреваю, дурное дело, – сказал хозяин, входя в комнату с водою.
– Ну, и спрашивать-то, кажется, нечего, какого рода это дело, – сказала жена. – Впрочем, я могу видеть, что она не простая потаскушка, по виду она порядочная деревенская девушка и, судя по ее языку, пришла издалека. Она говорит почти точно так, как наш бывший конюх, который пришел к нам с севера. Он был такой честный человек, какого у нас и не было здесь… Все они там, на севере, люди честные.
– Я в жизнь свою не видал молодой женщины красивее этой, – сказал муж. – Она точно одна из тех картинок, которые выставляются напоказ в окнах. Право, сердце ноет, как посмотришь на нее теперь.
– Для нее было бы гораздо лучше, если б она была не так красива да имела бы побольше поведения, – сказала хозяйка, которая, говоря снисходительно, должно быть, была известна более своим «поведением», чем красотой. – Но она снова приходит в себя. Принеси еще воды.
XXXVII. Путешествие, исполненное отчаяния
Все остальное время дня Хетти была слишком больна, чтоб к ней можно было обращаться с какими бы то ни было расспросами, слишком больна даже для того, чтоб ясно представить себе несчастья, еще ожидавшие ее теперь. Она только чувствовала, что вся ее надежда была разбита и что, вместо того чтоб найти приют, она только достигла границ новой пустыни, где не видела впереди себя никакой цели. Ощущения телесной боли, в удобной постели, при ухаживании добродушной хозяйки, составляли для нее некоторый отдых, такой же отдых, какой заключается в слабой усталости, заставляющей человека броситься на песок, а не продолжать свой труд под палящими лучами солнца.
Но когда сон и отдых возвратили силу, необходимую нравственным страданиям, когда она лежала на следующее утро, смотря на свет начинавшегося дня, который, подобно жестокому смотрителю за работами, возвращался снова требовать от нее ненавистной безнадежной работы, она начала думать, что должна она делать, начала припоминать, что все ее деньги были истрачены, иметь в виду дальнейшее странствование между чужими людьми, на которое проливала новую ясность опытность, приобретенная ею на пути в Виндзор. Но к чему могла она обратиться? Ей было невозможно поступить в услужение, если б даже она могла получить место: ей предстояла только немедленная нищета. Она подумала о молодой женщине, которую нашли у церковной стены в Геслопе в одно воскресенье, почти умиравшей от стужи и голода, с крошечным младенцем на руках; женщину подняли и взяли в приходский приют. «Приходский приют!» Вы, может быть, едва ли понимаете, какое действие производило это слово на ум, подобный уму Хетти, выросшей среди людей, которые были несколько жестоки в своих чувствах даже касательно нищеты, которые жили среди полей и не имели большого сострадания к недостатку и лохмотьям, как к жестокой неизбежной судьбе, встречавшейся им иногда в городах, и считали их только признаками праздности и порока; и действительно, праздность и порок приносили бремя приходу. Для Хетти «приходский приют» был почти то же, что позорная темница, а просить что-нибудь у чужих, просить милостыню – это действие лежало в той же дальней страшной области невыносимого стыда, приблизиться к которой Хетти во всю свою жизнь считала невозможным. Но теперь воспоминание об этой несчастной, бедной женщине, которую, – она видела это сама, когда выходила из церкви, – снесли в дом Джошуа Ганна, возвратилось к ней с новой ужасной мыслью, что теперь она была очень недалеко от той же самой участи, и ужас физической боли смешивался со страхом стыда, потому что Хетти обладала сладострастной природою кругленького, мягко одетого балованного животного.
Как она желала снова находиться в своем, покойном доме, среди ласк и забот, которыми окружали ее всегда! Выговоры ее тетки о пустяках были бы теперь музыкою в ее ушах: она страстно желала слышать их; она, бывало, слышала их в то время, когда ей приходилось скрывать только пустяки. Неужели она могла быть та самая Хетти, которая, бывало, приготовляла масло в сырне, между тем как цветы калины любовались ею украдкой из окна, она, беглянка, которой ее друзья не отворят более своих дверей, которая лежит в этой чужой постели, знает, что у нее нет денег, чтоб заплатить за то, что она получала, и должна предложить этим незнакомым людям какую-нибудь одежду, находящуюся в ее корзинке. Вот когда она подумала о своем медальоне и о своих серьгах и, видя, что ее платье лежало близко, достала его, вынула вещи из кармана и разложила на постели перед собою. Тут были медальон и серьги в небольших, обложенных бархатом футлярчиках, и с ними красивый серебряный наперсток, который купил ей Адам и который сбоку украшали слова: «Помни обо мне», кошелек из стальных колец, вмещавший в себе ее единственный шиллинг, и небольшой красный кожаный бумажник, запиравшийся ремнем. Что за прелесть эти маленькие сережки с красивыми жемчугами и гранатами, которые она с таким страстным желанием вдевала для пробы в уши при светлом солнечном сиянии тридцатого июля! Теперь у нее не было страстного желания надеть их; ее голова с темными кудрями томно лежала на полушке, и в грусти, выражавшейся на ее челе и в глазах, было что-то более жестокое, чем одни печальные воспоминания. Между тем она коснулась руками ушей: в них ведь были тоненькие золотые кольца, которые также стоили небольших денег. Да, она, наверно, могла получить деньги за свои украшения; те, которые подарил ей Артур, должны стоить даже больших денег. Содержатель гостиницы и жена обошлись с ней так ласково; может быть, они помогут ей получить деньги за эти вещи?
Но эти деньги сохранятся у нее недолго: что ей делать потом, когда они выйдут? Куда идти ей? Страшная мысль о нужде и нищете заставила ее как-то подумать о том, не лучше ли ей возвратиться к дяде и тетке и просить их простить ее и сжалиться над ней. Но она опять отшатнулась от этой мысли, как отшатнулась бы от раскаленного металла: она никогда не могла бы перенести стыда перед своими дядей и теткой, перед Мери Бердж и слугами на Лесной Даче, перед брокстонскими жителями и всеми, кто знал ее. Они никогда не должны были узнать, что с нею случилось. Что же могла она сделать? Она уйдет из Виндзора, будет странствовать, как на прошлой неделе, и достигнет плоских зеленых полей, окруженных высокими изгородями: там никто не мог видеть ее или знать; а там, может быть, когда ей не оставалось бы ничего другого, у нее хватит мужества броситься в какой-нибудь пруд, подобный пруду в Скантлендзе. Да, она выйдет из Виндзора как можно скорее: ей не хотелось, чтоб эти люди в гостинице знали о ней, знали, что она пришла отыскать капитана Донниторна; она должна выдумать какой-нибудь предлог, зачем она спрашивала о нем.
С этою мыслью она принялась укладывать вещи опять в карман, думая встать и одеться, прежде чем хозяйка успеет войти к ней. Она еще держала в руках красный кожаный бумажник, когда ей пришло в голову, что в этом бумажнике есть что-нибудь такое, о чем она забыла, что стоило продать. Не зная что ей делать со своею жизнью, она искала средства к жизни так долго, как только могла. А если мы горячо желаем найти что-нибудь, то готовы искать в безнадежных местах. Нет, там не было ничего, кроме обыкновенных иголок и булавок и высохших тюльпанных лепестков между листочками бумаги, на которых она записывала свои небольшие счеты. Но на одном из этих листочков было имя, которое, при всем том что она видела его так часто прежде, осветило мысли Хетти теперь как новооткрытая весть. Это имя было Дина Моррис, Снофильд. Над именем был текст, написанный, как и самое имя, собственною рукою Дины небольшим карандашиком в один вечер, когда они сидели вместе и подле Хетти случайно был открыт красный бумажник. Хетти не стала читать теперь самый текст: ее остановило только имя. Теперь в первый раз она вспомнила без равнодушия искреннее расположение, которое обнаруживала к ней Дина, эти слова Дины в спальне: что Хетти должна думать о ней, как о друге в несчастье. Что, если б она отправилась теперь к Дине и попросила ее помочь ей? Дина имела обо всем совершенно различное мнение, чем другие люди: она была для Хетти тайной, но Хетти знала, что она была всегда ласкова. Она не могла вообразить себе, чтоб лицо Дины отворотилось от нее с выражением мрачного упрека или презрения, чтоб голос Дины охотно говорил о ней дурно или чтоб она радовалась ее несчастьям как наказанию. Дина, казалось, не принадлежала к этому миру Хетти, взгляд которого заставлял ее с ужасом содрогаться, как от прикосновения жгучего пламени. Но Хетти отталкивала от себя мысль умолять даже ее, признаться во всем даже ей. Она не могла заставить себя произнести: «Я пойду к Дине». Она думала об этом только как о том, к чему могла еще прибегнуть, если у нее не хватит мужества умереть.
Добрая хозяйка была удивлена, увидев, что Хетти спустилась вниз вскоре после нее, была опрятно одета и, казалось, вполне обладала собою. Хетти сказала ей, что чувствовала себя хорошо в это утро; она была только очень утомлена и измучена своим путешествием, так как она пришла издалека, чтоб узнать о брате, который убежал и, по мнению родных, сделался солдатом, а капитан Донниторн мог знать об этом, потому что прежде был очень ласков к ее брату. Это была жалкая выдумка, и хозяйка сомнительно посмотрела на Хетти, когда последняя кончила свой рассказ, но в это время Хетти имела такой решительный, самоуверенный вид, так резко отличавшийся от беспомощного уныния вчерашнего дня, что хозяйка не знала, каким образом сделать замечание, которое могло бы доказать, что она хочет вмешиваться в чужие дела. Она только пригласила ее позавтракать с ними. Во время завтрака Хетти вынула свои серьги и медальон и спросила хозяина, не может ли он помочь ей получить деньги за эти вещи: ее путешествие, говорила она, стоило ей гораздо дороже, чем она ожидала, и теперь у нее не было денег, чтоб возвратиться к своим родным, а она хотела отправиться назад немедленно.
Уже не первый раз видела хозяйка эти украшения. Она исследовала карманы Хетти еще вчера; она и ее муж долго рассуждали о том, каким образом деревенская девушка могла иметь такие прелестные вещи, и были совершенно убеждены, что Хетти была низко обманута красивым молодым офицером.
– Да, – сказал содержатель гостиницы, когда Хетти разложила перед ним драгоценные безделки, – мы можем снести их в магазин брильянтщика, есть тут, и неподалеку, один; но – Бог ты мой! – вам не дадут и четвертой доли того, чего стоят эти вещи. И вам, я думаю, не хотелось бы расставаться с ними?
– О, это мне все равно, лишь бы получить деньги, чтоб возвратиться домой, – торопливо возразила Хетти.
– Да еще, пожалуй, подумают, что это краденые вещи, потому что вы желаете продать их, – продолжал он. – Ведь это может показаться странным, что такая молодая женщина, как вы, имеет такие прелестные драгоценные вещи.
Кровь бросилась в лицо Хетти от гнева.
– Я из честного семейства, – сказала она, – я не воровка.
– Нет, я знаю и готова побожиться, что нет, и тебе незачем было и говорить это, – сказала хозяйка, с негодованием посмотрев на своего мужа. – Вещи эти подарены ей, ведь это совершенно ясно.
– Я вовсе и не думал сказать, что это мое мнение, – отвечал хозяин, оправдываясь, – я говорил, что так могут подумать брильянтщики и потому не дадут за эти вещи много денег.
– Хорошо, – сказала жена. – А если ты сам дашь под залог этих вещей некоторую сумму, а потом, когда она придет домой, она может выкупить их, если захочет. Если же мы два месяца ничего не услышим о ней, то сделаем с вещами, что нам будет угодно.
Я не скажу, чтоб при этом примирительном предложении хозяйка вовсе не имела в виду обстоятельства, что ее доброта может получить вознаграждение впоследствии, так как медальон и серьги могли под конец сделаться ее собственностью: действительно, ее быстрому воображению с замечательной живостью представилось действие, которое произведут в таком случае эти вещи на ум соседки-лавочницы. Хозяин взял украшения и оттопырил губы с задумчивым видом. Он желал добра Хетти, без всякого сомнения; но скажите, сколько найдется людей из числа ваших доброжелателей, которые отказались бы извлечь из вас небольшую выгоду? Ваша хозяйка искренно тронута при прощании с вами, высоко уважает вас и действительно будет радоваться, если кто-нибудь другой обойдется с вами великодушно, но в то же самое время она вручает вам счет, на котором получает такие высокие проценты, какие только возможно.
– Сколько вам нужно денег, чтоб возвратиться домой, молодая женщина? – спросил наконец доброжелатель.
– Три гинеи, – отвечала Хетти, основываясь, за неимением другой меры, на сумме, с которою она отправилась в путь, и боясь требовать слишком много.
– Ну, я, пожалуй, дам в заем три гинеи, – сказал хозяин. – И если вы захотите прислать мне деньги и получить обратно ваши украшения, то вы знаете, что можете сделать это: «Зеленый человек» не убежит.
– О, да, я буду очень рада, если вы дадите мне это, – сказала Хетти, успокоенная мыслью о том, что ей не нужно будет идти в магазин брильянтщика, подвергаться любопытным взорам и вопросам.
– Но если вы захотите получить обратно вещи, то напишите заблаговременно, – сказала хозяйка, – потому что когда пройдут два месяца, то мы будем знать, что они не нужны вам.
– Да, – отвечала Хетти равнодушно.
Муж и жена были одинаково довольны этого сделкой. Муж думал, что, если украшения не будут выкуплены, он может сделать хорошее дело, свезя их в Лондон и продав их там; жена думала, что ей удастся ласками выманить у доброго мужа позволение оставить их себе. Кроме того, они уступали просьбам Хетти, бедняжки, миленькой, судя по наружности, порядочной молодой женщины, очевидно в горестных обстоятельствах. Они не хотели ничего брать с нее за прокормление и ночлег: они были очень рады ей. В одиннадцать часов Хетти простилась с ними с тем же спокойным, решительным видом, какой сохраняла все утро, когда садилась в дилижанс, в котором должна была проехать двадцать миль назад по той дороге, по которой приехала сюда.
В самообладании есть сила, служащая признаком, что исчезла последняя надежда. Безнадежность вовсе не опирается на других, как на совершенное довольство, и при безнадежности гордости не противодействует чувство зависимости.
Хетти чувствовала, что никто не может избавить ее от бедствий, которые сделают жизнь ненавистною для нее, и никто, говорила сна самой себе, не должен когда-либо узнать о ее несчастье и унижении. Нет, она не признается даже Дине, она исчезнет из виду всех и утопится там, где тела ее не найдут никогда, никто не будет знать, что с нею сталось.
Когда она вышла из дилижанса, то опять пошла пешком или ехала в телегах за недорогую цену, кормилась также дешево и продолжала идти все далее и далее без определенной цели, а между тем, что было очень странно, будто под влиянием какого-то очарования, возвращалась тою же самой дорогой, по которой пришла, хотя и решилась не возвращаться в свою родную сторону. Может быть, это происходило оттого, что она остановилась мысленно на поросших травой ворикшейрских полях с изгородями из густых деревьев, которые могли служить тайными убежищами даже в это время года, когда еще не было листьев. Она возвращалась медленнее, часто перелезала через плетень и целые часы просиживала у изгородей, бессмысленно устремив свои прекрасные глаза вперед. Нередко она воображала себя на краю скрытого весьма глубокого пруда, как пруд в Скантлондз, спрашивала себя: сопряжена ли с большими страданиями смерть утопленника и после смерти есть ли что-нибудь хуже того, чего она страшилась в жизни? Учение веры не находило себе места в сердце Хетти: она принадлежала к числу того множества людей, которые имели крестных отцов и матерей, учили свой катехизис, были конфирмованы, ходили в церковь каждое воскресенье, а между тем не усвоили себе ни одной простой христианской идеи или христианского чувства, из которых могли бы почерпать силу в практической жизни или веру в смерть. Вы ложно истолковали бы себе ее мысли в продолжение этих несчастных дней, если б вообразили, что на них имели какое-либо влияние религиозный страх или религиозные надежды.
Ей снова захотелось отправиться в Стратфорд-на-Авоне, куда она прежде попала по ошибке: она помнила какие-то поросшие травою поля, когда шла туда прежде, поля, между которыми думала, может быть, найти именно такого рода пруд, какой был у нее в мыслях. Она, однако ж, все еще берегла деньги, она несла свою корзинку: смерть, казалось, была все еще довольно далеко, а жизнь была в ней так сильна! Она жаждала пищи и отдыха, она ускоряла шаги к ним в ту самую минуту, когда рисовала себе берег, с которого бросится в объятия смерти. Прошло уже пять дней, как она оставила Виндзор, потому что бродила кругом, всегда избегала разговоров или вопрошающих взглядов и снова принимала на себя вид гордой независимости, когда только сознавала, что находилась под надзором, выбирала для ночлега скромное жилище, опрятно одевалась утром и снова тотчас же отправлялась в путь или оставалась под крышею, если шел дождь, как будто ей нужно было поддерживать счастливую жизнь.
А между тем, даже в те минуты, когда она вполне обладала самосознанием, ее грустное лицо очень отличалось от того, которое улыбалось самому себе в старом пестром зеркале или улыбалось другим, когда они с удовольствием смотрели на него. Глаза приняли жесткое и даже свирепое выражение, хотя ресницы были так же длинны, как всегда, и глаза имели свой прежний, темный блеск. На щеках теперь уж более не показывалась улыбка, а с нею не показывались и ямочки. Миловидность была та же самая, округленная, детская, капризная, но совершенно лишенная любви и веры в любовь; из-за ее красоты было грустнее смотреть на нее, потому что она напоминала ту чудную голову медузы с страстными, лишенными страсти устами.
Наконец она была среди полей, о которых мечтала, на длинной, узкой тропинке, которая вела через лес. Если б был пруд в этом лесе! Скрытый был бы лучше, нежели пруд на полях. Нет, то не был лес, это был только дикий кустарник, где был прежде песок, теперь же остались валы и ямы, усыпанные хворостом и небольшими деревьями. Она бродила взад и вперед, думая, что там был, может быть, пруд в каждой яме, прежде чем подходила к ней, пока не утомилась и села, чтоб отдохнуть. День уже был близок к концу, свинцовое небо начинало темнеть, будто солнце садилось за ним. Немного спустя Хетти снова встрепенулась, чувствуя, что скоро наступит ночь и что ей нужно отложить до завтра свое намерение отыскать пруд; теперь же найти какой-нибудь ночлег. Она совершенно сбилась с дороги между полей, и ей было все равно, идти по одному направлению или по другому. Она проходила одно поле за другим, и не было видно ни деревни, ни дома. Но там, на повороте, за этим пастбищем, было отверстие в изгороди. Страна, казалось, шла несколько склоном, и два дерева склонялись одно к другому у самого отверстия. Сердце Хетти сильно забилось, когда она подумала, что там должен быть пруд. Она стала подходить к нему тяжелыми шагами по клочковатой траве; губы ее были бледны, все тело дрожало, будто все это случилось само собою, не было предметом ее поисков.
Вот он, черный пруд под мрачным небом: ни движения, ни звука кругом. Она поставила на землю корзинку и лоток, опустилась сама на траву, дрожа всем телом. Пруд имел теперь свою зимнюю глубину; в то время, как он станет мельче – так, помнилось ей, случалось и с прудами в Геслопе, – летом, никто не узнает, что это было ее тело. А тут была ее корзинка, она должна скрыть и ее; она должна бросить ее в воду, сделать ее сначала тяжелой, положив в нее каменья, а потом бросить. Она встала, чтоб поискать каменья, и скоро принесла пять или шесть и, положив их на землю подле корзинки, снова села. Торопиться не было никакой нужды, целая ночь была еще впереди для того, чтоб утопиться. Она сидела, опираясь локтем на корзинку, утомленная, голодная. У нее в корзинке было несколько хлебцев, три хлебца, которыми она запаслась там, где обедала. Она вынула их теперь и с жадностью съела; потом опять сидела тихо, смотря на пруд. Успокоительное чувство, овладевшее ею после удовлетворения голода, и неподвижное мечтательное положение навели на нее дремоту, и мало-помалу ее голова склонилась на колени. Она крепко заснула.
Когда она проснулась, была глубокая ночь, и она почувствовала озноб. Ее страшил этот мрак, ее страшила длинная ночь, которую она имела пред собою. Если б она могла только броситься в воду! Нет, еще не теперь. Она принялась ходить взад и вперед, чтоб согреться, будто тогда у нее будет больше решимости. О, как продолжительно было время в этом мраке! Светлый домашний очаг, теплота и голоса ее родного крова, безопасное пробуждение и безопасный отход ко сну, родные поля, родные лица, воскресные и праздничные дни с их простыми удовольствиями, заключавшимися только в одежде и угощении, – все наслаждения ее молодой жизни быстро проходили теперь перед ее мыслями, и она, казалось, протягивала к ним руки через большой залив. Она стиснула зубы, когда подумала об Артуре, она проклинала его, не зная, что сделает ее проклятие, желала, чтоб и он также узнал страшную печаль, холод и жизнь позора, которую он не решился бы пресечь смертью.
Ужас, овладевший ею при этом холоде, этом мраке, этом уединении, вдали от всякого человеческого существования, возрастал с каждою минутою; ей казалось почти, что она уже умерла и знала, что умерла, и страстно желала снова возвратиться к жизни. Но нет, она все еще была жива, еще не совершила своего страшного намерения. В ней происходила странная борьба чувств, борьба несчастья и радости: она чувствовала себя несчастною от того, что не смела стать лицом к лицу с смертью, и радовалась тому, что еще жила, что еще снова может знать свет и теплоту. Она ходила взад и вперед, чтоб согреться, начиная несколько различать окружавшие ее предметы, так как ее глаза мало-помалу привыкали к ночной темноте: более темный очерк изгороди, быстрое движение какого-то живого существа, быть может, полевой мыши, бежавшей по траве. Она уж не чувствовала более, что мрак сковывал ее совершенно; она думала, что может идти назад по полю и перелезть через плетень, а там, на следующем поле, помнилось ей, была лачужка из дикого терна подле овчарни. Если она доберется до лачужки, то в ней ей будет теплее; она может провести в ней ночь, ведь в такой же лачуге спал Алик в Геслопе, когда было время ягниться. Мысль об этой лачуге придала ей энергию новой надежды; она подняла корзинку и пошла через поле, но не сейчас же нашла она настоящую дорогу к плетню. Движение и занятие, вызванное желанием отыскать затвор в изгороди, послужили, однако ж, для нее возбудительным средством и несколько рассеяли ужас мрака и уединения. В смежном поле были овцы; она испугала несколько овец, когда поставила корзинку на землю и перелезла через плетень; шум их движения обрадовал ее, заставив увериться, что она запомнила верно: это было действительно именно то самое поле, где она видела лачугу, потому что это было поле, на котором паслись овцы. Все прямо по дорожке, и она придет к своей цели. Она достигла забора на другой стороне и находила дорогу, дотрагиваясь руками до частокола забора и овчарни. Наконец она уколола руку о терновую стену. Сладостное ощущение! Она нашла приют, она продолжала идти ощупью, дотрагиваясь до колючего терна, к двери и отворила ее настежь. То было вонючее узкое место, но теплое, и на земле лежала солома, Хетти бросилась на солому с чувством избавления. Слезы навернулись у нее на глазах, первые слезы, с тех пор, как она оставила Виндзор, слезы и рыдания истерической радости о том, что она еще была жива, что находилась на родной земле с овцами вблизи ее. Она чувствовала даже наслаждение, сознавая свои собственные члены; она заворотила рукава и целовала руки со страстною любовью к жизни. Вскоре теплота и усталость стали останавливать ее рыдания, и она беспрестанно впадала в дремоту, воображая себя снова на краю пруда, потом пробуждаясь с трепетом и спрашивая себя, где она находилась. Но наконец охватил ее глубокий сон без сновидений; ее голова, защищенная шляпкой, прислонилась, как к подушке, к терновой стене; и бедная душа, гонимая то туда, то сюда между двух равных ужасных чувств, нашла единственное возможное облегчение в бессознательном состоянии.
Увы! это облегчение, кажется, должно окончиться в ту же минуту, как оно началось. Хетти казалось, будто усыпляющие сновидения перешли только в другое сновидение: что она была в лачуге и над нею стояла ее тетка со свечою в руках. Она задрожала под взглядом своей тетки и открыла глаза. Свечи не было, но в лачуге был свет раннего утра, проникавший в отворенную дверь. Она видела над собою лицо, смотревшее на нее, но то было незнакомое ей лицо, принадлежавшее пожилому человеку в блузе.
– Что вы тут делаете, молодая женщина? – грубо спросил человек.
Хетти под влиянием действительного страха и стыда задрожала еще хуже, чем дрожала в своем минутном сновидении под взглядом своей тетки. Она чувствовала, что была уже как нищая: ее нашли спящей в этом месте. Но, несмотря на свой трепет, она так горячо желала объяснить человеку свое присутствие здесь, что нашла слова сразу.
– Я сбилась с дороги, – сказала она. – Я иду… на север… сошла с дороги на поля, и меня застигла ночь. Не укажете ли вы мне дорогу в ближайшую деревню?
Она встала, произнося эти слова, поправила свою шляпку и потом взяла корзинку.
Человек устремил на нее медленный, бычий взгляд и в продолжение нескольких секунд не отвечал ничего. Потом повернулся, пошел к двери лачужки, остановился только тогда, когда дошел до двери, и, вполовину повернувшись к ней плечом, сказал:
– Да, я могу показать вам дорогу в Нортон, если хотите. Но зачем вы сходите с большой дороги в сторону? – прибавил он тоном сурового выговора. – Будьте осторожны, не то, чего доброго, попадете еще в беду.
– Да, – отвечала Хетти, – я не буду более делать это. Я буду оставаться на большой дороге, если вы будете так добры и покажете, как мне попасть на нее.
– Зачем же вы не остаетесь там, где указательные столбы и где можно людей спросить о дороге? – сказал человек еще угрюмее. – Ведь всякий, посмотревши на вас, подумает, что вы просто дикая женщина.
Хетти чувствовала страх при виде этого угрюмого старого человека и испугалась еще более при его последнем выражении, что она походила на дикую женщину. Когда она последовала за ним из лачуги, то решила дать ему полшиллинга за то, что он укажет ей дорогу, тогда он не будет предполагать, что она дикая. Когда он остановился, чтоб показать ей дорогу, то она опустила руку в карман, чтоб приготовить полшиллинга, и, когда он отвернулся, не простившись с ней, она протянула к нему монету и сказала:
– Благодарю вас. Не возьмете ли вы это за беспокойство, которое я вам причинила?
Он медленно взглянул на полшиллинга и потом сказал:
– Мне не нужно ваших денег. Вы лучше бы поберегли их, а то у вас их украдут, если вы будете таскаться по полям как сумасшедшая.
Человек оставил ее, не произнеся более ни слова, а Хетти продолжала свой путь. Наступил новый день, а она должна продолжать свое странствование. Бесполезно было думать о том, чтоб утопиться: она не могла решиться на это, по крайней мере до тех пор, пока у нее оставались деньги на прокормление и сила продолжать путь. Но приключение, случившееся с нею при пробуждении в это утро, увеличивало ее страх при мысли о том времени, когда у нее выйдут все деньги; тогда ей придется продать корзинку и платья и она действительно будет походить на нищую или на дикую женщину, как говорил тот человек. Страстная радость о жизни, радость, которую она ощущала ночью, когда бежала от мрачной холодной смерти в пруде, исчезла теперь. Жизнь в настоящее время, при утреннем свете, под влиянием этого жесткого, изумленного взгляда, который устремлял на нее тот человек, также была полна ужаса, как и смерть, она была даже еще хуже, то был ужас, к которому она чувствовала себя прикованной, от которого она отступала назад, как отступала от черного пруда, и от которого, однако ж, не могла найти никакого убежища.
Она вынула деньги из кошелька и посмотрела на них. У нее было еще двадцать два шиллинга. С ними она проживет еще несколько дней, или с их помощью она скорее достигнет до Стонишейра, где была Дина. Мысль о Дине представлялась ей гораздо яснее теперь, когда опыт ночи с трепетом отвлек ее воображение от пруда. Если б нужно было пойти к Дине, если б никто, кроме Дины, не мог узнать о том, Хетти решилась бы пойти к ней. Нежный голос, сострадательный взгляд могли привлечь ее к себе. Но потом должны будут узнать другие, и она не могла более бежать к этому позору, как не могла бежать к смерти.
Она должна идти все далее и далее и ждать, пока большая глубина отчаяния не придаст ей решимости. Может быть, смерть и сама придет к ней, потому что она с каждым днем все менее и менее была в состоянии переносить усталость. А между тем так странен образ действия нашей души, которая влечет нас посредством тайного желания именно к тому, чего мы опасаемся, – Хетти, выйдя из Нортона, спросила самую прямую дорогу на север к Стонишейру и шла по ней весь день.
Бедная, блуждающая Хетти с округленным детским личиком и с выражавшеюся на нем жесткой, нелюбящей, отчаявшейся душой, с узким сердцем и узкими мыслями, в которых есть только место для ее собственного горя, она испытывает это горе с более сильной горечью! Сердце мое обливается кровью, когда я вспоминаю, с каким трудом она волочит свои усталые ноги или сидит в телеге, бессмысленно устремив глаза на дорогу перед собой, никогда не думая или не заботясь о том, куда ведет этот путь, пока голод не разбудит ее и не заставит желать близости деревни.
Какой будет конец всему этому? Какой будет конец ее путешествия без цели, в стороне от всякой любви, когда она заботится о человеческих существах только по своему тщеславию и привязана к жизни, только как привязан к ней раненый, преследуемый охотниками зверь?
Да избавит Бог вас и меня быть первою причиной такого горя!
XXXVIII. Поиски
Первые десять дней после отъезда Хетти прошли в семействе на господской мызе так же спокойно, как другие дни; так же было и с Адамом, при его ежедневной работе. Они ожидали, что Хетти останется вне дома неделю или десять дней по крайней мере, может быть, и немного более, если Дина решилась возвратиться с ней, потому что тогда что-нибудь и могло задержать их в Снофильде. Но по прошествии двух недель все стали несколько удивляться тому, что Хетти не возвращалась. Вероятно, она нашла больше удовольствия быть вместе с Диной, чем могли предполагать это. Адам, с своей стороны, с большим нетерпением ожидал возвращения Хетти и решил мысленно, если она не приедет на другой день, в субботу, отправиться в воскресенье утром за ней. Дилижанс не ходит по воскресеньям; тронувшись в путь еще до рассвета и, может быть, встретив на дороге телегу, он мог прибыть очень рано в Снофильд и привезти Хетти на другой же день, и Дину также, если последняя отправится с ними. Уж для Хетти было время возвратиться, а он имел возможность потерять понедельник только для того, чтоб привезти ее назад.
Его план одобрили вполне на ферме, когда он пришел туда в субботу вечером. Мистрис Пойзер убедительно просила его не возвращаться без Хетти, потому что она гостила уж слишком долго, если взять во внимание все, что нужно было еще приготовить к половине марта; да и одной недели было очень достаточно для того, чтоб отдохнуть и поправиться здоровьем. Что ж касалось Дины, то мистрис Пойзер не очень-то надеялась, что им удастся привезти ее с собой, разве если они убедят ее в том, что народ в Геслопе был вдвое несчастнее людей в Снофильде.
– Впрочем, – сказала мистрис Пойзер в заключение, – вы можете сказать, что у нее осталась всего одна тетка, и так похудела, что стала почти тенью; кроме того, все мы, может быть, после будущего Михайлова дня переселимся за двадцать миль отсюда и умрем с горя среди чужих людей, оставив детей круглыми сиротками.
– Ну, полно, – сказал мастер Пойзер, решительно не имевший вида человека, сокрушаемого горем, – дела вовсе не так дурны, как ты говоришь. У тебя такой славный цвет лица теперь, и с каждым днем ты поправляешься все больше. Но я был бы рад, если б Дина приехала к нам, потому что она помогла бы тебе справляться с детьми. Удивительно, право, как они привязаны к ней.
Таким образом с рассветом дня в воскресенье Адам отправился в путь. Сет проводил его мили две, потому что мысль о Снофильде и о возможности возвращения Дины в эту страну не давала ему покоя, и прогулка с Адамом при холодном утреннем воздухе (оба были одеты в свои лучшие платья) возбуждала в нем воскресное спокойствие. То было последнее февральское утро с нависшим серым небом и легкою изморозью по зеленым сторонам дороги и на темных изгородях. Они слышали журчание полного ручейка, стремившегося с холма, и слабое щебетанье ранних птичек. Они шли молча, хотя им и было приятно оттого, что они были вместе.
– Прощай, брат, – сказал Адам, положив руку на плечо Сета и смотря на него с чувством, когда они намеревались расстаться друг с другом. – Я желал бы, чтоб ты прошел со мной всю дорогу и был так счастлив, как я.
– Я доволен, Адди, да, я доволен, – сказал Сет весело. – Я, верно, останусь старым холостяком и буду заботиться о твоих детях.
Они расстались друг с другом, и Сет медленно пошел домой, мысленно повторяя один из своих любимых гимнов. Он очень любил гимны.
Dark and cheerless is the morn Unaccompanied by thee: Joyless is the day's return Till thy mercy's beams I see: Till thou inward light impart, Glad my eves and warm my heart. Visit, then, this soul of mine, Pierce the gloom of sin and grief – Fill me, Radiancy Divine, Scatter all my unbelief. More and more thyself display, Shining to the perfect day[19].Адам пошел гораздо скорее. Если б кто-нибудь ехал по окбурнской дороге при восходе солнца в это утро, тот непременно с удовольствием посмотрел бы на высокого, широкоплечего человека, шедшего так прямо и такою твердою поступью, как воин, и смотревшего веселыми, проницательными глазами на темно-синие горы, которые мало-помалу показывались на его дороге. Редко в жизни Адама его лицо было в такой степени свободно от всякого облачка заботливости, как в это утро; и это отсутствие всякой заботы, как обыкновенно случается с людьми, обладающими таким пытливым, практическим умом, какой был у Адама, еще более заставляло его замечать окружавшие его предметы и искать в них чего-нибудь такого, что могло бы послужить ему материалом для его любимых планов и замысловатых соображений. Его счастливая любовь, сознание, что он с каждым шагом все более и более приближался к Хетти, которая так скоро будет принадлежать ему, производили на его мысли такое же влияние, какое свежий утренний воздух производил на его чувства: они придавали ему сознание благосостояния, при котором деятельность была наслаждением. По временам его чувства порывались к ней как-то сильнее, и тогда исчезали для него все другие образы, кроме Хетти; вместе с этим он чувствовал чудную благодарность, что все это счастье давалось ему, что наша жизнь на этом свете заключала в себе столько прелести. Наш друг Адам имел набожное сердце, хотя, может быть, и не слишком любил набожные беседы, и его нежность почти была схожа с благоговением, так что трудно было взволновать их отдельно. Но когда чувства его излились таким образом, деловые мысли возвращались с большей силою. В это утро они были направлены на планы, каким образом можно бы улучшить дороги, находившиеся в таком жалком состоянии во всей стране, и на соображение всех выгод, которые могли бы произойти от усилий каждого деревенского джентльмена, если б он вознамерился улучшить пути в своей собственной области.
Ему показалось очень недальнею эта прогулка, десять миль до Окбурна, миленького городка в виду синих гор, где он позавтракал. Затем страна становилась все голее и голее: не было более скатывавшихся по склонам лесов, не было деревьев с широко раскинувшимися ветвями близ частых домиков с хозяйственными принадлежностями, не было густых изгородей. Серые каменные стены пересекали скудные пастбища, и печального вида серые каменные дома были разбросаны на далеком расстоянии на изрытой почве, где были прежде руды, которые теперь иссякли.
«Голодная страна, – думал Адам. – Я скорее пошел бы на юг, где, говорят, земля плоска, как стол, чем прийти жить сюда. Впрочем, если Дине нравится жить в стране, где она может быть большим утешением для людей, то она поступает хорошо, выбрав именно эту часть, потому что на нее должно смотреть, будто она сошла прямо с неба, подобно ангелам в пустыне, чтоб подкрепить тех, которым нечего есть».
Когда он наконец подошел к самому Снофильду, то ему казалось, что город приходится «товарищем стране», хотя река, протекавшая по долине, где стояла большая фабрика, придавала приятную свежесть более низким полям. Угрюмый, каменный, не защищенный природою город лежал на склоне крутой горы. Адам не пошел теперь прямо туда, потому что Сет сказал ему, где найти Дину: она остановилась в хижине с соломенной крышею, не доходя до города, неподалеку от фабрики, в старой хижине, выходившей на дорогу стороною и имевшей впереди небольшой участок земли, засеянный картофелем. Здесь жила Дина у четы уже преклонных лет. Если б Адам случайно не застал дома Дину и Хетти, то он мог узнать, куда они отправилась или когда снова возвратятся домой. Дина, может быть, вышла на какую-нибудь проповедь и, пожалуй, оставила Хетти дома. Адам против воли надеялся на это; и когда он увидел пред собою хижину, узнав ее по выходившему на дорогу боку, на его лице невольно засияла улыбка, неразлучная с надеждой на близкую радость.
Он ускорил шаги по узкой шоссейной дорожке и постучал в дверь. Ее отворила весьма чистая старушка, медленно потряхивавшая головою, разбитою параличом.
– Дина Моррис дома? – спросил Адам.
– Что? Нет, – отвечала старушка, взглянув на высокого незнакомца с удивлением, заставившим ее говорить медленнее обыкновенного. – Не угодно ли вам войти? – прибавила она, отходя от двери и как бы стараясь припомнить что-то. – Да вы не брат ли того молодого человека, который был здесь прежде, не так ли?
– Да, – отвечал Адам, входя. – Это был Сет Бид. Я его брат, Адам. Он просил меня поклониться вам и вашему доброму мужу.
– Поклонитесь и ему от нас: он очень приветливый молодой человек. И вы похожи на него, только вы смуглее. Садитесь, вот кресло. Мой муж еще не возвращался домой с митинга.
Адам терпеливо сел, не желая осыпать быстрыми вопросами больную старуху, но с любопытством посматривая на узкую винтообразную лестницу в углу. Он думал, что Хетти, может быть, услышав его голос, сойдет к нему.
– Так вы пришли навестить Дину Моррис? – спросила старуха, стоя против него. – Вы, значит, не знали, что она не дома?
– Нет, – отвечал Адам. – Но я думал, что, вероятно, не застану ее дома, так как сегодня воскресенье. Но другая молодая женщина… дома она или пошла вместе с Диной?
Старушка посмотрела на Адама в недоразумении.
– Пошла вместе с нею? – сказала она. – Да ведь Дина отправилась в Лидс, большой город, о котором вы, может быть, слышали, где много живет народа божьего. Она отправилась туда… вот в пятницу было две недели. Ей прислали и денег на дорогу. Вы можете видеть ее комнату здесь, – продолжала она, отворяя дверь и не замечая, какое действие производили на Адама ее слова.
Он встал и последовал за нею, окинул любопытным взглядом небольшую комнатку с узкою кроватью, портретом Весли на столе и немногими книгами, лежавшими на большой Библии. Он льстил себя безрассудной надеждой, что там могла быть Хетти. Он не мог говорить в первую минуту, когда увидел, что в комнате никого не было. Им овладел какой-то неопределенный страх: что-нибудь случилось с Хетти на дороге. Но старуха была так тяжела на слова и на понимание… Хетти, может быть, и была в Снофильде.
– Как жаль, что вы не знали этого! – сказала она. – Неужели вы пришли из вашей страны только для того, чтоб навестить ее?
– Но Хетти… Хетти Соррель, – отрывисто произнес Адам, – где она?
– Я не знаю никого по этому имени, – сказала старуха с удивлением. – Разве вы слышали, что такая живет в Снофильде?
– Да разве не приезжала сюда молодая женщина, очень молодая и красивая, две недели назад, в пятницу, навестить Дину Моррис?
– Нет, я не видела никакой молодой женщины.
– Подумайте-ка хорошенько, уверены ли вы в этом? Девушка, восемнадцати лет, с темными глазами и темными вьющимися волосами, в красном салопе и с корзинкой в руках. Вы не могли ее забыть, если видели.
– Нет, в пятницу, две недели назад… да, именно в тот день и отправилась Дина… не был никто. Вот до вас никто не приходил, никто не спрашивал ее; здешние жители знают, что она отправилась. Ах, Господи, Господи! уж не случилось ли чего-нибудь?
Старуха увидела на побледневшем лице Адама страшное выражение ужаса, но он не был ни оглушен, ни расстроен: он употреблял все усилия, чтоб придумать, где мог спросить о Хетти.
– Да, молодая женщина отправилась из нашей страны навестить Дину в пятницу две недели назад. Я пришел, чтоб привезти ее назад. Я боюсь, чтоб с ней чего не случилось. Я не могу оставаться долее. Прощайте.
Он торопливо вышел из хижины. Старуха последовала за ним до ворот, с грустью смотря ему вслед и тряся головою, между тем как он почти бежал по дороге в город. Он направлялся к месту, где останавливался окбурнский дилижанс.
Нет, там не видали такой молодой женщины, как Хетти. Не случилось ли чего-нибудь с дилижансом две недели назад? Нет. Не было и дилижанса, в котором он мог бы возвратиться в Окбурн в этот же день. Что ж, он отправится пешком: ему нельзя оставаться здесь в жалком бездействии. Но содержатель гостиницы, видя сильное беспокойство Адама и принимая новое приключение к сердцу с горячностью человека, который проводит большую часть своего времени в том, что, засунув руки в карманы, смотрит на упорно однообразную улицу, предложил Адаму, что он свезет его обратно в Окбурн в своей собственной, обложенной пошлиною тележке в этот же вечер. Не было еще пяти часов, и Адам имел довольно времени пообедать и приехать в Окбурн до десяти часов. Содержатель объявил, что ему действительно нужно ехать в Окбурн и что лучше ему ехать сегодня вечером: тогда у него будет в распоряжении весь следующий день. Адам, употребив тщетную попытку съесть что-нибудь, положил сухое кушанье в карман и, выпив глоток элю, сказал, что готов отправиться в путь. Когда они доехали до хижины, то ему пришло в голову, что хорошо было бы узнать от старухи, где можно было найти Дину в Лидсе: если на господской мызе будут беспокоиться (он только отчасти допускал предчувствие, что это случится), то, может быть, Пойзеры захотят послать за Диной. Но Дина не оставила адреса, и старуха, память которой была слаба на имена, не могла припомнить имени «благочестивой женщины», бывшей главным другом Дины в обществе в Лидсе.
В продолжение длинной, длинной дороги в тележке Адам имел время представлять себе всевозможные догадки безотвязного страха и борющейся надежды. В минуту первого потрясения при открытии, что Хетти не была в Снофильде, в голове Адама мелькнула мысль об Артуре и заставила болезненно забиться его сердце, но он несколько времени старался отразить ее возвращение, занявшись объяснением этого беспокоящего его факта различными средствами, не имевшими ничего общего с этою невыносимою мыслью. Вероятно, с нею случилось что-нибудь. Хетти, каким-нибудь странным случаем, попала в Окбурне не в тот дилижанс; она захворала и не хотела сообщить своим об этом, чтоб не испугать. Но эта слабая ограда неопределенных невероятностей была скоро разрушена стремительным напором определенного, мучительного страха. Хетти обманывала себя, думая, что может любить его, выйти за него замуж: она все-таки любила Артура, – и теперь, в отчаянии, что срок их свадьбы был так близок, бежала из дома. Она отправилась к нему. Прежнее негодование и ревность снова пробудились и внушили подозрение, что Артур поступил с ним неискренно, написал к Хетти, пытался соблазнить ее прийти к нему, не желая, вопреки всем своим обещаниям, чтоб она принадлежала другому, а не ему. Может быть, он и выдумал всю эту историю и дал ей указания, каким образом она могла следовать за ним в Ирландию. Адам знал, что Артур вышел туда три недели назад, потому что слышал об этом недавно на Лесной Даче. Каждый печальный взгляд Хетти с того времени, как она дала слово Адаму, припоминался ему теперь с болезненным преувеличением. Его сангвинический характер и доверчивость доходили до глупости. Бедняжка, может быть, с давних пор не знала своего сердца, думала, что может забыть Артура, и на мгновение обратилась к человеку, предлагавшему ей покровительственную, верную любовь. Он не мог принудить себя порицать ее: она не желала причинить ему такое страшное горе. Порицание следовало обратить на того человека, который из себялюбия играл ее сердцем, быть может, даже нарочно сманил ее из дома.
В Окбурне конюх «Королевского дуба» помнил, что такая молодая женщина, какую описывал Адам, выходила из треддльстонского дилижанса более двух недель назад, ведь не скоро можно забыть такую хорошенькую девушку, и был уверен, что она не поехала в бекстонском дилижансе, который проезжал через Снофильд; он потерял ее из виду в то время, как отводил лошадей, и с тех пор более не видел ее. Адам затем прямо пошел к гостинице, от которой отходил стонитонский дилижанс: было всего очевиднее, что Хетти, куда бы она ни намеревалась идти, прежде отправилась в Стонитон, так как едва ли она решилась свернуть с большого тракта. И здесь она была замечена; помнили, что она сидела на козлах с кучером. Но кучера нельзя было видеть: другой ездил вместо него по этой дороге последние три или четыре дня. Вероятно, его можно было увидеть в Стонитоне, если спросить о нем в гостинице, у которой останавливалась карета. Таким образом, озабоченный, больной душой, Адам по необходимости должен был ждать и употребить усилия, чтоб отдохнуть до следующего утра, и до одиннадцати часов, когда отходил дилижанс.
В Стонитоне произошла новая задержка: старый кучер, с которым ехала Хетти, не будет в городе раньше вечера. По приезде его оказалось, что он хорошо помнил Хетти и помнил свою собственную шутку, с которою обратился к ней; он несколько раз повторил ее Адаму и так же часто заметил, что, по его мнению, в этом было что-то такое необыкновенное, потому что Хетти не смеялась, когда он пошутил с нею. Но он объявил, как объявляли и люди в гостинице, что потерял Хетти из виду с того времени, как она вышла из кареты. Часть следующего утра прошла в расспросах в каждом доме в городе, где только останавливался какой-нибудь дилижанс. Все это было тщетно: Хетти, как известно, отправилась из Стонитона не в дилижансе, а пешком на самом рассвете; потом Адам выходил до первых застав по различным трактам в отчаянной надежде, что она оставила там какое-нибудь воспоминание. Нет, дальнейших следов не было, и следующею тяжелой для Адама задачею было отправиться домой и передать на господской мызе эти несчастные известия. Что ж касается того, что он сделает за этим, то он имел два определительные намерения среди этой борьбы мыслей и чувств, происходившей в нем в то время, как он ходил взад и вперед. Он не расскажет того, что знал о поведении Артура Донниторна относительно Хетти, пока не представится очевидная для того необходимость: Хетти, пожалуй, может возвратиться и открытие может быть для нее оскорблением или обидой. Лишь только он побывает дома и сделает все, что нужно для более продолжительного отсутствия, как тотчас же отправится в Ирландию; если он не откроет никакого следа Хетти на пути, то пойдет прямо к Артуру Донниторну, чтоб увериться, насколько Артуру был известен ее поступок. Несколько раз приходило ему на мысль, не спросить ли совета у мистера Ирвайна, но это было бы бесполезно, или ему уже нужно в таком случае сказать все и, таким образом, выдать тайну Артура. Странно, что Адам, мысли которого были беспрестанно заняты Хетти, ни разу не подумал о том, что она могла отправиться в Виндзор, не зная, что Артура уж не было там. Может быть, Адам не мог себе представить, чтоб Хетти убежала к Артуру непрошенная; он не мог вообразить себе никакой причины, которая могла бы понудить ее к такому шагу после письма, написанного в августе. Он представлял себе только два предположения: или Артур снова писал к ней и сманил ее к побегу, или она просто бежала от приближавшегося брака с ним, убедившись, что, вопреки всему, не могла любить его в достаточной степени, а между тем не смела отказать ему, опасаясь гнева своих родных.
Когда он решился идти прямо к Артуру, мысль о том, что он потерял два дня на поиски, оказавшиеся почти совершенно бесполезными, была мучительна для Адама. А между тем, пока он не объявит Пойзерам, куда, по его убеждению, отправилась Хетти, о своем намерении последовать за нею туда, он должен быть в состоянии сказать им, что искал ее следов, насколько было только возможно.
Адам прибыл в Треддльстон во вторник после полуночи и, не желая беспокоить мать и Сета, а также отвечать на их вопросы в такую позднюю пору, остановился в «Опрокинутой телеге». Не раздеваясь, бросился он здесь на постель и крепко заснул от усталости. Он спал, однако ж, не более четырех часов. Он отправился домой уже в пять часов, в слабые утренние сумерки. Он всегда носил с собою в кармане ключ от двери мастерской, так что мог войти туда. А он желал войти в дом, не разбудив матери: ему не хотелось самому рассказать ей о своем новом огорчении, а увидеться прежде с Сетом и попросить его, чтоб он сообщил ей об этом, когда окажется нужным. Он осторожно прошел по двору и осторожно отпер дверь ключом. Но, как он ожидал, Джип, лежавший в мастерской, громко залаял. Он утих, увидев Адама, который, подняв палец, приказывал ему замолчать, и бесхвостое животное, в своей немой радости, должно было довольствоваться тем, что терлось около ног своего господина.
Адам был слишком болен душою, чтоб обратить внимание на ласки Джипа. Он бросился на лавку и тупо смотрел на лес и на признаки работы, окружавшие его, спрашивая себя, найдет ли он когда-нибудь снова удовольствие в этом, между тем как Джип, неясно сознавая, что с его господином случилось что-то дурное, положил свою шероховатую серую голову на колени Адама и, нахмурив брови, смотрел на него. С воскресенья после обеда до этих пор Адам постоянно находился среди чужих людей и в чужих местах, которые не имели ничего общего с подробностями его всегдашней жизни. Теперь же, когда при свете нового утра он возвратился к себе домой и был окружен знакомыми предметами, которые, казалось, навсегда лишились своей прелести, действительность, тяжкая, неизбежная действительность его горя легла на него новым гнетом. Прямо перед ним стоял неоконченный комод с ящиками, который он делал в свободные минуты для Хетти, когда его дом будет и ее домом.
Сет не слышал, когда вошел Адам, но его поднял лай Джипа, и Адам слышал, как он шевелился наверху в комнате, одеваясь. Первые мысли Сета были о брате: он непременно придет домой сегодня, потому что его присутствие при работах необходимо завтра; но Сет с удовольствием думал, что Адам имел больше праздников, чем ожидал. А приедет ли и Дина с ним? Сет чувствовал, что в этом заключалось величайшее блаженство, которое он только мог предвидеть для самого себя, хотя у него и не оставалось никакой надежды, что она когда-нибудь полюбит его настолько, чтоб выйти за него замуж. Но он часто думал, что лучше быть другом и братом Дины, чем мужем другой женщины. Если б только он мог быть всегда близко нее, а не жить от нее так далеко.
Он спустился с лестницы и отворил дверь, которая вела из общей комнаты в мастерскую, намереваясь выпустить Джипа, но остановился на пороге, внезапно пораженный при виде Адама, в грустной задумчивости сидевшего на скамье, бледного, неумытого, с провалившимися, безжизненными глазами, почти походившего на пьяницу утром. Сет, однако ж, в одно мгновение понял, что эти признаки означали не пьянство, а большое несчастье. Адам молча взглянул на него; Сет подошел к скамье и сам дрожал так, что не был в состоянии заговорить в ту же минуту.
– Да будет милость Господня с нами, Адди! – сказал он тихим голосом, садясь на скамью рядом с Адамом. – Что случилось?
Адам не мог говорить: крепкий человек, привыкший подавлять признаки горя, почувствовал, что сердце его было слишком полно, как сердце ребенка, при этом первом прикосновении сочувствия. Он бросился Сету на шею и зарыдал.
Сет приготовился теперь услышать самое худшее, потому что, припоминая даже детские годы, он не помнил, чтоб Адам рыдал когда-нибудь прежде.
– Неужели смерть? Умерла она? – спросил он тихо, когда Адам приподнял голову и старался прийти в себя.
– Нет, голубчик, но она ушла, ушла от нас. Она вовсе и не была в Снофильде. Дина отправилась в Лидс, в пятницу было две недели, в тот самый день, когда Хетти уехала отсюда. Я не мог узнать, куда она девалась после того, как приехала в Стонитон.
Сет безмолвствовал от крайнего изумления: он не знал ничего такого, что могло бы ему внушить причину, по которой Хетти бежала.
– И ты вовсе не подозреваешь, что могло ее побудить к этому? – спросил он наконец.
– Она не могла любить меня, ей неприятна была наша свадьба; когда срок подходил ближе, должно быть, это, – сказал Адам.
Он решился не упоминать ни о каких других причинах.
– Я слышу, что матушка шевелится, – сказал Сет. – Нужно ли сказать ей об этом?
– Нет, нет еще, – сказал Адам, вставая со скамьи и откидывая волосы с лица, будто хотел прийти в себя. – Я не могу еще говорить с нею об этом и тотчас же должен предпринять новое путешествие после того, как схожу в деревню и на господскую мызу. Я не могу сказать тебе, куда я отправляюсь, и ты должен объявить ей, что я отправился по делу, так как никто не должен знать что-нибудь о том. Теперь я пойду вымыться.
Адам пошел к двери мастерской, но, сделав несколько шагов, обернулся и, встретив глаза Сета спокойным, грустным взглядом, добавил:
– Я должен взять все деньги из жестяной кружки, друг, но если что-нибудь случится со мною, остальное будет твоею собственностью для того, чтоб заботиться о матери.
Сет был бледен и дрожал всем телом: он чувствовал, что за всем этим была какая-то страшная тайна.
– Брат, – сказал он тихо (он называл Адама братом только в торжественные минуты), – я не верю, чтоб ты хотел сделать что-нибудь такое, на что ты не мог бы испросить благословения Господа.
– Нет, мой друг, – сказал Адам, – не бойся. Я сделаю только то, в чем заключается долг мужчины.
Он думал, что, если откроет свое горе матери, она будет только расстраивать его отчасти неловкими словами привязанности, отчасти же словами неудержимого торжества о том, что Хетти показала себя негодною быть его женой, как Лисбет всегда предвидела. Эта мысль возвратила ему несколько его обычную твердость и власть над собою. Когда его мать сошла вниз, то он сказал ей, что почувствовал себя нездоровым на пути домой и по этой причине провел всю ночь в Треддльстоне. Сильная головная боль, которою он все еще страдал в это утро, объясняла его бледность и отяжелевшие глаза.
Он решился прежде всего сходить в деревню, заняться своим делом с час, сообщить Берджу, что принужден отправиться в дорогу, и просить его, чтоб он никому не говорил об этом. Он не хотел идти на господскую мызу во время завтрака, когда дети и слуги находились в общей комнате: тогда не было бы конца восклицаниям, когда услышали бы все, что он возвратился без Хетти. Он подождал, пока часы не пробили девяти, и тогда оставил мастерскую в деревне и отправился через поля к ферме. Он почувствовал неизмеримое облегчение, когда, подойдя близко к дому, увидел приближавшегося к нему мистера Пойзера: это избавляло его от неприятного труда идти в дом. Мистер Пойзер шел бодро в это мартовское утро, занятый мысленно своим весенним делом: он шел бросить хозяйский взгляд на подковку своей новой ломовой лошади, неся в руках свою лопатку, как полезного товарища в дороге. Его изумление не знало границ, когда он увидел Адама, но он не был человек, который тотчас же предался бы предчувствиям беды.
– Как, Адам, это вы, голубчик? Неужели вы все это время были в отсутствии и, несмотря на то, не привезли с собою девушек? Где же они?
– Нет, я не привез их, – сказал Адам, поворачиваясь и тем доказывая, что желал пойти назад с мистером Пойзером.
– Послушайте, – сказал Мартин, посмотрев на Адама с большим вниманием, – да на вас совсем лица нет. Разве случилось что-нибудь?
– Да, – проговорил Адам с трудом, – случилась неприятная вещь. Я не нашел Хетти в Снофильде.
На добродушном лице мистера Пойзера выразились признаки беспокойного изумления.
– Не нашли ее? Что ж с нею случилось? – спросил он, и его мысли тотчас же обратились на какое-нибудь внешнее несчастье.
– Я не могу сказать, случилось ли с нею что-нибудь. Она вовсе не приезжала в Снофильд, а отправилась в дилижансе в Стонитон, но я ничего не мог узнать, куда она делась, когда вышла из стонитонского дилижанса.
– Как, неужели вы хотите сказать, что она убежала? – спросил Мартин, останавливаясь. Он был до того смущен и поражен, что факт еще не представлялся ему горем.
– Должно быть, она сделала это, – сказал Адам. – Ей неприятна была наша свадьба, когда уж дело подходило к тому, – вот должна быть причина. Она ошиблась в своих чувствах.
Мартин молчал несколько минут, устремив глаза на землю и роясь лопаткой в траве, сам не зная, что делает. Его обычная медлительность утраивалась, когда предмет разговора был тягостный. Наконец он поднял глаза, посмотрел Адаму прямо в лицо и сказал:
– В таком случае она не заслуживала вас, мой друг. И я чувствую себя также виноватым: она была моя племянница, и я всегда очень желал, чтоб она вышла замуж за вас. И я не могу сделать вам никакого удовлетворения, мой друг, это заставляет меня сожалеть еще более. Это, я уверен, грустный удар для вас. – Адам не мог ничего сказать, и мистер Пойзер, сделав несколько шагов, продолжал: – Я убежден, она пошла попытаться получить место горничной, потому что забрала это себе в голову уж с полгода назад и непременно требовала моего согласия. Но я думал о ней лучше, – прибавил он, покачав головою медленно и грустно, – я думал лучше о ней. Я воображал, что она выбросила это из головы после того, как дала вам свое слово и все уж приготовлено к свадьбе.
Адам имел сильнейшие причины оставить мистера Пойзера в этом предположении; даже сам пытался поверить, что это, может быть, и справедливо. Ведь он не мог поручиться в том, что она достоверно отправилась к Артуру.
– И лучше, что случилось таким образом, – сказал он, как только мог спокойнее, – если она чувствовала, что ей не хотелось иметь меня мужем. Лучше убежать прежде, чем раскаиваться впоследствии. Вы, я надеюсь, не будете обращаться с нею сурово, если она возвратится, ведь она, может быть, и сделает это, если ей покажется трудным жить у чужих.
– Я не могу чувствовать к ней прежнего расположения, – произнес Мартин решительно, – она дурно поступила с вами и с нами. Но я не отвернусь от нее: она еще молода, и это первое огорчение, которое она мне причиняет. Трудно будет мне сообщить об этом ее тетке. Отчего не приехала Дина с вами? Она помогла бы несколько успокоить ее тетку.
– Дины не было в Снофильде, она отправилась в Лидс две недели назад, и я не мог узнать от старухи даже и адреса, где она находится в Лидсе, иначе я привез бы ее вам.
– Ей было бы гораздо лучше жить у своих родных, – сказал мистер Пойзер с негодованием, – чем ходить проповедовать среди чужих людей.
– Я должен оставить вас теперь, мистер Пойзер, – сказал Адам, – потому что у меня бездна работы.
– Конечно, вам будет лучше за работой, а я должен рассказать хозяйке, когда возвращусь домой. Это трудное дело.
– Но, – сказал Адам, – прошу вас убедительно, не рассказывайте о случившемся недели две. Я еще не говорил об этом моей матушке. Как знать, чем это все кончится?
– Конечно, конечно, меньше скажешь – скорее исправишь. Нам нет нужды говорить, почему свадьба расстроилась, и мы, может быть, услышим о ней через несколько времени. Дай мне пожать руку, друг мой. Как мне хотелось бы сделать тебе удовлетворение!
В эту минуту в горле Мартина Пойзера было что-то такое, что заставило его произнести эти несколько слов отрывисто. Но Адам так же хорошо понимал их значение, и оба честных человека пожали друг другу руку с чувством взаимного понимания.
Ничто теперь более не мешало Адаму отправиться в путь. Он просил Сета сходить на Лесную Дачу и объявить сквайру, что Адам был принужден немедленно отправиться в путь, а также говорить то же самое всякому, кто стал бы расспрашивать о нем. Если Пойзеры узнают, что он уехал опять, то они поймут – Адам был уверен в том, – что он отправился отыскивать Хетти.
Он намеревался было прямо отправиться в путь с господской фермы, но побуждение, уже испытанное им несколько раз перед тем – зайти к мистеру Ирвайну и сообщить ему обо всем, – пробудилось в нем с новою силою, которую вызывает последний благоприятный случай. Он готовился предпринять продолжительное путешествие, затруднительное путешествие, морем, и ни одна душа не будет знать, куда он отправился. А если с ним случится что-нибудь? Или если ему непременно потребуется помощь в каком-нибудь деле, касающемся Хетти? Мистеру Ирвайну можно было довериться; и чувство, препятствовавшее Адаму рассказать что-нибудь, что составляло ее тайну, должно было уступить перед нуждою в том, что Хетти должна была иметь еще кого-нибудь, кроме него, кто был бы приготовлен защищать ее в крайнем случае. Что ж касается Артура, то хотя последний, может быть, и не совершил никакой новой вины, Адам не чувствовал себя связанным хранить молчание ради него, когда интерес Хетти требовал того, чтоб он говорил.
«Я должен сделать это, – сказал Адам, когда эти мысли, развивавшиеся по целым часам во время его грустного путешествия, теперь охватили его в одно мгновение, подобно волне, собиравшейся медленно. – Это так и следует. Я не могу долее оставаться один в этом деле».
XXXIX. Известия
Адам повернул по направлению в Брокстон и пошел самым скорым шагом, посматривая на часы, из опасения, чтоб мистер Ирвайн не выехал из дома, может быть, на охоту. Опасение и торопливость привели его в сильное волнение, прежде чем он дошел до ворот дома приходского священника. Перед воротами он увидел глубокие свежие следы подков на крупном песке.
Но следы были обращены к воротам, а не шли от них, и хотя у дверей конюшни стояла лошадь, то не была, однако ж, лошадь мистера Ирвайна: она, очевидно, пробежала в это утро немалое расстояние и, должно быть, принадлежала лицу, приехавшему по делу. В таком случае мистер Ирвайн был дома, но Адам едва мог собраться с духом и спокойно передать Карролю, что хочет переговорить с мистером Ирвайном. Двойной гнет определенной грусти начинал потрясать сильного молодого человека. Буфетчик посмотрел на Адама с удивлением, когда последний бросился на скамейку в коридоре и бессмысленно устремил глаза на часы, висевшие на стене против него. Карроль отвечал, что у его господина был кто-то, но он услышал, что дверь кабинета отворилась, посетитель, казалось, выходил, и так как Адам торопился, то пошел тотчас же доложить о нем своему господину.
Адам продолжал смотреть на часы: минутная стрелка пробегала последние пять минут до десяти часов с громким, тяжелым, однообразным шумом, а Адам наблюдал за движением и прислушивался к звуку, будто имел какую-нибудь причину на то. В минуты нашего горького страдания почти всегда бывают эти паузы, когда наше сознание делается онемелым ко всему, и мы понимаем и чувствуем только маловажное. На нас как бы нападает слабоумие, чтоб позволить нам отдохнуть от воспоминаний и страха, которые не хотят оставить нас и во сне.
Карроль, возвратившись из комнаты, вызвал Адама к сознанию его горестного положения. Он должен был тотчас же идти в кабинет.
– Я не могу себе представить, зачем приехал этот странный господин, – добавил буфетчик, единственно лишь потому, что, идя впереди Адама к двери, не мог удержаться от замечания. – Он пошел в столовую. Да и у моего господина какой-то странный вид, будто он испуган чем-то.
Адам не обратил внимания на эти слова: в нем не возбуждали участия дела других. Но когда он вошел в кабинет и посмотрел на лицо мистера Ирвайна, то в одно мгновение почувствовал, что лицо имело новое выражение, странно отличавшееся от выражения теплой дружественности, с которым мистер Ирвайн всегда встречал Адама прежде. На столе лежало открытое письмо, которое мистер Ирвайн прикрывал рукою, но изменившийся взгляд, который он бросил на Адама, нельзя было приписать вполне тому, что мистер Ирвайн был озабочен каким-нибудь неприятным делом, потому что он с особенным выражением посматривал на дверь, будто приход Адама производил в нем сильное беспокойство.
– Вы хотели говорить со мною, Адам, – сказал он тихим, принужденно-спокойным тоном, каким обыкновенно говорит человек, когда решается подавить волнение. – Сядьте вот здесь.
Он указал на стул прямо против него, не более как на аршин расстояния от его собственного стула, и Адам сел, чувствуя, что такое холодное обращение мистера Ирвайна было новым, более неожиданным затруднением для его объяснений. Но когда Адам решался на какую-нибудь меру, то отказывался от нее разве только по самым крайним причинам.
– Я обращаюсь к вам, сэр, – сказал он, – как к джентльмену, которого уважаю больше всех. Мне нужно сообщить вам нечто весьма неприятное… что вам будет столь же неприятно слышать, как неприятно мне сообщить вам. Но если я вам стану говорить о зле, совершенном другими, то вы увидите, что я заговорил, имея на то основательные причины. – Мистер Ирвайн медленно кивнул головою, и Адам продолжал несколько дрожащим голосом: – Вы знаете, что вам приходилось женить меня и Хетти Соррель пятнадцатого нынешнего месяца. Я думал, что она меня любит, и считал себя счастливейшим человеком в приходе. Но меня постиг страшный ударь.
Мистер Ирвайн вскочил с своего стула, как бы невольно, но потом, решившись подавить свое волнение, подошел к окну и стал смотреть в него.
– Она скрылась, сэр, и мы не знаем куда. Она сказала, что отправляется в Снофильд в пятницу две недели назад. В прошлое воскресенье я поехал за ней, чтоб привезти ее домой, а она вовсе не была там; она поехала в дилижансе в Стонитон, но дальше этого я не мог отыскать ее следов. Теперь же я отправляюсь в далекий путь искать ее, и никому, кроме вас, не могу доверить, куда отправляюсь.
Мистер Ирвайн отошел от окна и сел на свое место.
– Не имеете ли вы какой-нибудь идеи о причине, по которой она скрылась? – спросил он.
– Довольно ясно, что она не хочет выйти за меня замуж, сэр, – сказал Адам. – Она была недовольна, что срок свадьбы так приблизился. Но я боюсь, что это еще не все. Я должен сказать вам, сэр, что здесь еще нечто другое. Это дело касается еще другого человека, кроме меня.
На лице мистера Ирвайна, выражавшем чрезвычайное беспокойство, показался луч чего-то, походившего почти на облегчение или на радость. Адам смотрел на пол и молчал несколько времени: не легко было ему произнести теперь то, что он должен был сказать. Но когда он стал продолжать, то поднял голову и посмотрел прямо на мистера Ирвайна. Он сделает то, на что решился, не отступая ни на шаг.
– Вы знаете человека, которого я считал своим величайшим другом, – сказал он, – и я, бывало, гордился мыслью, что проведу всю жизнь, работая для него, и питал к нему эти чувства с тех самых пор, как мы оба были еще мальчиками…
Мистер Ирвайн, как бы совершенно лишившись власти над собою, схватил руку Адама, лежавшую на столе, и сжал ее крепко, как человек, чувствующий сильную боль; губы его были бледны, и он тихим, торопливым голосом вымолвил:
– Нет, Адам, нет… не говорите этого, ради самого Бога!
Адам, удивленный необыкновенным порывом чувства мистера Ирвайна, раскаялся, что слова сорвались у него с языка, и сидел в печальном безмолвии.
Мистер Ирвайн, однако ж, мало-помалу перестал сжимать его руку, откинулся назад на своем стуле и сказал:
– Продолжайте, я должен знать это.
– Этот человек играл чувствами Хетти и вел себя с нею так, как не имел никакого права поступать с девушкой ее звания… делал ей подарки и обыкновенно ходил встречать ее, когда она выходила из дома. Я узнал об этом только два дня перед тем, что он уехал отсюда… я видел, как он целовал ее, когда они прощались друг с другом в роще. Тогда еще не было ничего сказано между мною и Хетти, хотя я и любил ее уже давно и она знала о том. Но я упрекал его в дурных поступках, и мы обменялись оскорбительными выражениями и ударами. После этого он торжественно уверил меня, что все это был вздор и только пустое волокитство. Но я заставил его написать Хетти письмо и сказать ей, что он не имел никакой серьезной цели. Я видел довольно ясно, сэр, по различным обстоятельствам, которых я не понимал в свое время, что он овладел ее сердцем, и я полагал, что она, вероятно, все будет думать о нем и никогда не полюбит другого человека, который захотел бы жениться на ней. Я отдал ей письмо; она, казалось, переносила все это гораздо лучше, чем я ожидал… стала обращаться со мною все ласковее и ласковее… я думаю, она в таком случае не знала своих собственных чувств, бедняжка!.. и все это возвратилось снова, когда уже было слишком поздно… Я не хочу порицать ее… я не хочу думать, что она хотела обмануть меня. Но я видел подтверждение своей мысли, что она любит меня и… остальное вы знаете, сэр. Но мне приходит на мысль, что он поступил со мной неискренно, сманил ее из дома и она бежала к нему… И я теперь отправляюсь искать ее, так как я не могу более работать, пока не буду знать, что с нею сталось.
В продолжение рассказа Адама мистер Ирвайн имел время приобрести самообладание, вопреки тягостным мыслям, толпившимся в его голове. Ему горько было вспомнить теперь то утро, когда Артур завтракал с ним и, казалось, готов был сделать какое-то признание. Теперь было довольно ясно, в чем он хотел признаться. И если б их беседа приняла другой оборот… Если б он сам был менее деликатен и настоятельно навязался бы в тайны другого человека… тягостно было думать, какое ничтожное обстоятельство могло бы предупредить весь этот грех и горе. Он видел теперь все это происшествие при страшном освещении, которое настоящее проливает на прошедшее. Но каждое из чувств, стремительно охватывавших его, уступало перед состраданием, глубоким, исполненным уважения состраданием к человеку, сидевшему перед ним, человеку, который был уже так убит, с грустною слепою покорностью готов был встретить еще недействительное горе, между тем как действительное было так недалеко от него и выходило гораздо дальше пределов обыкновенного испытания, которого он мог бы опасаться. Его собственное волнение подавлялось известным благоговением, которое охватывает нас в присутствии сильной душевной боли, потому что он уже имел перед собою боль, которую должен был причинить Адаму. Он взял руку Адама, лежавшую на столе, но теперь весьма осторожно и торжественно произнес:
– Адам, мой дорогой друг, вы уже имели тяжкие испытания в вашей жизни. Вы умеете переносить несчастье, как следует мужчине, а также и действовать таким образом. Господь требует теперь от вас и того и другого. Вас ожидает более тяжкое несчастье, чем какое-либо из тех, которые вы знали до этого времени. Но вы не виноваты… не вы будете иметь самую худшую из всех печалей. Да поможет Господь тому, кто будет иметь ее!
Два бледных лица смотрели друг на друга; на лице Адама выражалось трепетное недоумение, на лице же мистера Ирвайна – замешательство, страх и сострадание. Но он продолжал:
– Я получил известие о Хетти сегодня утром. Она не пошла к нему, она в Стонишейре… в Стонитоне.
Адам вскочил со стула, будто думал, что может в одну минуту очутиться у нее, но мистер Ирвайн снова схватил его за руку и убедительно сказал:
– Подождите, Адам, подождите.
Адам сел на свое место.
– Она в весьма несчастном положении… в таком положении, что вам, мой бедный друг, легче было бы лишиться ее навсегда, чем встретиться с нею таким образом.
Губы Адама задрожали, но звука не было; они снова задрожали и он прошептал:
– Говорите!
– Она арестована… она в тюрьме.
Будто оскорбительный удар возвратил Адаму дух сопротивления. Кровь бросилась ему в лицо, и он громко и резко сказал:
– За что?
– За великое преступление… Убийство своего ребенка.
– Не может быть! – почти заревел Адам, вскочил со стула и сделал шаг к двери, но он снова повернулся и, прислонившись спиною к книжному шкафу, устремил на мистера Ирвайна свирепый взгляд. – Это невозможно! У нее не было вовсе ребенка. Она не может быть виновна. Кто сказал это?
– Дай Бог, чтоб она была невинна, Адам. Мы еще можем надеяться, что она действительно невинна.
– Но кто же говорит, что она виновна? – неистово спросил Адам. – Расскажите мне все.
– Вот письмо судьи, которому она была представлена, а констебль, арестовавший ее, у меня в столовой. Она не хочет сознаться, как ее зовут и откуда она; но я опасаюсь, весьма опасаюсь, что это именно Хетти. Описание совершенно соответствует ей, только говорят, что она очень бледна и не здорова. В кармане у нее был небольшой красный кожаный бумажник, и в нем написаны два имени: одно, вначале, «Хетти Соррель, Геслоп», а другое, в конце: «Дина Моррис, Снофильд». Она не хочет сказать свое собственное имя, она запирается во всем и не отвечает ни на какие вопросы. Таким образом обратились ко мне как к судье, чтоб я принял меры для удостоверения ее, так как предполагают, что первое имя – ее собственное.
– Но какое имеют они доказательство против нее, если это действительно Хетти? – сказал Адам столь же неистово и с усилием, которое, казалось, потрясло все существо его. – Я не верю этому. Этого быть не могло, и никто из нас не знает этого.
– Ужасное доказательство, что она находилась в искушении совершить это преступление. Но мы имеем еще некоторую надежду, что она в действительности не совершила преступления. Постарайтесь прочесть это письмо, Адам.
Адам схватил дрожащими руками письмо и пытался твердо остановить на нем глаза. Мистер Ирвайн в это время вышел из комнаты, чтоб отдать некоторые приказания. Когда не возвратился, глаза Адама все еще смотрели на первую страницу: он был не в состоянии прочесть, он был не в состоянии связать слова и понять их значение. Наконец он бросил письмо и сжал кулак.
– Это его дело, – сказал он. – Если тут совершено преступление, то виноват он, а не она. Он выучил ее обманывать… он обманул меня первый. Пусть же и он идет к суду… пусть он станет рядом с ней, и я расскажу всем, как он овладел ее сердцем, сманил ее на дурное и потом обманул меня. Неужели он останется свободным, между тем как все наказание падет на нее одну… столь слабую и молодую?
Образ, вызванный последними словами, дал новое направление безумным чувствам бедного Адама. Он был безмолвен и смотрел в угол комнаты, будто видел там что-то.
Потом он снова воскликнул и в его голосе слышалась грустная мольба:
– Я не могу вынести этого… О, Боже мой! это бремя мне не по силам… мне слишком тяжело думать, что она преступница.
Мистер Ирвайн снова сел на свое место в безмолвии; он был слишком умен, чтоб говорить в настоящую минуту утешительные слова, притом же вид Адама, стоявшего перед ним с выражением внезапной старости, которое отражается иногда на молодом лице в минуты страшных потрясений – тяжкий вид кожи без капли крови под нею, глубокие борозды около судорожно подергивавшегося рта, морщины на лбу, – вид этого сильного, твердого человека, как бы разбитого невидимым ударом несчастья, трогал его до глубины души, и говорить было ему нелегко. Адам стоял неподвижно, бессмысленно продолжая смотреть в угол минуты с две: в это короткое мгновение он снова переживал все время своей любви.
– Она не могла совершить это, – сказал он, не отводя глаз, как бы разговаривая только с самим собою, – только страх заставляет ее скрываться… Я прощаю ей то, что она обманывала меня… я прощаю тебя, Хетти… ты также была обманута… Тяжела твоя доля, моя бедная Хетти… но меня никогда не заставят поверить этому. – Он опять замолчал на несколько минут и потом сурово и отрывисто проговорил: – Я пойду к нему… я приведу его назад… я заставлю его посмотреть на нее в ее несчастье: пусть он смотрит на нее до тех пор, пока будет не в состоянии забыть… это будет преследовать его днем и ночью… будет преследовать его всю его жизнь… теперь он не отделается ложью… я приведу его, притащу его сюда сам.
Адам направился к двери, потом машинально остановился и искал глазами шляпу, вовсе не сознавая, где находился или кто был вместе с ним здесь.
Мистер Ирвайн последовал за ним, взял его за руку и спокойным, но решительным тоном сказал:
– Нет, Адам, нет. Я уверен, что вы захотите остаться здесь и попытаться сделать что-нибудь доброе для нее, а не уйти отсюда и искать бесполезной мести. Наказание настигнет виновного непременно и без вашей помощи. Притом же он уже не в Ирландии, он должен быть на пути домой или, по крайней мере, уедет гораздо прежде, чем вы успеете прибыть туда. Я знаю, что его дед писал к нему о том, чтоб он возвратился, по крайней мере десять дней тому назад. Я хотел бы, чтоб вы отправились теперь со мною в Стонитон. Я приказал оседлать лошадь и для вас, чтоб вы могли ехать с нами, лишь только успокоитесь.
В то время как говорил мистер Ирвайн, Адам получил сознание действительности: он откинул волосы с лица и слушал.
– Вспомните, – продолжал мистер Ирвайн, – что, кроме вас самих, Адам, есть еще другие, о которых надобно подумать и для которых надобно действовать. Есть родные Хетти, добрые Пойзеры, для которых этот удар будет так тягостен, что я не могу без содрогания подумать о том. Я надеюсь на вашу нравственную силу, Адам, на ваше чувство долга перед Богом и людьми и твердо убежден, что вы постараетесь действовать до тех пор, пока ваша деятельность может приносить какую-нибудь пользу.
В действительности мистер Ирвайн предложил поехать в Стонитон только для пользы самого Адама. Лучшим средством противодействовать силе страдания в это первое время было движение с некоторой целью впереди.
– Хотите вы ехать со мною в Стонитон, Адам? – спросил он еще раз после минутного молчания. – Нам надобно узнать, действительно ли Хетти находится там.
– Да, сэр, – отвечал Адам. – Я сделаю то, что вы считаете нужным. Но люди на господской мызе…
– Я хочу, чтоб они не знали, пока я не возвращусь, и тогда я сам сообщу им об этом; тогда я буду уже вполне убежден в том, в чем я еще не совершенно убежден теперь, и возвращусь как только можно скорее. Пойдемте же теперь, лошади готовы.
XL. Разлив горя
Мистер Ирвайн возвратился из Стонитона в почтовой карете в эту же ночь. Когда он вошел в дом, то Карроль тотчас же сообщил ему, что сквайр Донниторн умер, его нашли мертвым в постели в десять часов утра; а мистрис Ирвайн приказала сказать, что она не будет спать, когда мистер Ирвайн приедет домой, и просит его не ложиться, не повидавшись с ней.
– А, Адольф, наконец-то! – сказала мистрис Ирвайн, когда ее сын вошел в комнату. – Итак, беспокойство и упадок духа старого джентльмена, заставившие его послать за Артуром столь внезапно, действительно имели значение. Карроль, я предполагаю, сообщил вам, что Донниторна нашли мертвым в постели сегодня утром. Другой раз вы поверите моим предвещаниям, хотя, вероятно, мне придется в моей жизни предсказать еще только мою смерть.
– Что ж сделали относительно Артура? – спросил мистер Ирвайн. – Послали ли кого-нибудь, чтоб дождаться его в Ливерпуле?
– Да, Ральф поехал туда еще прежде, чем мы получили известие о случившемся. Дорогой Артур, я еще при жизни увижу его господином на Лесной Даче, увижу, как при нем наступит хорошее время для его имения, так как он человек великодушный. Он теперь будет счастлив, как король.
Мистер Ирвайн не мог удержать слабый стон: он измучился от беспокойства и усталости, и легкие слова его матери были для него почти невыносимы.
– Отчего вы так грустны, Адольф? Нет ли у вас дурных известий? Или вы думаете об опасности, которой может подвергнуться Артур, переезжая через этот страшный Ирландский канал в такое время года?
– Нет, матушка, я не думаю об этом. Но я вовсе не расположен к веселью именно в настоящее время.
– Вас утомили дела, для которых вы ездили в Стонитон. Ради Бога, что же это такое, что вы не можете мне рассказать об этом?
– Вы узнаете об этом со временем, матушка. Но я поступил бы дурно, рассказав вам теперь. Прощайте. Вы скоро уснете теперь, так как вам нечего более слушать.
Мистер Ирвайн отказался от своего намерения послать письмо навстречу Артуру, так как оно теперь не ускорило бы его возвращения. Известие о смерти деда заставит его возвратиться, как только он может скорее. Теперь он мог лечь спать и предаться необходимому отдыху. Утром ему предстояла тяжкая обязанность сообщить свои горестные вести на господской мызе и в доме Адама.
Адам не возвратился сам из Стонитона: хотя он и не имел мужества видеть Хетти, все же не мог и оставаться вдали от нее.
– К чему мне ехать с вами, сэр? – сказал он священнику. – Я не могу идти на работу, пока она находится здесь, и мне будет невыносимо видеть вещи и людей, окружающих меня дома. Я поселюсь здесь в каком-нибудь уголке, откуда мне видны будут стены тюрьмы, и, может быть, со временем я буду в состоянии увидеть и ее.
Адам не был поколеблен в своем убеждении, что Хетти была невинна в преступлении, в котором ее обвиняли. Мистер Ирвайн, чувствуя, что убеждение в вине Хетти было бы для Адама новым разрушительным ударом при несчастье, уже тяготевшем над ним, не сообщил ему фактов, которые в нем самом не оставляли никакой надежды. Не было никакого основания сразу бросить на Адама всю тяжесть несчастья, и мистер Ирвайн, при прощании, сказал только:
– Если очевидные доказательства в ее виновности будут слишком сильны, Адам, то мы все еще можем надеяться на прощение. Ее юность и другие обстоятельства могут служить ей некоторым оправданием.
– Да, и это только справедливо, чтоб узнали, как ее сманили на дурной путь, – сказал Адам с горькою важностью. – Люди должны узнать непременно, что настоящий джентльмен волочился за нею и вскружил ей голову разным вздором. Вспомните, сэр, вы обещали рассказать моей матери и Сету и всем на господской мызе, кто вывел ее на дурную дорогу, а то они будут судить о ней строже, чем она заслуживает. Вы причините ей вред, щадя его, а я считаю его виновнее перед Богом, что бы она там ни сделала. Если вы пощадите его, то я открою о нем все!
– Я считаю ваше требование справедливым, Адам, – сказал мистер Ирвайн, – но, когда вы несколько успокоитесь, вы станете снисходительнее к Артуру. Я говорю теперь только то, что его наказание находится в других руках, а не в наших.
Тяжело было мистеру Ирвайну думать, что он должен объявить о печальном участии Артура в этом деле греха и горя. Он заботился об Артуре с отцовскою привязанностью, думал о нем с отцовскою гордостью. Но он ясно видел, что тайна должна открыться скоро, даже и без решения Адама, так как едва ли можно было предполагать, что Хетти до конца будет хранить упорное молчание. Он решился не скрывать ничего от Пойзеров, а сообщить им сразу все подробности несчастья, потому что теперь уж не было времени передать им известия мало-помалу. Суд над Хетти должен был происходить при ассизах во время поста, которые открывались в Стонитоне на будущей неделе. Трудно было надеяться, что Мартин Пойзер избегнет грустной неприятности быть призванным к суду в качестве свидетеля, и лучше было знать ему обо всем как можно раньше.
В четверг утром до десяти часов дом на господской мызе был погружен в печаль по поводу несчастья, казавшегося всем хуже самой смерти. Чувство семейного бесчестья было слишком резко, даже в добродушном Мартине Пойзере-младшем, и не допускало ни малейшего сострадания относительно Хетти. Он и его отец были простые фермеры, гордые своим неомраченным характером, гордые тем, что происходили из семейства, которое не склоняло головы и пользовалось заслуженным уважением все время, пока только имя его находилось в приходской книге, и Хетти всем им нанесла бесчестье, бесчестье, которое нельзя было смыть никогда. Это было всеподавляющее чувство в сердце отца и сына, жгучее чувство бесчестья, которое делало недействительными все другие ощущения; и мистер Ирвайн был поражен удивлением, заметив, что мистрис Пойзер была не так строга, как ее муж. Нас часто поражает суровость кротких людей при необыкновенных обстоятельствах; это происходит потому, что кроткие люди, скорее всего, подвергаются гнету понятий, перешедших к ним по преданиям.
– Я готов заплатить, сколько потребуют, чтоб спасти ее, – сказал Мартин-младший, когда мистер Ирвайн отправился, между тем как старик-дедушка плакал против сына в кресле, – но я не хочу иметь ее возле себя или снова видеть ее добровольно. Она сделала хлеб горьким для нас всех на всю нашу жизнь, и мы никогда не будем держать голову прямо ни в этом приходе, ни в каком-либо другом. Священник говорит, что люди жалеют нас, а жалость плохое для нас удовлетворение.
– Жалость? – сказал дед резко. – Я никогда не нуждался в жалости людей в моей прежней жизни… а теперь я должен сносить, что на меня станут смотреть свысока… когда мне стукнуло уж семьдесят два года вот в последний Фомин день, и все друзья, которых я выбрал себе в носильщики на своих похоронах, находятся в этом приходе и в ближайшем к нему… А теперь они не нужны мне… пусть положат меня в могилу чужие.
– Не горюйте так, батюшка! – сказала мистрис Пойзер, говорившая очень мало, потому что была почти испугана необыкновенною жесткостью и твердостью своего мужа. – Ваши дети будут с вами, а мальчики и малютка подрастут так же хорошо в новом приходе, как и в старом.
– Ах! теперь уж нам нечего и думать оставаться в этой стране, – сказал мистер Пойзер, и крупные слезы медленно катились по его круглым щекам. – Мы думали, что это будет нашим несчастьем, если сквайр пришлет к нам уведомление в это Благовещение, а теперь я сам должен послать уведомление и поглядеть, не найдется ли человек, который пришел бы да принял на себя засев, что я положил в землю, потому что я не хочу оставаться на земле этого человека ни одного лишнего дня, если только не буду принужден к тому. А я считал его таким добрым, прямым молодым человеком и думал, что буду так радоваться, когда он сделается нашим помещиком! Никогда более не сниму я шляпы перед ним, никогда не буду сидеть в одной церкви с ним… человек, который навлек позор на порядочных людей… а сам притворялся, будто был таким другом для всех… И бедный Адам также… славным другом был он для Адама, произносил речи и говорил так прекрасно, а сам в то же время отравлял всю жизнь молодого человека, так что и ему нельзя долее оставаться в этой стране, как и нам.
– А тебе придется еще идти в суд и признаться, что ты ей сродни, – сказал старик. – Да ведь кто-нибудь и упрекнет, не сегодня, так завтра, нашу крошку, которой теперь всего-то четыре года… Упрекнет ее в том, что у нее была двоюродная сестра, которую судили на ассизах за смертоубийство.
– В таком случае люди обнаружат этим только свою собственную жестокость, – возразила мистрис Пойзер, и в ее голосе слышалось рыдание. – Но Тот, Кто над нами, будет печься о невинном ребенке, иначе какая же правда в том, что говорят нам в церкви? Теперь мне еще грустнее, чем прежде, умирать и оставить малюток, и некому будет заменить им мать.
– Хорошо было бы послать за Диной, если б мы знали, где она, – сказал мистер Пойзер. – Но Адам сказал, что она не оставила адреса, где остановится в Лидсе.
– Она, вероятно, остановилась у той женщины, которая была так дружна с ее тетушкой Мери, – отвечала мистрис Пойзер, несколько утешенная предложением мужа. – И помню, Дина часто говорила о ней, но я забыла, как она называла ее. Да Сет Бид, вероятно, знает ее, потому что эта женщина проповедница, которую методисты очень уважают.
– Я пошлю к Сету, – сказал мистер Пойзер – Я пошлю Алика и велю сказать, чтоб он пришел к нам или сообщил имя этой женщины, а ты можешь в это время написать письмо, которое мы тотчас же отошлем в Треддльстон, лишь только узнаем адрес.
– Жалкое дело писать письма, когда вы хотите, чтоб люди пришли к вам в несчастье, – произнесла мистрис Пойзер. – Может случиться, что письмо Бог весть сколько времени будет в дороге и, наконец, все-таки не дойдет до нее.
Еще до прихода Алика с поручением мысли Лисбет также обратились к Дине, и она сказала Сету:
– Э-э-х! уж нам не знать более спокойствия на этом свете, разве если б ты постарался, чтоб Дина Моррис пришла к нам, как в то время, когда умер мой старичок. А хотелось бы мне, чтоб она вошла сюда, опять взяла меня за руки и поговорила со мной. Уж верно она поговорила бы со мною об этом, как следует… может быть, знала бы найти что-нибудь и доброе во всем этом горе и во всей этой кручине, что вот достались бедному парню, который во всю жизнь не сделал никому ни капельки зла, а был лучше всех других сыновей, хоть выбирать во всем околотке. Эх, голубчик ты мой Адам… бедное ты мое дитятко!
– А тебе не хотелось бы, чтоб я тебя оставил и пошел привезти Дину? – спросил Сет, видя, что мать его рыдала и качалась взад и вперед.
– Привезти ее? – повторила Лисбет, подняв голову и перестав на время горевать, как плачущий ребенок, который услышал, что его обещают утешить. – Ну, а в каком месте, говорят, находится она?
– Да не близко отсюда, матушка, в Лидсе, очень большом городе. Но я мог бы возвратиться домой чрез три дня, если б ты могла обойтись без меня.
– Нет, нет, я не могу обойтись без тебя! Ты поди лучше навести брата да принеси мне вести о том, что он делает. Мистер Ирвайн сказал, что придет и расскажет мне, но я не так-то могу понимать его, когда он говорит со мною. Ты сам должен сходить к ним, так как Адам не велит мне сходить туда. Да ты разве не можешь написать Дине письмо? Ведь ты куда какой охотник писать, когда тебя не просят!
– Я не знаю хорошенько, где она находится в том большом городе, – сказал Сет. – Если б я пошел сам, то мог бы найти ее, расспрашивая членов общества. Впрочем, если я напишу на конверте «Сара Вильямсон, методистка-проповедница, Лидс», то письмо, может быть, и дойдет до нее, потому что, весьма вероятно, она живет у Сары Вильямсон.
В это время пришел Алик и передал свое поручение. Сет, узнав, что мистрис Пойзер будет писать Дине, отказался теперь от своего намерения писать ей. Но он отправился на господскую мызу, чтоб сообщить Пойзерам все, что мог знать об адресе письма; он хотел также предупредить их, что письмо, может быть, дойдет до Дины не так скоро, так как ему не был известен ее верный адрес.
Простившись с Лисбет, мистер Ирвайн поехал к Джонатану Берджу, который также имел право знать то, что могло удержать Адама от занятий несколько времени. Таким образом до шести часов в этот вечер только немногим в Брокстоне и Геслопе не были известны грустные вести. Мистер Ирвайн не называл имени Артура Берджу, а между тем история его поведения с Хетти, со всею мрачной тенью, которую бросали на него страшные последствия, стала мало-помалу так же хорошо известна всем, как то, что его дед умер и что он вступал теперь во владение имением. Мартин Пойзер не видел никакой побудительной причины хранить молчание перед одним или двумя соседями, которые решились в первый день навестить его и дружеским пожатием руки выразить свое сочувствие к его горю; а Каррель, державший уши настороже при всем, что только происходило в священническом доме, сочинял различные заключения и толкования об этом происшествии и пользовался всяким удобным случаем для их передачи.
Одним из соседей, приходивших к Мартину Пойзеру пожать ему руку, помолчав несколько минут, быль Бартль Масси. Он закрыл свою школу и шел в дом священника, куда и прибыл вечером около половины восьмого, и, приказав засвидетельствовать мистеру Ирвайну свое глубокое почтение, просил извинения, что беспокоил его в такую позднюю пору, имея нечто особенное на душе. Его тотчас же впустили в кабинет, куда скоро вошел к нему мистер Ирвайн.
– А, Бартль! – произнес мистер Ирвайн, подавая ему руку. Обыкновенно он не так приветствовал школьного учителя, но несчастье заставляет нас обращаться со всеми, сочувствующими нам, как с равными. – Садитесь.
– Я думаю, вам, вероятно, так же хорошо известно, зачем я пришел, как и мне самому, сэр, – промолвил Бартль.
– Вы хотите знать, насколько справедливы грустные известия, которые дошли до вас о Хетти Соррель?
– Нет, сэр, мне хотелось бы узнать об Адаме Биде. Я понял так, что вы оставили его в Стонитоне, и прошу вас покорнейше сказать мне, в каком состоянии находится бедный молодой человек и что он намерен делать. Что ж касается той восковой куклы, которую обеспокоились посадить в тюрьму, то она, по моему мнению, не стоит и гнилого ореха… гнилого ореха… разве только… если взять во внимание зло или добро, которое, по милости ее, случится с порядочным человеком, с этим парнем, которого я так ценил, надеясь, что мои невеликие познания помогут ему проложить себе хорошую дорогу в свете… Право, сэр, он был мой единственный ученик во всей этой глупой стране, у которого было желание выучиться математике и способности к этой науке. Если б ему не нужно было работать так сильно, бедняге, то он, вероятно, занялся бы высшею отраслью науки, и тогда этого уж никак бы не случилось.
Скорая ходьба и душевное волнение разгорячили Бартля, и он не был в состоянии удержаться и не излить своих чувств при первом случае. Но теперь он замолчал и отер влажный лоб и, вероятно, влажные глаза.
– Извините меня, сэр, – сказал он, когда эта остановка дала ему время поразмыслить, – что я таким образом дал волю своим собственным чувствам, точь-в-точь как моя глупая собака, которая воет во время бури, когда никто не хочет ее слушать. Я пришел послушать, что вы скажете, а не для того, чтоб говорить самому. Позвольте же обеспокоить вас и спросить, что делает бедный наш малый.
– Не подавляйте ваших чувств, Бартль, – сказал мистер Ирвайн. – Дело в том, что я нахожусь теперь сам почти совершенно в таком же положении, как и вы. Много боли накопилось у меня на душе, и тяжело было бы мне умалчивать о моих собственных чувствах и только обращать внимание на чувства других. Я разделяю ваше участие к Адаму, хотя и не одним только его страданиям сочувствую в этом деле. Он намерен остаться в Стонитоне до окончания суда, который соберется, вероятно, завтра через неделю. Он нанял там комнатку, и я сам одобрил его намерение, так как думаю, что ему лучше быть теперь не у себя дома. И он, бедняжка, все еще верит, что Хетти невинна… он хочет собрать все свое мужество, чтоб видеть ее, если может, и решительно отказывается оставить место, где находится она.
– Да разве вы считаете это существо виновным? – спросил Бартль. – Неужели вы думаете, что ее повесят?
– Я опасаюсь, что ее ожидает тяжкий конец: доказательства против нее весьма ясны. И дурной признак уже то, что она запирается во всем… запирается, что у нее был ребенок, и это перед самыми положительными доказательствами. Я видел ее сам, и она упорно молчала передо мною. Она содрогнулась, как испуганное животное, когда увидела меня. Ничто в жизни не поражало меня в такой степени, как перемена, происшедшая с ней. Но я надеюсь, что в крайнем случае нам удастся испросить помилование ради невинных, запутанных в этом деле.
– Вздор и пустяки! – воскликнул Бартль, в своем негодовании забывая, с кем говорил. – Извините меня, пожалуйста, сэр. Я хотел сказать, это вздор и пустяки, что невинные заботятся о том, будет ли она повешена или нет. Что касается меня, то, по моему мнению, чем скорее подобных женщин отправят с этого света, тем лучше; да и мужчины, помогающие им делать зло, лучше также отправились бы вместе с ними по той же самой причине. Какое делаете вы добро, оставляя жить такую гадину? Она только ест пищу, которая могла бы питать разумные существа. Но если Адам настолько безрассуден, что заботится о ней, то я не желаю, чтоб он страдал сверх меры… Что, он очень убит, бедняжка? – присовокупил Бартль, вынимая очки и надевая их, будто они могли помочь его воображению.
– Да, я боюсь, что горе глубоко легло у него на сердце, – сказал мистер Ирвайн. – Судя по виду, он страшно расстроен, и вчера несколько раз случался с ним сильный припадок, так что я сожалел, что не мог остаться при нем. Но я снова отправлюсь в Стонитон завтра; я довольно твердо надеюсь на силу нравственных правил Адама, которые дадут ему возможность перенести худшее и удержат его от безрассудных поступков.
Мистер Ирвайн, последними словами скорее невольно выразивший свои собственные мысли, а не обращавшийся с ними к Бартлю Масси, все еще думал, что дух мщения против Артура, в форме которого горе Адама являлось беспрестанно, может быть, заставит его искать встречи, которая, вероятно, имела бы более роковой исход, чем стычка в роще. Эта мысль увеличивала беспокойство, с которым он ожидал прибытия Артура. Но Бартль думал, что мистер Ирвайн намекал на самоубийство, и на его лице отразился новый страх.
– Я скажу вам, сэр, мою мысль, – заговорил он, – и надеюсь, что вы одобрите ее. Я намерен закрыть школу. Если ученики и придут, то они должны будут возвратиться домой – вот и все. А я отправлюсь в Стонитон и буду ходить за Адамом, пока не кончится все это дело. Я скажу ему, что пришел посмотреть на ассизы: против этого он не может сказать ничего. Как вы думаете об этом, сэр?
– Да, – отвечал мистер Ирвайн несколько медленно, – это было бы действительно отчасти полезно… и ваша дружба к нему делает вам честь, Бартль. Но вы должны думать о том, что будете говорить ему – не так ли? Я боюсь, что у вас немного сочувствия к тому, что вы называете его слабостью к Хетти.
– Вы можете быть во мне вполне уверены, сэр. Я знаю, что вы хотите сказать. В свое время и я был также дураком, но это останется между вами и мною. Я не стану мучить его, я только буду надзирать за ним и заботиться о том, чтоб у него была хорошая пища, и только изредка скажу слова два.
– В таком случае, – сказал мистер Ирвайн, несколько успокоенный насчет благоразумия Бартля, я полагаю, вы сделаете доброе дело. И вы хорошо бы поступили, если б дали знать Адамовой матери и брату, что отправляетесь к нему.
– Да, сэр, да, – отвечал Бартль, встав с своего места и сняв очки, – я непременно так и сделаю, хотя его мать – ужасно плаксивая баба… Я не люблю подходить к ней на такое расстояние, чтоб можно было слышать ее вечные жалобы, а она женщина порядочная и опрятная, а не какая-нибудь неряха. Позвольте мне проститься с вами, сэр, и поблагодарить вас за время, которые вы уделили мне. Вы друг всех в этом деле. Тяжкое бремя несете вы на своих плечах.
– Прощайте, Бартль, до свидания в Стонитоне, я надеюсь.
Бартль поспешно вышел из священнического дома, уклонившись от Карроля, видимо приглашавшего его побеседовать, потом, обращаясь к Злюшке, которая поспешно била по песку своими коротенькими лапками рядом с ним, с раздражением произнес:
– Ну, ведь мне поневоле придется взять вас с собою, негодная. Ведь вы умрете с горя, если я вас оставлю, – не правда ли? Или попадетесь в лапы к какому-нибудь бродяге. Вы, пожалуй, теперь попадетесь в дурное общество, будете совать нос свой во все углы и дыры, до которых вам нет никакого дела. Но помните, если вы сделаете что-нибудь бесчестное, то я откажусь от вас – помните же это, сударыня!
XLI. Вечер накануне суда
Комната верхнего этажа в скучной стонитонской улице, с двумя постелями, из которых одна на полу. Четверг десять часов вечера. Мрачная стена против окна не допускает света месяца, который, может быть, вступил бы в борьбу с светом одной маканой свечи, у которой сидит Бартль Масси, показывая вид, будто читает, между тем как в действительности смотрит сверх очков на Адама Бида, сидящего близ темного окна.
Вы едва узнали бы, что то был Адам, если б вам не сказали этого. Его лицо похудело в последнюю неделю, глаза у него впали, борода в беспорядке, как у человека, только что вставшего с одра болезни. Тяжелые черные волосы висят у него на лбу, и в нем нет деятельного побуждения, чтоб откинуть их с лица и пробудить его к тому, что происходит вокруг него. Одна рука его покоится на спинке стула; он сидит, наклонив голову, и смотрит на свои сложенные руки. Его пробуждает стук в двери.
– Вот он! – произнес Бартль Масси, поспешно встав и отворив дверь.
То был мистер Ирвайн. Адам поднялся с места с инстинктивным почтением, когда мистер Ирвайн приблизился к нему и взял его за руку.
– Я пришел поздно, Адам, – сказал он, садясь на стул, который Бартль поставил для него. – Но я позже выехал из Брокстона, чем намеревался, и был все время занят с тех пор, как приехал. Я теперь, однако ж, сделал все… по крайней мере, все, что можно сделать сегодня вечером. Присядемте все.
Адам машинально взял снова стул, а Бартль, для которого не оставалось стула, сел на кровать в глубине комнаты.
– Видели вы ее, сэр? – спросил Адам дрожащим голосом.
– Да, Адам. Я и капеллан были оба у нее сегодня вечером.
– Спрашивали вы ее, сэр… говорили вы что-нибудь обо мне?
– Да, – сказал мистер Ирвайн с некоторой медленностью, – я говорил о вас. Я сказал, что вы хотите видеть ее до суда, если она согласна.
Мистер Ирвайн замолчал; Адам устремил на него пожирающие вопросительные взоры.
– Вы знаете, она отказывается видеть кого бы то ни было, Адам. Не только для вас одних… какое-то роковое влияние, кажется, закрыло ее сердце для всех ближних. Она почти только и говорила что «нет», как мне, так и капеллану. Три или четыре дня назад, когда я еще не упоминал ей о вас, а спросил ее, не хочет ли она видеть кого-нибудь из своих родных, кому она могла бы открыть свою душу, она сказала с сильным трепетом: «Скажите им, чтоб они не приближались ко мне… я не хочу никого из них видеть».
Адам снова опустил голову и сидел в безмолвии.
Молчание продолжалось несколько минут, потом мистер Ирвайн произнес:
– Я не хочу советовать, чтоб вы действовали против ваших чувств, Адам, если они настоятельно требуют, чтоб вы повидались с ней завтра утром, даже и без ее согласия. Действительно, может быть – хотя, по всей видимости, скорее можно заключать противное, – свидание подействует на нее благотворно. Но я, к сожалению, должен сказать, что едва имею на это надежду. Она, казалось, вовсе не была тронута, когда я назвал ваше имя. Она сказала только «нет» тем же холодным, упорным тоном, как всегда. А если свидание не произведет на нее хорошего действия, то оно будет только бесполезным страданием для вас, и, я боюсь, суровым страданием. Она чрезвычайно переменилась…
Адам вскочил с своего стула и схватил шляпу, лежавшую на столе, но потом остановился и посмотрел на мистера Ирвайна, будто хотел обратиться к нему с вопросом, который, однако ж, ему было нелегко произнести. Бартль Масси встал тихонько, повернул ключ в двери и положил его в карман.
– Что, он возвратился? – спросил наконец Адам.
– Нет еще, – отвечал спокойно мистер Ирвайн. – Положите шляпу, Адам, или вы хотите ли, может быть, выйти со мною и подышать свежим воздухом? Я думаю, вы опять не выходили сегодня.
– Вам не нужно обманывать меня, сэр, – сказал Адам, пристально смотря на мистера Ирвайна и говоря тоном гневного подозрения, – вам не нужно опасаться меня. Я желаю только правосудия. Я хочу, чтоб он чувствовал то, что чувствует она. Это его дело… Она была ребенком, и у каждого сердце радовалось при виде ее… Мне все равно, что бы ни сделала она… это он довел ее до этого. И он узнает это… он почувствует это… Если есть на небе справедливый Бог, то он почувствует, что значит ввергнуть ребенка, как она, в грех и горе…
– Я не обманываю вас, Адам, – сказал мистер Ирвайн. – Артур Донниторн не возвратился… Еще не возвратился, когда я уехал. Я оставил ему письмо: он узнает обо всем, лишь только приедет.
– Впрочем, вам это все равно, – сказал Адам с негодованием. – Вы считаете это вздором, что она лежит тут, убитая позором и горестью, и он ничего не знает о том… вовсе не страдает.
– Адам, он узнает, он будет страдать долго и горько. У него есть сердце и совесть: я не могу вполне обманываться в его характере. Я убежден… я уверен, что он пал под искушением не без борьбы. Он, может быть, слаб, но не притуплен, не холодный эгоист. Я вполне уверен, что это будет для него ударом, действия которого он будет чувствовать в продолжение всей своей жизни. Отчего вы таким образом жаждете мести? Какие бы терзания вы ни причинили ему, ей они не принесут никакой пользы.
– Нет… Боже мой, никакой! – простонал Адам, снова опускаясь на свой стул. – Да потому-то я так страшно и проклинаю все это… в том-то и заключается вся гнусность этого дела… оно никогда не может быть исправлено. Мои бедная Хетти! Никогда не будет она опять моею очаровательною Хетти, прелестнейшим творением Господа… никогда не будет она улыбаться мне… Я думал, что она любит меня… что она добра…
Голос Адама мало-помалу дошел до сиплого шепота, будто он только разговаривал сам с собою. Вдруг он отрывисто спросил, смотря на мистера Ирвайна:
– Но она не так виновна, как говорят? Ведь вы не думаете этого о ней, сэр? Она не могла сделать это.
– Мы, может быть, никогда не узнаем об этом с достоверностью, Адам, – кротко отвечал мистер Ирвайн. – В подобных случаях мы иногда основываем наш приговор на том, что нам кажется вполне достоверным, а между тем только потому, что нам неизвестен какой-нибудь ничтожный факт, наш приговор ложен. Но предположим самое худшее. Вы не имеете права говорить, что вина ее преступления падает и на него и что он должен подвергнуться наказанию. Нам, людям, не следует распределять степени нравственной вины и наказания. Мы находим невозможным избегнуть ошибок даже в простом определении, кто совершил преступление, и задача о том, насколько человек подвергнется ответственности за непредвиденные последствия своего собственного поступка, очень может заставить нас трепетать, когда мы принуждены заняться ею. Мысль о дурных последствиях, которые могут скрываться просто в эгоистической необузданности нашей воли, до того страшна, что непременно должна пробуждать чувства менее надменные, чем необдуманное желание наказания. Ваше сердце в состоянии понять это вполне, Адам, когда вы станете хладнокровнее. Не предполагайте, что я не могу войти в ваше отчаянное положение, которое влечет вас в это состояние ненависти, жаждущей мести. Но подумайте об этом: если вы захотите повиноваться вашей страсти – а это страсть, и вы сами обманываете себя, называя это правосудием, – с вами может случиться решительно то же самое, что было с Артуром, даже хуже: ваша страсть может вовлечь вас самих в ужасное преступление.
– Нет, оно не будет хуже, – сказал Адам с горечью, – я не думаю, что это хуже… я скорее сделал бы это… Я скорее совершил бы преступление, за которое мог бы пострадать сам, чем довел бы ее до того, чтоб она совершила преступление, а потом стоял бы и смотрел, как будут наказывать ее, между тем как меня оставят в покое… и все это за мгновенное удовольствие. Да если б у него было сердце мужчины, то он скорее отрубил бы себе руку, чем решился на это. Что ж, если он и не предвидел всего, что случилось! Ведь он предвидел довольно; он не имел права ожидать для нее чего-нибудь другого, кроме вреда и позора. И потом он хотел загладить это ложью. Нет, людей вешали за множество дел, которые были далеко не так гнусны, как этот поступок. Пусть человек делает что хочет; если он знает, что сам должен подвергнуться наказанию, то он не поступает и вполовину так дурно, как низкий себялюбивый трус, который облегчает для себя все, зная между тем, что наказание падет на другого.
– В этом вы снова отчасти обманываете себя, Адам. Не существует дурных дел такого рода, за которые человек может подвергнуться наказанию один; вы не можете отделить себя совершенно и говорить, что зло, находящееся в вас, не разольется. Жизнь людей так связана одна с другою, как воздух, которым мы дышим: зло необходимо распространяется так же, как и болезнь. Я понимаю весь ужасный объем страдания за этот грех, которое причинил Артур другим; но таким же образом каждый грех причиняет страдания и другим, кроме тех, которые совершили его. Порыв мщения с вашей стороны против Артура будет только новым злом, присовокупленным к тем, под которыми мы уже страдаем: вы не могли бы одни подвергнуться наказанию, вы передали бы самое страшное горе всем, кто любит вас. Ваш поступок был бы поступком слепого бешенства, который оставил бы все настоящее зло именно в том положении, в каком оно находится теперь, присовокупив к нему еще худшее зло. Вы, может быть, скажете мне, что не замышляете рокового поступка мщения, но именно чувство, находящееся в вас, порождает такие действия; и пока вы будете потворствовать ему, пока вы не будете видеть, что, обращая все свои мысли на наказание Артура, вы думаете о мщении, а не о правосудии, вы находитесь в опасности увлечься к совершению какого-нибудь великого зла. Вспомните, что вы говорили мне о ваших чувствах после того, как нанесли удар Артуру в роще.
Адам хранил молчание: последние слова вызвали живую картину прошедшего, – и мистер Ирвайн оставил его при его мыслях и заговорил с Бартлем Масси о похоронах старика Донниторна и о других незначительных предметах. Но наконец Адам повернулся и сказал более кротким тоном:
– Я еще не спросил вас о знакомых на господской ферме, сэр. Мистер Пойзер приедет сюда?
– Да, он уже приехал сегодня вечером в Стонитон. Но я не мог посоветовать ему, чтоб он повидался с вами, Адам: он сам находится в весьма расстроенном состоянии, и лучше если не увидится с вами, пока вы не станете спокойнее.
– А Дина Моррис у них, сэр? Сет говорил, что они хотели послать за ней.
– Нет. Мистер Пойзер говорил мне, что она еще не приехала, когда он оставил ферму. Они опасаются, что она, пожалуй, не получила письма. Кажется, они не знали верного адреса.
Адам несколько времени сидел в раздумье и потом произнес:
– Хотел бы я знать, приедет ли Дина повидаться с нею. Но, может быть, Пойзеры были бы недовольны этим, так как они сами не хотят навестить ее. Впрочем, она, я думаю, придет, потому что методисты очень охотно посещают тюрьмы, да и Сет говорил, что она пойдет. Дина обращалась с ней чрезвычайно нежно. Я хотел бы знать, в состоянии ли она будет сделать что-нибудь доброе. Вы никогда не видали ее, сэр?
– Да, я видел ее, я разговаривал с нею, и она очень понравилась мне. Теперь когда вы заговорили об этом, то и я желал бы, чтоб она приехала. Очень может быть, что такая кроткая, нежная женщина, как она, может уговорить Хетти открыть свою душу. Капеллан при тюрьме несколько жесток в своем обращении.
– Но все это ни к чему не поведет, если она не приедет, – сказал Адам грустно.
– Если б я подумал об этом ранее, то принял бы некоторые меры, чтоб отыскать ее, – сказал мистер Ирвайн, – но теперь, я думаю, уж слишком поздно… Теперь я должен идти, Адам. Постарайтесь отдохнуть немного ночью. Бог да благословит вас. Я увижусь с вами завтра рано утром.
XLII. Утро перед судом
На следующий день в час Адам был один в своей скучной комнатке в верхнем этаже. Его часы лежали на столе перед ним, будто он исчислял минуты, казавшиеся ему бесконечными. Он не имел никакого понятия, что, вероятно, будут говорить свидетели в суде, потому что с трепетом отдалялся от подробностей, связанных с арестом и обвинением Хетти. Смелый, деятельный человек, который быль готов ринуться во всякую опасность, но всякий труд, чтоб спасти Хетти от угрожавшей ей беды или несчастий, чувствовал, что не имел силы встретить неисправимое зло и страдание. Чувствительность, которая была возбуждающей силой, где оказывалась возможность действовать, становилась беспомощной мукой, когда он был принужден оставаться в бездействии, или иначе искала деятельного исхода в мысли о том, чтоб явить правосудие над Артуром. Энергические натуры, сильные на все мужественные поступки, нередко стремительно отступают от безнадежного страдальца, будто одарены жестоким сердцем. Их гонит всеподавляющее чувство боли, они удаляются по необузданному инстинкту, как удалились бы от чего-нибудь раздирающего. Адам заставил себя думать о свидании с Хетти, если она согласится видеть его, думая, что свидание, может быть, принесет ей облегчение, может быть, поможет ей рассеять это страшное упорство, о котором ему говорили. Если она увидит, что он не желает ей зла за все горе, которое она причинила ему, то, может быть, откроет ему свою душу. Но это решение стоило страшных усилий; он содрогался при мысли, что увидит ее изменившееся лицо, как робкая женщина содрогается при мысли о ноже хирурга, и он скорее решился теперь переносить длинные часы ожидания, чем подвергнуться тому, что казалось ему более невыносимою агонией: быть свидетелем при ее суде.
Глубокое, невыразимое страдание очень можно назвать крещением, возрождением, посвящением в новое состояние. Трогательные воспоминания, горькое сожаление, мучительная симпатия, исполненные борьбы воззвания к невидимой справедливости – все сильные волнения, наполнявшие собой дни и ночи прошлой недели и снова сжимавшиеся, как рьяная толпа, в часы этого единственного утра, заставляли Адама смотреть на все прежние годы как бы на слепое, сонное существование, и он только теперь пробудился к полному сознанию. Ему казалось, будто прежде он всегда думал, что людям вовсе не трудно страдать, будто все, что он сам вынес и называл горем прежде, было только минутным ударом, который никогда не оставлял никакой раны. Без всякого сомнения, великие мучения могут совершить дело многих лет разом, и мы можем выйти из этого крещения огнем с душой, исполненной нового благословения и нового сострадания.
– О, Боже! – простонал Адам, облокачиваясь на стол и тупо смотря прямо на часы, – и люди страдали таким же образом прежде… и бедные беспомощные молодые существа страдали, как она… А еще так недавно она казалась такою счастливой, такою красавицей… целовала их всех, своего дедушку и всех их, а они желали ей счастья… О, моя бедная, бедная Хетти, вспоминаешь ли ты об этом теперь?
Адам вздрогнул и оглянулся к двери. Злюшка стала визжать, и на лестнице послышался стук палки и шум хромой походки. Бартль Масси возвращался домой. Неужели все уже могло кончиться?
Бартль вошел тихо и, подойдя к Адаму, схватил его за руку и сказал:
– Я пришел, только чтоб посмотреть на вас, мой друг, потому что все вышли из суда на короткое время.
Сердце Адама билось так сильно, что он не был в состоянии говорить; он мог только ответить пожатию руки своего друга. Бартль, придвинув другой стул, сел против него, снял шляпу и очки.
– Никогда не случалось со мною ничего подобного, – заметил он, – никогда не выходил я из дома, не сняв очков. Я совершенно забыл снять их.
Старик произнес это пустое замечание, считая за лучшее не отвечать вовсе на волнение Адама: последний, таким образом, не прямо догадается, что в настоящее время нельзя было сообщить ничего положительного.
– А теперь, – сказал он, снова вставая, – я должен посмотреть, чтоб вы съели кусочек хлеба и выпили вина, присланного сегодня утром мистером Ирвайном. Он рассердится на меня, если вы не попробуете. Ну-ка, – продолжал он, принося бутылку и хлеб и наливая в чашку вина, – мне и самому хочется перекусить немножко. Выпейте глоток со мною, друг мой, выпейте!
Адам тихонько оттолкнул от себя чашку и умоляющим тоном произнес:
– Расскажите мне, мистер Масси, расскажите мне все. Была она там? Началось?
– Да, мой друг, да… это происходило все время с тех пор, как я ушел в первый раз. Но оно идет очень медленно. Адвокат, которого взяли для ее защиты, беспрестанно ставит палку в колесо, чтоб остановить его, когда только может, и много задает работы расспросами свидетелей и спорами с другими юристами. Вот все, что он может сделать за деньги, которые заплатили ему, а ведь сумма-то немаленькая. Но он ловкий человек, у него такие глаза, что он мог бы в одну минуту подобрать все иголки в соломе. Если у человека нет чувств, то быть слушателем в суде так же хорошо, как слушать ученые прения, но нежное сердце делает нас тупыми. Я готов был бы навсегда расстаться с арифметикой только для того, чтоб принесть вам добрые вести, мой бедный друг.
– Но разве, по-видимому, дело принимает оборот против нее? – спросил Адам. – Скажите мне, что они говорили. Я должен знать это теперь, я должен знать, какие доказательства приводят против нее.
– До сих пор главным было свидетельство врачей и Мартина Пойзера… бедный Мартин… все в суде чувствовали к нему сострадание – это было как бы одно рыдание, когда он снова сошел с площадки. Хуже всего была та минута, когда сказали ему, чтоб он посмотрел на обвиненную, стоявшую у перил. Тяжело ему было, бедному, очень тяжело. Адам, мой друг, удар пал на него с такой же силой, как и на вас; вы должны помочь бедному Мартину, вы должны показать мужество. Выпейте теперь вина и докажите, что вы переносите ваше горе, как следует мужчине.
Бартль не мог сделать лучшего вызова. Адам с покойным и послушным видом взял чашку и немного отпил.
– Расскажите мне про ее вид, – сказал он вдруг.
– Она казалась испуганной, очень испуганной, когда ввели ее в первый раз. Бедняжка! она впервые видела толпу и судью. И там была куча глупых женщин в нарядных платьях; руки их до самого верху были покрыты безделками, и на голове перья; они сидели неподалеку от судьи. Можно было подумать, они вырядились таким образом для того, чтоб быть пугалами и предупреждением для всякого, кто вздумал бы когда-нибудь снова связаться с женщиной; они беспрестанно приставляли к глазам стекла, смотрели и перешептывались. Но после этого она стояла, как белая картина, смотря вниз на свои руки, и, казалось, ничего не видела и не слышала. Она была бледна как полотно. Она не говорила ничего, когда ее спрашивали, виновна ли она или невиновна, и тогда за нее ответили: «Невиновна». Но когда она услышала имя своего дяди, то по всему ее телу, казалось, пробежала дрожь; когда сказали ему, чтоб он посмотрел на нее, она опустила голову, скорчилась и закрыла лицо руками. Ему стоило большого труда говорить, бедному человеку; его голос сильно дрожал. И адвокаты, которые по большей части бывают тверды, как сталь, я заметил, щадили его, как только могли. Сам мистер Ирвайн подошел к нему и вышел из суда с ним вместе. Да, великое дело в жизни человека иметь возможность поддерживать ближнего и подкреплять его в подобном несчастье.
– Бог да благословит его и вас также, мистер Масси! – сказал Адам тихим голосом, положив руку на плечо Бартли.
– Конечно, конечно, наш священник создан из хорошего металла, он издает настоящий звон, когда вы дотрагиваетесь до него. И умный человек – говорит только то, что нужно. Он не принадлежит к числу тех, которые думают, что могут утешить вас пустой болтовней, будто люди, стоящие подле несчастья и смотрящие на него, знают горе гораздо лучше тех, которым приходится переносить его. Я в свое время встречался с такими людьми на юге, когда сам был в горе. Кстати, мистер Ирвайн сам должен быть свидетелем с ее стороны и будет говорить о ее характере и воспитании.
– Но другие доказательства… что они очень свидетельствуют против нее? – спросил Адам. – Как вы думаете, мистер Масси? Скажите мне всю истину.
– Да, мой друг, да, лучше всего говорить истину. Ведь, как бы то ни было, истина все-таки откроется под конец. Доказательства докторов очень тягостны для нее, да, очень тягостны. Но с самого начала до конца она запиралась в том, что имела ребенка… эти бедные, глупые женщины… они никак не могут взять в толк, что не к чему запираться в том, что доказано. Я боюсь, это упорство вооружит против нее присяжных: они, пожалуй, не станут так сильно говорить в пользу помилования, если состоится приговор против нее. Но мистер Ирвайн и судья не оставят нетронутым ни одного камня – вы можете вполне положиться на это, Адам.
– А есть ли в суде хоть кто-нибудь принимающий, по-видимому, участие в ней и заботящийся о ней? – спросил Адам.
– Рядом с ней сидит капеллан тюрьмы, но он человек резкий, с лицом проныры, во всем противоположный мистеру Ирвайну. Тюремные капелланы, говорят, по большей части все самый дрянной разряд духовенства.
– Есть некто, кому следовало бы быть там, – сказал Адам с горечью.
Вдруг он выпрямился и пристально стал смотреть в окно, очевидно занятый какой-то новою идеей.
– Мистер Масси, – произнес он наконец, откидывая волосы с лица, – я пойду туда с вами. Я хочу идти в суд. Я был бы трусом, если б не присутствовал там. Я встану рядом с ней… я не оставлю ее, несмотря на то что она все время обманывала меня. Они не должны были бы отступаться от нее… от своей собственной плоти и крови. Мы поручаем людей милосердию Божию, а сами не обнаруживаем никакого милосердия. Я бывал жесток иногда; никогда более не буду я жесток. Я пойду, мистер Масси, я пойду с вами.
Если б Бартль и хотел возразить Адаму, то решительность последнего заставила бы старика отказаться от своего намерения. Он сказал только:
– В таком случае, закусите немножко, Адам, хоть из любви ко мне. Постойте же, дайте и мне съесть кусочек вместе с вами. А теперь закусите и вы.
Подкрепленный сильною решительностью, Адам съел кусок хлеба и выпил вина. Он был угрюм и небрит, как вчера, но опять держался прямо и более походил на Адама Бида прежнего времени.
XLIII. Приговор
Место, назначенное в то время для суда, была большая старая зала, ныне сгоревшая. Полуденный свет, падавший на сжатую массу человеческих голов, проникал сквозь ряд заостренных кверху окон, казавшихся пестрыми от мягких цветов старых цветных стекол. Угрюмого вида запыленные латы висели на высоком рельефе прямо перед мрачною дубовой галереей, находившеюся на отдаленном конце, а под широким сводом противоположного большого окна, разделенного надвое, колыхалась занавесь из старинных обоев, покрытая полинялыми меланхолическими фигурами, как бы неопределенными видениями минувшего времени. В продолжение всего года это место посещали, вероятно, тени прежних королей и королев, несчастных, лишившихся короны, заточенных; но в тот день все эти тени отлетели, и ни одна душа в огромной зале не видела ничего иного, кроме присутствия живого горя, наполнявшего собою теплые сердца.
Но это горе, казалось, чувствовалось слабо до этой минуты, когда вдруг показалась высокая фигура Адама Бида, когда его подвели к скамье обвиняемой. При ярком солнечном свете в большой зале, среди гладких обритых лиц других людей, признаки страданий, выражавшиеся на лице его, поразили даже мистера Ирвайна, который в последнее время видел Адама при тусклом свете в небольшой комнате. Жители Геслопа, присутствовавшие при суде и в своих преклонных летах рассказывавшие у своих домашних очагов историю Хетти Соррель, никогда не забывали упоминать о том, какое волнение произвело в них появление в суде Адама Бида, который был головою выше всех, окружавших его, когда он занял место подле нее.
Но Хетти не видела его. Она стояла в том же самом положении, в каком описывал и Бартль Масси, скрестив руки и пристально смотря на них. Адам не осмеливался взглянуть на нее в первые минуты, но наконец, когда внимание присутствия было отвлечено судопроизводством, он повернулся к ней лицом, твердо решившись не содрогаться.
Почему же говорили, что она так переменилась? В трупе любимого нами человека мы видим сходство, сходство, что заставляет чувствовать себя еще сильнее, потому что тут было нечто другое, чего уже нет. Вот они: очаровательное лицо и шея, темные локоны волос, длинные темные ресницы, округленные щеки и надутые губки; она была бледна и исхудала – это правда, но походила на Хетти, и только на Хетти. Другие думали, что она казалась женщиной, которую демон поразил своим жгучим взглядом, в которой он иссушил женственную душу, оставив только жесткое, отчаянное упорство. Но страстное чувство матери, этот совершеннейший тип жизни в другой жизни, составляющий сущность истинной человеческой любви, сознает бытие любимого ребенка даже в испорченном, павшем человеке, и для Адама эта бледная преступница с жестким лицом была Хетти, которая улыбалась ему в саду под ветвями яблонь, была трупом этой Хетти, на который он не решался взглянуть без трепета в первое время и от которого потом не мог отвести глаз.
Но вскоре его слух поразило нечто такое, что заставило его быть внимательным и отняло у его зрения поглощающую силу. В ложе свидетелей находилась женщина средних лет, говорившая твердым, ясным голосом. Она сказала:
– Мое имя Сара Стон. Я вдова и содержу небольшую лавочку с дозволением продавать курительный и нюхательный табак и чай в Черч-Лене в Стонитоне. Обвиненная, стоящая у перил, та самая молодая женщина, которая приходила ко мне, больная и усталая, с корзинкой на руке, и спрашивала комнатку в моем доме в субботу вечером двадцать седьмого февраля. Она приняла мою лавочку за гостиницу, потому что у двери находится вывеска, на которой изображена фигура. Когда я сказала, что не принимаю жильцов, обвиненная стала плакать и говорила, что чрезвычайно устала и не в состоянии идти в другое место, и просилась переночевать только одну ночь. Ее миловидность, ее положение, порядочный вид ее и ее платья… и беспокойство, в котором она, казалось, находилась, произвели на меня такое действие, что у меня не хватило духу отказать ей наотрез… Я попросила ее присесть, напоила чаем и спросила, куда она отправляется и где живут ее родные. Она отвечала, что идет домой к родным, что они фермеры и живут довольно далеко и что она совершила значительное путешествие, которое обошлось ей гораздо дороже, чем она предполагала, так что у нее почти не оставалось более денег в кармане, и она боялась зайти туда, где бы ей пришлось платить дорого. Она была принуждена продать большую часть своих вещей из корзинки, но с благодарностью готова была бы дать мне шиллинг за ночлег. Я не видела никакой причины, по которой не должна была дать молодой женщине переночевать у меня. У меня одна комната, но в ней две постели. Я сказала ей, что она может остаться у меня. Я думала, что ее сманили на дурную дорогу и что она попала в беду; но так как она отправлялась к родным, то я полагала, что сделаю доброе дело, если избавлю ее от новых неприятностей…
Свидетельница показала затем, что ночью родился ребенок, и подтвердила, что детское белье, показанное ей, было то, в которое она сама одела ребенка.
– Да, это именно то самое белье. Я делала его сама, и оно хранилось у меня с тех самых пор, как родился мой последний ребенок. Я довольно беспокоилась как о ребенке, так и о матери. Я как-то невольно принимала участие в ребенке и заботилась о нем. Я не послала за доктором, потому что в нем, казалось, не было нужды. Утром я сообщила матери, что она должна сказать мне имя ее родных и где они жили, чтоб я могла написать им. Она сказала, что скоро напишет им сама, только не сегодня. Несмотря на мое сопротивление, она непременно хотела встать и одеться, вопреки всему, что я ни говорила. Она отвечала, что чувствует себя довольно сильной, и удивительно, право, сколько присутствия духа она обнаруживала. Но я несколько беспокоилась о том, что мне делать с ней, и к вечеру решилась отправиться по окончании митинга к пастору и переговорить с ним об этом. Я вышла из дома около половины девятого. Я вышла не через лавочку, а через заднюю дверь, выходящую в узкий переулок. Я занимаю только нижний этаж дома, и кухня и спальня выходят в переулок. Я оставила обвиненную сидевшую у огня в кухне, с ребенком на коленях. Она не плакала и вовсе не казалась убитою, как в предшествовавшую ночь. Я видела только, что ее глаза имели какое-то странное выражение и что лицо ее несколько разгорелось к вечеру. Я боялась, чтоб у нее не сделалась лихорадка, и намеревалась, когда выйду со двора, сходить к одной знакомой женщине, опытной, и попросить ее, чтоб она пошла со мною. Вечер был очень теплый. Я не заперла двери за собой, потому что не было замка; дверь запирается только изнутри задвижкою, и когда в квартире не остается никого, то я всегда выхожу через лавочку, и я считала вовсе не опасным оставить квартиру незапертою на короткое время. Я, однако ж, замешкалась долее, чем предполагала: мне пришлось ждать женщину, чтоб она возвратилась со мною. Мы пришли в мою квартиру часа через полтора, и когда вошли, то свеча горела на том же самом месте, на каком я оставила ее, но обвиненной и ребенка не было. Она взяла с собою свой салоп и свою шляпку, но оставила корзинку с вещами… Я страшно испугалась и рассердилась на нее за то, что она ушла. Я не объявила о случившемся, не думая, что она сделает себе какой-нибудь вред, и зная, что у нее были в кармане деньги, на которые она могла получить пищу и квартиру. Мне не хотелось послать за нею констебля, так как она имела право уйти от меня, если хотела.
Это свидетельство произвело на Адама электрическое действие; оно придало ему новую силу. Хетти не могла быть виновна в преступлении… Ее сердце непременно привязалось к ребенку, иначе зачем было ей взять ребенка с собою? Она могла оставить его, могла уйти от него. Крошечное существо умерло естественной смертью, а потом она спрятала его, ведь дети так подвержены ранней смерти, – оттого могли произойти сильнейшие подозрения без всякого доказательства вины. Его мысли были так заняты воображаемыми доводами против подобных подозрений, что он не мог внимательно прислушиваться к сбивавшим допросам адвоката Хетти, старавшегося, впрочем совершенно безуспешно, открыть очевидные признаки того, что обвиненная обнаруживала чувства материнской привязанности к ребенку. Все время, пока допрашивали свидетельницу, Хетти стояла так же неподвижно, как прежде: никакое слово, казалось, не обращало на себя ее внимания. Но звук голоса следующего свидетеля затронул струну, все еще чувствительную; она вздрогнула и устремила на него безумный взгляд, но вслед затем отвернула голову и стала смотреть на руки, как прежде. Свидетель был простой крестьянин. Он сказал:
– Мое имя Джон Ольдинг. Я землепашец и живу в Теддз-Голе. Две мили за Стонитоном. На прошлой неделе в понедельник, около часа пополудни, я шел в геттонский лесок и, не доходя за четверть мили до леска, увидел обвиненную в красном салопе, сидевшую у стога сена неподалеку от забора. Она встала, когда увидела меня, и показала вид, будто идет другой дорогой. Дорога была обыкновенная, полем, и вовсе не было странно видеть там молодую женщину, но я обратил на нее внимание, потому что она была бледна и казалась испуганной. Я подумал бы, что это нищая, только для нищей у нее были слишком хороши платья. Она показалась мне несколько сумасшедшею, но мне не было никакого дела до этого. Я остановился и посмотрел ей вслед, но она шла все прямо, пока была у меня в виду. Мне нужно было идти к другой стороне леска, чтоб нарубить кольев; туда вела также прямая дорога, местами встречались отверстия, где были срублены деревья. и некоторые из них не были свезены. Я не пошел прямо по дороге, а повернул к средине и взял кратчайшую дорогу к тому месту, куда мне нужно было сходить. Едва я прошел несколько шагов по дороге на одном из открытых мест, как услышал странный крик. Крик этот не походил на крик какого-нибудь из известных мне животных, но в то время мне не хотелось остановиться, чтоб посмотреть, что это такое. Но крик продолжался и казался мне таким странным в этом месте, что я невольно остановился и посмотрел вокруг себя. Мне пришла в голову мысль, что я, пожалуй, получу деньги, если это был какой-нибудь необыкновенный зверек. Но мне трудно было узнать, откуда раздавался крик, я стоял долгое время, смотря на ветви. Потом мне казалось, что крик раздавался с земли, где лежали щепки, куски дерна да несколько пней. Я порылся в этой кучке, но не мог ничего найти; наконец крик прекратился. Тут я решился отказаться от своего намерения и пошел по своему делу. Но когда час спустя я возвращался той же самой дорогой, то невольно положил свои колья на землю и хотел еще раз порыться. В то самое время, как я нагнулся и клал колья, я увидел, что неподалеку от меня на земле, под орешником, лежало что-то странное, круглое и беленькое. Я опустился на руки и на колени, намереваясь поднять это. Тут я увидел, что это была ручка крошечного ребенка…
При этих словах по всей зале пробежал трепет. Хетти дрожала всем телом; теперь впервые она, казалось, вслушивалась в то, что говорит свидетель.
– В том самом месте, где земля была пуста, лежала кучка щепок, как под кустарником, и ручка торчала из-под них. Но в одном месте было оставлено отверстие, и я мог смотреть туда и увидел голову ребенка. Я тотчас же разрыл кучку, разбросал дерн и щепки и вынул ребенка. На нем было хорошее и теплое белье, но тело было уже холодно, и я думал, что он умер. Я бросился бежать с ним по лесу и принес его домой к жене. Она сказала, что ребенок умер и что лучше было бы мне снести его в приходский приют и объявить о случившемся констеблю. Я сказал: «Готов лишиться жизни, если этот ребенок не той молодой женщины, которую я встретил, когда шел в лесок». Но она, казалось, совсем исчезла. Я снес ребенка в геттонский приходский приют и объявил констеблю; с ним мы отправились к судье Гарди. Потом мы пошли отыскивать молодую женщину и искали до вечерних сумерек, потом дали знать в Стонитон, чтоб ее остановили там. На другой день пришел ко мне другой констебль и требовал, чтоб я показал ему место, где нашел ребенка. Когда же мы пришли туда, то там сидела обвиненная, прислонясь к кустарнику, где я нашел ребенка. Она вскрикнула, когда увидела нас, но не обнаружила ни малейшего желания бежать. У нее на коленях лежал огромный кусок хлеба.
У Адама вырвался слабый стон отчаяния в то время, как говорил свидетель. Он опустил голову на руку, опиравшуюся на перила перед ним. То был высший момент его страдания: Хетти была виновна, и он безмолвно молил Бога о помощи. Он не слышал более никаких свидетельств, не сознавал, когда кончилось самое делопроизводство, не видел, что мистер Ирвайн находился в ложе свидетелей и говорил о незапятнанном характере Хетти в ее родном приходе и о добродетельных обычаях, в которых она выросла. Это свидетельство не могло иметь никакого влияния на приговор, но оно отчасти допускало испрошение помилования, что сделал бы и адвокат обвиненной, если б ему позволено было говорить за нее. Преступники еще не пользовались такою милостью в те суровые времена.
Наконец Адам поднял голову, потому что вокруг него произошло общее движение. Судья обратился к присяжным, и они удалились. Решительная минута была уже недалека. Адам чувствовал трепет и ужас, не позволившие ему смотреть на Хетти, но последняя давно уже впала в свое холодное, упорное беспристрастие. Все взоры были устремлены на нее с напряженным вниманием, но она стояла как статуя мертвого отчаяния.
В этот промежуток времени раздавался по всей зале шорох, шепот и тихое жужжание. Все пользовались временем, когда нечего было слушать, для того чтоб выразить вполголоса чувство или мнение. Адам сидел, тупо смотря перед собою, но не видел предметов, находившихся у него прямо перед глазами: адвоката и стряпчих, разговаривавших между собою с холодным деловым видом, и мистера Ирвайна, занятого важным разговором с судьей; он не видел, как мистер Ирвайн снова сел на свое место, в волнении, и грустно качал головою, когда кто-нибудь обращался к нему вполголоса. Внутренняя деятельность Адама была так сильна, что не могла принимать участия во внешних предметах, пока его не пробудило сильное ощущение.
Прошло немного времени, едва ли более четверти часа, как удар, возвещавший, что присяжные положили свое решение, послужил признаком молчания для всех. Величественно это внезапное безмолвие многочисленной толпы, возвещающее, что одна душа движется во всех. Безмолвие, казалось, становилось все глубже и глубже, подобно слушающемуся ночному мраку, в то время как вызывали присяжных по именам, как обвиненную заставили поднять руку и спросили присяжных о их приговоре.
«Виновна».
Все ожидали этого приговора, но за ним последовал не один вздох обманутого ожидания, что приговор не был сопровождаем испрошением помилования. Несмотря на то, зала не имела сочувствия к обвиненной: бесчеловечность ее преступления выдавалась гораздо резче при ее жесткой неподвижности и упорном молчании. Самый приговор для отдаленных взоров, казалось, не трогал ее; но те, которые находились ближе, видели, что она дрожала.
Тишина, однако ж, сделалась менее сильною, пока судья не надел черной шапочки, а за ним показался капеллан в облачении. Тогда снова воцарилось прежнее безмолвие, прежде чем экзекутор успел сказать, чтоб все замолчали. Если и слышался какой-нибудь звук, то, должно быть, звук бьющихся сердец. Судья провозгласил:
– Гестер Соррель…
Кровь бросилась в лицо Хетти, и затем снова отхлынула, когда она взглянула на судью и, как бы под очарованием страха, остановила на нем свои широко раскрытые глаза. Адам еще не оборачивался к ней: их разделял друг от друга глубокий ужас, подобно неизмеримой пропасти; но при словах: «И потом быть повешенной за шею, пока наступит смерть», – раздиравший душу крик огласил все здание. То был крик Хетти. Адам содрогнулся всем телом и протянул к ней руки, но его руки не могли достичь ее: она упала без чувств, и ее вынесли из залы.
XLIV. Возвращение Артура
Когда Артур Донниторн вышел на берег в Ливерпуле и прочел письмо своей тетки Лидии, коротко извещавшей его о смерти деда, его первое ощущение выразилось так:
– Бедный дедушка! Я желал бы быть подле него в то время, как он умер. Он, может быть, чувствовал что-нибудь или желал под конец чего-нибудь, чего я теперь никогда не узнаю. Смерть застала его одиноким.
Невозможно сказать, чтоб его печаль была глубже этого. Сожаление и смягченные воспоминания заменили прежнее неудовольствие, и Артур, озабоченный мыслями о будущем, в то время как коляска быстро везла его домой, где он теперь будет помещиком, беспрестанно делал усилие, чтоб припомнить что-нибудь такое, чем он мог бы доказать уважение к желаниям своего деда, не противодействуя своим собственным любимым притязаниям для блага арендаторов и имения. Но это было бы не в человеческой природе, это было бы только человеческим притворством, чтоб такой молодой человек, как Артур, с здоровым сложением, бодрый духом, имевший хорошее мнение о себе и питавший пламенное намерение представлять людям еще более оснований к этому хорошему мнению, невозможно, чтоб такой молодой человек, только что вступавший во владение великолепным имением, благодаря смерти весьма старого человека, к которому он не был привязан, чувствовал что-нибудь другое, а не торжествующую радость. Теперь начиналась его действительная жизнь, теперь у него было место и случай для деятельности, и он воспользуется ими. Он докажет жителям Ломшейра, что такое образцовый деревенский джентльмен; он не променяет эту карьеру ни на какую-либо из всех карьер под луною. Он воображал, что едет по холмам в свежие осенние дни надзирать за исполнением своих любимых планов касательно осушения почвы и постройки изгородей, потом, что в пасмурное утро на него смотрят с восторгом как на лучшего всадника на лучшем коне на охоте, что о нем отзываются хорошо в рыночные дни, как об образцовом помещике, что он со временем будет произносить речи за обедами при выборах и выскажет удивительные познания в земледелии, что он становится патроном новых плугов и сеялок, строгим порицателем беззаботных землевладельцев и вместе с тем веселым малым, которого нельзя не полюбить, что ему кланяются счастливые лица всюду в его имении и все соседние фамилии находятся в наилучших отношениях с ним. Ирвайны будут обедать у него еженедельно, будут иметь собственную карету, чтоб приезжать к нему; каким-нибудь весьма деликатным способом, который Артур придумает впоследствии, светский владелец геслонской десятины будет настоятельно требовать, чтоб викарию выплачивали сотни две-три фунтов более. Его тетка будет жить как только можно спокойнее, останется на Лесной Даче, если ей будет угодно, несмотря на ее привычки старой девы, по крайней мере до тех пор, пока он не женится. А это событие лежало в неопределенной дали, потому что Артур еще не видел женщины, которая могла бы играть роль супруги образцового деревенского джентльмена.
Таковы были главные мысли Артура, насколько мысли человека в продолжение часов путешествия могут быть сжаты в нескольких выражениях, походящих только на список названий сцен в длинной панораме, полной цвета, подробностей, жизни. Счастливые лица, приветствовавшие Артура, не были бледными отвлеченными образами, а действительными румяными лицами, давно ему знакомыми; там был Мартин Пойзер… все семейство Пойзер.
Как… и Хетти?
Да, потому что Артур был спокоен насчет Хетти. Он не был совершенно спокоен насчет прошедшего времени; его уши разгорались от стыда каждый раз, как он вспоминал о сценах с Адамом в минувшем августе, но он был спокоен насчет ее настоящей участи. Мистер Ирвайн, который вел с ним правильную переписку и сообщал ему все новости о старых местах и людях, коротко уведомил его около трех месяцев назад, что Адам Бид женится не на Мери Бердж, как он думал, а на красавице Хетти Соррель. Мартин Пойзер и сам Адам сообщили все, что касалось этого, мистеру Ирвайну – что Адам был страстно влюблен в Хетти уже два года и теперь было решено свадьбе их быть в марте. Этот дюжий проказник Адам оказывался гораздо чувствительнее, чем предполагал священник. То была настоящая идиллическая любовная история; и если б только не было слишком длинно рассказывать в письме, то мистер Ирвайн охотно описал бы Артуру, с каким замешательством и в каких простых сильных словах сообщил ему свою тайну прекрасный, честный малый. Он знал, что Артур с удовольствием услышит, какого рода счастье имел в виду Адам.
Да, мистер Ирвайн был действительно прав. Артуру казалось, что в комнате недоставало воздуха для удовлетворения его обновленной жизни, когда он прочел в письме это место. Он открыл настежь все окна, стремглав бросился из комнаты подышать декабрьским воздухом и приветствовал всех, кто только ни говорил с ним, самою пылкою веселостью, будто получил известие о новой победе Нельсона. С тех пор как он находился в Виндзоре, он в этот день впервые чувствовал себя в истинно ребяческом настроении духа: бремя, тяготившее его, исчезло, преследовавший его страх миновал. Он думал, что мог теперь победить свою горечь относительно Адама, мог предложить ему свою руку и просить его снова быть ему другом, несмотря на это неприятное воспоминание, от которого все-таки будут разгораться его уши. Его сшибли с ног, и он был вынужден сказать ложь: чтоб вы там ни делали, а от подобных вещей остается рубец. Но если Адам был снова тем же в прежнее время, то и Артур желал быть тем же человеком, желал, чтоб Адам принимал участие в его делах и в его будущности, как он желал того до проклятой встречи в августе. Он даже сделает для Адама гораздо более, чем сделал бы прежде, когда он вступит во владение имением; муж Хетти имел на него особенные притязания; сама Хетти должна будет чувствовать, что неприятности, которые она перенесла чрез Артура в прошедшее время, вознаграждались ей вторично. И действительно, она не могла чувствовать очень глубоко, если так скоро решилась выйти за Адама.
Вы ясно замечаете, какого рода картину представляли Адам и Хетти в панораме мыслей Артура на его пути домой. Март наступил, их свадьба должна совершиться скоро, быть может, они уже были женаты. И теперь действительно было в его власти сделать многое для них. Очаровательная, очаровательная маленькая Хетти! Эта крошечная кошечка не думала о нем и вполовину так, как он заботился о ней, потому что он все еще питал к ней безрассудные чувства, почти боялся увидеть ее, право, даже не очень-то засматривался на других женщин с тех пор, как расстался с нею. Крошечная фигура, идущая ему навстречу в роще, окаймленные темною бахромой детские глаза, прелестные губки, приготовляющиеся поцеловать его, – эта картина не утратила своей силы в течение месяцев. И она, вероятно, нисколько не переменилась. Невозможно было подумать, как он может встретиться с ней: он непременно почувствует трепет. Странно, как продолжительно влияние такого рода! Уж, конечно, теперь он не был влюблен в Хетти, несколько месяцев он серьезно желал, чтоб она вышла за Адама, и ничто так не содействовало его блаженству в эти минуты, как мысль о их свадьбе. Преувеличивающее действие воображения заставляло сердце его все еще биться несколько скорее при мысли о ней. Когда он снова увидит крошечное существо в действительности женой Адама, занятым совершенно прозаическою работою в своем новом доме, он, может быть, удивится возможности своих прежних чувств. Благодарение Богу, что все это приняло столь счастливый оборот! У него будет теперь изобилие дел и интересов, которые наполнят его жизнь, и он не будет более находиться в опасности снова разыгрывать роль безрассудного.
Как приятно хлопанье бича ямщика! Как приятно спешить в быстром спокойствии мимо английских ландшафтов, столь похожих на те, которые находятся на его родине, только не столь очаровательных. Здесь был ярмарочный город, очень похожий на Треддльстон, где герб соседнего лорда, владетеля усадьбы, красуется над вывеской главной гостиницы; потом одни поля и изгороди, их близость с ярмарочным городом наводили на приятное предположение о высоком найме; потом страна принимала более нарядный вид: леса попадались чаще, местами виднелся белый или красный домик на умеренной возвышенности или показывались его балконы и крыша с трубами между густых масс дубов и вязов, масс, имевших красноватый цвет от ранних почек; непосредственно затем расстилалась деревня; небольшая церковь с красною черепичною кровлею имела скромный вид даже между пострадавших от времени деревянных на каменном фундаменте домов; старые, позеленевшие надгробные камни заросли крапивой; ничего свежего и ясного, кроме детей, широко раскрывавших глаза при виде быстрой почтовой коляски, никакого делового шума, кроме раскрытой пасти дворняжек таинственного происхождения. О, какая красивая деревня Геслоп в сравнении с этой! И она не будет так запущена, как эта. Он произведет деятельные починки во всех фермерских строениях и избах, и путешественники в почтовых каретах, которые поедут по россетерской дороге, будут только восхищаться его деревнею. Адам Бид будет иметь главный надзор над всеми исправлениями: он имел теперь свой пай в делопроизводстве Берджа, и, если он захочет, Артур пустит некоторую сумму в их дела и в год или два скупит пай старика. О, это была весьма дурная ошибка в жизни Артура, это дело прошлого лета, но он загладит все это в будущем. Сколько людей сохранили бы в сердце чувство мстительности против Адама, но он нет! Он решительно подавит в себе всю мелочность подобного рода, потому что, конечно, он был очень и очень виноват; и хотя Адам обошелся с ним резко и сурово и поставил его в тягостное затруднение, но бедный малый был ведь влюблен и действовал по справедливому побуждению. Нет, у Артура не было дурных чувств в сердце ни против одного человеческого существа; он был счастлив и готов сделать счастливым всякого, кто бы только ни встретился с ним в жизни.
А! вот наконец и дорогая старая деревенька Геслоп, покоящаяся на холме, нисколько не утратив своего характера тихой старой местности, освещенная мягкими лучами позднего послеобеденного солнца, и против нее высокие покатости бинтонских холмов, а под ними пурпуровидный, темный, как бы висящий лес и, наконец, бледный фасад аббатства, виднеющийся сквозь дубы Лесной Дачи, как бы с нетерпением ожидающий возвращения наследника.
«Бедный дедушка! и он лежит там мертвый. Он также был некогда молодым человеком, который также вступал во владение имением и составлял различные планы. И все-то так на свете! Тетушка Лидия, должно быть, очень грустит, бедняжка! Но она будет пользоваться такою же полною свободою, какую она дает своему жирному Фидо».
На Лесной Даче с нетерпением прислушивались к шуму Артуровой коляски; то была пятница, и похороны были уже отложены на два дня. Прежде чем коляска въехала на двор, усыпанный крупным песком, все слуги дома собрались, чтоб встретить его важным, безмолвным приветствием, приличным дому, где обитала смерть. Может быть, месяц назад им было бы трудно сохранить на лицах приличную грусть, когда мистер Артур приехал бы господином; но в этот день на сердце главных слуг лежало тягостное чувство, проистекавшее от другого обстоятельства, а не только от смерти старого сквайра, и не один из них пламенно желал находиться в этот день за двадцать миль, как мистер Крег, и знать, что станется с Хетти Сор-рель, с хорошенькой Хетти Соррель, которую они привыкли видеть каждую неделю. Они имели привязанность домашних слуг, которые любят свои места, и нисколько не были склонны сочувствовать во всем объеме суровому негодованию арендаторов против молодого сквайра, но скорее готовы были извинить его. Тем не менее старшие слуги, которые столько лет находились в отношениях хороших соседей с Пойзерами, против воли сознавали, что давно ожидаемое событие – приезд молодого сквайра – было лишено всякого очарования.
Артуру вовсе не показалось удивительным, что слуги имели серьезный и грустный вид, он сам был очень тронут, когда увидел всех их и чувствовал, что теперь наступали новые отношения его к ним. Это было известного рода патетическое волнение, в котором заключается больше удовольствия, чем неприятности, которое, может быть, самое восхитительное из всех чувств для человека добродушного, сознававшего в себе власть удовлетворить своему добродушию. Его сердце было полно приятных ощущений, когда он сказал:
– Ну, Мильз, что поделывает тетушка?
Но тут мистер Байгет, адвокат, живший в доме со дня смерти, вышел вперед, почтительно поклонился ему и готов был отвечать на все вопросы. Артур пошел с ним в библиотеку, где ожидала его тетушка Лидия. Тетушка Лидия была единственная в доме особа, не знавшая ничего про Хетти; к ее печали дочери-девицы не примешивались никакие другие мысли, кроме забот о распоряжениях насчет похорон и о ее собственной будущей участи; и, как женщина, она горевала об отце, сделавшем ее жизнь необходимой, еще более, потому что втайне чувствовала, как мало другие сердца горевали о нем.
Но Артур поцеловал ее влажное от слез лицо гораздо нежнее, чем целовал когда-либо во всю свою жизнь прежде.
– Дорогая тетушка, – произнес он с чувством, держа ее за руку, – ваша потеря несравненно выше всех; но вы должны сказать мне, каким образом я могу вас утешить и успокоить на всю вашу остальную жизнь.
– О, это случилось так внезапно, так страшно, Артур, – произнесла бедная мисс Лидия и начала изливать свои маленькие жалобы.
Артур сел и слушал ее с нетерпеливым терпением. Когда она на минуту замолкла, он сказал:
– Теперь, тетушка, я оставлю вас на четверть часа. Я только схожу в мою комнату, а потом возвращусь и со вниманием выслушаю все.
– Что, в моей комнате все приготовлено, я надеюсь, Мильз? – сказал он буфетчику, который, казалось, с каким-то беспокойством стоял в передней.
– Да, сэр, и там есть к вам письма; все они лежат на письменном столе в вашей уборной.
Войдя в небольшую комнату, которая носила название уборной и в которой в действительности Артур имел привычку отдыхать и писать письма, Артур бросил взгляд на письменный стол и увидел, что на нем лежало несколько писем и пакетов; но ему было неловко в запыленном и смятом костюме человека, совершившего длинное и скорое путешествие, и ему действительно нужно было освежиться, немного занявшись своим туалетом, прежде чем прочтет письма. При нем находился Пим, помогавший ему во всем, и скоро, освежившись с истинным наслаждением, будто готовился начать новый день, он возвратился в уборную, чтоб вскрыть письма. Горизонтальные лучи низкого вечернего солнца проникали прямо в окно, и, когда Артур сел в свое бархатное кресло под приятною теплотой этих лучей, он чувствовал то спокойное благосостояние, которое, может быть, вы и я чувствовали под лучами вечернего солнца, когда, в самой ясной юности и при цветущем здоровье, жизнь представляла нам новые надежды и множество дней деятельности расстилались перед нами, как приятная равнина, и нам не было никакой нужды торопливо смотреть на них, потому что они все принадлежали нам вполне.
Первым лежало письмо с обращенным кверху адресом. Артур сразу узнал почерк мистера Ирвайна. Ниже адреса было написано: «Вручить немедленно по приезде». Письмо мистера Ирвайна в эту минуту вовсе не могло его удивить: конечно, он сообщал ему о каком-нибудь предмете, желая, чтоб Артур узнал об этом раньше, чем было возможно им увидеться друг с другом. Было совершенно естественно, что мистер Ирвайн имел сообщить ему нечто нужное именно в такое время. Артур сломил печать с приятною мыслью, что скоро увидит и самого писавшего.
«Я посылаю это письмо, чтоб оно встретило вас при вашем приезде, Артур, потому что я в то время могу быть в Стонитоне, куда меня призывает самая тягостная обязанность, подобная которой никогда еще не была возложена на меня, и вы немедленно же должны узнать о том, что мне нужно сообщить вам.
Я не намерен ни одним словом упрека увеличивать наказание, падающее теперь на вас: все слова, которые я мог бы написать в эту минуту, будут слабы и незначительны наряду с теми, в которых и должен сообщить вам самый факт.
Хетти Соррель в тюрьме; ее будут судить в пятницу за детоубийство…»
Артур не прочел ничего более. Он вскочил с своего кресла и с минуту чувствовал страшное сотрясение во всем своем существе, будто жизнь покидала его с страшным трепетом. Но в следующую же минуту он стремглав бросился из комнаты, все еще сжимая письмо, пробежал по всему коридору вниз по лестнице в переднюю. Мильз находился все еще там, но Артур не видел его, пробежав, как человек, которого преследуют, по всей передней и выбежав оттуда на усыпанный крупным песком двор. Буфетчик последовал за ним так скоро, как только могли бежать его старые ноги: он догадывался, куда бежал молодой сквайр.
Когда Мильз подошел к конюшням, то уж седлали коня, а Артур принуждал себя прочесть остальное письмо. Он сунул его в карман, когда подвели к нему лошадь, и в ту же минуту его взоры встретили прямо против него озабоченное лицо Мильза.
– Скажи, что я уехал… Уехал в Стонитон, – проговорил он глухим, взволнованным голосом, вскочил на лошадь и поскакал галопом.
XLV. В тюрьме
В этот же вечер, при закате солнца, пожилой джентльмен стоял, прислонившись спиною к калитке ворот стонитонской тюрьмы, и говорил несколько слов уходившему капеллану. Капеллан ушел, но пожилой господин оставался в прежнем положении, смотря на тротуар и почесывая подбородок в раздумье, когда он был пробужден приятным чистым женским голосом, спрашивавшим:
– Не дозволите ли вы мне пройти в тюрьму?
Он повернул голову и пристально смотрел на говорившую в продолжение нескольких минут, не отвечая.
– Я видел вас прежде, – сказал он наконец. – Помните вы проповедь на деревенском поле в Геслопе, в Ломшепре?
– Как же, сэр, помню очень хорошо. А вы не тот ли джентльмен, который тогда слушал верхом?
– Да. Зачем вы хотите войти в тюрьму?
– Мне нужно видеть Хетти Соррель, молодую женщину, приговоренную к смерти, и остаться с нею, если мне позволят. Имеете вы какую-нибудь власть в тюрьме, сэр?
– Да, я имею власть и могу приказать, чтоб вас впустили. Но разве вы знаете преступницу Хетти Соррель?
– Да, мы родственницы: моя родная тетка замужем за ее дядей, Мартином Пойзером. Но я находилась в Лидсе и узнала об этом большом несчастье так поздно, что только успела прибыть сюда сегодня. Умоляю вас, сэр, ради любви нашего Небесного Отца, позвольте мне войти к ней и остаться с нею.
– Как вы узнали что она была приговорена к смерти, когда вы только что прибыли из Лидса?
– Я видела моего дядю после суда, сэр. Он теперь отправился домой, и бедная грешница покинута всеми. Прошу вас, получите дозволение для меня остаться с ней.
– Как! вы решаетесь провести всю ночь в тюрьме? Она очень упряма и едва отвечает, когда говорят с нею.
– О, сэр! может быть, Богу еще будет угодно открыть ее сердце. Не станем медлить.
– В таком случае, пойдемте, – сказал пожилой господин, позвонив; их тотчас же впустили. – Я знаю, у вас есть ключ, которым вы открываете сердца.
Дина машинально сняла шляпку и шаль, лишь только они вошли во двор тюрьмы; она имела привычку снимать их, когда проповедовала, молилась и посещала больных, и когда они вошли в комнату тюремщика, то она положила их на стул, не думая. В ней не видно было никакого волнения; она выказывала глубокое сосредоточенное спокойствие, будто даже и в то время, как она говорила, ее душа в молитве находила невидимую опору.
Пожилой джентльмен, переговорив с тюремщиком, обратился к ней и сказал:
– Тюремщик сведет вас в келью обвиненной и оставит на ночь, если вы того желаете. Но вы не можете получить свечи в продолжение ночи: это противно правилам. Мое имя полковник Тоукли; если я могу быть вам в чем-нибудь полезен, то спросите у тюремщика мой адрес и приходите ко мне. Я принимаю некоторое участие в Хетти Соррель ради этого славного малого Адама Бида. Мне случилось видеть его в Геслопе в тот же самый вечер, когда я слышал вашу проповедь, и сегодня узнал его в суде, несмотря на его болезненный вид.
– Ах, сэр! не можете ли вы сказать мне что-нибудь о нем? Не знаете ли вы, где он живет? Мой бедный дядюшка был слишком убит горем и ничего не помнил.
– Очень близко отсюда. Я узнал о нем все от мистера Ирвайна. Он живет над лавкой жестянщика, в улице, направо от входа в тюрьму. С ним старик школьный учитель, а теперь прощайте. Желаю вам успеха.
– До свидания, сэр. Благодарю вас.
Когда Дина шла через тюремный двор с тюремщиком, стены при торжественном вечернем свете казались выше, нежели днем, и прелестное, бледное лицо в чепчике еще более обыкновенного походило на белый цветок на этом мрачном фоне. Тюремщик все время искоса посматривал на нее, но не произносил ни слова: он как-то неясно сознавал, что звук его собственного грубого голоса был бы оскорбителен в эту минуту. Он зажег свечу, когда они вошли в темный коридор, который вел к келье приговоренной, и потом, как мог учтивей, сказал:
– Теперь в келье будет, вероятно, уж почти совершенно темно, но я могу постоять немного со свечой, если хотите.
– Нет, мой друг, благодарю, – отвечала Дина. – Я хочу войти туда одна.
– Как вам угодно, – сказал тюремщик, повернув ржавый ключе в замке и отворив дверь настолько, чтоб Дина свободно могла пройти в нее.
Луч света из его фонаря упал на противоположный угол кельи, где Хетти сидела на своей соломенной постели, спрятав голову на колени. Казалось, она спала, а между тем шум замка, вероятно, разбудил ее.
Дверь снова затворилась, и в келью проникал сквозь решетку небольшого высокого окна только свет вечернего неба, при котором едва можно было различить лица людей. Дина с минуту сидела спокойно, не решаясь говорить, потому что Хетти, может быть, спала, и смотрела на неподвижную фигуру с истинною грустью. Потом она кротко произнесла:
– Хетти!
Можно было заметить слабое движение во всем существе Хетти, содрогание, произведенное как бы слабым электрическим ударом, но она не подняла головы. Дина заговорила снова голосом, сделавшимся более громким от неудержимого волнения:
– Хетти… это Дина.
Она снова заметила слабое, трепетное движение во всем существе Хетти; не открывая лица, она немного приподняла голову и как бы прислушивалась.
– Хетти… Дина пришла к тебе…
После минутного молчания Хетти медленно и робко подняла голову с колен и открыла глаза. Обе бледные девушки смотрели друг на друга: на лице одной выражалось дикое, жесткое отчаяние, лицо другой были полно грустной, тоскливой любви.
Дина бессознательно протянула руки:
– Разве ты не знаешь меня, Хетти? Разве ты не помнишь Дины?.. Неужели ты думала, что я не посещу тебя в не счастье?
Хетти пристально смотрела на лицо Дины, подобно животному, которое смотрит и смотрит, а само держится в отдалении.
– Я пришла, чтоб быть с тобою, Хетти… не оставлять тебя… остаться с тобою… быть твоею сестрой до конца.
В то время как говорила Дина, Хетти медленно встала, сделала шаг вперед, и ее охватили руки Дины.
Они стояли так долгое время, потому что ни одна из них не чувствовала побуждения снова выйти из этого положения. Хетти, без всякой определенной мысли, держалась за тот предмет, который охватывал ее теперь, в то время как она падала беспомощная в мрачную пропасть; а Дина чувствовала глубокую радость при первом признаке того, что несчастная заблудшая овца приветствовала ее любовь. Свет делался слабее в то время, как они стояли, и когда они наконец сели на соломенную постель вместе, то их лица нельзя уж было различить.
Не было произнесено ни слова. Дина ждала, надеясь, что Хетти заговорит добровольно сама; но последняя сидела, погруженная в прежнее тупое молчание, только сжимая руку, которая держала ее руку, и прильнув щекой к лицу Дины. Она не хотела оторваться от прикосновения к человеческому существу, но тем не менее продолжала опускаться в мрачную пропасть.
Дина начала сомневаться, понимает ли Хетти, кто сидел подле нее. Она подумала, что страдания и страх, может быть, лишили бедную грешницу ума. Но внутреннее чувство, как рассказывала она впоследствии, говорило ей, чтоб она не спешила с делом Господа: мы обыкновенно слишком торопимся говорить, но разве Господь не являет себя нашим безмолвным чувством, не дает чувствовать свою любовь посредством нашей? Она не знала, сколько времени они сидели таким образом, но в келье становилось все темнее и темнее, и наконец только небольшой луч бледного света остался на противоположной стене: все остальное было погружено в совершенный мрак. Но она все более и более чувствовала божественное присутствие – так, будто она сама составляла часть его и в ее сердце билось божественное сострадание и жаждало спасения этого беспомощного существа. Наконец она почувствовала внушение говорить и узнать, в какой степени сознавала Хетти настоящее.
– Хетти, – произнесла она ласково, – знаешь ли ты, кто сидит с тобою рядом?
– Да, – отвечала Хетти медленно, – это Дина.
– А помнишь ли ты то время, когда мы жили вместе на господской мызе, и ту ночь, когда я говорила, чтоб ты непременно подумала обо мне, когда будешь в несчастье, как о твоем друге?
– Да, – сказала Хетти. Потом, после некоторого молчания, присовокупила: – Но ты ничего не можешь сделать для меня. Ты не можешь заставить их сделать что-нибудь. Меня повесят в понедельник, а сегодня пятница.
Когда Хетти произнесла последние слова, она ближе прижалась к Дине, дрожа всем телом.
– Нет, Хетти, я не могу спасти тебя от этой смерти. Но разве страдание не становится менее жестоким, когда с тобою находится кто-нибудь, чувствующий за тебя… с кем ты можешь говорить и кому передать, что у тебя на сердце?.. Да, Хетти, ты опираешься на меня, ты рада, что я нахожусь с тобою.
– И ты не оставишь меня, Дина? Ты будешь подле меня?
– Нет, Хетти, я тебя не оставлю, я буду с тобою до последней минуты… Но, Хетти, в этой келье есть кто-то, кроме меня, кто-то вблизи тебя.
Хетти в испуге прошептала:
– Кто?
– Тот, Кто был с тобою во все часы горя, Кто знал все твои мысли, видел, куда ты шла, где ложилась и снова вставала, – словом, все поступки, которые ты старалась скрыть во мраке. И в понедельник, когда я не могу последовать за тобою, когда мои руки будут не в состоянии достичь тебя, когда смерть разлучит нас, Тот, Кто с нами теперь и знает все, будет тогда с тобою. Тут не существует никакого различия: в жизни или в смерти, мы всегда находимся в присутствии Господа.
– О, Дина, неужели никто не сделает для меня ничего? Неужели повесят меня в самом деле?.. Как бы то ни было, а я все-таки желала бы, чтоб меня оставили жить.
– Бедная Хетти! Смерть очень страшна для тебя. Да, я знаю, она страшна. Но если б у тебя был друг, который позаботился бы о тебе после смерти, в другом мире… любовь которого больше моей… кто может сделать все… Если б Бог, наш Отец, был твоим другом и желал избавить тебя от греха и страдания, так что ты никогда более не узнала бы ни несчастных чувств, ни боли… Если б могла верить, что Он любит тебя и готов помочь тебе, как ты веришь, что я люблю тебя и готова помочь тебе, тогда тебе не было бы так жестоко умирать в понедельник, не правда ли?
– Но я не могу ничего знать об этом, – сказала Хетти с мрачною грустью.
– Потому, Хетти, что ты запираешь от Него свою душу, стараясь скрыть истину. Любовь и милосердие Господа может победить все: наше невежество, нашу слабость и весь гнет нашей прежней нечестивости – словом, все, кроме нашего греховного упорства, за которое мы держимся и которое не хотим покинуть. Ты веришь в мою любовь и жалость к тебе, Хетти; но если б ты не допустила меня приблизиться к тебе, если б ты не захотела смотреть на меня или говорить со мной, ты лишила бы меня возможности помочь тебе: я не могла бы заставить тебя чувствовать мою любовь, я не могла бы сказать, что чувствую к тебе. Не отталкивай же любви Господа таким образом, цепляясь за грех… Он не может ниспослать на тебя благословение, пока в твоей душе есть неправда. Его всепрощающее милосердие не может достигнуть тебя, пока ты не откроешь Ему своего сердца и скажешь: «Я совершила великое преступление, Боже мой, спаси меня, очисти меня от греха». Пока ты привязана к одному лишь греху и не хочешь расстаться с ним, то грех непременно ввергнет тебя в горе после смерти, как ввергнул тебя в горе на этом свете, моя бедная, бедная Хетти! Грех влечет за собою ужас, мрак, отчаяние. Свет и благодать достигают нас, лишь только мы стряхнем с себя грех. Тогда Господь входит в нашу душу, научает нас, дарует нам силу и спокойствие. Стряхни же с себя грех теперь, Хетти, теперь же; покайся в зле, которое совершила, в грехе, в котором стала виновна перед Господом, твоим Небесным Отцом. Станем вместе на колени, потому что находимся в присутствии Господа.
Хетти последовала примеру Дины и опустилась на колени. Они все еще держали друг друга за руки и долго хранили молчание. Затем Дина сказала:
– Хетти, мы перед Богом, он ожидает, чтоб ты сказала истину.
Опять наступило безмолвие. Наконец Хетти умоляющим тоном произнесла:
– Дина… помоги мне… я не могу чувствовать так, как ты… сердце мое жестоко…
Дина держала руку, которая судорожно сжимала ее руку, и голосом, в котором слышалась вся ее душа, начала:
– Иисус, наш Спаситель, присутствующий здесь! Ты знал глубину всякой скорби, Ты вступал в этот страшный мрак, где нет Бога, и попускал сам вопль покинутых. Собери же, Господи, плоды Твоих страданий и Твоего заступничества, простри Твою руку, Бог мой, ибо в Твоей власти спасти из крайности и избавить это потерянное существо. Она окружена густым мраком: узы греха оковали ее, и она не может пошевелиться и прийти к Тебе. Она может чувствовать только, что ее сердце твердо как камень и что она беспомощна. Она со слезами обращается ко мне, твоей слабой рабе… Спаситель! это слепая мольба к Тебе. Услышь ее! Рассей мрак! Яви ей Твой образ любви и горести, как являл тому, кто отрекался от тебя! Смягчи ее жестокое сердце!
Боже мой! я веду ее, как в прежние времена приводили больных и беспомощных, и Ты исцелял их; я держу ее на руках и несу ее пред Тебя. Страх и трепет охватили ее, но она трепещет только от боли и смерти телесной. Осени ее твоим животворным духом и всели в нее новый страх, страх греха, пусть она страшится сохранять в глубине души своей это проклятое упорство, заставь ее чувствовать присутствие живого Бога, Который видит все прошедшее, для Которого мрак ясен как полдень, Который ждет теперь, в предпоследний час, чтоб она обратилась к Нему, раскаялась в своем грехе и молила о милосердии – теперь, прежде чем наступит ночь смерти и исчезнет навсегда минута прошения, подобно вчерашнему дню, который уж не возвратится.
Спаситель! А между тем еще не поздно… не поздно вырвать эту бедную душу из вечного мрака. Я верую, верую в Твою беспредельную любовь. Что значит моя любовь, мое заступничество? Они гаснут в твоей любви, в твоем заступничестве. Я могу только держать ее своими слабыми руками и утешать моею слабою жалостью. Ты же, Господи… Ты дунешь в мертвую душу, и она восстанет от безответного сна смерти.
Так, Боже! я вижу Тебя идущего сквозь тьму, идущего, подобно утру, с исцелением на Твоих крыльях. Я вижу… да, я вижу признаки страшных мучений на Тебе, Ты можешь и хочешь спасти… Ты не хочешь, чтоб она погибла навеки.
Приди же, Всемогущий Спаситель, пусть мертвая услышит Твой голос, пусть отверзятся очи слепой, пусть она видит, что Бог окружает ее, пусть трепещет только греха, отвращающего ее от Него. Смягчи черствое сердце, отверзи закрытые уста, да молится она из глубины души: «Отче, я согрешила»…
– Дина! – воскликнула Хетти, зарыдав и бросившись Дине на шею. – Я хочу говорить… я расскажу все… я не хочу более скрывать.
Но слезы и рыдания были слишком сильны. Дина кротко подняла ее с земли и, снова посадив на постель, села рядом с нею. Много прошло времени, пока стихло судорожное волнение, даже и тогда они долго сидели в безмолвии, окруженные мраком, держа одна другую за руки. Наконец Хетти прошептала:
– Да, я сделала это, Дина, я зарыла его в лесу… крошечного ребенка… и он плакал… я слышала, как он плакал, даже на таком далеком расстоянии… всю ночь… и я возвратилась, потому что он плакал. – Она замолчала, потом торопливо заговорила более громким и жалобным голосом: – Но я думала, что он, может быть, не умрет… кто-нибудь, может быть, и найдет его так. Я не убила его… не убила сама. Я положила его там и покрыла, и когда возвратилась, он исчез… Это случилось оттого, что я была так несчастна, Дина… Я не знала, куда мне идти… я старалась сама убиться прежде – и не могла. О, как я старалась утопиться в пруде – и не могла. Я отправилась в Виндзор… я бежала из дома… знаешь ли ты это? Я пошла искать, чтоб он позаботился обо мне, а он уже уехал оттуда, и тогда я не знала, что мне делать. Я не смела возвратиться опять домой; я не могла и подумать об этом, я не могла бы взглянуть ни на кого, потому что все презирали бы меня. Иногда я думала о тебе, хотела было прийти к тебе: я думала, что ты не будешь упрекать меня и стыдить, я думала, что могу рассказать тебе все, но потом узнали бы другие, а я не могла вынести этой мысли. Оттого-то отчасти я и пришла в Стонитон, что думала о тебе; и, кроме того, я так боялась все бродить, пока сделаюсь нищей и не буду ничего иметь, иногда же мне казалось, что лучше мне не ждать этого и прямо возвратиться на ферму. О, это было так ужасно, Дина! я была так несчастна… я желала, чтоб лучше не родилась на этот свет. Я ни за что не пошла бы снова на зеленые поля – так я возненавидела их в своем горе…
Хетти снова замолчала, будто воспоминания прошлого были так сильны, что не позволили ей продолжать.
– Затем я пришла в Стонитон и в ту ночь мне было очень страшно, потому что я была так близко к дому. Потом родился ребенок, когда я вовсе не ожидала этого. Тут пришла мне в голову мысль, что я могла бы избавиться от него и возвратиться домой. Эта мысль пришла мне внезапно, когда я лежала в постели, и она становилась все сильнее и сильнее… Мне так хотелось возвратиться!.. Мне было так тягостно находиться одной и наконец просить милостыню, когда у меня не будет ничего. Это придало мне силы и решимости; я встала и оделась. Я чувствовала, что должна сделать это… я не знала каким образом. Я думала, что найду пруд, как тот пруд, на краю поля, впотьмах. Когда та женщина ушла со двора, я почувствовала, будто была довольно сильна, чтоб сделать что-нибудь; я думала, что разом избавлюсь от всего горя, возвращусь домой и не скажу никогда, зачем я убежала. Я надела шляпку и шаль и вышла на темную улицу с ребенком под салопом. Я шла скоро, пока не вышла в улицу, находившуюся довольно далеко от дома той женщины; там была гостиница, и я выпила там чего-то теплого и съела кусочек хлеба, потом шла все дальше и дальше и почти не чувствовала под собою земли. Стало посветлее, потому что показался месяц… О, Дина! как я испугалась, когда увидела, что он смотрел так на меня из-за облаков… он никогда не смотрел на меня так прежде. Я свернула с дороги на поля, потому что боялась встретиться с кем-нибудь при месячном свете, который падал на меня так ярко. Я подошла к стогу сена и думала, что могла пролежать тут всю ночь в тепле. В стоге было вырезано местечко, где я могла сделать себе постель, и мне было так удобно лежать там, да и ребенку было так тепло около меня. Я, должно быть, спала довольно долго, потому что, когда проснулась, было уже утро, но не очень светло, и ребенок плакал. Не слишком далеко от меня я видела лес… Может быть, там найдется канава или пруд, подумала я… ведь еще так рано, я могу там спрятать ребенка, и успею уйти далеко, когда люди проснутся. Потом я пойду домой, думала я, встречу какую-нибудь телегу, поеду домой и скажу, что старалась найти себе место, да не могла отыскать. Как мне хотелось сделать это, Дина, да, как мне хотелось добраться до дому. Не знаю, что я чувствовала к ребенку. Кажется, ненавидела его… ведь он был как тяжелая гиря у меня на шее; а между тем его плач так и тянул меня за душу, и я не смела взглянуть на его крошечные ручки и личико. Но я продолжала путь к лесу, ходила в нем кругом, но там не было воды…
Хетти дрожала всем телом.
Она помолчала несколько минут, и потом снова заговорила, но уже шепотом:
– Я пришла к одному месту, где лежали кучки щепок и дерну, и села на пень дерева, чтоб подумать, что делать. Вдруг я увидела отверстие под орешником, точно маленькая могилка. Как молния блеснула у меня в голове мысль положить ребенка туда и накрыть его травою и щепками. Я не могла убить его каким-нибудь другим образом. В одну секунду я сделала это… О! он так плакал, Дина… я не могла закрыть его совсем… может быть, кто-нибудь придет и позаботится о нем, думала я, и тогда он не умрет. Я торопливо вышла из лесу, но могла слышать, как он все время кричал; когда я вышла на поля, то была точно прикована к месту… не могла идти далее, несмотря на то что так желала уйти. Я села у стога, чтоб посмотреть, не пройдет ли кто-нибудь. Я была очень голодна, у меня оставался только небольшой кусочек хлеба, но я не могла тронуться с места. После долгого времени, после нескольких часов, показался человек… тот самый, в блузе, и так посмотрел на меня: я испугалась и поспешила уйти оттуда. Я думала, что он пойдет в лес и, может быть, найдет ребенка. Я продолжала путь все прямо и пришла в деревню, довольно далеко от леса. Мне очень нездоровилось, и я была очень слаба и голодна. Там я поела немножко и купила хлеб. Но я боялась остаться здесь. Я все слышала, как кричал ребенок, и думала, что и другие слышат это… и пошла дальше. Но я была очень измучена, и уже становилось темно. Наконец я увидела ригу в стороне от дороги на далеком расстоянии от всякого жилья… она очень походила на ригу в Аббатс-Клозе. «Войду в нее, – подумала я, – и спрячусь в сене и соломе, вероятно, никто не придет сюда». Я вошла. Рига была наполовину наполнена пучками соломы, тут было также и сено. Я сделала постель, совсем назади, где никто не мог найти меня. Я так устала, так была слаба, что стала засыпать… Но – ах! крик ребенка разбудил меня. Мне казалось, что человек, посмотревший на меня так странно, пришел и схватил меня. Но я все-таки заснула наконец и, должно быть, спала долго, хотя и не знала сколько именно, потому что когда я встала и вышла из риги, то не знала, была ли ночь или утро. Но то было утро, потому что становилось все светлее, и я пошла обратно тою же дорогой, которою и пришла. Это было против моей воли, Дина, крик ребенка заставлял меня идти туда, а между тем я была до смерти напугана. Я думала, что человек в блузе увидит меня и узнает, что это я положила туда ребенка. Но я продолжала идти, несмотря на все это; уж я перестала и думать о возвращении домой… это совершенно вышло у меня из головы. Я не видела ничего, кроме этого места в лесу, где зарыла ребенка… Я вижу это и теперь. О, Дина! неужели я никогда не перестану видеть это страшное место?
Хетти крепко обняла Дину и снова задрожала.
Молчание казалось продолжительным, прежде чем она стала говорить:
– Я не встретила никого, потому что было очень рано, и вошла в лес… Я знала дорогу к тому месту, к месту около орешника, и могла слышать на каждом шагу, как он кричал… Я думала, что он еще жив… не знаю, боялась ли я этого или радовалась… не знаю, что чувствовала. Знаю только, что была в лесу и слышала плач. Не знаю, что я почувствовала, когда увидела, что ребенок исчез. Когда я прятала туда, то желала, чтоб кто-нибудь нашел его и спас от смерти; но когда увидела, что его не было там, я как бы окаменела от ужаса. Я и не подумала пошевелиться: я была так слаба. Я знала, что не могла убежать, и всякий, кто бы увидел меня, узнал бы и о том, что я сделала с ребенком. Сердце мое превратилось точно в камень: я не могла ничего ни желать, ни решиться ни на что. Казалось, будто я останусь здесь навсегда и не случится никакой перемены. Но они пришли и взяли меня.
Хетти смолкла, но снова задрожала, будто у нее было сказать еще что-то. Дина ждала, что слезы должны были предшествовать словам; ее сердце было так полно.
Наконец Хетти, зарыдав, воскликнула:
– Дина, думаешь ли ты, что Бог отнимет от меня этот плач и это место в лесу, теперь, когда я созналась во всем?
– Будем молиться, бедная грешница. Станем опять на колени и обратимся с мольбою к милосердому Богу.
XLVI. Часы неизвестности
В воскресенье утром, когда церковные колокола в Стонитоне призывали к утренней службе, Бартль Масси снова вошел в комнату Адама после непродолжительного отсутствия и сказал:
– Адам, там пришел кто-то и хочет видеть вас.
Адам сидел, повернувшись спиною к двери, но в ту же минуту выпрямился и повернулся с раскрасневшимся лицом и вопросительным взглядом. Его лицо было даже еще худощавее, казалось еще более утомленным, чем как мы видели прежде, но он умылся и выбрился в это утро, в воскресенье.
– Разве есть какое-нибудь известие? – спросил он.
– Будьте спокойны, мой друг, – отвечал Бартль, – будьте спокойны. Это не то, о чем вы думаете: молодая женщина-методистка пришла из тюрьмы. Она стоит внизу на лестнице и хочет знать, хотите ли вы видеть ее. Ей нужно сообщить вам что-то об этой бедной покинутой, но она говорит, что не хочет войти без вашего позволения. Она думает, что вы, может быть, захотите выйти к ней и поговорить с нею внизу. Эти проповедницы не бывают обыкновенно так застенчивы, – проворчал Бартль сквозь зубы.
– Попросите ее войти, – сказал Адам.
Он стоял, обернувшись лицом к двери, и когда Дина, войдя в комнату, подняла на него свои кроткие, серые глаза, то сразу увидела большую перемену, происшедшую в нем после того дня, когда она видела этого высокого человека в хижине.
Ее чистый голос дрожал, когда она, подавая ему руку, произнесла:
– Успокойтесь, Адам Бид: Господь не покинул ее.
– Да благословит вас Бог за то, что вы пришли к ней! – сказал Адам. – Мистер Масси сообщил мне вчера о вашем приезде.
Оба они не могли более говорить теперь и стояли друг против друга в безмолвии. Бартль Масси, надевший очки и рассматривавший лицо Дины, был, по-видимому, также тронут, но он оправился первый и, подавая ей стул, сказал:
– Присядьте, молодая женщина, присядьте. – И сам возвратился на свое прежнее место, на постели.
– Благодарю вас, друг, я не хочу сидеть, – сказала Дина, – потому что должна поторопиться назад: она умоляла меня не отлучаться надолго. Я пришла затем, Адам Бид, чтоб просить вас повидаться с бедной грешницей и проститься с ней. Она желает попросить у вас прощения, и лучше бы вам повидаться с нею сегодня, нежели завтра рано утром, когда ей останется так мало времени.
Адам стоял, дрожа всем телом, и наконец опустился на стул.
– Нет, этого не будет, – сказал он, – отложат… может быть, придет помилование. Мистер Ирвайн говорил, что есть надежда, он говорил, что мне не нужно еще терять надежды.
– О, это было бы блаженством для меня! – сказала Дина, и глаза ее наполнились слезами. – Страшно подумать, что ее душа так быстро должна покинуть этот свет… Но пусть будет то, что будет, – присовокупила она, спустя несколько времени. – Приходите непременно и дайте ей высказать вам то, что у нее на сердце. Хотя ее бедная душа очень темна и немногое может различить, кроме предметов плоти, она, однако ж, уж перестала упорствовать: она покаялась, она призналась мне во всем. Тщеславие ее сердца уступило; она опирается на меня за помощью и желает, чтоб я поучала ее. Это исполняет меня доверия, я могу только думать, что братья ошибаются иногда, измеряя божественную любовь познаниями грешника. Она намерена написать письмо своим родным на господской ферме, и письмо это я отдам им, когда ее не станет; и когда я сообщила ей, что вы находитесь здесь, она сказала: «Я хотела бы видеться с Адамом и просить его, чтоб он простил меня». Ведь вы придете, Адам? Может быть, вы хотите даже возвратиться теперь же со мною?
– Я не могу, – сказал Адам, – я не могу прощаться с нею, пока еще остается надежда. Я прислушиваюсь, все прислушиваюсь… я не могу думать ни о чем другом. Не может быть, чтоб она умерла этою постыдною смертью, я не могу привыкнуть к этой мысли.
Он снова встал со стула и отвернулся, смотря в окно, между тем как Дина стояла с сострадающим терпением.
Минуты через две он повернулся и сказал:
– Да, я приду, Дина… завтра утром… Если это должно быть. У меня, может быть, будет больше силы вынести это, если я знаю, что это должно быть. Скажите ей, что я прощаю ее, скажите ей, что я приду… приду в последнюю минуту.
– Я не хочу настоятельно требовать, чтоб вы поступили против голоса собственного сердца, – сказала Дина. – Я должна поскорее возвратиться к ней. Удивительно, как она привязалась теперь ко мне, она даже не хотела выпустить меня из виду. Прежде, бывало, она никогда не отвечала на мое расположение к ней, теперь же скорбь открыла ее сердце. Прощайте, Адам. Да успокоит вас наш Небесный Отец и да пошлет Он вам силу перенести все.
Дина протянула руку, и Адам безмолвно пожал ее.
Бартль поднялся с своего места, чтоб отворить для нее тяжелую задвижку у двери, но прежде, чем он дошел до двери, она кротко сказала: «Прощайте, друг» – и легкими шагами спустилась с лестницы.
– Ну, – сказал Бартль, сняв очки и положив в карман, – если уж должны существовать женщины, причиняющие горе и беспокойство на белом свете, то только справедливость требует того, чтоб были и женщины, утешающие людей в горе; а она одна из них. Жаль, что она методистка. Но разве можно найти на свете женщину, у которой в голове не было бы какой-нибудь глупости?
В эту ночь Адам не ложился: волнение неизвестности, увеличивавшееся с каждым часом, который все более и более приближал к нему роковые минуты, было слишком сильно; и, несмотря на все его мольбы, несмотря на его обещания, что он будет совершенно спокоен, школьный учитель также не ложился.
– Ну, что за беда для меня в том, друг? – говорил Бартль. – Одною ночью сна больше или меньше? Я со временем высплюсь довольно в земле. Дайте же мне разделить ваше горе, пока могу.
Длинна и грустна была эта ночь в маленькой комнатке. Адам иногда вставал с места и ходил взад и вперед по большому пространству от стены до стены, потом снова садился и закрывал лицо. Не слышно было никакого звука, кроме стука часов на столе или падения пепла в камине, где школьный учитель тщательно поддерживал огонь.
По временам Адам изливал чувства в неистовых выражениях:
– Если б я мог сделать что-нибудь, чтоб спасти ее… Если б мои страдания могли принесть ей какую-нибудь пользу… но все сидеть спокойно, знать это и не делать ничего… жестоко переносить это человеку… а думать о том, что могло б быть теперь, если б всего этого не случилось из-за него… О боже! именно сегодня назначена была наша свадьба.
– Конечно, мой друг, – сказал Бартль нежно, – трудно, очень трудно. Но вы должны вспомнить о том, что когда вы хотели жениться на ней, то думали, что у нее совершенно другая натура, чем та, которая теперь оказалась. Вы и не думали, что она может стать жестокой в такое короткое время и сделать то, что сделала.
– Я знаю… знаю это, – сказал Адам. – Я думал, что она имеет любящее и нежное сердце и не будет лгать или обманывать. Мог ли я думать о ней иначе? И если б он никогда не приблизился к ней и я женился на ней, любил бы ее и заботился о ней, она, может быть, никогда не сделала бы ничего дурного. Что б это значило для меня, если б мне и пришлось немного побеспокоиться с ней? Это было бы ничто в сравнении с тем, что случилось теперь.
– Как знать, друг мой, как знать, что могло бы случиться. Жгучую боль тяжело переносить вам теперь: вам нужно время… да, вам нужно время. Но я такого мнения о вас, что вы восторжествуете над всем этим и снова будете мужчиной. А из всего этого может выйти добро, которого мы еще не видим.
– Выйти добро! – воскликнул Адам с жаром. – Это не переменит зла: ее погибель нельзя изменить. Я ненавижу болтовню людей, говорящих, будто есть средство поправить все. Было бы нужнее убедить их в том, что зло, которое они причиняют, никогда не может быть изменено. Когда человек погубил жизнь своего ближнего, он не имеет права утешать себя мыслью, что из этого, может быть, выйдет добро; добро для кого-нибудь другого не изменит ее позора и несчастья.
– Хорошо, друг мой, хорошо, – сказал Бартль кротким голосом, который странно противоречил его обыкновенной решимости и нетерпению в споре, – довольно вероятно, что я говорю глупость. Я человек старый, и много лет прошло с тех пор, как я сам находился в горе. Легко находить причины, по которым другие должны бы быть терпеливы.
– Мистер Масси, – сказал Адам с раскаянием, – я очень горяч и вспыльчив, а между тем я должен обращаться с вами совершенно иначе. Но вы не должны сердиться на меня за это.
– Я… нисколько, мой друг, нисколько.
Таким образом, ночь прошла в волнении, пока наконец утренняя свежесть и рассвет дня не принесли с собою трепетного спокойствия, сопровождающего последнее отчаяние. Неизвестность скоро должна была прекратиться.
– Пойдемте теперь в тюрьму, мистер Масси, – сказал Адам, когда увидел, что часовая стрелка стояла на шести. – Если есть какие-нибудь известия, то мы услышим там о них.
Движение на улицах уже началось; все шли быстро по одному направлению. Адам старался не думать о том, куда шли все, быстро проходя мимо него короткое расстояние между его квартирой и тюремными воротами. Он благодарил судьбу, когда ворота заперлись за ним, что не видел более этих любопытных людей.
Нет, не пришло никаких известий: ни помилования, ни отсрочки.
Адам ждал на дворе с полчаса, прежде чем мог пересилить себя и уведомить Дину о своем приходе. Но некоторые слова долетели до его слуха: Адам не мог не слышать их: «Телега должна тронуться с места в половине восьмого».
Должно было сказать… сказать последнее прости – этому нельзя было помочь ничем.
Десять минут после этого Адам был у дверей кельи. Дина послала ему сказать, что не может выйти к нему, не может оставить Хетти ни на минуту, но что Хетти была приготовлена к встрече.
Он не мог видеть ее, когда вошел: волнение оглушило его чувства, и темная келья казалась ему почти мрачною. Когда дверь затворилась за ним, он стоял с минуту, дрожа всем телом и как бы оглушенный.
Но мало-помалу он начинал видеть при этом слабом свете, начинал видеть черные глаза, снова обращенные на него, но на лице уже не было улыбки. О, Боже! что за грусть выражалась в них! Последний раз, когда они встретились с его глазами, было тогда, как он прощался с нею, сердце его было наполнено радостью, надеждой и любовью, и они смотрели на него сквозь слезы, с улыбкою, а ее детское с ямочками лицо было покрыто румянцем. Теперь же лицо было мраморное; прелестные губки были бледны, полуоткрыты, дрожали; ямочки все исчезли… все, кроме одной, которая не исчезала никогда; глаза… о! хуже всего было то, что они были так схожи с глазами Хетти! То были глаза Хетти, смотревшие на него этим грустным взглядом, будто она возвратилась к нему мертвая, рассказать о своем горе.
Она близко прижималась к Дине; щека ее касалась щеки Дины. Казалось, будто ее последняя слабая сила и надежда заключались в этом прикосновении; сострадательная любовь, сиявшая в лице Дины, казалась ей видимым залогом Невидимого Милосердия.
Когда грустные взоры встретились, когда Хетти и Адам взглянули друг на друга, она заметила в нем также перемену, и это поразило ее новым страхом. Она впервые видела существо, лицо которого, казалось, отражало перемену, совершившуюся в ней самой: Адам был новым образом ужасного прошедшего и ужасного настоящего. Она дрожала еще более, смотря на него.
– Скажи ему, Хетти, – проговорила Дина, – скажи ему, что у тебя на сердце.
Хетти повиновалась ей, как крошечный ребенок:
– Адам… мне так грустно… я поступила так дурно с вами… простите ли вы мне… перед смертью?
Адам, рыдая, отвечал:
– Да, я прощаю тебе, Хетти; я простил тебе уже давно.
Адаму казалось, что его мозг лопнет от скорби, когда он встретил глаза Хетти в первые минуты; но звук ее голоса, произносившего эти смиренные слова, коснулся струны, которая не была так напряжена: он чувствовал облегчение в том, что стало невыносимым, и на глазах навернулись редкие слезы; они не показывались уже давно, с тех самых пор, как он лежал на груди Сета при начале своего горя.
Хетти сделала невольное движение к нему; любовь, среди которой она жила некогда, снова чувствовалась ей при виде его. Она продолжала держать Дину за руку, но подошла к Адаму и робко произнесла:
– Поцелуете ли вы меня опять, Адам, несмотря на то что я сделала вам столько зла?
Адам взял побелевшую исхудалую руку, которую она протягивала ему, и они дали друг другу торжественный невыразимый поцелуй вечной разлуки.
– И скажите ему, – проговорила Хетти, несколько громче, – скажите ему… ведь, кроме вас, некому будет сказать ему это… что я отправилась за ним и не могла найти его… и ненавидела и проклинала его однажды… но Дина говорит, что я должна простить его… и я стараюсь… потому что иначе Бог не простит меня…
В эту минуту послышался шум у двери кельи: в замке повернулся ключ, и когда отворилась дверь, Адам неясно увидел, что там было несколько лиц. Он был слишком взволнован, чтоб заметить больше этого, даже чтоб заметить между ними лицо мистера Ирвайна. Он понял, что наступали последние приготовления и что ему нельзя было оставаться долее. Все безмолвно дали ему дорогу, и он пришел в свою комнату один, оставив Бартля Масси дождаться конца.
XLVII. Последняя минута
То было зрелище, оставшееся более памятным для некоторых, даже чем их собственные печали, – зрелище в это серое утро, когда роковую тележку с двумя молодыми женщинами увидела любопытная ожидающая толпа, направившаяся по дороге к страшному символу обдуманно наложенной внезапной смерти.
Весь Стонитон слышал о Дине Моррис, молодой методистке, которая довела упорную преступницу до сознания, и толпа с таким же любопытством желала увидеть ее, как и несчастную Хетти.
Но Дина почти не замечала толпы. Хетти, увидев многочисленное скопище народа в отдалении, судорожно прижалась к Дине.
– Закрой глаза, Хетти, – сказала Дина, – и, не переставая, будем молиться Богу.
И таким голосом, в то время как тележка медленно двигалась среди любопытной толпы, она с напряженною борьбой изливала всю душу в последней молитве за трепещущее существо, которое привязалось и жалось к ней как к единственному видимому явлению любви и сострадания.
Дина не знала, что толпа безмолвствовала и смотрела на нее с каким-то благоговением; она даже не знала, как близко они были от рокового места, когда тележка остановилась, и она содрогнулась, испуганная громким криком, ужасным для ее слуха, подобным страшному вою демонов. Пронзительный крик Хетти слился с этими звуками, и они, в взаимном ужасе, еще крепче прижались друг к другу.
Но то не были крики проклятия… не вой торжествующей свирепости.
То были крики внезапного сильного волнения при появлении всадника, мчавшегося во весь галоп и пролагавшего себе дорогу сквозь толпу. Лошадь разгорячена и измучена, не отвечает отчаянному побуждению шпорами; глаза всадника, кажется, омрачены безумием, и он видит только то, что остается невидимым для других. Смотрите, у него что-то в руках, он поднимает это кверху, как будто делает знак.
Шериф узнает его: это Артур Донниторн, держащий в руке трудно добытое избавление от смерти.
XLVIII. Еще встреча в лесу
На следующий день, вечером, два человека шли с противоположных концов к одному и тому же месту, влекомые туда общим обоим воспоминанием. Место действия была роща при донниторнской Лесной Даче; кто были лица – вы знаете.
Похороны старого сквайра совершились в это утро, завещание было прочитано, и теперь, в первую минуту отдыха, Артур Донниторн вышел прогуляться один, чтоб внимательнее пораздумать о новом будущем, открывавшемся перед ним, и найти силы привести в исполнение горькое намерение. Ему казалось, что всего лучше он достигнет этого в роще.
Адам также прибыл из Стонитона в понедельник вечером и сегодня выходил из дома только для того, чтоб навестить семейство на господской мызе и рассказать им все то, чего еще не досказал мистер Ирвайн. Он говорил Пойзерам, что последует за ними в их новое местопребывание, где бы последнее ни было. Он думал оставить управление лесами, и так скоро, как только ему будет возможно покончить свои дела с Джонатаном Берджем и переселиться с Сетом и матерью неподалеку от друзей, с которыми он чувствовал себя связанным общим горем.
– Сет и я, уж конечно, найдем работу, – говорил он. – Человек, знающий хорошо наше мастерство, будет дома везде, и вы должны начать новое поприще. Матушка не станет противоречить. Когда я пришел домой, она сказала мне, что решилась умереть в другом приходе, если я пожелаю этого и если мне будет покойнее в другом месте… Удивительно, как тиха стала она с тех пор, как я возвратился домой. Кажется, будто самая великость горя успокоила ее. Всем нам будет лучше в новой стране, хотя и есть здесь люди, с которыми мне будет трудно расстаться. Но я не могу расставаться с вами и с вашими, если только это будет в моей власти, мистер Пойзер. Горе сроднило нас.
– Конечно, Адам, – отвечал Мартин. – Мы переселимся в такое место, где не будем слышать и имени этого человека. Но, кажется, мы никогда не уйдем слишком далеко, и люди всегда узнают, что мы приходимся сродни тем, которых ссылают за моря и которых чуть не повесили. Этим всегда будут кидать нам в лицо, а после нас и нашим детям.
Визит на господской мызе был очень продолжителен и сильно подействовал на Адама, так что у него не хватило уже энергии думать о посещении других или о возвращении к своим прежним занятиям раньше следующего дня.
«Но завтра, – думал он, – я снова примусь за работу. Может быть, я снова приучусь любить занятия. Впрочем, все равно, люблю ли я их или нет, я должен работать».
В этот вечер он позволил себе в последний раз предаться горю: неизвестность кончилась, и он должен перенести, чего нельзя было изменить. Он решился не видеться более с Артуром Донниторном, если можно, избегать встречи с ним. Теперь он не имел никакого поручения от Хетти к нему, потому что Хетти видела Артура; к тому же Адам не доверял себе: он научился страшиться необузданности своих собственных чувств. Слова мистера Ирвайна, что он должен помнить, что он чувствовал после того, как нанес последний удар Артуру в роще, не выходили у него из памяти.
Эти мысли об Артуре, подобно всем мыслям, сопровождаемым сильными ощущениями, возвращались беспрестанно и всегда вызывали сцену в роще, то место под образовывавшими свод ветвями, где он увидел две наклонявшиеся фигуры и где его охватило внезапное бешенство.
«В последний раз пойду посмотрю это место сегодня, – сказал он, – это принесет мне пользу: это заставит меня снова перечувствовать все то, что я чувствовал, когда сшиб его с ног. Я чувствовал, как жалко я поступил, лишь только я совершил этот поступок и прежде чем я подумал, что он, может быть, умер».
Вот каким образом случилось, что Артур и Адам шли к одному и тому же месту в одно и то же время.
На Адаме было теперь его рабочее платье; он сбросил другое с чувством облегчения, лишь только прибыл домой. Итак, если б у него за плечами была корзинка с инструментами, то его можно было бы принять, при виде его бледного, худого лица, за призрак Адама Бида, входившего в рощу вечером в августе, восемь месяцев назад. Но у него не было корзинки с инструментами, и он не шел так прямо, как прежде, не бросал вокруг себя проницательных взоров, руки его были заложены в боковые карманы, а глаза почти все время потуплены в землю. Он только что вошел в рощу, как остановился перед буком. Ему хорошо было известно это дерево – то был знак рубежа его юности, воспоминание о том времени, когда оставили его некоторые из самых ранних и сильных ощущений. Он был уверен, что они никогда уже не возвратятся, а между тем в эту минуту в нем пробуждалось чувство привязанности к Артуру Донниторну, в которого он так верил, прежде чем подошел к этому буку восемь месяцев назад. То было расположение к покойнику: тот Артур уж более не существовал.
Нить его мыслей прервал шум приближавшихся шагов, но бук стоял на повороте дороги, и Адам не мог видеть, кто шел, пока высокая, стройная фигура в глубоком трауре не подошла к нему на расстояние двух шагов. Они оба были поражены и смотрели друг на друга в безмолвии. Часто в последние две недели Адам представлял себе, что встретится с Артуром именно таким образом – тогда он осыпал бы его словами, которые были бы столь же мучительны, как голос угрызений совести; тогда он насильно наложил бы на него справедливую долю горя, причиненного им, – и так же часто он думал, что лучше не быть такой встречи. Но, представляя себе встречу, он воображал Артура таким, каким встретил его в тот вечер в роще, румяным, беззаботным, легким на слова; человек же, стоявший перед ним теперь, тронул его своими признаками страдания. Адам сам знал, что такое страдание, и не мог наложить жестокою руку на убитого человека. Он не чувствовал побуждения, которому нужно было бы сопротивляться: безмолвие было справедливее упреков. Артур заговорил первый.
– Адам, – сказал он тихо, – может быть, хорошо, что мы встретились здесь, так как я очень хотел видеть вас. Я, во всяком случае, увиделся бы с вами завтра.
Он остановился, но Адам не сказал ничего.
– Знаю, как тягостно вам встретиться со мною, – продолжал Артур, – но это едва ли случится опять в продолжение многих лет.
– Нет, сэр, – произнес Адам холодно, – об этом самом я хотел писать вам завтра же, что лучше было бы прекратить все отношения между нами и назначить на мое место кого-нибудь другого.
Артур почувствовал всю резкость ответа и не без усилия заговорил снова:
– Я желал поговорить с вами отчасти и об этом предмете. Я не хочу уменьшать вашего негодования против меня, не хочу просить вас, чтоб вы сделали что-нибудь ради меня. Я хочу только спросить вас: не поможете ли вы уменьшить дурные последствия прошлого, которого уже нельзя изменить? Я говорю о последствиях, имея в виду не себя, а других. Я знаю, что могу сделать только очень немногое; я знаю, что самые горестные последствия останутся; но что-нибудь может быть сделано, и вы можете помочь мне в том. Выслушаете ли вы меня терпеливо?
– Да, сэр, – сказал Адам после некоторого колебания, – я выслушаю, что это такое. Если и могу помочь в исправлении чего-нибудь, я сделаю это. Я знаю, что гнев не исправит ничего; его уже было довольно.
– Я шел в эрмитаж, – сказал Артур, – не пойдете ли вы туда со мною; там мы можем и присесть, мы можем лучше поговорить там.
В эрмитаж не входил никто с тех пор, как они оставили его вместе, потому что Артур запер ключ от него в своем бюро. И теперь, когда он отворил дверь, там стоял подсвечник с догоревшею в нем свечкою; там стояло кресло на том же самом месте, где тогда сидел Адам; там была и корзинка с ненужными бумагами, и в ней, в самом низу – Артур вспомнил о том в первое же мгновение, – лежала маленькая розовая шелковая косыночка. Им было неприятно войти в это место, если б мысли, волновавшие их, были менее неприятны.
Они сели друг против друга на прежние места, и Артур сказал:
– Я уезжаю, Адам, я уезжаю в армию.
Бедный Артур чувствовал, что Адама должно было тронуть это известие, что Адам должен был обнаружить движение сострадания к нему. Но губы Адама оставались закрытыми, а выражение лица не переменилось.
– Вот что я хотел сказать вам, – продолжал Артур, – одна из причин, побуждающих меня уехать отсюда, та, чтоб никто другой не оставлял Геслопа… не оставлял Геслопа ради меня. Я готов сделать все; нет жертвы, на которую я бы не решился, чтоб предупредить дальнейшую несправедливость, которую могут иметь другие чрез мою… чрез то, что случилось.
Слова Артура произвели действие, совершенно противоположное тому, на которое он надеялся. Адам думал подметить в них мысли о вознаграждении за незагладимое зло, успокаивающую попытку заставить, чтоб зло принесло такие же плоды, как добро, и это более всего возбудило бы его негодование. Он чувствовал столь же сильное побуждение прямо лицом к лицу встретиться с тягостными фактами, какое заставляло Артура отворачиваться от них. Кроме того, он имел постоянную подозрительную гордость бедного человека в присутствии богатого; он чувствовал, что его прежняя суровость возвращалась к нему, когда сказал:
– Время прошло уже для этого, сэр. Человек должен приносить жертвы для того, чтоб избегнуть дурных поступков, но жертвы не изменят того, что уже сделано. Когда чувствам людей нанесена смертельная рана, они не могут быть излечены милостями.
– Милостями! – воскликнул Артур с жаром. – Нет, как могли вы предполагать, что я даже думал об этом? Но Пойзеры… Мистер Ирвайн сказал мне, что Пойзеры думают оставить место, где они прожили столько лет… несколько поколений? Разве вы не понимаете, как понимает мистер Ирвайн: что если б их можно было убедить в том, чтоб они преодолели чувство, которое гонит их отсюда, то для них было бы гораздо лучше остаться на старом месте, среди друзей и соседей, которые знают их?
– Это справедливо, – отвечал Адам холодно. – Но, сэр, чувства людей нельзя преодолеть так легко. Тяжело будет Мартину Пойзеру переселяться в чужое место, жить среди чужих лиц, когда он вырос на господской мызе, и также отец его перед ним. Но человеку, чувствующему то, что он, оставаться здесь еще тяжелее. И то и другое одинаково тяжело, и я не вижу, может ли это устроиться иначе. Этот вред, сэр, из тех, которых нельзя исправить.
Артур оставался несколько минут безмолвен. Вопреки другим чувствам, господствовавшим в нем в этот вечер, его гордость приходила в волнение от того, как обращался с ним Адам. Разве сам он не страдал? Разве он сам не был принужден отказаться от своих любимейших надежд? Ведь и теперь было так же, как и восемь месяцев назад. Адам заставлял Артура сильнее чувствовать неотменимость его собственного дурного поступка: он обнаруживал такого рода сопротивление, которое более всего раздражало пылкую, горячую натуру Артура. Но его гнев был подавлен тем же влиянием, которое подавило гнев Адама, когда они стояли друг против друга в первый раз: признаками страдания на лице давно знакомом. Минутная борьба прекратилась при мысли, что он многое мог перенести от Адама, которому он дал случай перенести столько, но в его голосе слышалась тень жалобного детского огорчения, когда он сказал:
– Но люди могут причинять худшие оскорбления неблагоразумными поступками… Уступая гневу и удовлетворяя его на минуту, вместо того чтоб подумать, какое действие будет он иметь в будущем. Если б я намеревался остаться здесь и действовать как помещик, – добавил он после некоторого времени, с возраставшим жаром, – если б я не заботился о том, что сделал, чего был причиною, то вас можно было бы несколько извинить, Адам, в том, что вы уходите отсюда и поощряете других покинуть это место. Тогда вас можно было бы еще несколько извинить в том, что вы стараетесь сделать зло еще хуже. Но когда я говорю вам, что уезжаю отсюда на целые годы, когда вы знаете, что это значит для меня, как это разрушает все планы счастья, которые я составлял прежде, то невозможно, чтоб такой умный человек, как вы, предполагал, будто Пойзеры имеют какую-нибудь основательную причину, по которой они отказываются остаться. Я знаю их мнение относительно бесчестья: мистер Ирвайн сообщил мне все; но он думает, что их можно разубедить в этой мысли, будто они обесчещены в глазах соседей и не могут оставаться в моем имении, если б вы помогли его усилиям, если б вы остались сами и продолжали по-прежнему управлять лесами. – Артур помолчал с минуту, потом умоляющим голосом присовокупил: – Вы знаете, что, делая это, вы делаете добро другим людям, уж не говоря о помещике. И почему вы знаете, не получите ли вы скоро другого владельца, для которого вам приятно будет работать? Если я умру, мой кузен Траджетт получит владение и примет мое имя. А он человек хороший.
Адам был тронут против воли: ему было невозможно не чувствовать, что то был голос честного, чувствительного Артура, которого он любил и которым гордился в прежнее время; но ближайшие воспоминания не могли быть уничтожены. Он молчал. Артур, однако ж, прочел на его лице ответ, который побуждал его продолжать с возраставшею горячностью:
– И тогда, если б вы поговорили с Пойзерами, если б вы переговорили об этом предмете с мистером Ирвайном – он намерен повидаться с вами завтра, – и тогда, если б вы присоединили к его доводам и ваши, чтоб убедить их не выселяться отсюда… Я знаю, что они, конечно, не примут от меня никакой милости; я хочу сказать: ничего подобного, но я уверен, что они тогда страдали бы меньше. Ирвайн думает так же, и мистер Ирвайн принимает на себя главное управление имением, он уж согласился на это в действительности, они не будут никого иметь над собою, а будут иметь человека, которого уважают и любят. То же самое было бы и с вами; и только желание причинить мне большее страдание может побудить вас оставить эту сторону… – Артур снова молчал несколько времени и потом, с некоторым волнением в голосе, сказал: – Я знаю, что я не поступил бы с вами таким образом. Если б вы были на моем месте, а я на вашем, то я употребил бы все усилия, чтоб помочь вам сделать лучшее.
Адам сделал быстрое движение на кресле и потупился в землю.
Артур продолжал:
– Может быть, вы никогда в жизни не делали ничего такого, в чем бы вам пришлось горько раскаиваться, Адам; если б это случилось с вами, вы были бы великодушнее. Тогда вы знали бы, что мне гораздо хуже вас. – Артур с последними словами встал с своего места и подошел к одному из окон. Он смотрел в окно, повернувшись к Адаму спиной, и с жаром продолжал: – Разве я не любил ее также? разве я не видел ее вчера? разве воспоминание о ней не будет преследовать меня всюду так же, как и вас? И неужели вы думаете, что вы страдали бы не больше, чем страдаете теперь, если б были виновны?
Наступило молчание, продолжавшееся несколько минут, потому что борьба, происходившая в сердце Адама, решалась нелегко. Характеры легкие, волнения которых не имеют большого постоянства, едва ли могут понять, какое внутреннее сопротивление он должен был преодолеть, прежде чем встал с места и обратился к Артуру. Последний слышал движение и, повернувшись, встретил грустный, но смягченный взгляд Адама.
– То, что вы говорили, сэр, справедливо, – сказал он, – я жесток – это в моей природе. Я обращался жестоко и с отцом за то, что он поступал дурно. Я был несколько жесток со всеми, кроме нее. Я чувствовал, будто никто не сожалел о ней… Ее страдания так и врезались в мое сердце. И когда я заметил, что ее родственники на мызе были слишком жестоки к ней, то обещал, что никогда более не буду обращаться сам жестоко ни с кем. Но сильное сострадание, которое я питаю к ней, сделало меня, может быть, несправедливым к вам. Я знал в своей жизни, что значит раскаиваться и чувствовать, что раскаяние уже поздно; я чувствовал, что был слишком суров к моему отцу, когда уже он покинул меня… я чувствую это и теперь, когда думаю о нем. Я не имею права быть жестоким к тем, кто виновен и раскаивается. – Адам произнес эти слова с твердою ясностью человека, решившегося не оставлять недосказанным ничего такого, что он обязан сказать. Но он продолжал уже с большею нерешительностью: – Я прежде не хотел пожать вам руку, сэр, когда вы просили меня… но если вы согласны на это теперь, несмотря на то что я отказался тогда…
В то же мгновение белая рука Артура была в большой руке Адама, и это действие сопровождалось с обеих сторон сильным порывом прежнего чувства привязанности, которое оба питали друг к другу еще с детства.
– Адам, – проговорил Артур, побуждаемый теперь к полному сознанию, – этого не случилось бы никогда, если б я знал, что вы любите ее; это спасло бы меня непременно. И я действительно боролся: я никогда и не думал причинить ей горе. Я обманывал вас впоследствии, и это повело к худшему, но я думал, что меня принуждали к тому обстоятельства, я думал, что это самое лучшее, что мог я только сделать. И в том письме я говорил ей, чтоб она уведомила меня, если будет находиться в затруднительном положении. Не думайте, чтоб я не сделал всего, что только было бы в моей власти. Но я был виновен с самого начала, и из этого проистекло ужасное зло. Бог видит, что я отдал бы жизнь свою за то, чтоб воротить это…
Они снова сели друг против друга, и Адам дрожащим голосом спросил:
– В каком положении находилась она, когда вы оставили ее, сэр?
– Не спрашивайте меня об этом, Адам, – отвечал Артур. – Я чувствую иногда, что сойду с ума, думая, в каком состоянии она находилась и что говорила мне, и потом, что я не мог получить полного прощения, что я не мог спасти ее от ужасной участи, ожидающей ее в ссылке, что я ничего не могу сделать для нее в продолжение всех этих лет… и она может умереть под этим гнетом и никогда более не знать утешения.
– Ах, сэр! – произнес Адам, впервые чувствуя, что его собственная боль погружалась в сострадание к Артуру. – Вы и я будем часто думать об одном и том же, когда нас будет отдалять друг от друга большое расстояние. Я буду молиться Богу, чтоб Он помог вам, как молюсь о том, чтоб помог мне.
– Но при ней находится эта милая женщина, Дина Моррис, – сказал Артур, преследуя свои собственные мысли и не зная, каков был смысл слов Адама. – Она говорит, что останется с нею до последней минуты ее отправления; и бедная, так привязана к ней – находить в ней такое утешение и спокойствие! Я был бы в состоянии преклоняться пред этой женщиной; я не знаю, что я сделал бы, если б ее не было там. Адам, вы увидитесь с нею, когда она возвратится. Вчера я не мог сказать ей ничего, сообщить ей то, что чувствую к ней. Скажите ей, – продолжал Артур поспешно, будто хотел скрыть волнение, с которым говорил, и в то же время снимая часы и цепочку, – скажите ей, что я просил вас передать ей на память от меня… от человека, который находит единственный источник спокойствия, когда думает о ней. Я знаю, что она равнодушна к подобного рода вещам… и вообще ко всему, что б я ни предложил ей, и не обращает внимания на их ценность, но она будет пользоваться часами… и мне будет отрадно думать, что она пользуется ими.
– Я передам ей, сэр, – сказал Адам, – я также передам ей ваши слова. Она сказала мне, что возвратится к родственникам на господскую мызу.
– И вы убедите Пойзеров остаться, Адам, – сказал Артур, вспомнив о предмете, о котором оба они забыли за первым обменом возвратившейся дружбы. – И вы останетесь сами и поможете мистеру Ирвайну в исполнении починок и исправлений по имению?
– Есть обстоятельство, сэр, которого, может быть, вы не имеете в виду при этом, – сказал Адам с нерешительною кротостью, – и которое заставило меня так долго колебаться. Видите ли, оно одно и то же для меня и для Пойзеров: если мы останемся, то останемся для нашего собственного мирского интереса, и всем покажется, будто мы готовы перенести все ради этого. И знаю, они будут чувствовать это, да и я сам не могу не сочувствовать им несколько. Люди, имеющие благородный, независимый характер, неохотно решаются на то, что может представить их низкими.
– Но никто из тех людей, которые знают вас, не будет такого мнения о вас, Адам: это не довольно сильная причина против поступка, который действительно великодушнее и менее эгоистичен, нежели какой-нибудь другой. Притом же это будет известно, и будет непременно известно, что и вы и Пойзеры остались по моим настоятельным просьбам. Адам, не старайтесь причинить мне большого зла; я и без того уже довольно наказан.
– Нет, сэр, нет! – проговорил Адам, смотря на Артура с грустною привязанностью. – Клянусь Богом, я не стану причинять вам большого зла. Находясь под влиянием страсти, я прежде желал, чтоб был в состоянии сделать вам это; но это было в то время, когда я думал, что вы недовольно чувствуете вашу вину. Я останусь, сэр; я сделаю все, что могу. Вот все, о чем мне придется думать теперь: хорошо делать свою работу и стараться, насколько могу, о том, чтоб свет был несколько лучшим местом для тех, кто может находить наслаждение в нем.
– Итак, мы расстанемся теперь, Адам. Повидайтесь завтра с мистером Ирвайном и переговорите с ним обо всем.
– Разве вы скоро уезжаете, сэр? – спросил Адам.
– Как только можно скорее, лишь только сделаю необходимые распоряжения. Прощайте, Адам. Я буду часто думать о том, как вы распоряжаетесь на вашем прежнем месте.
– Прощайте, сэр. Бог да благословит вас!
Они еще раз пожали друг другу руки, и Адам оставил эрмитаж, чувствуя, что горе можно было перенести скорее теперь, когда исчезла ненависть.
Лишь только дверь затворилась за Адамом, Артур подошел к корзинке с ненужными бумагами и вынул оттуда маленький розовый шелковый шейный платочек.
Книга шестая (последняя)
XLIX. На господской мызе
В 1881 году, более восемнадцати месяцев после того, как Адам и Артур расстались в эрмитаже, лучи первого осеннего послеобеденного солнца освещали двор господской мызы, и бульдог находился в припадке чрезвычайного волнения, потому что в этот час дна гнали коров на двор для послеобеденного доения. Неудивительно, что терпеливые животные в замешательстве бежали не туда, куда следовало: тревожный лай бульдога соединялся с более отдаленными звуками (а робкие существа женского рода, по извинительному суеверию, воображали, что эти звуки также имели некоторое отношение к собственным их движениям), с ужасным хлопаньем кнута возницы, шумом его голоса и с ревущим громом телеги, когда последняя уезжала со двора, освободившись от своего золотого груза.
Мистрис Пойзер любила это зрелище – доение коров, и в эти часы в ясные дни она обыкновенно стояла на крыльце с вязаньем в руках, в тихом созерцании, которое только возвышалось до более внимательного участия, когда злая желтая корова, однажды пролившая полное ведро с драгоценным молоком, должна была подвергаться предварительному наказанию, заключавшемуся в том, что ей связывали ремнем задние ноги.
В этот день, однако ж, мистрис Пойзер встретила рассеянным вниманием прибытие коров; она вела весьма горячий разговор с Диной, которая шила воротнички рубашек мистера Пойзера и терпеливо переносила то, что Тотти три раза оборвала ей нитку, вдруг сильно дергая ее за рукав, чтоб Дина взглянула на «ребеночка», то есть на большую деревянную куклу без ног и в длинной юбке. Голую голову куклы Тотти, сидевшая на своем небольшом стуле подле Дины, гладила и прикладывала к своей жирной щечке с большим жаром. Тотти значительно выросла в продолжение двух лет с лишком, с тех пор, как вы видели ее в первый раз, и на ней под передничком виднелось черное платьице. На мистрис Пойзер также черное платье, которое возвышает сходство между нею и Диною. В других отношениях не видать большой внешней перемены в наших прежних знакомых или в веселой общей комнате, где по-прежнему ярко блестят полированные дуб и олово.
– Мне, право, не случалось встречать кого-нибудь, кто бы походил на тебя, Дина, – говорила мистрис Пойзер. – Если уж ты заберешь себе что-нибудь в голову, то тебя уж не сдвинешь с места, все равно что пустившее корни дерево. Ты можешь говорить там что угодно, но я не верю, что это-то и есть религия. Что же значит это «Поучение на горе», которое ты так охотно читаешь детям, как не то, чтоб ты делала так, как желают от тебя другие? Но если б они захотели, чтоб ты сделала что-нибудь безрассудное, например чтоб ты сняла с себя салоп и отдала им или чтоб ты позволила им ударить тебя в лицо, то, я думаю, ты с готовностью исполнила бы их желание. Ты только упряма в таком случае, когда требуется, чтоб ты сделала то, чего требует здравый смысл и твоя же собственная польза, тут-то ты и упрямишься.
– Нет, дорогая тетушка, – сказала Дина, слегка улыбаясь и продолжая работать, – поверьте, ваше желание всегда будет для меня законом, кроме тех случаев, когда, по моему мнению, мне не следует исполнить чего-нибудь.
– Не следует! Ты выводишь меня совершенно из терпения! Я хотела бы знать, что тут дурного в том, если ты останешься с твоими родными, которые будут счастливее, имея тебя при себе, и готовы снабжать тебя всем, если б даже твоя работа и не вознаграждала их больше, чем нужно, за то, что ты съешь два-три кусочка да износишь несколько тряпок? И я желала бы знать, кого это на свете ты обязана успокаивать, кому помогать более, чем своей собственной плоти и крови?.. Подумай, ведь я твоя единственная на земле тетка, которая каждую зиму стоит на краю могилы… и у этого ребенка, что сидит рядом с тобою, изноет вся душа по тебе, если ты уедешь, да еще и не выждав года после смерти дедушки… да и дядя твой заметит твое отсутствие, тогда некому будет зажечь ему трубку и ходить за ним… Ведь теперь я могу доверить тебе приготовление масла, после того как мне стоило таких хлопот выучить тебя… Кроме того, теперь также бездна шитья, и мне приходится взять для этого из Треддльстона чужую девушку… и все это только потому, что тебе нужно возвратиться к этой голой куче камней, на которых не хотят оставаться даже вороны и пролетают мимо.
– Дорогая тетушка Рейчел, – произнесла Дина, смотря мистрис Пойзер прямо в лицо, – только ваше расположение заставляет вас говорить, что я вам полезна, в действительности же вы вовсе не нуждаетесь во мне теперь: Нанси и Молли мастерицы по своему делу, а вы теперь в добром здравии, благодарение Богу! Дядюшка снова находится в веселом расположении духа, и у вас немало соседей и добрых знакомых, некоторые из них почти ежедневно приходят посидеть с дядюшкой. Право, вы и не заметите моего отсутствия, а в Снофильде братья и сестры в большой нужде и не имеют ни одного из тех удобств, которыми вы окружены. Я чувствую, что меня призывает назад к тем, среди которых была вначале брошена моя судьба; я чувствую, что меня снова влечет к холмам, где, бывало, мне давалось благословение успокаивать словами жизнь грешников и сокрушенных.
– Ты чувствуешь, да, – сказала мистрис Пойзер, бросив между тем взгляд на коров. – Вот причина, которою я всегда должна довольствоваться, если ты решилась сделать что-нибудь противное. Что тебе проповедовать еще больше, чем ты проповедуешь теперь? Разве ты не уходишь, Бог знает куда, каждое воскресенье проповедовать и молиться? И ведь довольно есть тут методистов в Треддльстоне, куда ты можешь ходить и смотреть на них, если уж лица церковников слишком красивы, чтоб нравиться тебе, и разве нет в нашем приходе людей, которых ты имеешь под рукой и которые, вероятно, тотчас же снова подружатся с дьяволом, лишь только ты повернешься к ним спиною? Вот хоть бы эта Бесси Кренедж… ручаюсь тебе за то, что она будет щеголять в новых нарядах через три недели после твоего отъезда: она не станет идти новою дорогой без тебя, все равно что собака не станет стоять на задних лапах, когда никто на нее не смотрит. Но ты, вероятно, думаешь, что не стоит заботиться много о душах людей в этой стране, иначе ты осталась бы с своею родною теткой, а она вовсе не так хороша, чтоб твоя помощь не могла принесть ей большей пользы. – При этих словах в голосе мистрис Пойзер слышалось что-то такое, чего она не желала дать заметить; она торопливо отвернулась, посмотрела на часы и сказала: – Скажите! уж пора пить чай. Если Мартин на дворе, где копна, он также охотно выпьет чашку. Постой, Тотти, моя цыпочка, дай я надену на тебя шляпку, а ты сходи потом на двор да посмотри, там ли отец, и скажи ему, чтоб он не уходил оттуда, а зашел бы прежде выпить чашку чая. Да и братьям скажи также, чтоб приходили.
Тотти пустилась бежать рысью, в незавязанной шляпке, которая беспрестанно била ее по лицу, а мистрис Пойзер между тем выдвинула вперед блестящий дубовый стол и стала снимать с полки чайные чашки.
– Ты говоришь, что вот эти девушки, Нанси и Молли, мастерицы на свое дело, – начала она снова, – право, хорошо тебе толковать таким образом. Все они на один покрой, это все равно умны ли они или глупы, на них нельзя положиться или оставить их без присмотра ни на одну минуту. Нужно, чтоб за ними чей-нибудь глаз следил постоянно, чтоб держать их за работой. А теперь, если я снова захвораю нынешнею зимою, как была больна прошлую зиму, кто же станет смотреть за ними, если тебя не будет? А тут еще этот невинный ребенок… ведь с ней уж непременно случится что-нибудь… они дадут ей свалиться в огонь или подойти к котлу с кипящим свиным салом… или с ней случится какое-нибудь несчастье, которое изуродует ее на всю жизнь. И во всем этом будешь виновата ты, Дина.
– Тетушка, – возразила Дина, – даю вам слово возвратиться к вам зимою, если вы будете больны. Не думайте, чтоб я когда-нибудь осталась вдали от вас, если вы будете нуждаться во мне действительно. Но, право, для моей собственной души необходимо, чтоб я ушла от этой спокойной и роскошной жизни, в которой я в таком изобилии наслаждаюсь всем… по крайней мере, чтоб я ушла хотя на короткий срок. Никто, кроме меня, не может знать, в чем заключаются мои внутренние потребности и беспокойства, от которых я больше всего нахожусь в опасности. Ваше желание, чтоб я осталась здесь, не есть призыв долга, которому я отказывалась бы повиноваться, потому что это не соответствует моим собственным желаниям; это такое искушение, которому я должна противостоять для того, чтоб любовь к творению не сделалась в моей душе подобною туману, не допускающему небесный свет.
– Мои понятия не позволяют мне знать, что ты разумеешь под спокойною и роскошною жизнью, – сказала мистрис Пойзер, нарезывая хлеб и намазывая его маслом. – Правда, что ты имеешь хорошую пищу; никто не скажет, что я приготовляю мало, напротив, даже с излишком, но если найдутся какие-нибудь обрезки да остатки, которые никто не захочет есть, ты непременно подберешь их… Посмотри-ка! Это Адам Бид несет сюда нашу малютку. Что это значит, что он сегодня так рано?
Мистрис Пойзер торопливо подошла к дверям из удовольствия посмотреть на свою любимицу в новом положении, с любовью в глазах, но с выговором на языке.
– О, как не стыдно, Тотти! – восклицала она. – Пятилетние девочки должны стыдиться, чтоб их носили на руках. Послушайте, Адам, да она переломит вам руку, этакая большая девушка. Спустите ее на пол… Стыд какой!
– Нет, нет, – сказал Адам, – я могу поднять ее на одной ладони, мне для этого вовсе ненужно руки.
Тотти, столь же ясно сознававшая замечание, как жирный белый щенок, была поставлена на порог, а мать подкрепила свои выговоры бесчисленными поцелуями.
– Вы удивляетесь, что видите меня в такое время дня, – сказал Адам.
– Да. Но войдите, – проговорила мистрис Пойзер, давая ему дорогу, – надеюсь, вы не с дурными вестями?
– Нет, дурного нет ничего, – отвечал Адам, подходя к Дине и подавая ей руку.
Она положила работу и как бы невольно встала, когда он приблизился к ней. Слабый румянец исчез с ее бледных щек, когда она подала ему руку и робко взглянула на него.
– Поручение к вам привело меня сюда, Дина, – сказал Адам, по-видимому не сознавая, что все еще держал ее руку. – Матушка немного больна и вот все только и думает о том, как бы вы пришли провести с ней ночь, если будете так добры. Я обещал ей зайти сюда, возвращаясь из деревни, и попросить вас. Она уж слишком мучит себя работой, и я не могу уговорить ее, чтоб она взяла себе какую-нибудь девочку на подмогу. Я, право, не знаю, что и делать.
Адам выпустил руку Дины, когда перестал говорить, и ожидал ответа; но, прежде чем она успела раскрыть рот, мистрис Пойзер сказала:
– Ну, видишь ли! Не говорила ли я тебе: в нашем приходе есть довольно людей, которым нужна помощь, и что для этого нет надобности уходить отсюда? Вот и мистрис Бид становится уж очень стара, подвержена разным недугам и не позволяет приблизиться к ней почти никому, кроме тебя. Леди в Снофильде научились в это время лучше обходиться без тебя, чем она.
– Я сейчас же надену шляпку и отправлюсь, если вам не нужно, чтоб я сделала что-нибудь прежде у вас, тетушка, – сказала Дина, складывая работу.
– Да, у меня есть для тебя дело: я хочу, чтоб ты напилась чаю, дитя мое. Все уже готово. И вы напьетесь с нами, Адам, если не очень спешите.
– Да, позвольте, я выпью с вами, а потом пойду с Диной. Я иду прямо домой, потому что мне надо выписать оценку леса.
– А, друг Адам, вы здесь? – сказал мистер Пойзер, входя в комнату, красный от жары и без сюртука. За ним следовали два черноглазых мальчика, все еще столько же походившие на него, сколько два маленькие слона походят на большого. – Скажите, чему это приписать, что мы видим вас в такую раннюю пору до ужина?
– Я пришел по поручению матушки, – отвечал Адам. – К ней возвратилась ее прежняя боль, и она просит, чтоб Дина пришла к ней да побыла у нее немножко.
– Хорошо, мы, пожалуй, уступим ее ненадолго вашей матушке, – сказал мистер Пойзер. – Но мы не уступим ее никому другому, разве еще только ее мужу.
– Мужу! – сказал Марти, детский ум которого находился в периоде самого прозаического и буквального понимания. – Да ведь у Дины нет еще мужа.
– Уступить ее? – произнесла мистрис Пойзер, поставив на стол сладкий хлеб и затем усаживаясь разливать чай. – Кажется, мы должны уступить ее, и не только мужу, а ее собственным капризам… Томми, что ты тут делаешь с куклой твоей маленькой сестры? Заставляешь ребенка только упрямиться, когда она вела бы себя хорошо, если б ты оставил ее в покое. Ты не получишь ни кусочка сладкого хлеба, если будешь вести себя таким образом.
Томми в это время с истинно братским чувством забавлялся тем, что заворачивал рубашонку Долли на ее голою голову и представлял ее изувеченное туловище на всеобщее посмеяние. Такая обида просто была острым ножом для сердца Тотти.
– Как ты думаешь, что говорила мне Дина все время с тех пор, как мы отобедали? – продолжала мистрис Пойзер, смотря на мужа.
– Э-э-эх! Я куда как плох на угадыванье, – заметил мистер Пойзер.
– Да вот что: она думает снова возвратиться в Снофильд, работать на фабрике и морить себя голодом, как, бывало, делала прежде, словно бедное создание, не имеющее родных.
Мистер Пойзер не тотчас нашелся выразить свое неприятное изумление; он только посмотрел сначала на жену, потом на Дину, которая теперь села рядом с Тотти, чтоб служить для последней оплотом против игривости братьев, и занялась тем, что поила детей чаем. Если б он предавался рассуждениям вообще, то заметил бы, что с Диною произошла перемена, потому что прежде она никогда не изменялась в лице. Но так он только видел, что ее лицо несколько разгорелось в эту минуту. Мистер Пойзер думал, что она от этого еще милее; румянец этот не был гуще краски лепестка месячной розы. Может быть, это происходило оттого, что ее дядя смотрел на нее так пристально; но мы не в состоянии положительно сказать, что это было так, потому что именно в это время Адам с тихим изумлением сказал:
– Как? А я надеялся, что Дина поселилась между нами на всю жизнь! Я думал, что она уж оставила это желание возвратиться в свои прежние места.
– Вы думали, да? – сказала мистрис Пойзер. – Точно так думал бы всякий, у кого рассудок на своем месте. Но, кажется мне, нужно быть методистом, чтоб знать, что сделает методист. Трудно угадать, зачем летят летучие мыши.
– Ну, что ж мы тебе сделали, Дина, что ты хочешь уйти от нас? – сказал мистер Пойзер, все еще сидя в раздумье над своею чашкой. – Ведь таким образом ты почти изменяешь своему обещанию – твоя тетка думала всегда, что ты останешься у нас, как дома.
– Нет, дядюшка, – отвечала Дина, стараясь быть совершенно спокойною. – Когда я только что пришла, то сказала, что пришла только на время, пока могу быть в чем-нибудь полезной тетушке.
– Хорошо. А кто же сказал, что ты перестала быть полезной мне? – спросила мистрис Пойзер. – Если ж ты не имела намерения остаться со мною навсегда, то лучше и не приходила бы вовсе. Кто всегда спал без подушки, тот и не вспомнит о ней.
– Нет, нет! – сказал мистер Пойзер, не любивший преувеличений. – Ты не должна так говорить. Нам было бы очень дурно без нее в прошлом году, около Благовещения. Мы должны быть ей благодарны за это, все равно, останется ли она или нет. Но я не могу понять, для чего ей нужно оставить хороший дом и возвратиться в места, где земля по большей части не стоит и десяти шиллингов за акр, если взять во внимание и ренту и выгоды.
– Как же, да она по этой именно причине и хочет возвратиться туда, если только она может указать на какую-нибудь причину, – сказала мистрис Пойзер – Она говорит, что эти места слишком спокойны, что здесь и наесться-то можно досыта и люди недовольно несчастны. И она отправляется на будущей неделе. Я не могу отговорить ее от этого, уж как я ни пыталась. Ведь они все таковы, эти люди, имеющие кроткий вид: с ними говорить все равно что по мешку с перьями бить. Но я повторяю, это не религия быть такой упрямой, не правда ли, Адам?
Адам видел, что Дина была непокойна; он никогда не замечал прежде, чтоб она была таким образом расстроена при каком-нибудь случае, касавшемся ее лично. Желая облегчить ее, если то было возможно, он сказал, смотря с чувством:
– Нет, я не могу порицать то, что делает Дина. Я думаю, ее мысли лучше наших догадок, каковы бы они там ни были. Я был бы благодарен ей, если б она осталась среди нас; но если она считает за лучшее уйти отсюда, то я не стал бы поперечить ей в том или делать для нее разлуку трудной возражениями. Мы обязаны оказывать ей вовсе не это.
Как нередко случается, слова, имевшие целью облегчить ее, в эту минуту слишком глубоко подействовали на чувствительное сердце Дины. Слезы выступили на ее серых глазах так скоро, что она не успела скрыть их; она поспешно встала, как бы давая тем понять, что пошла надевать шляпку.
– Мама, о чем плачет Дина? – спросила Тотти. – Ведь она ее упрямая девочка.
– Ты зашла уж немного далеко, – сказал мистер Пойзер. – Мы не имеем права останавливать ее делать то, что она хочет. И ты куда бы как рассердилась на меня, если б я хоть слово сказал против того, что она делает.
– Потому что ты, очень вероятно, стал бы порицать ее без причины, – сказала мистрис Пойзер. – Но в том, что я говорю, есть основательная причина, иначе я не стала бы и говорить. Легко тут толковать тем, кто не может любить ее так, как любит ее родная тетка. А я еще так привыкла к ней! Да мне будет так же неловко, когда она уйдет от меня, как только что обстриженной овце. И как подумаешь, право, что она оставляет приход, где ее все так уважают! Мистер Ирвайн обращается с нею так, как будто с леди, несмотря на то что она методистка и в голове у нее эта прихоть – проповедование… Прости меня, Господи, если я поступаю дурно, говоря таким образом.
– Конечно, – сказал мистер Пойзер, принимая веселый вид. – Но ты не рассказала Адаму, что говорил тебе наш пастор насчет этого однажды. Наша хозяйка, Адам, говорила, что проповедование – единственный недостаток, который можно найти в Дине, а мистер Ирвайн говорит: но вы не должны порицать ее за это, мистер Пойзер; вы забываете, что у нее нет мужа, которому она могла бы проповедовать. Я готов ручаться чем угодно, что вы нередко читаете Пойзеру хорошую проповедь. Да, поддел же тебя пастор! – добавил мистер Пойзер, весело смеясь. – Я рассказал Бартлю Масси, и он также смеялся над этим.
– Да, самая пустая шутка заставляет смеяться мужчин, когда они сидят, выпучив глаза друг на друга, с трубкой в зубах, – сказала мистрис Пойзер. – Дай-ка волю Бартлю Масси, так он начнет острить за всех. Если б косарю пришлось сотворить нас, то мы все, я знаю, были бы соломой. Тотти, моя цыпочка, сходи наверх к кузине Дине, посмотри, что она делает, и поцелуй ее хорошенько.
Это поручение было назначено Тотти как средство, чтоб унять известные угрожавшие симптомы около уголков ее ротика, так как Томми, не ожидавший больше сладкого хлеба, распяливал веки указательными пальцами и поворачивал зрачки к Тотти, которая принимала это за личную обиду.
– Вы заняты теперь на славу, Адам, – сказал мистер Пойзер. – Бердж становится очень плох, при его одышке он едва ли когда-либо будет в состоянии снова разъезжать по работам.
– Да, у нас на руках теперь порядочно построек, – сказал Адам, – со всеми починками по имению и новыми домами в Треддльстоне.
– Бьюсь об заклад, что новый дом, который Бердж строит на своей собственной земле, он строит для себя и для Мери, – проговорил мистер Пойзер. – Он, вероятно, скоро оставит свое дело – я уверен в том, – и захочет, чтоб вы взяли на себя все и платили ему известную сумму в год. Не пройдет и года, как вы будете жить там, на холму, вот увидите!
– Ну, – сказал Адам, – мне было бы приятнее иметь дело на своих собственных руках, не потому, чтоб я очень заботился о приобретении побольше денег: у нас теперь их довольно и мы даже откладываем, так как нас всего двое да мать, – но мне хотелось бы распоряжаться всем по-своему, я мог бы тогда и приводить в исполнение планы, которые не могу исполнить теперь.
– Вы, кажется, очень сошлись с новым управителем? – спросил мистер Пойзер.
– Да, да, он человек довольно умный: знает толк в фермерском деле, заботится об осушении почвы, и всем этим занимается отлично. Сходите когда-нибудь в ту часть, что обращена к Стонишейру, и посмотрите, какие улучшения делаются там. Но он ничего не смыслит в постройках. Да ведь редко удастся вам найти человека, который мог бы охватить умом более одного предмета, словно мы носим наглазники, как лошади, и не можем видеть на все стороны. Но за то мистер Ирвайн знает это дело лучше большей части архитекторов. Право, что касается архитекторов, все они стараются казаться куда какими умниками, а большая часть из них не знает, где поставить камин так, чтоб он не поссорился с дверью. По моему мнению, опытный каменщик, имеющий немного вкуса, самый лучший архитектор для обыкновенных построек, и мне в десять раз приятнее надзирать за делом, когда план составлял я сам.
Мистер Пойзер слушал с внимательным участием мнение Адама о постройках, а может быть, это внушило ему мысль, что постройка его копен уж слишком долго оставалась без надзора хозяйского, потому что, когда Адам кончил говорить, мистер Пойзер встал и сказал:
– Ну, друг, я прощусь с вами теперь, я должен отправиться к своим копнам.
Адам также встал, увидев, что в комнату вошла Дина в шляпке и с небольшою корзинкой в руке.
– Я вижу, вы готовы, Дина, – сказал Адам, – в таком случае отправимся, потому что, чем скорее я буду дома, тем лучше.
– Мама, – сказала Тотти тоненьким голоском, – Дина читала молитвы и так плакала.
– Перестань, перестань! – проговорила мать. – Маленькие девочки не должны болтать.
Затем отец, сотрясаясь от тихого смеха, поставил Тотти на белый сосновый стол и требовал, чтоб она поцеловала его. Мистер и мистрис Пойзер, как вы можете заметить, не были последовательны в правилах воспитания.
– Возвращайся завтра же, если мистрис Бид не будет нуждаться в тебе, Дина, – сказала мистрис Пойзер. – Но ты знаешь, что можешь остаться, если она не здорова.
Таким образом, простившись со всеми, Дина и Адам вышли из господской фермы вместе.
L. В хижине
Адам не предложил своей руки Дине, когда они вышли на дорогу. Он еще никогда не делал этого, хотя они и часто ходили вместе: он заметил, что она никогда не ходила под руку с Сетом, и думал, что ей, может быть, была неприятна подобного рода поддержка. Таким образом, они шли отдельно, хотя и рядом, и маленькая закрытая черная шляпка совершенно скрывала от него ее лицо.
– Итак, вы не можете быть счастливы, оставаясь навсегда на господской ферме, Дина? – сказал Адам с тихим участием брата, не чувствующего беспокойства за себя в этом деле. – Право, жаль, когда видишь, как они расположены к вам.
– Вы знаете, Адам, мое сердце так же, как и их сердце, что касается любви к ним и заботы о их благосостоянии, но они теперь не находятся в нужде, их печали излечены, и я чувствую, что меня призывает назад мое прежнее дело, где я находила благословение, которого мне недоставало в последнее время среди слишком изобильных мирских благ. Я знаю, что это суетная мысль бежать от дела, назначаемого нам Богом, ради того, чтоб найти большее благословение нашей собственной душе, будто мы можем выбирать сами собой, где найдем полноту божественного присутствия, вместо того чтоб искать его там, где оно только и может быть найдено, в кроткой покорности. Но теперь, я думаю, я имею ясное указание, что мое дело находится в другом месте, по крайней мере на некоторое время. Впоследствии, если здоровье тетушки начнет приходить в упадок или если она будет нуждаться во мне как-нибудь иначе, я возвращусь.
– Вам лучше знать это, Дина, – сказал Адам. – Я не верю, чтоб вы шли против желаний тех, кто любил вас и кто связан с вами кровными узами, не имея хорошей и удовлетворительной причины в вашей собственной совести. Я не имею никакого права говорить, что это огорчает и меня. Вам довольно хорошо известно, по какой причине я ставлю вас выше всех друзей, которые только есть у меня; и если б судьбе было угодно назначить таким образом, чтоб вы были моей сестрой и жили с нами в продолжение всей нашей жизни, я считал бы это величавшею благодатью, которая только могла бы выпасть на нашу долю. Но Сет говорит мне, что нет никакой надежды на это: ваши чувства слишком различны. Может быть, я слишком многое взял на себя, заговорив об этом.
Дина не отвечала, и они прошли молча несколько шагов до каменной оградки. Адам перешел чрез нее первый и, обернувшись, подал Дине руку, чтоб помочь ей перебраться чрез необыкновенно высокую ступеньку, и в то же время мог разглядеть ее лицо. Он был поражен удивлением: серые глаза, обыкновенно столь кроткие и серьезные, имели ясное, беспокойное выражение, сопровождающее подавленное волнение, а легкий румянец, разлившийся по ее лицу, когда она сошла со ступеньки, превратился в густой розовый цвет. Она имела вид, будто была только сестрою Дины. Адам стал безмолвен от удивления и догадок на несколько минут и потом сказал:
– Надеюсь, я не обидел и не рассердил вас тем, что сказал, Дина, может быть, я позволил себе уж слишком большую вольность. Мое желание нисколько не противоречит тому, что вам кажется лучшим, и я так же буду доволен, когда вы будете жить за тридцать миль от вас, если только вы думаете, что это должно быть так. Я буду иметь вас в мыслях столько же, сколько теперь: вы нераздельно связаны с тем, о чем я не могу не вспоминать так же, как я не могу запретить моему сердцу биться.
Бедный Адам! Вот как ошибаются люди! Дина ничего не отвечала в эту минуту, но немного спустя сказала:
– Не имели ли вы известий об этом бедном молодом человеке с тех пор, как мы говорили о нем в последний раз?
Дина всегда так называла Артура; она никогда не теряла из памяти его образа, как видела его в тюрьме.
– Да, – сказал Адам. – Мистер Ирвайн читал мне вчера часть его письма. Говорят, весьма вероятно, что скоро будет заключен мир, хотя никто не думает, чтоб он был продолжителен. Но он пишет, что не думает возвратиться домой: у него еще недостает на это духу; да и для других лучше, чтоб он не возвращался. Мистер Ирвайн думает, что он хорошо сделает, если не поедет сюда… Письмо чрезвычайно грустное. Он спрашивает о вас и о Пойзерах, как всегда. Одно место в письме тронуло меня в особенности. «Вы не можете себе представить, каким стариком чувствую я себя, – пишет он. – Я не делаю теперь никаких планов. Я чувствую себя лучше всего, когда мне предстоит пройти хороший путь или стычка».
– У него весьма живой нрав и теплое сердце, как у Исава, к которому я всегда питала большое сочувствие, – сказала Дина. – Эта встреча братьев, где Исав обнаруживает столь любящее сердце из великодушия и где Иаков высказывается столь робким и недоверчивым, трогала меня всегда в высшей степени.
– Ах, – сказал Адам, – а я лучше люблю читать о Моисее в Ветхом Завете: он хорошо вынес на себе тяжкое дело и умер в то время, когда другим приходилось собирать плоды. Человек должен иметь мужество, чтоб смотреть на эту жизнь таким образом и думать, что выйдет из этого, когда он умрет и его не будет. Хорошая, прочная часть работы долго не подвергается разрушению. Например, возьмем хоть хорошо выстланный пол: он пригоден и другим, а не только тому, кто его выстлал.
Оба с радостью говорили о предметах, которые не были личными; таким образом они уже прошли мост через Ивовый ручеек, как Адам обернулся и сказал:
– А! вот и Сет. Я так и думал, что он скоро придет домой. Знает он, что вы оставляете нас, Дина?
– Да, я сказала ему в прошлое воскресенье.
Адам вспомнил теперь, что Сет возвратился домой в воскресенье вечером очень опечаленный, чего с ним вовсе не случалось в последнее время. Счастье, ощущаемое им в том, что он видел Дину еженедельно, казалось, уже давно перевесило боль, которую возбуждала в нем мысль, что она никогда не выйдет за него замуж. В этот вечер на его лице, как обыкновенно, выражалось мечтательное кроткое довольство, пока он подошел близко к Дине и увидел следы слез на ее изящных веках и ресницах. Быстрым взглядом окинул он брата. Но Адаму, очевидно, вовсе не было известно волнение, которое потрясло Дину: на его лице выражалось всегдашнее, ничего не ожидающее спокойствие.
Сет старался показать Дине, что не заметил беспокойства на ее лице, и только сказал:
– Я благодарен вам за то, что вы пришли, Дина, потому что матушка все эти дни жаждала видеть вас. И сегодня утром прежде всего она заговорила о вас.
Когда они вошли в хижину, Лисбет сидела в своем кресле; она слишком утомилась приготовлением ужина, чем всегда занималась очень заблаговременно, и не вышла, по обыкновению, на крыльцо встречать сыновей, когда заслышала приближавшиеся шаги.
– Наконец-то ты пришла, дитя мое! – сказала она, когда Дина подошла к ней. – Что это значит, что ты оставляешь меня, слабую, и никогда не зайдешь посидеть со мной?
– Дорогой друг, – сказала Дина, взяв ее за руку, – вы не здоровы. Если б я знала это раньше, то пришла бы непременно.
– А как же ты узнаешь, если не будешь приходить сюда? Сыновья-то узнают про то только тогда, когда я скажу им. Пока вот ты можешь пошевелить рукою или ногою, мужчины все будут думать, что ты здорова. Но я не очень больна, только немного простудилась. А сыновья все вот надоедают мне: возьми да возьми кого-нибудь помочь в работе… а от их болтовни мне еще больше хворается. Если б ты пришла сюда, побыла со мной, они и оставили бы меня в покое. Пойзеры, верно, уж не нуждаются в тебе так, как я. Но сними-ка твою шляпку да дай взглянуть на тебя.
Дина хотела отойти, но Лисбет держала ее крепко в то время, как она снимала шляпку, и смотрела ей прямо в лицо, как обыкновенно смотрят на только что сорванный подснежник, чтоб возобновить прежние впечатления чистоты и простоты.
– Что такое с тобой? – спросила Лисбет с изумлением. – Ты плакала?
– Это только небольшая печаль, которая скоро пройдет, – сказала Дина, в настоящее время не желавшая вызвать со стороны Лисбет возражения, если б объявила ей о своем намерении оставить Геслоп. – Вы скоро узнаете об этом; мы поговорим вечером. Я останусь у вас на ночь.
Это обещание успокоило Лисбет, и она весь вечер разговаривала с одной Диной. В хижине, вы помните, была новая комната, выстроенная около двух лет назад, в ожидании нового члена семейства; и здесь обыкновенно сидел Адам, когда ему нужно было писать что-нибудь или чертить планы. Сет также сидел здесь в тот вечер, так как знал, что его мать захочет совершенно завладеть Диной.
По обеим сторонам стены хижины были две приятные картины: по одну сторону находилась широкоплечая, с крупными чертами, здоровая старуха, в синей куртке и желтой косынке, ее тусклые, выражавшие заботливость глаза постоянно обращалась на белое, как лилия, лицо и гибкую, в черной одежде, фигуру, которая или неслышно двигалась в комнате, помогая то в том, то в другом, или сидела возле кресла старухи, держа ее за исхудавшую руку, и прямо смотря ей в глаза, говорила с ней на языке, который Лисбет понимала гораздо лучше, нежели Библию или Псалтирь. В тот вечер она не хотела слышать чтения.
– Нет, нет, закрой книгу, – сказала она. – Нам нужно поговорить. Я хочу знать, о чем ты плакала. Разве и у тебя есть беспокойства, как у других?
По другую сторону стены были два брата, столь похожие друг на друга при всем своем несходстве: Адам, с нахмуренными бровями, взъерошенными волосами, с густым, темным румянцем на лице, совершенно погруженный в свои вычисления, и Сет, с крупными, грубыми чертами лица, близкая копия брата, но с жидкими, волнистыми русыми волосами и голубыми сонливыми глазами, бессмысленно-смотревший то в окно, то в книгу, несмотря на то что это была вновь купленная книга: «Обзор жизни мадам Гюйон» Весли, книга, изумлявшая и интересовавшая его чрезвычайно.
Сет сказал Адаму:
– Не могу ли я помочь тебе в чем-нибудь здесь сегодня? Я не хочу шуметь в мастерской.
– Нет, брат, – отвечал Адам, – здесь есть только дело для меня. У тебя есть новая книга, читай ее.
И часто, когда Сет вовсе не замечал этого, Адам, налиновав строку и останавливаясь на минуту, смотрел на брата с ласковой улыбкой, сиявшей в его глазах. Он знал, что «парень любил посидеть над мыслями, в которых не мог дать никакого отчета; мысли эти не приведут ни к чему, а между тем они делают его счастливым», а с год времени или больше Адам становился все снисходительнее к Сету. То была часть возраставшей нежности, происходившей от грусти, наполнявшей его сердце.
Хотя Адам, по-видимому, совершенно владел собою, прилежно работал и находил наслаждение в работе – по своей врожденной неотчуждаемой природе, – но он не пережил еще своей печали, не чувствовал, чтоб она спала с него, как временное бремя, и снова оставила его прежним человеком. Да разве это случается с кем-нибудь из нас? Избави Бог! Это был бы жалкий результат всех наших забот и всей нашей борьбы, если б в заключение всего мы оставались тем, чем были прежде, если б мы могли возвращаться к прежней слепой любви, к прежнему самонадеянному порицанию, к легкомысленному взгляду на человеческие страдания, к тем же суетным толкам о напрасно потраченной человеческой жизни, к тому же слабому сознанию неизвестного, к которому мы воссылали неудержимые мольбы в нашем одиночестве. Будем же скорее благодарны за то, что наше горе живет в нас как несокрушимая сила, изменяясь только в форме, как обыкновенно изменяются силы, и переход из боли в сочувствие – единственное бедное слово, заключающее в себе все наши лучшие познания и нашу лучшую любовь. Нельзя сказать, чтоб в Адаме вполне совершилась эта перемена боли в симпатию: в нем еще существовала большая часть боли, которая останется в нем; он чувствовал это до тех пор, пока эта боль не будет воспоминанием, а будет действительностью; а она возобновлялась с рассветом каждого нового дня. Но мы привыкаем так же хорошо к нравственной, как и к физической боли, не теряя при всем том нашей чувствительности к этому, и она становится в нашей жизни привычкою, и мы перестаем воображать, что для нас возможно состояние совершенного спокойствия. Желание переходит в смирение, и мы довольны своим днем, если были в состоянии перенести свою грусть в безмолвии и поступать так, будто мы не страдали. Именно в такие-то периоды сознания, что наша жизнь имеет видимые и невидимые соотношения, за пределами которых или наше настоящее или будущее и составляет центр, растет подобно мускулу, на который мы принуждены опираться и который принуждены напрягать.
Таково было душевное состояние Адама во вторую осень его горя. Вы знаете, что его занятия всегда были частью его религии, и с самого раннего возраста он видел ясно, что, занимаясь своим делом хорошо, он следует воле Божьей, что его занятие было тою формою Божьей воли, которая более всего непосредственно касалась его. Но теперь для него уже не существовало пыла мечтаний за этою действительностью, озаряемой дневным светом, не было праздничного времени в будничном свете, ни мгновения вдали, когда долг снимет с него свою железную рукавицу и латы и нежно успокоит его на груди. Он видел только одну картину будущности, состоящую из тяжелых рабочих дней, подобных тем, которые он переживал, с возраставшими с каждой неделей довольством и интересом; он думал, что любовь будет для него одним лишь живым воспоминанием, членом подрезанным, но не лишившимся сознания. Он не знал, что власть любви между тем приобретала в его сердце новую силу, что новая чувствительность, купленная глубоким опытом, была бесчисленными новыми фибрами, посредством которых было возможно, даже необходимо, чтоб его природа нашла другую. А между тем он замечал, что обыкновенное расположение и дружба были теперь драгоценнее для него, чем, бывало, прежде, что он больше привязывался к матери и Сету и чувствовал невыразимое удовольствие, видя или воображая, что их счастье увеличивалось хотя чем-нибудь. То же было и относительно Пойзеров. Едва ли проходило более трех или четырех дней без того, чтоб он не почувствовал потребности видеться с ними и обменяться дружескими словами и взглядами: он, вероятно, чувствовал бы это даже и тогда, если б Дина была с ними; но он сказал только простейшую истину, сообщив Дине, что ставил ее над всеми прочими друзьями на свете. Могло ли что-нибудь быть естественнее? В самые мрачные моменты его воспоминаний мысль о Дине всегда представлялась ему первым лучом возвращавшегося спокойствия: мрак первых дней на господской мызе был мало-помалу обращен в мягкое месячное сияние ее присутствием; то же было и в хижине, потому что она приходила каждую свободную минуту утешать и успокаивать бедную Лисбет, пораженную при виде исхудалого от горя лица своего возлюбленного Адама страхом, который заглушил даже ее привычку жаловаться. Он привык наблюдать за ее легкими, тихими движениями, ее милым, полным любви обращением с детьми, когда приходил на господскую мызу, прислушиваться к звуку ее голоса, как к беспрестанно повторявшейся музыке, думать, что все, что она говорила или делала, было именно так, как следовало, и не могло быть лучше. При всем своем уме он не мог порицать ее за то, что она слишком баловала детей, сделавших из Дины-проповедницы, перед которою нередко несколько трепетала толпа грубых мужчин, удобную домашнюю рабу, хотя Дина сама несколько стыдилась своей слабости и переносила внутреннюю борьбу относительно отступления от наставлений Соломоновых. Одно только могло бы быть лучше: пусть бы она полюбила Сета и согласилась выйти за него замуж. Ради брата он чувствовал некоторое огорчение и против воли с сожалением думал о том, как Дина, сделавшись женой Сета, сделала бы дом их счастливым для них всех, как она была бы единственным существом, которое утешало бы его мать и превратило бы ее последние дни в дни мира и покоя.
«Право, удивительно, что она не любит парня, – думал иногда Адам. – Ведь всякий подумал бы, что он просто создан для нее. Но ее сердце так сильно занято другими предметами. Она одна из тех женщин, которые не чувствуют влечения к тому, чтоб иметь мужа и собственных детей. Она думает, что тогда все ее помыслы будут наполнены ее собственной жизнью, а она так привыкла жить в заботах других людей, что не может вынести мысли о том, как ее сердце будет закрыто для них. Я довольно хорошо вижу, в чем дело. Она не одного покроя с большей частью женщин: я видел это уже давно. Она тогда только довольна, когда помогает кому-нибудь, и брат помешал бы ее образу действия – это справедливо. Я не имею никакого права соображать и думать, что было бы лучше, если б она вышла за Сета, словно я умнее ее или даже умнее самого Бога, потому что Он создал ее такой, какова она есть, и это величайшая благодать, которую я когда-либо получал из Его рук, да еще и другие, кроме меня».
Это самопорицание ярко представилось уму Адама, когда он по лицу Дины понял, что оскорбил ее, заговорив о своем желании, чтоб она дала свое согласие Сету; таким образом, он старался в самых сильных словах выразить, что считает ее решение совершенно справедливым, покориться даже тому, что она уезжала от них и переставала составлять часть их жизни иначе, как только тем, что жила у них в мыслях, если только она сама избрала эту разлуку. Он был вполне уверен, что она очень хорошо знала, как он желал видеть ее постоянно, говорить с нею, безмолвно сознавая, что у них было взаимное великое воспоминание. Он не считал возможным, чтоб она увидела что-нибудь другое, а не самоотверженную дружбу и уважение, когда он уверял ее, что покорялся мысли о ее отъезде, а между тем в нем оставалось какое-то беспокойство, что он не сказал совершенно того, что следовало, что Дина не совсем поняла его.
На следующее утро Дина, должно быть, встала несколько раньше восхода солнца, потому что сошла вниз около пяти часов. То же самое случилось и с Сетом. Несмотря на то что Лисбет упорно отказывалась взять в дом помощницу, Сет приучился быть, как выражался Адам, «очень искусным по хозяйству», чтоб избавить мать от слишком большой усталости. Я надеюсь, что это обстоятельство не заставит вас смотреть на Сета с презрением, все равно как вы не можете смотреть с презрением на доблестного капитана Бэта за то, что варил овсяный суп для своей больной сестры. Адам, просидевший за своим письмом до поздней поры, спал еще и едва ли, по мнению Сета, мог проснуться раньше завтрака. Хотя Дина часто навещала Лисбет в продолжение последних восемнадцати месяцев, она, однако ж, ни разу более не ночевала в хижине, кроме той ночи после смерти Матвея, когда, вы помните, Лисбет хвалила ее ловкие движения и даже одобрила с некоторыми ограничениями ее похлебку. Но в этот продолжительный промежуток Дина сделала большие успехи по хозяйственной части; и в это утро при содействии Сета она принялась приводить все в такую чистоту и порядок, что этим осталась бы довольна даже тетушка Пойзер. В настоящее время в хижине уж далеко не существовало прежнего образцового порядка: ревматизм Лисбет принуждал ее оставить прежние привычки дилетантки чистки и полировки. Приведя общую комнату в порядок, который удовлетворял ее желанию, Дина вошла в новую комнату, где накануне вечером Адам писал, чтоб вымести и стереть пыль здесь. Она открыла окно: в комнату проникли свежий утренний воздух, запах душистого шиповника и ясные низко падавшие лучи раннего солнца; последние образовали сияние вокруг ее бледного лица и бледных каштановых волос, между тем как она держала в руках щетку и мела, напевая про себя весьма тихим голосом, походившим за сладостное летнее журчанье, которое вы расслышите только весьма близко, один из гимнов Чарльза Весли.
Eternal Beam of Light Divine, Fountain of unexhausted love, In whom the Father's glories shine, Through earth beneath and heaven above; Iesus! the weary wanderer's rest, Give me thy easy yoke to bear; With steadfast patience arm my breast With spotless love and holy fear. Speak to my warring passions, o Peace!» Say to my trembling heart, «Be still!» Thy power my strength and fortress is, For all things serve thy sovereign will»[20].Она поставила щетку в сторону и принялась за метелочку; и если вы когда-либо жили в доме мистрис Пойзер, то знали, как управляли руки Дины метелочкою; как она проникала во все маленькие уголки и на все выступы, скрывавшиеся или выходившие наружу; как она по нескольку раз ходила по поперечникам стульев, по каждой ножке, под всякою вещью и на всякой вещи, лежавшей на столе, пока дошла до Адамовых бумаг и линеек и открытого ящика подле них. Дина вытерла пыль до самого края последних и потом остановилась, устремив на них глаза, выражавшие желание и вместе с тем робость. Тяжело было смотреть, сколько пыли было между ними. Когда она смотрела на стол таким образом, то услышала шаги Сета за отворенною дверью, к которой она стояла спиной, и, возвысив свой чистый тоненький голос, спросила:
– Сет, ваш брат сердится, когда трогают его бумаги?
– Да, очень, если их не положат на прежнее место, – возразил звучный, сильный голос, не принадлежавший Сету.
Дина словно нечаянно положила руки на звучащую струну; она вдруг сильно задрожала и на мгновение не сознавала ничего другого; потом она почувствовала, что ее щеки разгорелись, не смела оглянуться назад и стояла спокойно, опечаленная тем, что не могла пожелать доброго утра дружеским образом. Адам, заметив, что она не оглядывалась и не могла видеть улыбку на его лице, боялся, чтоб она не приняла его слов в серьезном смысле, подошел к ней так, что она была принуждена взглянуть на него.
– Итак, вы думаете, что я бываю сердит дома? – спросил он, улыбаясь.
– Нет, – отвечала Дина, устремив на него робкий взгляд, – нисколько. Но вам, может быть, неприятно, если все ваши вещи перемешаны. Сам Моисей, самый кроткий из людей, бывал иногда сердит.
– В таком случае я помогу вам снять вещи, – сказал Адам, смотря на нее с чувством, – и положить их на старое место, тогда они не могут быть в беспорядке. Я вижу, что касательно порядка вы становитесь родною племянницею вашей тетушки.
Они вместе принялись за дело, но присутствие духа еще не совершенно возвратилось к Дине, так что она не думала сказать что-нибудь, и Адам посматривал на нее с некоторым беспокойством. Дина, думал он, была, по-видимому, не совсем довольна им в последнее время – она не была с ним так ласкова и откровенна, как бывала прежде. Он хотел, чтоб она посмотрела на него и была так же довольна, как и он, исполняя это шутливое дело. Но Дина не смотрела на него; ей и легко было избегнуть этого, так как он был высокого роста, и, когда наконец вся пыль была вытерта и у него не было более предлога оставаться с нею, он не мог вынести долее и дружеским голосом сказал:
– Дина, вы недовольны мною за что-нибудь? Скажите! Разве я сказал или сделал что-нибудь такое, что заставляет вас иметь обо мне дурное мнение?
Вопрос удивил ее и облегчил, давая ее чувствам другое направление. Она взглянула теперь на него совершенно серьезно, почти со слезами на глазах, и сказала:
– О, нет, Адам! Можете ли вы это думать?
– Я не могу спокойно переносить мысль, что вы не питаете ко мне такого же дружеского расположения, какое я питаю к вам, – сказал Адам. – И вы не знаете, сколько я ценю самую мысль о вас, Дина. Вот что я думал и вчера, говоря вам, что покорился бы мысли о разлуке с вами, если вы желаете уйти отсюда. Я хотел сказать: мысль о вас так дорога для меня, что я должен быть только благодарен, а не роптать, если вы имеете основание уехать отсюда. Но вы знаете, что мне нелегко расставаться с вами, Дина?
– Да, дорогой друг, – отвечала Дина, дрожа, но стараясь говорить спокойно, – я знаю, вы имеете братское расположение ко мне, и мы не редко будем друг с другом в мыслях. Но в это время мне тяжело от различных искушений; вы не должны обращать внимания на меня. Я чувствую призыв оставить родных на некоторое время, но это нелегко мне: плоть слаба.
Адам видел, что ей было тягостно говорить.
– Вам неприятно, что я заговорил об этом, Дина, – сказал он, – я не буду более. Посмотрим, готов ли теперь Сет с своим завтраком.
Это простая сцена, читатель. Но я почти уверен, что и вы были влюблены, может быть, даже более одного раза, хотя, может быть, не захотите сознаться в том перед всеми вашими знакомыми дамами. Если это действительно было, то вы не станете считать незначительные слова, робкие взгляды, трепетное прикосновение, посредством которого две человеческие души постепенно сближаются одна с другою, подобно двум небольшим дрожащим дождевым потокам, прежде чем они сольются в один, вы не станете считать все это пошлым, так же как вы не станете считать пошлыми только что уловленные признаки наступающей весны, хотя бы то было не более как нечто слабое, неописываемое в воздухе и в пении птиц и тончайшие, едва заметные признаки зелени на сучьях изгороди. Эти легкие слова и взгляды составляют часть разговора души; и лучший разговор, по моему мнению, составляется главнейшим образом из обыкновенных слов, как, например, свет, звук, звезды, музыка, – слов, которых самих по себе действительно не стоит ни видеть, ни слышать, все равно что щепки или опилки; случается только, что они служат признаками чего-то невыразимо высокого и прекрасного. По моему мнению, любовь также великое и прекрасное дело; и если вы согласны со мною, то незначительнейшие признаки ее не будут для вас щепками и опилками, скорее они будут этими словами: свет и музыка, приводя в движение извилистые фибры ваших воспоминаний и обогащая ваше настоящее вашим драгоценнейшим прошедшим…
LI. В воскресенье утром
Припадок ревматизма Лисбет не казался довольно серьезным, чтоб удержать Дину еще на одну ночь от господской мызы в то время, как она уже решилась оставить свою тетку так скоро, и вечером они должны были расстаться.
– Надолго, – сказала Дина.
Она уже сообщила Лисбет о своем решении.
– В таком случае на всю мою жизнь, и я никогда уже не увижу тебя, – сказала Лисбет. – Надолго! Мне недолго осталось жить. Я могу захворать и умереть, а ты не можешь навестить меня, и я буду умирать и все желать тебя увидеть.
Эти жалобы служили главным предметом ее разговора целый день. Адама не было дома, и она таким образом не налагала узды на свои сетования. Она мучила Дину, беспрестанно возвращаясь к вопросу, зачем она должна оставить страну, и не принимала никаких оснований, казавшихся ей только причудами и упрямством, и еще более сожалея о том, что «она не могла взять ни одного из сыновей» и быть ее дочерью.
– Тебе не нравится Сет, – говорила она, – он, может быть, недовольно умен для тебя. Но он был бы очень добр к тебе, и он так ловок, как только можно, на всякие вещи, которые делает, когда я бываю больна; и он любит Библию и церковную службу нисколько не меньше тебя. Но, может быть, тебе хотелось бы мужа, который был бы не совсем сходен характером с тобою, ведь струящийся ручеек не просит дождя. Адам годился бы для тебя… я знаю, что он бы годился, и он мог бы полюбить тебя довольно сильно, если б ты захотела остаться. Но он упрям и тверд, как чугунный брус… Уж его ни за что не склонишь сойти с своей собственной дороги, разве он сам захочет. Но он был бы отличным мужем для всякой, кто бы она там ни была, такой видный и умный парень. И он бы очень любил жену. Мне всегда бывает приятно от одного его взгляда, если он хочет быть ласков со мною.
Дина старалась избегать пытливых взоров и вопросов Лисбет, находя какое-нибудь дело по хозяйству, которое позволяло ей не сидеть на одном месте; и лишь только Сет возвратился домой вечером, как она надела шляпку, собираясь идти. Дина была глубоко тронута, когда старуха сказала ей, что прощается с нею в последний раз, и когда, уже на пути по полям, оглядывалась назад и видела, что Лисбет все еще стояла на крыльце и смотрела ей вслед до тех пор, пока Дина не стала в ее плохо видевших старых глазах самою бледною точкою.
«Да будет с ними Бог любви и мира! – молилась Дина, еще раз оглянувшись назад со ступеньки последней ограды. – Ниспошли им радость в награду за дни, в которые Ты испытал их печалью, и за годы, в которых они видели горе. По Твоей воле должна я проститься с ними. Пусть я не знаю другой воли, кроме Твоей».
Наконец Лисбет вошла в дом и села в мастерской около Сета, занимавшегося составлением из кусочков точеного дерева, принесенных им из деревни, небольшого рабочего ящичка, который хотел подарить Дине перед ее отъездом.
– Ведь ты увидишь ее еще раз в воскресенье перед тем, что она уйдет отсюда, – были ее первые слова. – Если б ты был полезен на что-нибудь, то уговорил бы ее прийти еще раз в воскресенье вечером и повидаться со мною.
– Нет, матушка, – сказал Сет. – Дина непременно пришла бы еще раз, если б считала это нужным. Мне не нужно было бы и уговаривать ее к тому. Она только думает, что это значило бы напрасно беспокоить тебя: прийти сюда, чтоб еще раз проститься.
– Она никогда не ушла бы отсюда – я знаю, если б Адам был привязан к ней и женился на ней. Но все случается наперекор, – сказала Лисбет в порыве гнева.
Сет остановился на минуту, потом, слегка вспыхнув, посмотрел прямо матери в лицо.
– Разве она сказала тебе что-нибудь такое, матушка? – спросил он тише обыкновенного.
– Сказала? Нет, она ничего не скажет. Ведь это только мужчины должны ждать, чтоб им сказали, а сами они раньше не догадаются ни о чем.
– Хорошо, что ж, однако ж, заставляет тебя думать таким образом, матушка? Почему ты взяла себе это в голову?
– Все равно, почему бы я там ни взяла себе этого в голову: моя голова не так пуста, чтоб я не могла догадаться сама, чтоб мне нужно было ждать, когда другие внушат мне. Я знаю, что она любит его, как знаю, что ветер входит в дверь, и этого с меня довольно. И он охотно женился бы на ней, если б знал, что она любит его, но он никогда и не подумает об этом, если ему не вложат этого в голову.
Предположение матери о чувстве, которое Дина питала к Адаму, не было для Сета совершенно новою мыслью, но последние слова ее вызвали в нем опасение, чтоб она сама не решилась открыть глаза Адаму. Он не был уверен в чувстве Дины, но думал, что был уверен в чувстве Адама.
– Нет, матушка, нет, – сказал он серьезно, – ты не должна и думать о том, чтоб говорить с Адамом о подобных вещах. Ты не имеешь права говорить, что чувствует Дина, если она не сказала тебе. А говорить об этих вещах с Адамом послужит только ко вреду: Адам чувствует благодарность и дружбу к Дине, но вовсе не имеет таких мыслей, которые склонили бы его сделать ее своею женой. Да я также не думаю, чтоб и Дина захотела выйти за него. Я думаю, что она никогда не выйдет замуж.
– Эх! – произнесла Лисбет нетерпеливо. – Ты думаешь так, потому что она отказала тебе. Она никогда не выйдет замуж за тебя. Тебе следовало бы радоваться, если б она вышла за твоего брата.
Эти слова огорчили Сета.
– Матушка, – сказал он увещательным тоном, – не думай так обо мне. Я буду так же благодарен, имея ее сестрой, как была бы благодарна ты, имея ее дочерью. В этом деле я вовсе не думаю о себе, и мне будет тяжело, если ты когда-нибудь скажешь об этом еще раз.
– Хорошо, хорошо! В таком случае тебе не следовало противоречить мне и говорить, что этого нет, когда я говорю, что есть.
– Но, матушка, – сказал Сет, – ты поступишь несправедливо с Диной, если скажешь Адаму, что думаешь о ней. Ты этим сделаешь только вред, потому что заставишь Адама беспокоиться, если он не питает к ней тех же чувств. А я вполне уверен, что он не чувствует к ней ничего подобного.
– Э, уж не говори ты мне, в чем ты вполне уверен: ничего-то ты не знаешь об этом. Зачем же он все ходит к Пойзерам, если б он не хотел видеть ее? Он ходит туда два раза, когда прежде, бывало, ходил только один раз. Может быть, он и не знает, что ему нужно видеть ее; он не знает, что я кладу соль в похлебку, но он очень скоро заметил бы отсутствие соли, если б ее там не было. Он никогда не подумает о женитьбе, если ему не вложить этого в голову. И если б ты сколько-нибудь любил твою мать, то представил бы ему это и не позволил бы ей уйти с глаз моих, когда она могла бы хоть недолго быть моим утешением, прежде чем я лягу рядом со своим стариком под белым кустарником.
– Нет, матушка, – сказал Сет, – не считай меня упрямым, но я пошел бы против совести, если б решился сказать ему о чувствах Дины. Притом же, я думаю, я огорчил бы Адама, если б вообще стал говорить с ним о женитьбе. Я советую и тебе не делать этого. Ты можешь совершенно обманываться насчет Дины. Нет, я вполне уверен по словам, которые говорила она мне в прошлое воскресенье, что она и не думает о замужестве.
– Ну, ты такой же упрямый, как и вся ваша братия. Если б это было что-нибудь такое, чего я бы не хотела, то сделалось бы довольно скоро.
При этих словах Лисбет встала со скамейки и вышла из мастерской, оставив Сета в большом беспокойстве о том, что она станет смущать Адама насчет Дины. Чрез несколько времени он, однако ж, стал утешать себя мыслью, что со времени несчастья, выпавшего на долю Адама, Лисбет очень боялась говорить с ним о делах, касавшихся чувства, и что она едва ли отважится завести разговор о самом нежном из всех предметов. Если б даже она и решилась на это, то он надеялся, что Адам не обратит большого внимания на ее слова.
Сет справедливо предполагал, что Лисбет будет удерживать робость; впрочем, в продолжение следующих трех дней она очень редко и очень недолго имела случай разговаривать с Адамом, так что и не чувствовала сильного искушения заговорить о том, что у нее было на душе. Но в течение длинных часов, проведенных в одиночестве, она все предавалась полным сожаления думам о Дине, пока они не доросли до той степени необузданной силы, когда мысли в состоянии вылететь из своего тайного убежища самым внезапным образом. И в воскресенье утром, когда Сет отправился в капеллу в Треддльстон, представился опасный благоприятный случай.
Утро воскресенья было для Лисбет счастливейшим временем изо всей недели: так как в геслопской церкви служба начиналась только после обеда, то Адам был всегда дома, ничего не делал, а читал; при этом занятии она могла решиться прервать его. Притом же она всегда приготовляла обед лучше обыкновенного для своих сыновей – очень часто для Адама и самой себя, так как Сет нередко оставался вне дома целый день. Запах жарившегося мяса перед ясным огнем в чистой кухне, часы, стучавшие тихо, по-воскресному, ее дорогой Адам, сидевший в своем лучшем платье неподалеку от нее, не делая ничего важного, так что она могла подойти к нему и погладить его по голове, если хотела, могла видеть, что он смотрел на нее и улыбался, между тем как Джип с некоторой ревностью совал свою морду между ними, – вот в чем заключался земной рай бедной Лисбет.
В воскресенье утром Адам чаще всего читал свою большую Библию с картинками. И в это утро она лежала открытая перед ним на круглом белом сосновом столе в кухне. Несмотря на огонь, он сидел в кухне, зная, что его мать любила иметь его при себе, и то был единственный день недели, когда он мог побаловать ее таким образом. Вам было бы приятно видеть Адама, читающего Библию; он никогда не открывал ее в будни. Итак, она была для него праздничною книгою, служившею для него историей, биографией и поэзией. Одну руку он держал между пуговицами жилета, другая была наготове переворачивать страницы, и в течение утра вы заметили бы на его лице не одну перемену. Иногда он шевелил губами, как бы полупроизнося что-то: это, читая речь, он мог воображать, что произносит ее сам, так, например, предсмертную речь Самуила народу; потом поднимал он брови, и в уголках рта проявлялось легкое дрожание: это вызвано было грустным сочувствием: что-нибудь глубоко тронуло его, быть может, встреча престарелого Исаака с сыном. В другое время, когда он читал Новый Завет, его лицо вдруг принимало торжественное выражение, по временам он серьезно кивал головою, как бы соглашаясь с чем-то, или поднимал руку и тотчас же опускал ее. В другие утра, когда он читал апокрифические книги, которые читал очень охотно, резкие слова сына Сирахова вызывали на его лице улыбку наслаждения, хотя он также позволял себе свободу не соглашаться по временам с апокрифическим писателем. Адаму очень хорошо были известны статьи, как приличествовало доброму церковнику.
Лисбет в промежутки, когда не была занята приготовлением обеда, всегда садилась против него и наблюдала за ним, пока наконец не могла усидеть на своем месте, подходила к нему и ласкала его, желая заставить, чтоб он обратил на нее внимание. В то утро он читал Евангелие от Матвея. Лисбет стояла за ним несколько минут, гладя его по волосам, которые в тот день лежали лучше обыкновенного, и смотря на большую страницу с безмолвным удивлением перед таинственными буквами. Ее еще более поощрило продолжать ласки то, что, когда она только подошла к нему, он откинулся на спинку стула, посмотрел на нее с чувством и сказал:
– Ну, матушка, у тебя сегодня очень здоровый вид, а Джип хочет, чтоб я посмотрел на него: он никак не может перенести мысль, что я тебя люблю больше.
Лисбет не произнесла ничего; ей хотелось сказать многое. В это время пришлось перевернуть страницу, и тут была картинка, изображавшая ангела, сидевшего на большом камне, который был свален с гроба. Эта картина находилась в большой связи с воспоминаниями Лисбет, потому что она пришла ей в голову, когда она в первый раз увидела Дину. Лишь только Адам оборотил страницу и подвинул книгу на сторону, чтоб они оба могли смотреть на ангела, как Лизбет произнесла:
– Это она… это Дина.
Адам улыбнулся и, разглядывая внимательнее лицо ангела, сказал:
– Да, это похоже на нее действительно; но Дина, мне кажется, еще красивее.
– Хорошо, в таком случае, если она кажется тебе еще красивее, отчего ж ты не любишь ее?
Адам посмотрел на мать с удивлением:
– Неужели, матушка, ты думаешь, что я не привязан к Дине?
– Нет, – отвечала Лизбет, испугавшись своей собственной смелости, а между тем чувствуя, что она уже проломила лед и что вода должна разлиться, какой бы вред ни произошел от этого. – Что ж за польза иметь привязанность к тому, что находится за тридцать миль? Если б ты был расположен к ней действительно, то не допустил бы ее уехать отсюда.
– Но разве я имею право мешать ей, если она считает это нужным? – сказал Адам, смотря в книгу, как бы желая снова приняться за чтение. Он предвидел ряд жалоб, которые не клонились бы ни к чему.
Лисбет снова села на стул против него и произнесла:
– Но она не считала бы это нужным, если б ты не был так упрям.
Однако ж Лисбет не решилась идти далее неопределенной фразы.
– Упрям, матушка? – спросил Адам, снова посмотрев на мать с некоторым беспокойством. – Что ж я сделал? Что ты хочешь этим сказать?
– Ну, ты никогда не хочешь посмотреть ни на что, не хочешь ни о чем подумать, кроме фигур да работы, – сказала Лизбет, как бы готовясь заплакать. – Неужели ты думаешь, что всю жизнь проведешь таким образом, словно человек, вырезанный из дерева? А что ж ты будешь делать, когда умрет твоя мать и некому будет позаботиться о том, чтоб тебе было что поесть-то порядочно утром?
– Что у тебя за мысли, матушка! – сказал Адам, начиная сердиться на это хныканье. – Я не вижу, к чему ты это ведешь. Разве есть что-нибудь такое, что бы я мог сделать для тебя и чего я не делаю.
– Конечно, что есть. Ты мог бы сделать то, чтоб я имела кого-нибудь, кто бы успокаивал меня, ходил за мной, когда я больна, и был бы добр ко мне.
– Да кто ж виноват, матушка, что в доме нет кого-нибудь, кто помогал бы тебе? Я вовсе не желаю, чтоб вся эта работа лежала на тебе. Мы в состоянии сделать это. Я довольно часто повторял тебе. Это было бы гораздо лучше для всех нас.
– Э, что тут толковать о ком-нибудь! Ведь я знаю, что ты говоришь об одной из девок из деревни или из Треддльстона, на которых я во всю жизнь свою и смотреть-то не хотела. Уж я скорее сама справлюсь как-нибудь да лягу в гроб живая, чем захочу, чтоб такой народ уложил меня.
Адам молчал и старался продолжать чтение. В этом заключалась крайняя строгость, которую он мог обнаружить перед матерью в воскресенье утром. Но Лисбет зашла уж слишком далеко и не могла остановиться, и, помолчав едва ли более минуты, она снова начала:
– Ты мог бы знать довольно хорошо, кого бы мне хотелось иметь при себе. Ведь немного, я полагаю, найдется людей, за которыми я посылала, чтоб пришли навестить меня. Тебе же самому приходилось приводить ее сюда довольно часто.
– Ты говоришь о Дине, матушка, я знаю это, – сказал Адам. – Но что тут о думать о том, чего не может быть. Если б Дина и хотела остаться в Геслопе, то вряд ли она может оставить дом тетки, где занимает место дочери и где она больше привязана, чем к нам. Если б могло быть так, чтоб она вышла замуж за Сета, это было бы для нас большой благодатью, но на белом свете не все случается именно так, как мы желаем, и мы ничего не можем сделать против этого. Лучше уж ты попытайся, матушка, пересилить себя и вовсе не думать о ней.
– Нет, я не могу не думать о ней, если она словно создана для тебя. И ни что не заставит меня разубедиться, будто Бог не сотворил и не послал ее сюда ради тебя. Что тут за беда такая, что она методистка? Может, она и оставит это, когда будет замужем.
Адам откинулся на стул и смотрел на мать. Теперь он понял, на что она намекала с самого начала разговора. Выраженное ею желание было так же неосновательно, так же неисполнимо, как ее обыкновенные желания, но он против воли был смущен этою совершенно новою идеей. Главное дело, однако ж, состояло в том, чтоб как можно скорее изгнать эту мысль из головы матери.
– Матушка, – сказал он серьезно, – ты говоришь пустяки. Пожалуйста, не заставляй меня слушать подобные вещи вперед. Не стоит говорить о том, чему не бывать никогда. Дина не хочет выходить замуж. Она всем сердцем предана другого рода жизни.
– Очень может быть, – произнесла Лисбет нетерпеливо, – очень может быть, что она никогда не выйдет замуж, когда те, за кого она хочет выйти, не сватаются к ней. Я не вышла бы за твоего отца, если б он никогда не посватался ко мне. А она так же любит тебя, как только я любила бедного Матвея.
Кровь прилила к лицу Адама, и в продолжение нескольких минут он не вполне сознавал, где находился: его мать и кухня исчезли для него, и он видел только лицо Дины, обращенное к нему. Ему казалось, будто в нем воскресала умершая радость, но он весьма быстро пробудился от этой мечты; пробуждение было грустное и холодное. Безрассудно было бы с его стороны верить словам матери: она не могла иметь никакого основания, чтоб говорить таким образом. Он намеревался высказать свое неверие в весьма сильных выражениях разве только для того, чтоб вызвать тем доказательства, если последние только существовали.
– К чему ты говоришь такие вещи, матушка, когда не имеешь ни малейшего основания к тому? Ты не знаешь ничего такого, что давало бы тебе право говорить это.
– В таком случае я не знаю ничего такого, что давало бы мне право говорить, что год прошел, несмотря на то что это прежде всего представляется мне, когда я встаю утром. Она, я полагаю, не привязана к Сету, не так ли? Она не хочет выйти замуж за него? Но я могу видеть, что она не обращается с тобою так, как она обращается с Сетом. Когда Сет приближается к ней, она обращает на него столько же внимания, сколько на Джипа, а постоянно дрожит, когда ты сидишь рядом с ней за завтраком и смотришь на нее. Ты думаешь, что твоя мать не понимает ничего, но ведь она уже жила на свете, прежде чем ты родился.
– Но ты не можешь быть уверена в том, что ее трепет означает любовь? – сказал Адам в замешательстве.
– Э, да что ж это может еще значить? Ведь не ненависть же, я полагаю. И отчего ж ей не любить тебя? Ты и создан так, чтоб быть любимым… Скажи сам, есть ли кто-нибудь стройнее и ловчее тебя? И что это значит, что она методистка? Все равно, что настурция в похлебке.
Адам положил руки в карманы и смотрел на книгу на столе, не видя ни одной буквы. Он дрожал, как искатель золота, имеющий в виду сильную надежду на золото, и в то же самое мгновение болезненный призрак обманутого ожидания возник в нем. Он не мог верить полному сведению своей матери – она видела то, что желала видеть. А между тем… а между тем теперь, когда ему внушили эту мысль, ему приходило на память столько вещей, весьма пустых вещей, походивших на движение воды при едва заметном ветерке, что, казалось, несколько подтверждало слова его матери.
Лисбет понимала, что он был взволнован. Она продолжала:
– И ты увидишь, как плохо придется тебе, когда она уедет. Ты любишь ее больше, нежели сам знаешь о том. Ты не спускаешь глаз с нее так же, как Джип не спускает глаз с тебя.
Адам не мог сидеть долее, он встал, взял шляпу и вышел в поле.
На поле сияло солнце, солнце ранней осени; мы узнали бы, что это не летнее солнце, если б даже и не было желтого оттенка на липе и на орешнике, воскресное солнце, имеющее для рабочего человека более нежели осеннее спокойствие; утреннее солнце, еще оставляющее кристаллы росы на изящных летучих тканях в тени густых изгородей.
Адам чувствовал потребность спокойствия. Заметив, какое влияние произвела на него эта новая мысль о любви Дины, он был поражен всеподавляющей силой, которая заставляла все другие чувства отступить перед стремительным желанием узнать, что мысль была справедлива. Странно, до этой минуты ему никогда не приходила на мысль возможность, чтоб они когда-либо полюбили друг друга, а между тем теперь все его страстное желание вдруг устремилось к этой возможности; он не чувствовал ни сомнения, ни колебания относительно своих собственных желаний, как птичка, пролетающая в отверстие, в которое проникает дневной свет и дуновение неба.
Сияние воскресного осеннего солнца успокоило его – но не так, что приготовило его с покорностью встретить обманутое ожидание, если окажется, что его мать и он сам ошибались насчет Дины – успокоило его кротким поощрением его надежд. Ее любовь так походила на это тихое солнечное сияние, что оно бы составляло для него одно присутствие, и он одинаково верил и в то и в другое. И Дина была до того связана с грустными воспоминаниями о его первой страсти, что он не оставлял их, а скорее делал их более священными, любя ее. Да, его любовь к ней выросла из этого прошедшего: то был полдень этого утра.
А Сет? Не причинит ли он Сету боли? Едва ли, он в последнее время казался совершенно довольным, и в нем не было эгоистической ревности, он никогда не обижался расположением матери к Адаму. Но видел ли он что-нибудь такое, о чем говорила их мать? Адам очень хотел знать это; он думал, что мог больше поверить наблюдательности Сета, чем матери. Он должен переговорить с Сетом, прежде чем увидится с Диной; с этим намерением он возвратился в хижину и спросил мать:
– Не говорил тебе Сет о том, когда он придет домой? Возвратится ли он к обеду?
– Конечно возвратится; разве с ним случится что-нибудь. Он не пошел в Треддльстон, он пошел куда-то в другое место на проповедь и на молитву.
– Не знаешь ли, матушка, по какой дороге он пошел? – спросил Адам.
– Нет, но он часто ходит по направлению к общему полю. Да ты должен знать об этом лучше меня.
Адаму хотелось встретить Сета, но он должен был удовольствоваться тем, что вышел на ближайшие поля и старался увидеть его как можно скорее. Ему приходилось ждать таким образом более часа, так как Сет едва ли возвратится домой раньше обеденного времени, то есть раньше двенадцати часов. Но Адам не мог снова приняться за чтение, он бродил около ручейка, стоял, облокотясь на изгородь; в его глазах выражалось любопытство и напряжение, будто они весьма живо видели что-то, только не ручей или ивы, не поля или небо. Его мечта прерывалась по временам тем, что он удивлялся силе собственного чувства, силе и сладости этой новой любви, как удивляется человек, когда находит в себе увеличившуюся склонность к искусству, которого он не касался несколько времени. Отчего это поэты высказали столько прекрасных вещей о нашей первой любви и так мало о поздней? Разве их первые поэмы лучше всех? Или не те ли лучше, которые истекают из более полной мысли, их обширнейшей опытности, их глубже вкоренившейся привязанности? Голос мальчика, напоминающий флейту, имеет свое весеннее очарование; но мужчина должен иметь более богатую, более глубокую звучность.
Наконец показался Сет у самого отдаленного плетня, и Адам поспешно пошел к нему навстречу. Сет удивился и подумал, что случилось что-нибудь необыкновенное; но когда Адам подошел, его лицо довольно ясно говорило, что не было никакой нужды тревожиться.
– Где ты был? – спросил Адам, когда они пошли рядом.
– Я был на общем поле, – отвечал Сет. – Дина говорила проповедь небольшому собранию слушателей в доме «Серы», как его прозывают. Эти люди вряд ли пойдут когда-либо в церковь, эти люди на поле, но приходят послушать Дину. Сегодня она очень сильно говорила на слова текста: «Я пришел звать не праведников, а грешников к покаянию». И тут случилось неважное обстоятельство, которое, однако ж, было приятно видеть. Женщины по большей части приносят с собою детей; но сегодня между ними был дюжий мальчик с курчавыми волосами, лет трех или четырех, которого я прежде не видал там. Он страшно капризничал в самом начале, когда я молился и когда мы пели; но когда все сели и Дина начала говорить, мальчик вдруг стал неподвижен и принялся смотреть на нее разинув рот, потом побежал от своей матери и, подойдя к Дине, стал дергать ее, как собачонка, чтоб она заметила его. Таким образом Дина подняла и держала мальчика на коленях все время, пока говорила, и он сидел совершенно спокойно, пока не заснул… Даже мать плакала, смотря на него.
– Жаль, если сама она не должна быть матерью, – сказал Адам, – дети так любят ее. Как ты думаешь, она уже совсем порешила с замужеством, Сет? Ничто не заставит ее переменить намерение?
В голосе старшего брага слышалось что-то особенное, заставившее Сета сначала украдкой посмотреть на его лицо, прежде чем он ответил.
– Это было бы несправедливо с моей стороны, если б я сказал, будто ничто не заставит ее переменить намерение, – сказал он. – Но если ты говоришь относительно меня, то я перестал уже и думать, чтоб она когда-нибудь могла быть моей женой. Она называет меня братом, и этого с меня довольно.
– Но думаешь ли ты, что она могла бы почувствовать расположение к кому-нибудь другому в такой степени, что захотела бы выйти за него замуж? – спросил Адам с некоторой робостью.
– Ну… – отвечал Сет после некоторого молчания, – в последнее время мне иногда приходила в голову мысль, что она могла бы; но Дина не допустит, чтоб расположение к творению отвлекло ее от пути, который, как она верует, указал для нее Бог. Она не из тех, которых можно было бы склонить к тому, если будет думать, что указание проистекает не от Него. Она навсегда, казалось, вполне разъяснила для себя это обстоятельство, что ее дело заключается в том, чтоб помогать другим и не иметь своего собственного дома на этом свете.
– Но предположим, – сказал Адам важно, – но предположим, что нашелся бы человек, который предоставил бы ей делать то, что она делает теперь, и не вмешивался бы ни во что, она могла бы так же хорошо выполнять свое призвание и замужем, как выполняет теперь, будучи девицею. Другие женщины такого же рода выходили же замуж, то есть не совершенно сходные с нею, а также ходившие за больными и проповедовавшие неимущим. Вот хоть бы эта мистрис Флетчер, о которой говорит она.
Новый свет озарил мысли Сета. Он повернулся и, положив руку Адаму на плечо, сказал:
– Ну, неужели ты хотел бы жениться на ней, брат?
Адам нерешительно посмотрел в пытливые глаза Сета и спросил:
– Обиделся бы ты, если б она была расположена ко мне более, нежели к тебе?
– Нет, – отвечал Сет с жаром. – Как можешь ты думать это? Неужели я так мало чувствовал твое горе, что не почувствую твоей радости?
Несколько минут длилось молчание, они продолжали идти, и затем Сет сказал:
– Мне никогда не приходило на мысль, что ты подумаешь когда-нибудь жениться на ней.
– Но выйдет ли польза из этого? – сказал Адам. – Как ты думаешь? Матушка сделала из меня то, что я не знаю, где я теперь, – таких вещей наговорила она мне сегодня утром. Она уверяет, будто Дива питает ко мне необыкновенное чувство и охотно выйдет за меня. Но я боюсь, что она говорит наобум. Я желал бы знать, заметил ли ты что-нибудь.
– Говорить об этом очень щекотливо, – сказал Сет, – и я боюсь, что могу ошибаться; притом же мы не имеем права вмешиваться в чувства людей, когда они не хотят сообщить нам о них сами.
Сет замолчал.
– Но ты сам мог бы спросить ее, – сказал он, несколько минут спустя. – Она не обиделась, когда я допрашивал ее; а ты имеешь больше права, нежели я, разве что ты только не принадлежишь к обществу. Но Дина не держится мнения тех, которые думают, что общество должно быть строго связано между собою. По ее мнению, всякий может вступать в общество, так как всякий может быть достоин вступить в царствие Божие. Некоторые из братьев в Треддльстоне недовольны за то.
– Где она проведет остальное время дня? – спросил Адам.
– Она сказала, что больше не выйдет из господской мызы сегодня, – сказал Сет, – потому что она остается там последнее воскресенье… она будет читать детям из большой Библии.
Адам ничего не сказал, но подумал: «В таком случае я схожу туда после обеда, потому что если я пойду в церковь, то все время службы мои мысли будут с нею. Сегодня уж им придется петь антифон без меня».
LII. Адам и Дина
Было около трех часов, когда Адам вошел на двор фермы и потревожил Алика и собак в их воскресной дремоте. Алик сказал, что все ушли в церковь, кроме «молодой миссис» – так он называл Дину; но такое известие вовсе не обмануло ожиданий Адама, хотя слово «все» заключало в себе даже Нанси, молочницу, нужные дела которой редко позволяли ей ходить в церковь.
Около дома господствовала совершенная тишина; двери были все заперты, самые камни и чаны казались спокойнее обыкновенного. Адам слышал нежное капанье воды из насоса: то был единственный звук; и он постучал в дверь очень тихо, как следовало при этой тишине.
Дверь отворилась, и перед ним стояла Дина, вся вспыхнувшая от чрезвычайного удивления, увидев Адама в это время, когда она знала, что он правильно бывал в эти часы в церкви. Вчера он сказал бы ей без всякого замешательства:
«Я пришел видеть вас, Дина: я знал, что остальных нет дома».
Но сегодня что-то удержало его сказать это, и он молча протянул ей руку. Никто из них не произносил ни слова, а между тем оба желали, чтоб они могли говорить, когда Адам вошел и они сели. Дина села на стула, который только что оставила около уголка стола, близ окна, и на столе лежала книга, но она не была открыта; Дина сидела перед приходом Адама совершенно спокойно, смотря на небольшой ясный огонь в светлом камине. Адам сидел против нее на треногом стуле мистера Пойзера.
– Надеюсь, что ваша матушка не захворала снова, Адам? – спросила Дина, приходя в себя. – Сет сказал, что сегодня утром она чувствовала себя хорошо.
– Нет, сегодня у нее весьма здоровый вид, – отвечал Адам с робостью, но осчастливленный явными признаками чувства Дины при виде его.
– Вы видите, никого нет дома, – сказала Дина, – но вы подождете. Вас, без сомнения, задержало что-нибудь, что вы не пошли в церковь.
– Да… – сказал Адам, остановился и затем уже присовокупил: – Я думал о вас – вот настоящая причина.
Это признание было весьма неловкое – Адам чувствовал это, думая, что Дина должна понимать все, что он хотел сказать. Но откровенность его слов заставила ее немедленно истолковать их возобновлением братского сожаления о том, что она отправлялась отсюда, и она спокойно отвечала:
– Перестаньте заботиться и беспокоиться за меня, Адам. В Снофильде у меня всего в изобилии. И мое сердце покойно, потому что, отправляясь отсюда, я не исполняю собственной воли.
– Но если б обстоятельства переменились, Дина, – сказал Адам нерешительно, – если б вы знали вещи, которых вы, может быть, не знаете теперь…
Дина смотрела на него вопросительно, но, вместо того чтоб продолжать, он взял стул и поставил его ближе к углу стола, где сидела Дина. Она удивлялась и чувствовала страх, а в следующее мгновение она мысленно перенеслась к прошедшему: то, чего она не знала, не касалось ли несчастных, живших так далеко от них?
Адам смотрел на нее – так было сладостно смотреть ей в глаза, в которых выражался теперь самоотверженный вопрос. На мгновение он забыл, что хотел ей сообщить что-то или что ему нужно было объяснить ей, что он хотел выразить своими словами.
– Дина, – сказал он вдруг, сжимая ее руки в своих, – я люблю вас всей душою и всем сердцем. Я люблю вас после Бога, создавшего меня…
Губы и щеки Дины побледнели, и она сильно дрожала под ударом тягостной радости. Ее руки были холодны, как руки мертвеца, в руках Адама, но она не могла отдернуть их, потому что он сжимал их крепко.
– Не говорите мне, что не можете любить меня, Дина. Не говорите, что мы должны расстаться и жить в разлуке друг с другом.
Слезы дрожали на глазах Дины и начали падать, прежде чем она могла отвечать. Но она произнесла тихим, спокойным голосом:
– Да, дорогой Адам, мы должны покориться другой воле. Мы должны расстаться.
– Нет, если вы любите меня, Дина… нет, если вы любите меня, – сказал Адам страстно. – Скажите мне… скажите мне, можете ли вы питать ко мне больше чем братскую любовь?
Дина слишком сильно уповала на Божественную волю и потому вовсе не старалась привести эту сцену к концу обманом и скрытностью. Она теперь приходила в себя от первого волнения и устремила за Адама прямой, ясный взгляд, когда сказала:
– Да, Адам, мое сердце сильно влечется к вам; и по моей собственной воле, если б я не имела ясного указания к совершенно противному, я бы могла найти счастье, находясь вблизи вас и постоянно служа вам. Кажется, я должна забыть радоваться и плакать с другими, да, я должна забыть о божественном присутствии и искать только вашей любви.
Адам не стал говорить немедленно. Они сидели, смотря друг на друга в упоительном безмолвии, ибо первое сознание взаимной любви исключает другие чувства; оно требует, чтоб в нем была погружена вся душа.
– В таком случае, Дина, – сказал Адам наконец, – каким образом может быть что-нибудь противное в том, что справедливо, чтоб мы принадлежали друг другу и провели нашу жизнь вместе? Кто вселил эту великую любовь в наши сердца? Может ли что-нибудь быть священнее этого? Мы можем молить Бога быть постоянно с нами и будем помогать друг другу во всем добром. Я никогда не подумал бы стать между вами и Богом и говорить, что вы должны делать это и не должны делать то. Вы будете повиноваться вашей совести столько же, сколько повинуетесь теперь.
– Да, Адам, – сказала Дина, – я знаю, что брак есть святое состояние для тех, кто истинно призван к тому и не имеет другого влечения. Но с самого детства меня влекло к другому пути. Весь мой покой и все мои радости происходили оттого, что у меня не было моей собственной жизни, не было ни нужды, ни желаний для себя самой, и оттого что я жила только в Боге и в тех его творениях, которых горе и радость Он дал знать мне. Эти годы были весьма благословенны для меня, и я чувствую, что, если б я вняла голосу, который стал бы увлекать меня с этого пути, я отвернулась бы от света, который падал на меня, и меня охватили бы мрак и сомнение. Мы не можем благословлять друг друга, Адам, если в моей душе будут существовать сомнения и если я почувствую стремление, когда уже будет слишком поздно, к той лучшей доле, которая была дана мне некогда и которую я сложила с себя.
– Но если в ваше сердце проникло новое чувство, Дина, и если вы любите меня так, что желаете быть ближе ко мне, чем к другим людям, разве это не служит признаком, что вам, по справедливости, следует переменить вашу жизнь? Разве любовь не указывает на то, что это справедливо, если уж нет ничего другого?
– Адам, сердце мое наполнено исследованиями этого. Теперь, когда вы говорите мне о вашей сильной любви ко мне, то, что было ясно для меня, стало снова мраком. Перед этим я снова чувствовала, что мое сердце слишком влеклось к вам и что ваше сердце не было так, как мое; и мысль о вас овладела мною, так что душа утратила свою свободу и стала рабою земного чувства, что сделало меня беспокойной и поселило во мне заботу о том, что должно случиться со мной. При всяком другом чувстве я была бы довольна или незначительной взаимностью, или даже ничем; но в этом сердце мое начинало жаждать равной любви от вас. Я не сомневалась, что должна бороться против этого, как против великого искушения, и повеление было ясно, что я должна отправиться отсюда.
– Но теперь, дорогая, дорогая Дина, теперь, когда вы знаете, что я люблю вас больше, нежели вы меня, теперь все изменилось. Вы перестанете думать об отъезде отсюда, вы останетесь, станете моею дорогой женою, и я буду благодарить Бога за дарование мне жизни, как никогда не благодарил прежде.
– Адам, как трудно мне противостоять этому! Вы знаете, что это тяжело мне; но надо мною господствует великий страх. Мне кажется, будто вы простираете руки ко мне и умоляете, чтоб я пришла и успокоилась – и жила для своего наслаждения, а Иисус, страдавший за нас, стоит, смотря на меня и указывая на грешников, страдающих и горестных. Я видела это неоднократно, когда сидела в тишине и мраке, и великий ужас нападал на меня, и я опасалась, чтоб не сделалась жестокой, не полюбила себя и перестала добровольно нести крест Спасителя…
Дина закрыла глаза и легкий трепет пробежал по ее телу.
– Адам, – продолжала она, – вы не захотите, чтоб мы искали добра, изменив свету, который находится в нас, вы не можете верить, чтоб это повело к добру. Мы одинаково думаем об этом.
– Да, Дина, – отвечал Адам грустно, – никогда не стану я требовать, чтоб вы поступали против вашей совести. Но я не могу оставить надежду, что вы, может быть, станете смотреть на это иначе. Я не думаю, чтоб ваша любовь ко мне могла закрыть ваше сердце; она только будет прибавлением к тому, что вы были прежде, а не отнимет от вас прежних чувств. Мне кажется, что любовь и блаженство сходны с горем, чем более мы узнаем эти чувства, тем более можем чувствовать, какую жизнь люди ведут или могут вести, и, таким образом, будем только нежнее к ним и станем охотнее помогать им. Чем более сведений имеет человек, тем лучше будет делать свое дело; а чувство – это своего рода сведение.
Дина молчала; ее глаза, казалось, созерцали что-то видимое только ей самой. Адам, несколько минут спустя, продолжал уговаривать ее:
– И вы можете делать почти столько же, сколько вы делаете теперь. Я не попрошу вас идти со мною в церковь в воскресенье; вы пойдете, куда захотите, к людям, и будете учить их; хотя я и люблю церковь больше всего, но я не поставлю своей души над вашей, словно вам лучше следовать моим словам, чем вашей собственной совести. И вы так же можете помогать больным, у вас будет больше средств доставлять им некоторые удобства. Вы будете среди всех ваших друзей, которые любят вас, можете помогать им, быть для них благословением до их последнего дня жизни. Уверяю вас, вы были бы так же близки к Богу, как если б жили одиноко и вдали от меня.
Дина не отвечала несколько времени. Адам все еще продолжал держать ее за руки и смотрел на нее с трепетным беспокойством, когда она обратила серьезные, полные любви глаза на него и с некоторой грустью произнесла:
– Адам, есть истина в том, что вы говорите, и есть много слуг Господних, имеющих больше силы, нежели я, и находящих, что сердце их становится полнее от забот о муже и родных. Но я не имею веры, что то же самое будет и со мною, потому что с того времени, как мои чувства обратились к вам выше меры, я не имела уже того спокойствия и радости в Боге; я чувствовала, будто в сердце моем произошло разделение. И подумайте, что со мною, Адам: жизнь, которую я вела, похожа на страну, по которой я ступала в блаженстве с самого детства; и если я на мгновение прислушиваюсь к голосу, зовущему меня в другую, неизвестную мне страну, я могу только страшиться, что моя душа после этого может жаждать того земного блаженства, которое я покинула. А где есть сомнение, там нет полной любви. Я должна ждать яснейшего указания: я должна уйти от вас, и мы должны совершенно покориться Божественной воле. Иногда требуется, чтоб мы пожертвовали своими естественными, законными чувствами.
Адам не решался умолять снова, потому что голос Дины не был голосом упрямства или неискренности, но ему было очень тяжело, его глаза не видели ясно, когда он посмотрел на нее:
– Но может быть, вы почувствуете себя довольной… почувствуете, что вы снова можете возвратиться ко мне и нам не нужно расставаться никогда, Дина?
– Мы должны покориться, Адам. Со временем наш долг прояснится для нас. Может быть, когда я вступлю в свою прежнюю жизнь, я увижу, что все эти новые мысли и желания исчезли и стали так, будто их вовсе и не было. Тогда я буду знать, что у меня не было указания к браку. Но мы должны ждать.
– Дина, – произнес Адам уныло, – вы не можете любить меня так, как я люблю вас, иначе у вас не было бы сомнений. Но это и естественно, потому что я не так праведен, как вы. Я не могу сомневаться в том, следует ли мне любить лучшее творение, которое Богу было угодно послать мне в жизни.
– Нет, Адам, мне кажется, что моя любовь к вам неслаба: мое сердце ждет ваших слов и взглядов почти так же, как крошечный ребенок ждет помощи и нежности от сильного, от которого зависит. Если б мысль о вас только охватила меня слегка, то я не сомневалась бы, что она может быть для меня идолом… Но вы подкрепите меня… вы не станете противиться, чтоб я повиновалась до последней крайности.
– Выйдем на солнечный свет, Дина, и походим вместе. Я не скажу более ни слова, чтоб не смущать вас.
Они вышли из дома и пошли чрез поля, где могли встретить семейство, возвращавшееся из церкви. Адам сказал: «Возьмите мою руку, Дина», и она повиновалась. То была единственная перемена в их обращении друг с другом с того времени, как они шли вместе в последний раз. Но ни грусть, причиняемая мыслью об отъезде Дины, ни неизвестность исхода не могли лишить очарования сознание Адама, что Дина любит его. Он полагал остаться на господской мызе до самого вечера. Он будет близок к ней как можно долее.
– Э! да вон идет Адам с Диной! – сказал мистер Пойзер, отворив дальние ворота, которые вели в отгороженное место при его доме. – Я не мог себе представить, каким образом случилось, что он не был в церкви. Ну, – добавил добрый Мартин после непродолжительного молчания, – как ты думаешь, что пришло мне в голову в эту минуту?
– Да то, чему вовсе не удивительно прийти, потому что оно прямо у нас под носом. Ты хочешь сказать, что Адам ухаживает за Диной.
– Справедливо. А разве ты заметила это прежде?
– Еще бы! – сказала мистрис Пойзер, которая, если было возможно, всегда старалась не быть застигнутой врасплох. – Я не принадлежу к числу тех, которые могут видеть кошку в сырне и не знать, зачем она пришла.
– Ты никогда не говорила мне ни слова об этом.
– Ну, ведь я не трещотка, что вот принуждена бренчать, когда ветер дует на нее. Я могу молчать, когда незачем говорить.
– Но Дина не захочет его, как ты думаешь?
– Нет, – сказала мистрис Пойзер, недостаточно настороже против возможной нечаянности, – она никогда не выйдет замуж за человека, который не методист или не калека.
– А хорошо было бы, если б они полюбили друг друга, – сказал Мартин, повернув голову набок, как бы с удовольствием раздумывая о своей новой идее. – Ведь и тебе было бы приятно это, не правда ли?
– Разумеется. Тогда я, по крайней мере, не думала бы, что она уедет от меня в Снофильд, за добрые тридцать миль отсюда… и что у меня не останется никого, кто бы ходил за мной, кроме соседей, которые мне неродные, да женщин… и то таких, которым мне было бы стыдно показать свое лицо, если б моя сырня походила на их. Неудивительно, что есть на рынке полосатое масло. И я была бы очень рада, если б увидала, что бедняжка устроилась наконец по-христиански и имела бы над своею головою собственный дом. Мы отлично снабдили бы ее полотном и перьями, потому что я люблю ее не меньше собственных детей. Да если она находится в доме, то чувствуешь себя как-то спокойнее, потому что она чиста, как только что выпавший снег; всякий, имеющий ее под рукой, может грешить за двоих.
– Дина, – закричал Томми, пустившись бежать ей навстречу, – мама говорит, что ты выйдешь замуж только за методиста-калеку. Какая же ты, должно быть, глупенькая!
Следуя такому толкованию, он схватил Дину обеими руками и стал танцевать около нее с неуместною любезностью.
– Ну, Адам, а вас недоставало при пении сегодня, – сказал мистер Пойзер. – Как это случилось?
– Мне хотелось видеть Дину: она уезжает так скоро, – сказал Адам.
– Ах, друг! Не можете ли вы уговорить ее каким-нибудь образом, чтоб она осталась? Отыщите ей хорошего мужа в приходе. Если вы сделаете это, мы простим вам за то, что вы не были в церкви. Во всяком случае, она не уедет прежде жатвенного ужина в среду, и вы тогда должны прийти. Бартль Масси придет, может быть, и Крег. Приходите же непременно к семи. Наша хозяйка требует, чтоб не приходили ни минутой позже.
– Да, – сказал Адам, – я приду, если могу. Но часто я не могу сказать, что сделаю вперед, иногда дело задерживает меня долее, чем я предполагаю. Вы останетесь до конца недели, Дина?
– Да, да! – сказал мистер Пойзер. – Мы не хотим и слышать «нет».
– У нее нет указания спешить, – заметила мистрис Пойзер. – Недостаток в припасах будет продолжаться: нет нужды торопиться стряпать. А ведь скудостью-то больше всего и изобилуют ее места.
Дина улыбнулась, но не дала обещания остаться, и они разговаривали о других предметах на остальном пути домой. Они шли медленно под лучами солнца, любуясь большим стадом пасшихся гусей, новыми копнами и удивительным изобилием плодов на старой груше. Нанси и Молли рядом торопливо прошли домой вперед; каждая держала тщательно завернутый в носовой платок молитвенник, в котором могла прочесть почти одни лишь прописные буквы да амини.
Конечно, всякий другой досуг есть не что иное, как спешка, в сравнении с прогулкой в ясный день по полям на возвратном пути с послеобеденной службы, какие прогулки бывали в прежние досужные времена, когда лодка, сонно скользившая по каналу, была новейшим локомотивным чудом, когда воскресные книги по большей части имели старые темные кожаные переплеты и открывались с замечательною точностью всегда на одном и том же месте. Досуг исчез… исчез, куда исчезли самопрялки, вьючные лошади, тяжелые обозы и разносчики, приносившие товары к дверям в ясное послеобеденное время. Гениальные философы, может быть, рассказывают вам, что великое дело паровой машины состоит в том, чтоб создать досуг для человеческого рода. Не верьте им: она создает только пустоту, в которую стремятся суетливые мысли. Даже леность суетится теперь… суетится на увеселения, склонна к увеселительным поездкам, к музеям искусств, периодической литературе и интересным романам, склонна даже к научному составлению теорий и беглым взглядам через микроскоп. Старый досуг был совершенно другой личностью: он читал только единственную газету, не имевшую главной статьи, и был свободен от периодичности впечатлений, называемой нами почтовым временем. Он был созерцательный, довольно дюжий джентльмен, отличавшийся превосходным пищеварением, спокойными понятиями, не обуреваемыми гипотезой, счастливый в своей неспособности знать причины вещей, предпочитая самые вещи. Он жил преимущественно в деревне, в веселых местоположениях и домах с принадлежностями, и любил залезать на плодовые деревья, росшие по стене на солнечной стороне, вдыхать благоухание абрикосов, когда их грело утреннее солнце, или скрываться в полдень под ветвями фруктового сада летом, когда падали груши. Он ничего не знал о будничном богослужении и не тяготился воскресною проповедью, если она позволяла ему заснуть все время от текста до благословения; лучше любил послеобеденную службу, когда молитвы были кратче, и не стыдился говорить это; у него была спокойная, веселая совесть, такая же дюжая, как и он сам, и способная перенести порядочное количество пива или портвейна, так как не была расстроена сомнениями, неизвестностью и возвышенными стремлениями. Жизнь была дли него не трудом, а синекурой, он перебирал гинеи в кармане, обедал и спал сном праведника – разве он не следовал своей хартии, отправляясь в церковь по воскресеньям после обеда?
Главный старый досуг! Не будьте строги к нему, не судите его нашею современной меркой: он никогда не являлся в Экзетер-Голе, где собирались методисты, не слушал популярного проповедника, не читал «Современных трактатов» ни «Сартор Резартус».
LIII. Жатвенный ужин
Возвращаясь домой в среду вечером в шесть часов по солнцу, Адам увидел в некотором отдалении последний воз с ячменем, подъезжавший по извилистой дороге к воротам господской мызы, и слышал песню: «Жатва дома!», то возвышавшуюся, то опускавшуюся, подобно волне. Когда он приближался к Ивовому ручейку, умиравшие звуки все еще достигали его, становясь все слабее и слабее и вместе с тем музыкальнее при увеличившемся расстоянии. Низкое опускавшееся на западе солнце прямо освещало склоны старых Бинтонских гор, превращая бессознательных овечек в яркие пятна света, освещало также окна хижины и заставляло их пылать сиянием, превышавшим сияние янтаря или аметиста. И все это заставляло Адама чувствовать, что он находится в большом храме и что отдаленное пение было священная песнь.
«Удивительно, право, – думал он, – как эти звуки доходят до сердца, точно похоронный звон, несмотря на то что они возвещают о самом радостном времени года, о том времени, когда люди бывают благодарнее всего. Нам, я думаю, несколько жестоко думать, что что-нибудь прошло и исчезло в нашей жизни и в корне всех наших радостей находится разъединение. Это похоже на то, что я чувствую относительно Дины: никогда не знал бы я, что ее любовь была бы для меня величайшим блаженством, если б то, что я считал блаженством, не было вызвано и отнято от меня и не оставило меня в большей нужде, так что я мог желать и жаждать большого и лучшего спокойствия».
Он надеялся снова увидеть Дину в тот вечер и получить позволение проводить ее до Окбурна; потом он хотел попросить, чтоб она назначила время, когда он мог навестить ее в Снофильде и узнать, должен ли он отказаться от последней лучшей надежды, возродившейся в нем, как от всего прочего. Дело, которое ему нужно было исполнить дома, кроме того, что ему нужно было надеть свое праздничное платье, продержало его до семи, и только тогда он отправился снова по дороге на господскую мызу; спрашивалось, удастся ли ему поспеть вовремя, если он будет идти быстро и большими шагами, даже к ростбифу, который подавали после плум-пудинга, потому что ужин мистрис Пойзер подавался очень аккуратно.
Когда Адам вошел в общую комнату, его встретил сильный шум ножей, оловянных тарелок и жестяных кружек, но шум этот не сопровождался звуком голосов: занятие превосходным ростбифом, приготовленным щедрой рукой, было слишком серьезно для этих добрых фермерских работников, и они не могли предаваться ему рассеянно, даже если б у них было сказать что-нибудь друг другу, чего, однако ж, не было; и мистер Пой-зер, сидевший в главе стола, был слишком занят разрезыванием и не мог слушать всегдашней болтовни Бартля Масси или мистера Крега.
– Вот, Адам! – сказала мистрис Пойзер, которая не садилась и надзирала за тем, чтоб Молли и Нанси хорошо исполняли должность прислужниц. – Здесь оставлено место для вас между мистером Масси и мальчиками. Как жаль, что вы не пришли раньше и не могли видеть пудинга, когда он был еще цел.
Адам с беспокойством искал кругом четвертой женской фигуры, но Дины не было там. Ему было почти страшно спросить о ней; притом же его внимание было отвлечено всеобщими приветствиями, и еще оставалась надежда, что Дина была в доме, хотя и не расположена принимать участие в веселье накануне своего отъезда.
Зрелище было веселое – этот стол, во главе которого помещалась полная особа Мартина Пойзера с круглым, добродушным лицом, подававшего своим слугам благовонный ростбиф и радовавшегося тому, что тарелки возвращались пустые. Мартин, благословенный обыкновенно хорошим аппетитом, сегодня забывал свой собственный кусок – так приятно было ему смотреть на всех во время разрезывания и видеть, как другие наслаждались ужином, потому что все они были люди, которые во все дни года, исключая Рождества и воскресенья, ели холодный обед на скорую руку под ветвями изгородей, пили пиво из деревянных бутылок, конечно с удовольствием, но обратив рты кверху по способу, более терпимому в утках, чем в человеческих двуногих существах. Мартин Пойзер обладал некоторым сознанием того, какими вкусными должны были казаться таким людям горячий ростбиф и только что нацеженный эль. Он держал голову набок и скривил рот, когда толкал локтем Бартля Масси и наблюдал за дурачком Тимом Толером, также известным под именем Тома Простофили и получавшим вторую полную тарелку ростбифа. Радостная улыбка показалась на лице Тома, когда тарелку поставили перед ним, между ножом и вилкой, которые он держал кверху, словно священные восковые свечи. Но наслаждение было слишком велико, оно не могло ограничиться смехом; в следующее же мгновение оно высказалось протяжным «ага, ага!», вслед затем Том внезапно погрузился в крайнюю серьезность, когда нож и вилка вонзились в добычу. Дородная фигура Мартина Пойзера тряслась от немого жирного смеха; он повернулся к мистрис Пойзер, чтоб увидеть, наблюдала ли и она за Томом, и взоры мужа и жены встретились, выражая добродушное удовольствие.
Том Простофиля пользовался большою милостью на ферме, где играл роль старого шута и за свои практические недостатки вознаграждал себя успешными возражениями. Я воображаю, что его удары были как удары цепа, падающие как ни попало, но тем не менее иногда убивающие насекомое. О них в особенности говорили много во время стрижки овец и сенокоса; но я удерживаюсь от повторения их здесь из опасения, что Томова острота окажется схожею с остротами множества прежних шутов, славившихся в свое время, то есть более временного свойства, не в связи с более глубокими и остающимися отношениями вещей.
Кроме Тома, Мартин Пойзер несколько гордился своими слугами и работниками, с удовольствием думая, что они стоили своей платы и были лучше других во всем имении. Тут был Кестер Бэль, например (вероятно, Бэль, если б знали истину, но его звали Бэль, и он не сознавал, что имел какие-нибудь притязания на пятую букву), старик в плотной кожаной шапке и с сетью морщин на загорелом лице. Был ли кто-нибудь в Ломшейкре, то знал бы лучше свойство всякой фермерской работы? Он был один из неоцененных работников, которые не только могут приложить свою руку ко всему, но которые отличаются во всем, к чему только приложат свою руку. Правда, колени Кестера в это время были согнуты вперед, и он ходил, беспрестанно приседая, словно был из числа самых почтительных людей. Да оно действительно так и было; но я обязан присовокупить, что предметом его уважения было его собственное искусство, к которому он обнаруживал весьма трогательные проявления обожания. Он всегда крыл соломой копны, потому что, если он был в чем-нибудь сильнее, чем в другом, так именно в этом деле, и когда был покрыт последний стог в виде улья, то Кестер, жилище которого находилось довольно далеко от фермы, отправлялся на двор с копнами в лучшей одежде в воскресенье утром и стоял на дороге в приличном расстоянии, любуясь своею собственною работою и расхаживая кругом, чтоб видеть каждый стог с надлежащей точки зрения. Когда он шел приседая, таким образом поднимая глаза на соломенные шишки, сделанные в подражание золотых шаров и украшавшие вершины копен в виде ульев, которые были действительно золотом лучшего качества, вы могли вообразить, что он занимается каким-нибудь языческим совершением почитания. Кестер был старый холостяк; молва шла, что он имел чулки, набитые деньгами; насчет последнего помещик его всегда, при каждой уплате ему жалованья, отпускал шутку, не новую, безвкусную, а добрую старую шутку, которая была говорена много раз уже прежде и всегда хорошо принималась. «Молодой хозяин – веселый человек», – частенько говаривал Кестер: начав свою карьеру тем, что мальчиком пугал ворон при предпоследнем Мартине Пойзере, он не мог свыкнуться и называть царствовавшего Мартина иначе, как молодым хозяином. Я вовсе не стыжусь перед вами, что вспомнил о старике Кестере: я и вы многим обязаны грубым рукам подобных людей, рукам, давно уже смешавшимся с землею, которую они возделывали с такою верностью, бережливо извлекая возможно лучшую пользу из плодов земли и получая в собственное вознаграждение самую незначительную долю.
Далее, в конце стола, против своего господина, сидел Алик, пастух и главный работник, с лоснящимся лицом и широкими плечами, находившийся с стариком Кестером не в лучших отношениях; действительно, их сношения ограничивались ворчанием при удобном случае, потому что, хотя они и немного расходились в мнениях относительно устройства изгородей, проведения канав и обхождения с овцами, между ними существовала глубокая разница в мнении касательно их собственных достоинств. Если Титиру и Мелибею случится быть на одной и той же ферме, то они не будут сентиментально-вежливы друг с другом. Алик действительно далеко не был человек сладкий; в его речи обыкновенно слышалось некоторое ворчание, а его широкоплечая фигура несколько напоминала бульдога, она как бы выражала: «Не трогайте меня, и я вас не трону»; но он был честен до того, что скорее расколол бы зерно, чем взял бы сверх назначенной ему доли, и был так же скуп на добро своего господина, как будто оно было его собственностью, бросал цыплятам весьма небольшие горсточки попорченного ячменя, так как большая горсть болезненно трогала его воображение, представляясь ему расточительностью. Добродушный Тим, возница, любивший своих лошадей, негодовал на Алика за корм; они редко разговаривали между собою и никогда не смотрели друг на друга, даже когда сидели за блюдом с холодным картофелем; но так как это был их обыкновенный образ поведения в отношении ко всему человеческому роду, то мы ошиблись бы в нашем заключении, если б предположили, что они обнаруживали более чем временные выходки неприязненности.
Вы можете видеть, что буколическая сторона Геслопа не принадлежала к совершенно веселому, радостному, вечно смеющемуся разряду, который так очевидно замечается в большей части областей, посещаемых художниками. Кроткое сияние улыбки было редким явлением на лице полевого работника, и редко существовала какая-нибудь постепенность между бычьею важностью и смехом. Да и не всякий работник был так честен, как наш приятель Алик. За этим же самым столом, в числе мужчин мистера Пойзера, сидит этот дюжий Бен Толовэ, весьма сильный молотильщик, но не раз уличенный в том, что набивал свои карманы зерном своего хозяина; а так как Бен не был философом, то это действие едва ли можно было приписать рассеянности. Несмотря на то, хозяин прощал ему и продолжал держать его у себя, потому что Толовэ жили в общине с незапамятных времен и всегда работали на Пойзеров. Я думаю, вообще, что общество не стало хуже от того, что Бенне просидел шесть месяцев на рабочей мельнице, потому что его понятия о воровстве были узки, и исправительный дом, может быть, только расширил бы их. Таким образом, Бен ел в тот вечер свой ростбиф, спокойно размышляя о том, что украл только несколько горошин и бобов для посева в своем огороде, и чувствовал себя вправе, воображая, что подозрительный глаз Алика, все время устремленный на него, был оскорблением его невинности.
Но вот кончили ростбиф и сняли скатерть, оставив славный большой сосновый стол для светлых пивных кружек, пенившихся коричневых кувшинов и светлых медных подсвечников, на которые было приятно смотреть. Теперь должна была начаться великая церемония вечера – жатвенная песня, в которой должны были принять участие все: можно петь в тоне, если кто хочет отличиться, но не должно сидеть с закрытыми губами. Такт быль назначен в три четверти, остальное ad libitum.
Что касается происхождения песни – была ли она в настоящем виде произведением ума одного певца или мало-помалу окончена школой или целым рядом певцов, – я этого не знаю. В ней находится печать единства, индивидуального гения, заставляющая меня склоняться на сторону первой гипотезы, хотя и не закрываю глаз от соображения, что это единство могло скорее произойти от согласия нескольких умов, которое было необходимым условием первобытного общества и чуждо нашему современному сознанию. Некоторые, может быть, думают в первом четверостишии видеть указание на потерянную строку, которую позднейшие певцы, лишенные силы воображения, заменили слабым повторением одной и той же строки; другие же могут скорее утверждать, что самое это повторение очень счастливое и оригинальное и к нему могут быть нечувствительны только самые прозаические умы.
Церемония, находившаяся в связи с песнью, заключалась в выпивании. (Это, может быть, прискорбный факт, но, вы знаете, мы не можем переделать наших предков.) Во время первого и второго четверостиший, пропетых решительно forte, кружки еще не наполнялась.
Here's а health unto our master, The founder of the feast; Here's а health unto our master And to our mistress! And may his doings prosper Whate'er lie takes in hand, For we are all his servants, And are at his command[21].Но теперь, непосредственно перед третьим четверостишием и хором, пропетым fortissimo, с выразительными ударами по столу, заменявшими бубны и барабан вместе, кружка Алика была наполнена, и он был обязан осушить ее, прежде чем хор окончил строфу.
Then drink, boys, drink! And see ye do not spill, For if ye do, ye shall drink two, For ‘tis our master's will[22].Когда Алик успешно прошел сквозь это испытание ловкости в твердой руке, тогда очередь дошла до старика Кестера, сидевшего по правую руку от Алика… и так далее, пока все не выпили священной пинты; под возбуждением хора Том Простофили, плутишка, отважился пролить немного, будто нечаянно, но мистрис Пойзер (уж чересчур услужливая, думал Том) вмешалась и отклонила взыскание наказания.
Человек, который находился бы за дверьми, не понял бы, почему «Пейте ж, ребята, пейте!» повторялось так часто и не переставая; но если б он только вошел в комнату, то увидел бы, что все лица были в то время трезвы, по большей части даже серьезны: для славных фермерских работников это было дело правильное и достойное уважения, все равно что для изящных леди и джентльменов улыбаться и кланяться за их рюмками вина. Бартль Масси, уши которого были несколько чувствительны, вышел посмотреть, каков был вечер, при самом начале церемонии; и он до тех пор продолжал наслаждаться погодою, пока молчание, продолжавшееся уже пять минут, объявило, что «Пейте ж, ребята, пейте!» едва ли снова возобновится раньше будущего года. К немалому сожалению мальчиков и Тотти, для них тишина казалась очень скучною после славных ударов по столу, в которых принимала участие и Тот-ти, сидевшая у отца на коленях, своею небольшою силенкой и своим небольшим кулачком.
Однако ж когда Бартль снова вошел в комнату, то оказалось, что у всех проявилось желание услышать после хора соло. Нанси объявила, что Тим-возница знал песню и всегда пел как жаворонок в конюшне; на что мистер Пойзер поощрительно сказал: «Ну-ка, Тим, спой нам что-нибудь». Тим принял застенчивый вид, тряхнул головой и сказал, что не может петь, но поощрительное приглашение хозяина нашло отголосок во всех сидевших за столом. Это был удобный случай прервать молчание. Все могли сказать: «Ну же, Тим», за исключением Алика, который никогда не вдавался в бесполезный разговор. Наконец, ближайший сосед Тима, Бен Толовэ стал придавать выразительность своей речи подталкиванием локтем, на что Тим, несколько рассвирепев, сказал:
– Да оставишь ли ты меня в покое? А то я заставлю тебя пропеть песню, которая не совсем-то придется тебе по вкусу.
Терпение добродушного возницы имеет свои пределы, и Тима нельзя было убеждать далее.
– В таком случае, Давид, тебе следует петь, – сказал Бен, желая показать, что вовсе не был расстроен этим поражением. – Спой: «Моя любовь есть роза без шипов».
Эротик Давид был молодой человек с бессознательным, рассеянным выражением, причиною которого, вероятно, было скорее сильнейшее косоглазие, нежели нравственный характер. Он не остался равнодушен к приглашению Бена, а покраснел, засмеялся и тер рукавом по рту, что могло служить признаком согласия. В продолжение некоторого времени общество, казалось, совершенно серьезно желало слышать пение Давида. Но тщетно. Весь лиризм вечера был еще в это время в запасе эля, и его нельзя было вызвать оттуда, пока существовал этот запас.
Между тем разговор, который вели за столом на главном месте, принял политический оборот. Мистер Крег не отказывался потолковать иногда и о политике, хотя больше гордился умным обзором событий, чем точностью сведений. Он видел так далеко за пределы самых фактов какого-нибудь случая, что, право, было совершенно излишне знать их.
– Сам-то я вовсе не читаю газет, – говорил он в этот вечер, набивая трубку, – хотя очень легко мог бы читать их, потому что мисс Лидия получает их и в одну минуту перечитывает все. Но этот Мильз сидит себе в углу у камина и читает газету, почитай что, с утра до вечера, и когда кончит, то станет еще пустоголовее, чем был при начале. Его голова вся набита делами о мире, о котором вот говорят теперь; он все читал да читал, и думает, что вычитал до дна. «Ну уж, Господь с вами, Мильз, – говорю, – ведь вы видите в этом деле столько же, сколько можете видеть в сердцевине картофеля. Я скажу вам, в чем дело; вы думаете, что это будет славная вещь для страны, и я не против этого – заметьте мои слова, я не против этого. Но, по моему мнению, те, которые находятся в главе управления нашей страны, самые худшие неприятели для нас, хуже самого Бони и всех монсеньоров, следующих за ним. Ведь эти монсеньоры, вы можете сразу нанизать с полдюжины их, как лягушек».
– Правда, правда, – сказал мистер Пойзер, прислушивавшийся с видом глубокого знания и назидания, – ведь они, кажется, во всю свой жизнь не едят говядины, один только салат по большей части.
– И я говорю Мильзу, – продолжал мистер Крег, – и вы никогда не заставите меня поверить, что такие иностранцы могут нам сделать и вполовину столько вреда, сколько эти министры со своим дурным управлением? Если б король Георг разогнал их всех и принялся править сам, тогда он увидел бы, что все пошло бы в порядке. Он снова мог бы взять Ваську Питта, если б захотел; но я не вижу, чтоб нам была какая-нибудь нужда иметь еще кого-нибудь, кроме короля, да парламента. Я вам скажу, что все зло и проистекает от этого гнезда министров.
– Да, хорошо вам тут толковать, – заметила мистрис Пой-зер, усевшись теперь около мужа и держа Тотти на коленах, – хорошо вам тут толковать. А легко разве сказать, который именно черт, когда у всех надеты сапоги?
– Что ж касается этого мира, – сказал мистер Пойзер, наклоняя голову набок с видом сомнения и затягиваясь перед всякой фразой, чтоб поддерживать огонь в трубке, – то я, право, не знаю. Война – прекрасная вещь для страны, и вы без нее уж никак не сохраните высоких цен. Притом же и эти французы, сколько мне известно, народ скверный, они только и годятся на то, чтоб драться с ними.
– Вы отчасти правы в этом, Пойзер, – сказал мистер Крег, – но я не против мира… пусть будет немного и праздник. Мы можем нарушить его, когда хотим, и я вовсе не боюсь этого Бони, несмотря на то что столько говорят о его уме. Вот это самое я говорил и Мильзу утром. А он, Бог с ним, никак не может понять Бони! И я в какие-нибудь три минуты представил ему все так ясно, между тем как он не добрался до этого, читая газеты круглый год. «Скажите-ка, Мильз, – я говорю ему, – садовник я, знающий свое дело, или нет? Отвечайте!» – «Ну, разумеется, Крег», – говорит он… и он недурной человек, этот Мильз, для буфетчика, только слабенек головою. «Хорошо, – говорю, – вы говорите, что Бони умен; какая была бы польза в том, что я образцовый садовник, если б мне пришлось работать на болоте?» – «Никакой», – говорит он. «Хорошо, – я говорю, – вот то же самое и с Бони. Я не стану спорить, что у него есть ум… ведь он не природный француз, как я слышал; но у него-то разве есть кто-нибудь, кроме этих монсеньоров?»
Мистер Крег остановился на минуту и выразительно смотрел кругом после этого торжественного образчика сократовского довода, потом, ударив довольно сильно по столу, добавил:
– Вот я вам расскажу верную историю. Есть люди, которые были очевидцами этого случая. В одном полку недоставало одного человека, так они нарядили в мундир большую обезьяну, и мундир пришелся ей так, как скорлупа приходится к ореху, так что вы ни за что не отличили бы обезьяны от монсеньоров.
– Ах, скажите на милость! – воскликнул мистер Пойзер, пораженный этим фактом в политическом отношении, а также как любопытным явлением в естественной истории.
– Перестаньте, Крег, – сказал Адам, – это уж чересчур. Вы и сами не верите этому. Все это вздор, будто французы такой жалкий народ. Мистер Ирвайн видел их в их родной стране и говорит, что между ними есть вдоволь статных и красивых людей. Что ж касается знания, выдумок, мануфактур, то мы во многом порядком отстали от них. Жалко и глупо унижать своих неприятелей таким образом. Ведь Нельсон и прочие не имели бы никаких заслуг в том, что разбили их, если б французы были действительно дрянь, как говорят.
Мистер Пойзер сомнительно посмотрел на мистера Крега, смущенный такою противоположностью авторитетов. Свидетельство мистера Ирвайна нельзя было оспаривать; но, с другой стороны, Крег был малый знающий, и его точка зрения не ставила в тупик, как точка зрения мистера Ирвайна. Мартин никогда не слышал, чтоб кто-нибудь говорил о французах, будто они стоят чего-нибудь. Как мог ответить на слова Адама мистер Крег, можно было заключить из того, что он взял продолжительный глоток элю и потом пристально посмотрел на размеры своей ноги, которую несколько выворотил с этою целью; но в это время Бартль Масси отошел от камина, где спокойно курил свою первую трубку, и, опуская пальцы в коробку с табаком и снова набивая трубку, прервал молчание, сказав:
– Послушайте, Адам, отчего это случилось, что вы не были в церкви в воскресенье? Извольте-ка отвечать, плут вы этакой. Антифон прошел очень жалко без вас. Разве вы намерены осрамить вашего школьного учителя на старости лет?
– Нет, мистер Масси, – отвечал Адам. – Мистер и мистрис Пойзер могут сказать вам, где я был. Я был не в дурном обществе.
– Она уехала, Адам, уехала в Снофильд, – сказал мистер Пойзер, вспоминая о Дине в первый раз в этот вечер. – Я думал, что вам удастся уговорить ее. Ее нельзя было удержать ничем, она уехала вчера перед обедом. Хозяйка все еще не может успокоиться. Я думал, что уж ей и жатвенный ужин не будет в удовольствие.
Мистрис Пойзер вспоминала о Дине не раз с тех пор, как вошел Адам, но у нее не хватало духу передать ему неприятные вести.
– Как! – воскликнул Бартль с видом презрения. – Тут замешана женщина. В таком случае я отрекаюсь от вас, Адам.
– Но это женщина, о которой вы отзывались хорошо, Бартль, – сказал мистер Пойзер. – И теперь вы не можете отступиться. Вы сказали как-то, что женщины не были бы дурным изобретением, если б все они походили на Дину.
– Я говорил о ее голосе, друг… я говорил о ее голосе – вот и все, – возразил Бартль. – Когда она говорит, то я могу слушать ее, не заложив уши хлопчатой бумагою. Что ж касается прочего, то, я думаю, она похожа на остальных женщин… думает, что дважды два составят пять, если она начнет плакать и порядком надоедать этим.
– Ну, разумеется! – заговорила тут мистрис Пойзер, – когда услышишь, как говорят некоторые люди, то, право, подумаешь, что мужчины куда как тонки и могут сосчитать зерна, только понюхав мешок с пшеницею. Ведь они, право, могут видеть сквозь дверь риги. Может быть, по этой самой причине они почти ничего и не видят перед дверью.
Мартин Пойзер затрясся радостным смехом и мигнул Адаму, как бы желая выразить, что попалось же школьному учителю.
– Ах! – произнес Бартль насмешливо, – женщины, правда, очень быстры… Уж очень быстры. Они знают всю историю, прежде чем выслушают ее до конца, и могут сказать мужчине, что у него за мысли, прежде чем он сам узнает их.
– Очень может быть, – ответила мистрис Пойзер. – Мужчины по большей части бывают очень медленны; их мысли уходят вперед, и они могут поймать их только за хвост. Я могу счесть отворот чулка, пока мужчина приготовит свой язык, и когда он наконец выжмет, что хотел сказать, то из этого немного сваришь бульона. Это ваши дохлые цыплята требуют самого долгого высиживания. Впрочем, я не отрицаю, что женщины глупы: Всемогущий Бог создал их под пару мужчинам.
– Под пару! – воскликнул Бартль. – Так же под пару, как уксус зубам. Если человек выговорит слово, то жена под пару скажет ему противное; если ему хочется горячего мяса, она под пару даст ему холодной ветчины; если он смеется, она под пару станет хныкать. Она так же ему под пару, как слепень лошади: у нее есть яд, которым она может жалить его.
– Да, – сказала мистрис Пойзер, – я знаю что любят мужчины… жалкую, кроткую женщину, которая улыбалась бы им, как изображению солнца, все равно, будут ли они поступать хорошо или дурно, которая благодарила бы их за каждый пинок и говорила бы, что не знает, как она стоит, на голове или на ногах, пока ей не скажет этого муж. Вот чего по большей части требует мужчина от жены: он хочет уверить, что она дура, которая будет говорить ему, что он умен. Но есть люди, которые могут обойтись и без жены, так много они думают о себе: вот отчего они и остаются старыми холостяками.
– Слышите, Крег? – сказал мистер Пойзер шутливо. – Вы должны жениться поскорее, а то и вас будут считать старым холостяком; а вы видите, что тогда будут думать о вас женщины.
– Хорошо, – отвечал мистер Крег, намереваясь примирить мистрис Пойзер и высоко ценя свои собственные комплименты, – мне нравятся женщины умные, ловкие, хозяйки.
– Вот вы и ошибаетесь, Крег, – сказал Бартль сухо, – вы ошибаетесь в этом. Вы знаете больше толку в вашем деле садовника, чем в этом: вы выбираете вещи по тому, в чем они отличаются. Вы не станете высоко ценить горох за его корни или морковь за ее цвет. Вот таким же образом вам следовало бы смотреть и на женщин: их ум никогда не приведет ни к чему, между тем как простенькие будут отличные, спелые и благоуханные.
– Что ты скажешь на это? – спросил мистер Пойзер, откидываясь назад и весело смотря на жену.
– Что скажу! – отвечала мистрис Пойзер, и в ее глазах заблистал опасный огонь. – Я скажу то, что у некоторых людей языки словно часы, которые беспрестанно бьют не для того, чтоб показывать время дня, а потому, что их внутренность несколько испорчена…
Мистрис Пойзер, вероятно, довела бы свое возражение до больших пределов, если б внимание всех не обратилось в эту минуту на другой конец стола. Лиризм, пробудившийся здесь сначала только в том, что Давид пел sotto voce: «Моя любовь – роза без шипов», мало-помалу принял оглушающий и более общий характер. Тим, невысоко ценивший вокализацию Давида, чувствовал потребность заменить это слабое жужжание тем, что громко запел «Три веселые сенокосца»; но Давида нелегко было принудить уступить, он хотел доказать, что имел способности к большому crescendo, так что становилось сомнительным, роза ли останется победительницею или победят сенокосцы, как вдруг старик Кестер, с совершенно твердым и непоколебимым видом, присоединился к пению с своим дрожащим дискантом, словно будильник, для которого наступило время бить.
Общество на том конце стола, где сидел Алик, это общество, не будучи заражено музыкальными предрассудками, считало это вокальное увеселение нисколько не выходящим из порядка вещей. Но Бартль Масси положил трубку в сторону и заткнул уши пальцами, а Адам, имевший желание уйти, лишь только услышал, что Дины не было в доме, встал с своего места и сказал, что должен пожелать всем спокойной ночи.
– Я пойду с вами, мой друг, – сказал Бартль, – я пойду с вами, пока еще у меня не лопнули уши.
– Я пойду кругом чрез общее поле и зайду к вам, если хотите, мистер Масси, – произнес Адам.
– Прекрасно! – сказал Бартль. – В таком случае мы можем немного потолковать друг с другом. Уж я давно не могу захватить вас к себе.
– Эх, как жаль, что вы не хотите посидеть с нами до конца! – сказал Мартин Пойзер. – Они скоро все разойдутся, хозяйка не позволит им остаться позже десяти.
Но Адам не хотел изменить своего решения; таким образом, два друга пожелали всем доброй ночи и отравились вместе в путь при свете звезд.
– Моя бедная дурочка Злюшка, верно, плачет обо мне дома, – сказал Бартль. – Я не могу взять ее с собой сюда из опасения, чтоб ее не сразил глаз мистрис Пойзер, после чего бедняжка навсегда осталась бы калекою.
– А мне так никогда не бывает нужно гнать Джипа назад, – сказал Адам, смеясь, – он тотчас же вернется домой, лишь только заметит, что я иду сюда.
– Я не верю! – сказал Бартль. – Ужасная женщина!.. Вся из иголок, вся из иголок. Но я держу сторону Мартина, всегда буду держать сторону Мартина. И он, Бог с ним, любит эти иголки: он точно подушка, которая сделана собственно для них.
– Несмотря на то, она, однако ж, прямая, добрая женщина, – сказал Адам, – и верна, как дневной свет. Она немного сердится на собак, когда они хотят забежать в дом; но если б они принадлежали ей, она заботилась бы о них и кормила бы их хорошо. Язык у нее острый, но сердце нежное: я убедился в этом в дни горя. Она одна из тех женщин, которые лучше в действительности, чем на словах.
– Хорошо, хорошо, – заметил Бартль, – я не говорю, чтоб яблоко было нехорошо внутри, только кисло, набьешь оскомину.
LIV. Встреча на горе
Адам понял, отчего Дина поспешила уехать, и ее отъезд заставлял его скорее иметь надежду, чем предаваться отчаянию. Она опасалась, чтоб сила ее чувства к нему не помешала ей верно выждать и выслушать окончательное указание внутреннего голоса.
«Жаль, однако ж, что я не попросил ее написать мне, – думал он. – А между тем даже это, может быть, обеспокоило бы ее несколько. Она хочет остаться совершенно спокойною по-прежнему на некоторое время. И я не имею права быть нетерпеливым и мешать ей своими желаниями. Она сказала мне, в каком состоянии ее сердце, а она не из тех, которые говорят одно, а думают другое. Я буду ждать терпеливо».
Таково было благоразумное решение Адама, и оно поддерживалось успешно в продолжение первых двух или трех недель воспоминанием о признании Дины в то воскресенье после обеда. Удивительно, что за сильную поддержку имеют первые немногие слова любви! Но около половины октября его решимость, видимо, стала слабеть и обнаруживала опасные признаки совершенного исчезновения. Недели казались ему необыкновенно длинными. Дина, конечно, имела довольно времени, чтоб решиться. Пусть женщина говорит, что хочет: после того как она однажды сказала мужчине, что любит его, он находится в слишком взволнованном и восторженном состоянии от этого первого упоения, которое он получает от нее, и не может заботиться о последующем. Он ходит по земле весьма эластическим шагом, когда удаляется от нее, и все трудности считает легкими. Но подобный жар исчезает; воспоминания грустно ослабевают со временем, не имеют достаточной силы, чтоб оживить нас. Адам уж утратил свою прежнюю уверенность: он стал опасаться, что прежняя жизнь Дины, может быть, снова овладела ею в такой степени, что новое чувство не могло восторжествовать. Если б она не чувствовала этого, то непременно написала бы к нему, чтоб хотя несколько успокоить его; но так, казалось, она считала нужным привести его в уныние. Вместе с уверенностью исчезало и терпение Адама, и он думал, что ему нужно написать самому; он должен просить Дину, чтоб она не оставляла его в тягостном сомнении долее, чем было необходимо. Однажды вечером он просидел поздно за письмом к ней, но на следующее утро сжег, опасаясь действия, которое оно произведет. Тягостнее было получить лишающий всякой надежды письменный ответ, чем услышать такой же ответ из ее уст, потому что ее присутствие заставляло его соглашаться с ее волею.
Вы замечаете, в каком положении находилось дело. Адам жаждал увидеться с Диной; и когда такого рода желание достигает известной степени, то очень вероятно, что влюбленный решится утолить его, хотя бы ему пришлось поставить на карту все будущее.
Но может ли он причинить какой-нибудь вред, если отправится в Снофильд? Дина не может рассердиться на него за это, она не запрещала ему прийти туда; она, вероятно, ожидала его, и ему следовало навестить ее уже давно. Во второе воскресенье в октябре точка зрения на это дело так прояснилась для Адама, что он уже был на дороге в Снофильд. В то время он отправлялся туда верхом, потому что время было ему дорого, и он занял для путешествия хорошую лошадку у Джонатана Берджа.
Сколько болезненных воспоминаний пробуждала в нем эта дорога! Он часто ездил в Окбурн и часто возвращался оттуда после того первого путешествия в Снофильд, но за Окбурном серые каменные стены, изрытая земля, скудные деревья, казалось, снова рассказывали ему историю тягостного прошедшего, которое он знал так хорошо наизусть. Но никакая история не остается для нас той же самой по прошествии известного времени, или скорее мы, читавшие, не остаемся теми же самыми истолкователями. И в это утро Адам имел новые мысли, проезжая по серой стране, – мысли, придавшие уже изменившееся значение истории прошлого.
Та низкая, себялюбивая и даже богохульная душа, которая с благодарностью радуется прошлому несчастью, уничтожившему или раздавившему другого, потому что это горе стало источником непредвиденного добра для нас самих. Адам никогда не переставал сокрушаться о тайне человеческого страдания, которая пала так близко от него; он никогда не мог благодарить Бога за несчастье, обрушившееся на другого. И даже если б я был способен чувствовать эту узкую радость за Адама, я все-таки знал бы, что он сам не чувствовал ее; он покачал бы головою при таком ощущении и сказал:
«Зло остается злом и горе горем, и вы не изменили бы его свойства, если б облекли его в другие слова. Другие люди не были созданы ради меня, и я не должен думать, что это все равно, лишь бы только выходило хорошо для меня».
Но не низко чувствовать, что более полная жизнь, принесенная нам грустным опытом, заслужена нашей собственной личной долей страдания. Конечно, и невозможно чувствовать иначе, все равно как человеку с катарактом невозможно сожалеть о страшной операции, посредством которой его слабое, помраченное зрение, представлявшее ему людей деревьями, стало ясно отличать очерки и лучезарный день. Развитие высших чувств в нас самих похоже на развитие способностей: оно приносит с собою сознание увеличившейся силы; мы не можем желать возвращения к более узкому сочувствию, как живописец или музыкант не может желать возвращения к своей более несовершенной манере или философ – к своим менее полным формулам.
Что-то подобное сознанию расширившегося существования было в душе Адама в то воскресенье утром, когда он ехал верхом, при живом воспоминании минувшего. Его чувства к Дине, надежды провести жизнь с ней были отдаленной невидимой точкой, к которой привела его та тягостная поездка из Снофильда восемнадцать месяцев назад. Как ни была нежна и глубока его любовь к Хетти – а она была так глубока, что корни ее не будут вырваны никогда, – его любовь к Дине была лучше и драгоценнее для него, она выросла из полнейшей жизни, которая развилась для него из того, что он ознакомился с глубоким горем.
«У меня будто является новая сила, – думал он, – оттого, что я люблю ее и знаю, что она любит меня. Я буду всегда смотреть на нее как на свою путеводительницу к добру. Она лучше меня: в ней меньше себялюбия и тщеславия. А это чувство, когда вы можете больше ввериться другому, чем самому себе, придает вам некоторого рода свободу, и вы можете идти к своей цели без страха. До этих пор я всегда думал, что знал все лучше, чем окружавшие меня, а это жалкий род жизни, когда вы не можете надеяться, что ваши ближние помогут вам в каком-нибудь деле лучше, нежели вы сами в состоянии помочь себе».
Было уже позже двух часов после обеда, когда Адам увидел серый город на скате горы и когда он внимательно смотрел вниз, на зеленевшую долину, желая отыскать старый дом с соломенною крышею неподалеку от неблаговидной красной фабрики. При мягком сиянии октябрьского солнца ландшафт не имел такого грубого вида, как при ярком свете ранней весны, и его единственное большое очарование, общее со всеми далеко раскинувшимися безлесными областями, наполняющее вас новым сознанием находящегося над вами небесного свода, имело более кроткое, более обыкновенное успокаивающее влияние в этот почти безоблачный день. Сомнения и опасения Адама исчезли под этим влиянием, подобно тому как тонкие, в виде ткани, облака мало-помалу исчезли в ясной синеве над ним. Он, казалось, видел, как ласковое лицо Дины удостоверяло его одним своим видом во всем, что он желал знать.
Он не думал застать Дину дома в это время, но все-таки сошел с лошади и привязал ее к небольшим воротам, желая войти в дом и спросить, куда она сегодня отправилась. Он имел намерение последовать за нею и привезти ее домой. Старуха сказала ему, что она отправилась в Сломенс-Энд, деревню, находившуюся мили за три отсюда, за горой; она отправилась туда тотчас же после утренней службы, чтоб, по своему обыкновению, проповедовать там в хижине. Всякий в городе покажет ему дорогу в Сломенс-Энд. Таким образом, Адам снова сел на лошадь и поехал в город, потом остановился в старой гостинице, пообедал там на скорую руку в обществе сильно болтливого хозяина, от дружеских расспросов и воспоминаний которого он рад был освободиться как можно скорее, и наконец отправился в Сломенс-Энд. Несмотря на всю свою поспешность, он мог вырваться только около четырех часов и думал, что, так как Дина отправилась рано, он, может быть, встретит ее готовую уже возвратиться домой. Небольшая серая деревушка, имевшая вид покинутой, не защищенная густыми деревьями, открылась перед ним на далекое расстояние, прежде чем он въехал в нее. Подъехав ближе, он расслышал пение гимна. «Может быть, это последний гимн перед тем, что все разойдутся, – подумал он. – Я пойду немного назад, а потом вернусь встретить ее подальше от деревни». Он пошел назад почти до самой вершины горы, присел там на отдельном камне, прислонясь к низкой стене, и стал ожидать, когда увидит, как небольшая черная женщина выйдет из деревни и начнет подыматься на гору. Он выбрал это место почти на самой вершине горы, потому что тут был скрыт от всех взоров: вблизи не было ни хижины, ни скота, ни даже щиплющей траву овцы – ничего, кроме тихого света и тени и необъятного неба над ним.
Она не показывалась гораздо долее, чем он предполагал: он ждал по крайней мере с час, стараясь увидеть ее и думая о ней, между тем как послеобеденные тени ложились длиннее и свет становился слабее. Наконец он увидел небольшую черную фигуру, шедшую между серыми домами и мало-помалу приближавшуюся к подошве горы. Адаму казалось, что Дина шла медленно; в действительности же она шла своим обычным, легким и спокойным, шагом. Вот она вступала на извилистую дорожку, которая вела на гору, но Адам не хотел еще тронуться с места, он не хотел выйти к ней навстречу так скоро, он решился подойти к ней в этом спокойном уединенном месте. Но тут он стал опасаться, что может поразить ее слишком сильно.
«А между тем, – думал он, – она не принадлежит к числу тех, которые могут быть поражены слишком сильно; она так спокойна и тиха всегда, словно приготовлена ко всему».
О чем могла бы она думать, поднимаясь по извилистой дорожке на гору? Может быть, она нашла совершенный покой без него и перестала чувствовать потребность в его любви. Все мы трепещем, когда находимся на краю какого-нибудь решения: надежда приостанавливается, трепеща крыльями.
Но теперь наконец она была очень близко, и Адам отошел от каменной стены. Случилось, что в ту самую минуту, как он выступил вперед, Дина приостановилась и обернулась, чтоб посмотреть на деревню: кто же, взбираясь на гору, не остановится и не посмотрит назад? Адам был рад этому: с тонким инстинктом влюбленного он чувствовал, что лучше, если она прежде, чем увидит его, услышит его голос. Он подошел к ней на три шага и сказал:
– Дина!
Она вздрогнула, но не обернулась, будто не связывала звука с местом.
– Дина! – повторил Адам.
Он очень хорошо знал, что у нее было в мыслях. Она так привыкла представлять себе впечатления чисто духовными внушениями, что не искала чего-нибудь вещественного, видимого, что сопровождало бы голос.
Но при втором разе она обернулась. С каким выражением страстной любви обратились кроткие, серые глаза на мужественного черноглазого человека! Она не вздрогнула более при виде его, она не сказала ничего, но подошла к нему так, что его рука могла обвить ее стан.
И они пошли так, молча; горячие слезы струились по лицу. Адам был доволен и не произносил ничего. Дина заговорила первая.
– Адам, – сказала она, – это воля Господа. Моя душа так связана с вашею, что я живу без вас только разделенною жизнью. И в настоящую минуту, когда вы находитесь со мною и я чувствую, что сердца наши наполнены одинаковой любовью, я сознаю полноту силы переносить и делать все, что назначено нашим Небесным Отцом, которой я не сознавала прежде.
Адам остановился и посмотрел ей в искренние, любящие глаза:
– В таком случае мы больше не разлучимся, Дина, пока не разлучит нас смерть.
И они поцеловали друг друга с глубокою радостью.
Существует ли что-нибудь большее для двух душ, чем то чувство, что они соединены на всю жизнь для того, чтоб поддерживать друг друга во всяком труде, находить успокоение друг в друге во всяком горе, помогать друг другу во всякой скорби, быть вместе друг с другом в безмолвных, невыразимых воспоминаниях в минуту последней разлуки?
LV. Свадебные колокола
Немного более чем месяц спустя после этой встречи на горе, в морозное утро в исходе ноября, была свадьба Адама и Дины.
То было необыкновенное событие в деревне. Все люди мистера Берджа и все люди мистера Пойзера праздновали этот день; и большая часть из тех, для которых этот день был праздником, явилась на свадьбу в своих лучших платьях. Я думаю, едва ли найдется житель Геслопа, отдельно поименованный в нашем рассказе и еще живший в приходе в это ноябрьское утро, который не был бы или в церкви, чтоб видеть свадьбу Адама и Дины, или около церковных дверей, чтоб приветствовать молодых, когда они проходили мимо него. Мистрис Ирвайн и ее дочери ждали у церковных ворот в своей коляске (у них была своя коляска теперь), чтоб пожать руку невесте и жениху и пожелать им всякого благополучия; а за отсутствием мисс Лидии Донниторн в Бате мистрис Бест, мистер Мильз и мистер Крег считали себя обязанными быть представителями фамилии на Лесной Даче при этом случае. Дорога, пролегавшая от церкви к кладбищу, вся была занята знакомыми лицами; большая часть видела Дину в первый раз, когда она проповедовала на лугу. Неудивительно, что они принимали такое горячее участие в ее свадьбе, потому что ни у кого не было в памяти чего-нибудь, напоминавшего Дину и обстоятельства, которые свели ее с Адамом Бидом.
Бесси Кренедж, в самом нарядном чепчике и платье, плакала, хотя и не знала хорошенько о чем, потому что, как умно рассуждал ее двоюродный брат, Жилистый Бен, стоявший рядом с ней, Дина не уезжала, и если Бесси скучала, то ей лучше всего было бы последовать примеру Дины и выйти за честного малого, который готов был жениться на ней. За Бесси, у самых дверей церкви, стояли дети Пойзеров, украдкой выглядывавшие из-за углов загороженных мест, желая видеть таинственную церемонию. На лице Тотти выражалось необыкновенное беспокойство при мысли, что она увидит, как кузина Дина возвратится домой старухой; по опытности Тотти, женатые люди не были уже молодыми.
Я завидую им всем, кто видел это зрелище, когда свадебная церемония кончилась и Адам повел Дину из церкви. В это утро она не была в черном; ее тетка Пойзер никаким образом не хотела допустить, чтоб Дина отважилась на такое дурное предзнаменование, и сама подарила свадебное платье, все серого цвета, хотя и сшитое по обычному квакерскому покрою, потому что в этом Дина не хотела уступить никак. Таким образом, ее белое, как лилия, личико с выражением сладостной важности выглядывало из-под серой квакерской шляпки, не улыбаясь и не краснея, но губы ее несколько дрожали под тяжестью торжественных ощущений. Адам, прижимая к себе ее руку, шел, как, бывало, прежде, прямо и не держа головы несколько назад, как бы для того, чтоб лучше видеть новую жизнь, открывавшуюся перед ним. Не потому, чтоб он чувствовал особенную гордость в это утро, как обыкновенно бывает с женихами, – его блаженство было такого рода, что ему было почти все равно, какого мнения были люди об этом. В его глубокой радости был некоторый оттенок грусти. Дина знала это и не была огорчена.
За невестой и женихом следовали еще три пары: во-первых, Мартин Пойзер, имевший такой же веселый вид, как большой огонь, в это морозное утро, вел тихую Мери Бердж, подружку, затем шел Сет, искренно счастливый, под руку с мистрис Пойзер, а за всеми Бартль Масси с Лисбет, Лисбет в новом платье и в новом чепчике, слишком занятой гордостью о своем сыне и наслаждением, что обладала единственною дочерью, которую только желала, и потому не имевшей в голове ни малейшего предлога к жалобам.
Бартль Масси согласился присутствовать на свадьбе по настоятельнейшей просьбе Адама, но протестовал против женитьбы вообще, а в особенности против женитьбы умного человека. Тем не менее мистер Пойзер подшучивал над ним после свадебного обеда насчет того, что он лишний раз поцеловал невесту в ризнице.
За последнею парою шел мистер Ирвайн, от души радовавшийся этому доброму утреннему делу – соединению Адама и Дины. Он видел Адама в самые страшные минуты горя, а могло ли то тягостное время посева принести жатву лучше этого? Любовь, которая принесла надежду и утешение в часы отчаяния, любовь, нашедшая себе дорогу в мрачную тюремную келью и в еще мрачнейшую душу бедной Хетти, эта сильная кроткая любовь будет спутницей и помощницей Адама до гроба.
Много раз пожимали руки при восклицаниях «Да благословит вас Бог!» и других добрых желаниях этим четырем парам у церковных ворот, и мистер Пойзер отвечал за всех с необыкновенным проворством языка: он решительно имел при себе весь запас шуток, приличных свадебному дню. А женщины, заметил он, только и умеют приставлять пальцы к глазам на свадьбе. Даже мистрис Пойзер не была в состоянии отвечать, когда соседи пожимали ей руки, а Лисбет начала плакать прямо в лицо самому первому человеку, сказавшему ей, что она снова становилась молодой.
Мистер Джошуа Ганн, несколько страдавший ревматизмом, не присоединился к тем, кто звонил в колокола в это утро, и, несколько презрительно смотря на эти неформальные поздравления, не требовавшие официального содействия дьячка, стал напевать вполголоса своим музыкальным басом: «Радуйтесь, радуйтесь», как бы стараясь представить себе действие, которое он намеревался произвести в следующее воскресенье при пении свадебного псалма.
– Вот известия, которые порадуют Артура, – сказал мистер Ирвайн своей матери, когда они ехали со свадьбы. – Как только мы приедем домой, тотчас же напишу ему об этом.
Эпилог
То было почти в конце июня 1887 года. Мастерские на лесном дворе Адама Бида, принадлежавшем прежде Джонатану Берджу, заперты уже с полчаса или несколько более, и мягкий вечерний свет падает на веселый домик, с желтыми стенами и мягкой серой соломенной кровлей почти совершенно так, как в тот июльский вечер девять лет назад, когда Адам приносил ключи.
Вот из дома вышла фигура, которую мы знаем хорошо; она защищает глаза руками, смотря на что-то вдаль: лучи, падающие на ее белый чепчик без оборки и на ее бледно-каштановые волосы, помрачают зрение. Но вот она отворачивается от солнечного света и смотрит на дверь. Теперь мы хорошо можем видеть прелестное бледное лицо: оно почти вовсе не изменилось, стало только несколько полнее, соответствуя более плотному стану, который, кажется, довольно легок и деятелен в обыкновенном черном платье.
– Я вижу его, Сет, – сказала Дина, смотря в дом. – Пойдемте к нему навстречу. Пойдем, Лисбет, пойдем с мамашей.
На последние слова отвечало немедленно крошечное прелестное существо с бледно-каштановыми волосами и серыми глазами, немного более четырех лет; оно молча выбежало из дома и подало матери руку.
– Пойдем, дядюшка Сет, – сказала Дина.
– Да, да, мы идем, – отвечал Сет в доме и тотчас же показался в дверях; он был выше обыкновенного, потому что над ним торчала черная головка резвого двухлетнего племянника, который произвел небольшую остановку тем, что просил дядю посадить его на плечи.
– Лучше возьми его на руки, Сет, – сказала Дина, ласково смотря на здорового черноглазого ребенка. – Так он будет беспокоить тебя.
– Нет, нет, Адди любит покататься у меня на плечах. Я могу пронести его так немного.
На эту любезность молодой Адди отвечал тем, что забарабанил по груди дядюшки Сета своими пятками с силою, которая обещала в будущем многое. Но быть подле Дины и подвергаться мучениям со стороны детей Дины и Адама – вот в чем заключалось земное блаженство дядюшки Сета.
– Где ты видишь его? – спросил Сет, когда они вышли на соседнее поле. – Я не могу увидеть его нигде.
– Между изгородями около дороги, – сказала Дина. Я видела его шляпу и плечо. Вот он опять.
– Ты уж наверно увидишь его, если только его можно увидеть где-нибудь, – заметил Сет, смеясь. – Ты точно, бывало, бедная матушка. Она всегда, бывало, поджидала Адама и могла видеть его гораздо скорее, чем другие, несмотря на то что у нее глаза становились все слабее и слабее.
– Он пробыл долее, чем ожидал, – сказала Дина, вынимая часы Артура из небольшого бокового кармана и смотря на них, – теперь уж скоро семь.
– Да, но ведь у них и нашлось о чем поговорить друг с другом, – сказал Сет, – и встреча, я думаю, сильно тронула их обоих. Ведь почти восемь лет, что они не видались.
– Да, – сказала Дина, – Адама очень озабочивала сегодня утром мысль о том, накую перемену он должен найти в бедном молодом человеке после болезни, которую он перенес, а также и после стольких лет, изменивших нас всех. И смерть бедной блуждавшей, когда она возвращалась к нам, была новым горем.
– Посмотри, Адди, – сказал Сет, спуская мальчика на руки и указывая вперед, – вон отец идет, вон там у плетня.
Дина ускорила шаги, и маленькая Лисбет пустилась бежать что было силы, пока наконец на схватила отца за ногу. Адам погладил ее по головке, поднял ее и поцеловал, но Дина могла видеть признаки волнения, когда приблизилась к нему, и он безмолвно взял ее под руку.
– Хорошо, малютка, должен я взять тебя? – сказал он, стараясь улыбнуться, когда Адди протянул к нему свои руки, готовый с свойственною детям неблагодарностью разом покинуть дядюшку Сета, так как теперь у него под рукой была лучшая защита.
– Ну, это порядком расстроило меня, – сказал наконец Адам, когда все направились к дому.
– Ты нашел его очень изменившимся? – спросила Дина.
– Ну, он изменился и между тем не изменился. Я узнал бы его везде. Но цвет его лица переменился, и он очень грустен. Однако ж доктора говорят, что он скоро поправится от воздуха родной стороны. Внутри он совершенно здоров, только лихорадка разбила его таким образом. Но он говорит по-прежнему и улыбается так же точно, как в то время, когда был мальчиком. Удивительно, право, что, когда он улыбается, его лицо имеет всегда то же самое выражение.
– Никогда я не видела, как он улыбается, бедный молодой человек! – сказала Дина.
– И ты увидишь это завтра, – отвечал Адам. – Он тотчас же прежде всего спросил о тебе, когда стал приходить в себя и мы могли начать разговор. «Надеюсь, она не изменилась, – сказал он, – мне так хорошо помнится ее лицо». Я ответил ему, что нет, – продолжал Адам, с чувством смотря в глаза, устремленные на него, – только несколько дороднее, ведь после семи лет ты имеешь право быть такою. «Могу я прийти и посмотреть на нее завтра? – спросил он. – Мне очень хотелось бы сказать ей, как я думал о ней в продолжение всех этих лет».
– Ты сказал ему, что я всегда ношу часы? – спросила Дина.
– Конечно, и мы много разговаривали о тебе; он говорит, что никогда не видел женщины подобной тебе. «Я еще сделаюсь методистом в один прекрасный день, – сказал он, – когда она будет проповедовать на поле, я пойду слушать ее». А я сказал: «Нет, сэр, вы не можете сделать это: конференция запретила женщинам проповедовать, и она отказалась от проповедования, иногда только разговаривает с бедными людьми у них в доме».
– Ах, – сказал Сет, не будучи в состоянии оставить это без замечания, – жаль, что конференция поступила таким образом. Если б Дина была одного мнения со мною, то мы оставили бы веслеянцев и присоединились к какой-нибудь другой секте, которая не ограничивает религиозной свободы.
– Нет, брат, нет! – возразил Адам. – Она поступает так, а ты не прав. Нет правила, которое приходилось бы ко всем. Большая часть женщин, которые проповедывают, приносят более вреда, чем пользы, – не у всех такой дар и такое вдохновение, как у Дины; она сама поняла это и сочла за лучшее показать пример покорности, так как ей не запрещено поучать людей каким-нибудь другим образом. И я согласен с нею и одобряю ее образ действия.
Сет замолчал. Они редко обращались к этому предмету разговора, потому что постоянно были несогласны в нем, и Дина, желая разом прекратить спор, сказала:
– Вспомнил ли ты, Адам, слова, которые поручили тебе мой дядя и моя тетка передать полковнику Донниторну?
– Да, и он намерен отправиться послезавтра на господскую мызу с мистером Ирвайном. Мистер Ирвайн пришел в то самое время, когда мы говорили об этом; и он настаивал на том, чтоб полковник не видел завтра никого, кроме тебя. Он сказал – и, по моему мнению, он совершенно прав, – что свидание со многими людьми могло бы слишком взволновать его и таким образом причинило бы ему вред. «Прежде всего нам надобно выздороветь и собраться с силами, Артур, – сказал он, – а потом вы можете делать что хотите. Но покамест вы еще находитесь в руках своего старого учителя». Мистер Ирвайн очень рад, что видит его снова дома. Адам, помолчав немного добавил: – В первые минуты, когда мы встретились друг с другом, нам было очень больно. Он ничего не слыхал о бедной Хетти, пока мистер Ирвайн не встретил его в Лондоне, потому что не получал во время своего путешествия писем, которые посылались к нему; когда мы только что пожали друг другу руку, то прежде всего он сказал: «Я никогда не мог сделать для нее ничего, Адам; она жила довольно долго для того, чтоб страдать, а я так часто думал о том времени, когда бы я мог сделать для нее что-нибудь. Справедливо говорили вы тогда: есть зло, которое останется неисправимым навсегда».
– Да вон идут мистер и мистрис Пойзер к нам, – сказал Сет.
– Так и есть, – сказала Дина. – Беги, Лисбет, беги встречать тетушку Пойзер. Войди, Адам, тебе необходимо отдохнуть после такого тяжелого дня.
Сноски
1
Вспрянь, моя душа, и с первыми лучами солнца Спеши на дневное поприще твоей обязанности; Отжени от себя скучную лень… Английский церковный гимн. (обратно)2
Да будут искренни все твои отношения И совесть, как полдень, чиста. (обратно)3
St. Beda, род. в 672 г. в Нортемберленде, воспитывался в бенедиктинском монастыре Св. Петра в Вермоуте, впоследствии сделался в монастыре Св. Павла в Ярро монахом, дьаконом и пресвитером. Он прозывался venerabilis (Почтенный) и известен своими историческими, богословскими и др. сочинениями. – Здесь и далее примеч. пер.
(обратно)4
Аркрейт – известный изобретатель бумагопрядильной машины, живший в прошедшем столетии.
(обратно)5
Да будут искренни твои отношения И совесть, как полдень, чиста; Ибо всевидящее око Божие наблюдает За твоими сокровенными помыслами, деяниями и путями. (обратно)6
Трактирщик говорит простонародным языком: «havn't you», вместо «have not you».
(обратно)7
В стоне от 8 до 16 английских фунтов.
(обратно)8
Ее поток наполняет вселенную: так обилен источник этой любви; ее достаточно на всех, ее достаточно на всякого, ее достаточно навеки.
(обратно)9
Если она, является в мрачнейшей тени, тогда начинается моя утренняя заря; она – блестящая утренняя звезда моей души, она и мое восходящее солнце. (Гимн ко Христу доктора Уогса, методиста.)
(обратно)10
Halle называется дом того помещика, который исправляет должность мирного судьи; это название остается за домом навсегда.
(обратно)11
Выражение, весьма употребительное между боксерами.
(обратно)12
Протестантский пастор в Вальдбахе в Ban de la roche, известный богослов и благородный друг человечества, родился в Страсбурге в 1747 г., умер в 1826 г.
(обратно)13
Знаменитый английский проповедник, живший в XVII столетии, при Вильгельме III, епископ Кентерберийский. Его проповеди и до настоящего времени пользуются у англичан большим уважением за простоту, ясность и практическую применимость.
(обратно)14
Религиозная секта, возникшая около 1645 г. Она теперь не существует. Рантерами называли первобытных методистов, отступивших от секты Весли, если хотели упрекнуть их в недостатке твердости и усердия в исполнении религиозных обрядов.
(обратно)15
Намек на поговорку: «Blessed is the dead that the rain rains upon, «Blessed is the bride that the sun shines upon». (Счастлив умерший, на которого льет дождь, счастлива невеста, на которую светит солнце.)
(обратно)16
Любимая игра мальчишек в Англии, в таком же употреблении, как у нас бабки.
(обратно)17
Как потоком стираешь ты нас с земли, и мы исчезаем с этого света как сновидения.
(обратно)18
Бонапарте.
(обратно)19
Мрачно и нерадостно утро, несопровождаемое тобою, возвращение дня лишено наслаждения до тех пор, пока я не увижу лучей твоей благости, пока ты не сообщишься мне, внутренний свет, обрадуешь глаза мои и согреешь мою душу. Посети же мою душу, божественная лучезарность, рассей мрак греха и скорби, исполни меня твоего света и рассей все мое неверие. Яви себя ярче и ярче, озаряясь полным днем.
(обратно)20
Предвечный луч Божественного Света, источник неиссякающей любви, в котором сияет слава Отца, на земле и на небесах, Иисусе, убежище утомленного путника, ниспошли мне переносить твое легкое бремя, вооружи мое сердце твердым терпением, непорочною любовью и священным благоговением. Скажи моим борящимся страстям: «Мир!», а моему трепещущему сердцу: «Успокойся!» Твоя мощь есть моя сила и крепость, потому что все покоряется Твоей верховной воле.
(обратно)21
За здравие нашего хозяина, виновника этой пирушки; за здравие нашего хозяина и нашей хозяйки! Пусть ему удастся все, за что бы он ни взялся, ведь мы все его слуги и действуем по его приказанию.
(обратно)22
Пейте ж, ребята, пейте! смотрите, только не проливайте, если прольете, то выпьете вдвое – такова воля нашего хозяина.
(обратно)
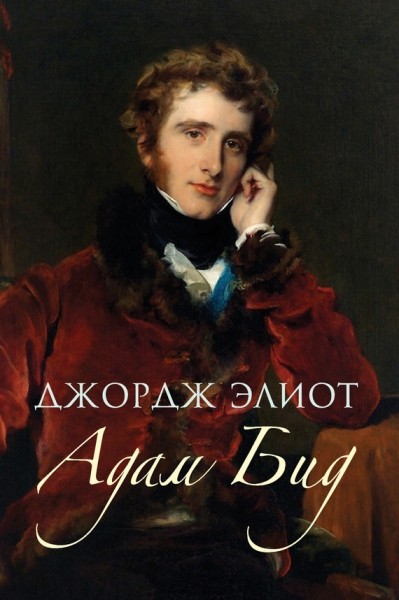



Комментарии к книге «Адам Бид», Джордж Элиот
Всего 0 комментариев