Ганс-Йозеф Ортайль Ночные тайны
Этот роман посвящается издательнице Имме Клемм, внучке издателя и лирика Вильгельма Клемма, правнучке издателя Альфреда Крёнера, праправнучке издателя Адольфа фон Крёнера, который, возглавляя «Биржевое общество немецкой книготорговли», установил единые цены на книги в Германии
I Плавание
1
Георг фон Хойкен вышел из дому около девяти утра. Стояла осень. Был понедельник, это означало, что ему нужно ехать на работу. В полдень должно состояться общее совещание редакторов издательства, которое он возглавлял вот уже два года. По дороге в гараж Хойкен посмотрел вниз, на Рейн. Его дом с участком находился метрах в двухстах от берега в Роденкирхене, южном районе Кёльна. Каждое утро Георг видел один и тот же пейзаж — серо-голубые, покрытые зыбью водные просторы, окутанный молочной дымкой берег с изумрудными лугами, которые с давних пор облюбовали джоггеры со своими повсюду снующими собаками.
Рейн с его мостами и плывущими под ними пароходами был одним из самых ярких впечатлений детства, которые сопровождали Хойкена на протяжении всей его жизни. Он родился пятьдесят два года назад недалеко отсюда, в Мариенбурге, шикарном районе Кёльна. Глядя на Рейн и чувствуя слабый запах нефти, который доносился с берега, Хойкен вспоминал детские годы: вот он босиком идет по сверкающему берегу с сестрой и братом, его штаны подвернуты вверх, шея опалена солнцем, и ветер слегка треплет белую майку.
Однако сейчас было не время для сентиментов. Хойкен снова посмотрел вниз, он делал так всегда во время своих коротких утренних прогулок. Как хотелось ему в эти минуты стать невидимкой! Ворота гаража медленно и тяжело поднялись. Хойкен нагнулся и вошел в прохладное невысокое помещение, где его дожидалась новенькая красная «Мазда RX» с темно-красными кожаными сиденьями. Она была похожа на огромное экзотическое насекомое, уже готовое освободиться из своего кокона и лететь к солнцу. Четыре двери, четыре сиденья — это был компромисс, Георг пошел на него, потому что автомобиль, на его взгляд, был выдержан в спортивном стиле и имел экстравагантный дизайн.
Он включил двигатель и плавно вывел машину из гаража, чувствуя, как его «Мазда» готова взреветь, сорваться с места и бесшумно помчаться по узкой дорожке прочь от дома. «Четыре минуты десятого», — подумал Хойкен. В это время в его офисе Джоанна уже включила лампу на письменном столе и покончила с промозглым сумраком осеннего утра. Стеклянное здание концерна, похожее на сверкающую груду желатина, сваленную посреди площади, находилось в северной части Кёльна. С самого утра сотрудники имели возможность подробно обсуждать изменения погоды, это раздражало и отнимало время. Георг всегда был против такой глупой вычурности, но старый Хойкен восторгался этим сооружением вместе со своим суперархитектором-корейцем, который на все лады расхваливал легкость и воздушность его конструкции. Конечно, потом было уже поздно что-то менять, и эта прозрачная гора осталась смехотворным творением, рожденным фантазией азиата-сноба, который даже не потрудился подумать о погоде в Кёльне.
«Погода Кёльна… — думал Хойкен, включая подачу холодного воздуха возле обтянутого кожей руля. — Облака, вечно висящие над мостами Рейна. Опавшая листва, покрывающая прибрежные аллеи. Ливни уносят ее в реку. И наконец, бродяга-ветер, постоянно меняющий свое направление». Хойкен положил обе руки на руль, лавируя в тесном потоке автомобилей, едущих вдоль Рейна прямо на север. Он подумал, не включить ли радио, а затем, удобно устроившись на откинутом сиденье, вывел машину на свободный участок дороги и предоставил ей полную свободу.
Дети, Мария и Йоханнес, были уже в школе. Марии пятнадцать, Йоханнес на год младше. Утром они едва видятся. Брат и сестра завтракают внизу, на кухне. Пищу готовит их гувернантка-англичанка, Хойкен никак не мог запомнить ее имени. Когда дети выходят из дома, слышно, как щелкает замок тяжелой входной двери, а затем раздается треск двух двигателей: даже в такую скверную погоду Мария и Йоханнес ездят в школу на мопедах. При этом они втягивают головы в плечи и сгибаются, неподвижные, словно британский завтрак, который они заталкивают в себя из-за восторженного поклонения какой-нибудь поп-группе с островов и который потом колом стоит у них в желудках.
Клара еще сидит в лоджии, где они завтракают вдвоем, впрочем, больше из уважения друг к другу. Она перелистывает газеты и модные журналы, из-за которых каждые два дня в доме что-нибудь меняется. Он видит ее за широким стеклом, сидящую в плетеном кресле. Широкий пояс банного халата все еще не завязан. С тех пор как ей исполнилось пятьдесят, она уже не так тщательно следит за собой. Георг замечал эти маленькие признаки усталости и разочарования, но, конечно, ни разу даже не намекнул ей об этом. Супруги старались и раньше держаться вместе, а тем более сейчас, когда Хойкен наконец возглавил издательство, о котором мечтал уже десять лет.
Старик купил «Caspar & Cuypers» в середине 50-х годов, тогда в Кёльне это было так называемое «издательство-старожил», не имевшее наследников. Старый Хойкен якобы объединился со своим закадычным другом Вальтером Каспаром во время одного затянувшегося обеда. Он и сейчас еще вспоминает о рейнском «Sauerbraten», шестнадцати бутылках кёльнского пива, четырех голландских сигарах и восьми бутылках шнапса. В то время никто не мог состязаться с ним, а Каспар и подавно. Вальтер еще только пытался справиться со своими боевыми ранениями, а старый Хойкен уже созрел для воплощения смелых экономических идей. Молодой целеустремленный мужчина с прекрасным чутьем коммерсанта начал с того, что купил группу предпринимателей.
Итак, «Caspar & Cuypers»… Сотня его сотрудников и более чем дюжина редакторов является сегодня традиционным издательством, которое возглавил Хойкен. Беллетристика и научно-популярная литература, путеводители, а также процветающий отдел искусства и фотографии. «Caspar & Cuypers» — важная статья его дохода, но, даже если возглавляешь издательство, это еще не значит, что ты добрался до вершины концерна, которому принадлежат еще шесть издательств, четыре газеты, несколько журналов и книжный клуб. Старый Хойкен не собирался выпускать из рук руководство бизнесом. Уже несколько лет строились планы, велись разговоры о необходимости так называемого переструктурирования, однако никаких реальных шагов не было сделано, кроме многочисленных встреч старого Хойкена со своими детьми, из которых Георг был самым старшим. Младшие, Кристоф и Урсула, руководили своими издательствами, но, к счастью, не в Кёльне, а в Штутгарте и Франкфурте.
Его «Мазда RX» все время попадала в длинные автомобильные пробки, которые образовывались на дороге вдоль Рейна. В такие минуты Георг смотрел на купол собора. Иногда он пытался задержать взгляд на чем-нибудь интересном, но это ему не удавалось. Шершавые, выбитые на темно-серой массе фасада круги напоминали черствый потемневший бисквит. Хойкен вспомнил, как однажды повез своего делового партнера, американца, посмотреть на все эти шпили и кресты. При одном воспоминании о дорожных пробках и пронизывающем ветре он вздрогнул. С тех пор это здание наводило на Хойкена еще больший страх, чем прежде, когда он мальчишкой бродил по его холодным залам. Здесь, в старой часовне, его крестили. Отец настоял, чтобы всех его детей и даже троих внуков крестили в этой капелле. Георг не был там уже много лет.
Он уже собирался тронуться с места, как вдруг прозвенел мобильный телефон. Звонила Джоанна из его офиса.
— Прошу прощения, господин Хойкен, речь идет о срочном деле, — сказала она тихо, чтобы никто не слышал.
Георг посмотрел вокруг, пытаясь определить, как далеко от офиса находится.
— Я буду через десять минут, — ответил он подчеркнуто спокойно, но Джоанна настаивала:
— Вы должны приехать прямо сейчас, господин Хойкен.
Ее голос был не таким как всегда, Хойкен это сразу отметил и очень удивился. Он звучал глухо, в нем чувствовалась тревога, а ведь Джоанна всегда умела контролировать свои эмоции, именно поэтому она стала его секретаршей и первым помощником. Вот уже два года девушка неустанно трудилась за пятерых, свободно владея при этом тремя языками. Она приехала из предместья. Худая, высокая и все же неприметная, Джоанна еще ни разу не разочаровала своего шефа. Георг ответил, что сейчас перезвонит, сел повыше, крепче взявшись за руль, свернул с Уферштрассе налево и припарковал машину на ближайшей автостоянке.
— Что случилось, Джоанна? — спросил Хойкен, перезвонив в офис и глядя на Рейн.
— У вашего уважаемого отца сегодня утром был сердечный приступ, — ответила девушка. Георг слушал ее голос, одновременно открывая дверцу. Выйдя из машины, он тяжело, всем телом облокотился на заднюю дверь и судорожно сглотнул. Его язык вдруг стал шершавым и сухим, словно он не пил целый день.
— Вы меня слышите? — спросила девушка.
— Да, я вас хорошо слышу, Джоанна, — Хойкен старался быть спокойным. — Поговорим позже. — Он несколько раз торопливо сглотнул, стараясь смочить горло.
«Вот он, этот момент, — подумал Георг, — тот самый момент, о котором мы иногда говорили с братом и сестрой, но не верили, что он когда-нибудь придет. Второй инфаркт, почти через десять лет после первого. После этого, как сказал однажды Кристоф, все будет уже не так, как раньше». Хойкен машинально почесал голову. Эта привычка появилась у него давно. Когда-то, будучи совсем неопытным книготорговцем, Георг посещал в Сан-Франциско курсы катастроф, где учили, как реагировать на внезапные, неожиданные события: смерть близких, несчастные случаи — на все то, что одним махом рвет нить жизни. Многие курсанты спокойно прослушали всю программу и сдали экзамен, но для Георга он оказался слишком тяжелым испытанием. По ночам ему снилось, что он получает страшные сообщения. Хойкену потребовалось несколько недель, чтобы избавиться от нахлынувшей на него депрессии.
Сейчас он чувствовал то же самое. Тренер по имени Гарри объяснял все очень наглядно, используя яркие анатомические рисунки. Перед глазами Хойкена до сих пор стояла одна картинка: мертвенно-бледный человек с открытым ртом и толстым, покрытым налетом языком. Георг продолжал чесать голову, приглаживая при этом волосы ладонью.
— Продолжайте, Джоанна, я слушаю, — повторил он еще раз. Теперь он стоял возле своей красной «Мазды RX», которая еще никогда не казалась ему такой нелепой и неуместной, словно бред алкоголика или фантазия безумца. В эту минуту Хойкен с удовольствием утопил бы ее в реке.
— Сообщение пришло от управляющего отеля «Соборный», — продолжала тем временем Джоанна. — Приступ случился в номере гостиницы около получаса назад, мистеру Хойкену как раз подавали завтрак.
Георг пытался разобраться в этом круговороте слов. Какой номер? Почему в отеле «Соборный»? Значит ли это, что отец не ночевал дома, в Мариенбурге? Но почему же он ночевал в гостинице, от которой до дома на такси не больше десяти минут езды?
— Сразу сообщили в клинику, — сказала Джоанна. — Узнать, выехал ли транспорт?
— Нет, — ответил Хойкен. — Я еду туда, через три минуты буду в отеле. Никому ничего не говорите, Джоанна. Никакой информации. Вы ничего об этом не знаете. Я сделаю заявление, как только приеду в офис.
— Я поняла. Мне очень жаль, господин Хойкен. Я хочу сказать, мне очень жаль вас.
— Спасибо, Джоанна, — ответил Георг, садясь в машину, и положил мобильный на сиденье рядом.
По дороге в отель он спрашивал себя, жив ли отец? Хойкен боялся думать об этом, но плохие мысли упрямо лезли ему в голову. Потом он сказал себе, что нужно быстрее доставить этот набор сидений на колесах к отелю, свернул направо, проехал прямо метров двести, затем опять свернул направо. Самое большее — через пять минут он будет в отеле, но что, если вместо живого отца ему предъявят покойника? В ту же секунду он увидел картину: труп, окоченевшие контуры которого проступают через наброшенное покрывало. Покрывало белое, словно молоко, чья-то рука откидывает его у изголовья, и Хойкен видит череп с открытым ртом — так он себе, во всяком случае, представил — череп его отца, почти без волос, с мясистыми, чувственными губами, которые уже немного потрескались и покрылись тонкой сеткой увядших бороздок.
Труп своей матери он не видел. Она умерла восемь лет назад, а перед этим почти два года прожила одна в трехкомнатной квартире в пятистах метрах от их общего дома. Теперь в нем жил старый Хойкен со своей экономкой.
Лизель Бургер… Поворачивая к отелю и задержавшись у двух светофоров, Хойкен размышлял. Позвонить ей и спросить, почему отец ночевал не дома, а в отеле? Нет, он сначала узнает, как чувствует себя отец, а потом уже позвонит. Это будет нелегко, ведь Лизель Бургер заботилась о старике вот уже пятьдесят лет. В однообразном круговороте жизни эта женщина руководила домашними делами отца — его большим домом с прислугой и обширным садом — почти так же давно, как Минна Цех — его офисом. Трудно сказать, кто был усерднее. Они терпеть не могли друг друга и постоянно боролись за право играть главную роль. Лизель была страшно недовольна, когда отец развелся с женой: ведь она была его единственной опорой, а он бросил ее на произвол судьбы после сорока лет супружеской жизни. Никто не знал, что случилось десять лет назад. Мать ни с кем об этом не говорила, разве что с Урсулой, но у той никто ничего не мог выпытать.
Минне Цех он тоже пока не будет звонить. Георг немного притормозил, перед тем как подъехать к отелю. Как неприятно парковать такой автомобиль у всех на виду и при таких обстоятельствах! Он должен как можно быстрее купить себе другую машину, что-нибудь солидное, черного цвета или metallic, это сейчас в моде. Он сейчас войдет, сохраняя абсолютное спокойствие, он все выдержит. Надо сдерживать свои эмоции, больше хладнокровия. Что за глупость сказал тогда в Сан-Франциско Гарри! А ведь он потом поступил в военную академию в Вест-Пойнте. Видно, мало ему досталось в жизни этих катастроф.
2
Войти в отель для Георга оказалось так же сложно, как верблюду пройти сквозь игольное ушко. Он с трудом преодолевал мучительный страх. Когда стеклянные двери распахнулись, Хойкена окутал таинственный сумрак, присущий всем фешенебельным гостиницам. В холле сидела парочка пожилых постояльцев и шуршала газетами. У Георга мелькнула мысль, что они принадлежат к той породе людей, которые страдают бессонницей и ни свет ни заря прилетают в буфет, чтобы вознаградить себя за отсутствие сна высокой стоимостью лосося, яиц и бекона. Две девушки-администраторши стояли рядом, будто сестры-близняшки, и внимательно смотрели на него. Они пытались узнать в нем одного из клиентов. Хойкен подошел к девушкам поближе, чтобы они могли хорошо его рассмотреть.
— Доброе утро, меня зовут Георг Хойкен, — сказал он с некоторым напряжением. Он был уверен, что больше ничего не нужно говорить, чтобы администраторши немедленно отреагировали и бросились за главным управляющим. Девушки пристально рассматривали Хойкена, а он тем временем пытался угадать, которая из них из пригорода. Возможно, эта блондинка со здоровым цветом лица и прекрасным загаром, полученным в солярии. С людьми из предместья Георг хорошо ладил, а сейчас было очень важно найти общий язык с администрацией этого отеля. Он продолжал изучать девушек. Нет, это все-таки та, другая, которая ответила. Она сказала только:
— Да, сию минуту, господин Хойкен, я сейчас приведу главного управляющего. — Ее голос был печальным, у нее это хорошо получилось, лицо выражало легкое потрясение, словно она действительно сочувствовала. Георгу надоело это чрезмерное притворство, он отвернулся и принялся снова рассматривать мужчину и женщину, которые читали газеты. Они были немного сонные и осоловелые от съеденных ранним утром яиц с беконом. В ожидании такси или делового завтрака отец никогда бы не стал так сидеть. Он скорее пошел бы в бар, такой же, какой был в глубине этого холла, чтобы выпить бокал шампанского. «Sir Peter Ustinov’s Bar» — Хойкен тут же вспомнил это название, как только увидел овальную стойку и высокие, обтянутые кожей табуреты. Возле столиков очень молодая девушка насыпала чипсы в стеклянные вазочки. Отец познакомился бы с ней. Но современные девушки недоверчивы. Им внушили, что от клиентов нужно держаться на безопасном расстоянии. Уже не первый год каждый владелец ресторана следит за соблюдением этого немецкого безопасного расстояния. И возможно, поэтому многим так и не удается найти нормального парня и завести с ним детей. За этих нерожденных детей следует благодарить вредное правило о безопасном расстоянии. Оно совершенно не подходило его отцу. Старый Хойкен не мог быть один, он всегда втягивал в разговор того, кто был рядом. Есть такие люди, они умеют вести разговор так, что извлекают пользу даже из беседы с иностранцем. Они часто бывают хорошими психологами, разбираются в искусстве, во всяком случае, в той мере, чтобы заинтересовать собеседника. Лучшие начальники отдела сбыта огромного издательства — настоящие гении общения, опытные собеседники, хитрые, с огоньком. Они начинают общаться уже ранним утром со своей электрической зубной щеткой.
Однако у Георга не было таких способностей. В разговоре он был сдержанным, чему научился в США и Англии, куда его с двадцати лет посылали в классические дисциплинарные лагеря. Он учился в Нью-Йорке и Лондоне и получил диплом коммерсанта. В 70-е годы эти города, разбитые на зоны культурными течениями 60-х, которые постоянно промывались последними, уже убывающими волнами цветных бунтов, были еще очень беспокойными. Однако молодого Хойкена это не коснулось. Он научился вести себя, научился тому, что там называлось communication, то есть выполнять работу вежливо и по-деловому. Его жизнь не соответствовала духу времени. Посреднические переговоры всегда проводил отец, который не посещал ни одного курса риторики, хотя всегда утверждал обратное. Отец умел хорошо скрывать свои мысли при общении. Он с иронией относился к изменчивой моде, никогда ей не следовал, но знал при этом, где можно купить хороший костюм.
Когда пришел управляющий отеля, Георг машинально скользнул взглядом по его одежде, рассматривая пиджак, брюки и рубашку, которые облекали этого коренастого, уже слегка расплывшегося типа. Темно-синий блейзер с непременными золотыми пуговицами, светлая рубашка и брюки из серой фланели. На нагрудном кармашке вышит маленький герб. Хойкен подумал о том, что вряд ли стоило украшать себя этой безвкусицей, если все равно нельзя рассмотреть имени владельца. Он услышал легкий американский акцент. Наверняка этот парень тоже учился в США. Безвкусный, слишком большой бифштекс на обед с горсткой салата, пресное пиво. Хойкен не смог сдержать улыбки, однако заставил себя вернуться к делу. Он коротко представился и спросил:
— Как мой отец? — При этом он не рассчитывал получить ответ сразу же. Управляющий по-прежнему держался конфиденциально.
— Пожалуйста, пойдемте со мной, — мужчина почти галантно указал рукой по направлению к лифту. Идя по коридору за этим человеком, Георг продолжал изучать его. По тому, как решительно шагал управляющий, было ясно: он намерен выпутаться из этой ситуации так, чтобы не пострадала репутация отеля. Стоя рядом с Хойкеном в медленно ползущем вверх лифте, он заговорил своим мягким, приглушенным голосом:
— Это случилось около половины восьмого утра. Официант принес завтрак, ваш отец стоял у окна и смотрел на улицу. Вдруг он повернулся и упал на пол. Это был сердечный приступ, а может быть, даже инфаркт. Во всяком случае, меня сразу поставили в известность, и я немедленно связался с клиникой и профессором Лоебом. Я позвонил по двум телефонным номерам, которые ваш отец оставил на крайний случай. Не то чтобы мы на это рассчитывали, но они всегда у меня под рукой. К счастью, я застал профессора лично. Я убежден, если кто и знает, как помочь господину Хойкену, так это именно профессор Лоеб. Кстати, я познакомился с ним, когда он выступал здесь с докладом на конгрессе врачей. Прекрасный человек, спокойный, с чувством юмора, а уж специалист, каких поискать.
Они вышли из лифта, Золотые Пуговицы шли впереди. Георга обволакивал покой, исходивший от велюрового ковра с темными вычурными узорами. Белые, в полоску стены, латунные лампы с позолотой, полная тишина, как в глубине безлюдной часовни — все способствовало расслаблению, как и упоминание имени профессора. Лоеб был маленьким бодрым человечком в больших очках с лицом, напоминавшим пасхального зайца. Он был семейным врачом Хойкенов и известным в Кёльне кардиологом. Лоеб никогда не ошибался, его изощренный ум обнаруживал скрытые симптомы болезни по сопутствующим признакам, и он уже написал об этом две книги.
— В ожидании «скорой» мы начали оказывать неотложную помощь. У нас очень опытный и отлично подготовленный персонал. Дыхание «рот в рот», непрямой массаж сердца, все, что в таких случаях можно сделать. Машина из клиники пришла быстро, не прошло и десяти минут, — главный управляющий наклонил голову, выдержал паузу и решил, что можно продолжать. — Дежурный врач взял на себя дальнейшую заботу о больном. Ваш отец был незамедлительно транспортирован в клинику. К сожалению, ничего не могу сказать о его последующем состоянии. В настоящее время господин Хойкен наверняка уже в больнице, я думаю, вам не нужно волноваться.
Теперь они стояли у входа в гостиничный номер. Управляющий открыл дверь и без промедления вошел. Внезапно и совершенно неожиданно Хойкен оказался в царстве своего отца. Он ощутил это сразу, всеми нервами, всеми чувствами. Красный шарф на софе. Откинутое покрывало на кровати открывало небольшую вмятину на белой простыне, оставшуюся от грузного тела. И запах, неповторимый запах, как будто дух травы и земли смешался со сладким ароматом роскоши. Этот запах был знаком Георгу с детства, он наполнял все комнаты, в которых часто бывал его отец, до последней щелочки. Хойкен прокашлялся. Комната с разбросанными по ней вещами, почти осязаемое присутствие отца — это было для него слишком. Георг посмотрел в окно. Там, за открытыми шторами, открывался вид на южный фасад собора, который зрительно составлял с этой комнатой как бы одно целое, словно служил ширмой, скрывающей тайное общество избранных.
Хойкену вдруг захотелось сесть, чувствовал себя он неважно, но свободного места не оказалось.
— Мы не убирали здесь, ничего не трогали, оставив все как есть, — сказал управляющий, предвосхищая его упреки.
Обойдя комнату, Георг подошел к письменному столу, на котором лежала папка с почтовой бумагой и конверты со штампом отеля. Отец, насколько помнил Хойкен, любил писать письма от руки своим красивым, почти каллиграфическим почерком. Георг невольно протянул руку и закрыл папку, как бы давая понять, что в ней есть что-то тайное, что следует скрыть от посторонних.
— Я пришлю кого-нибудь, кто обо всем позаботится, — сказал он, наслаждаясь окружающей атмосферой, в которой скрывалось что-то очень близкое и в то же время тревожное. Тишина, богатство и роскошь, лежащие в беспорядке вещи казались одним большим чудесным натюрмортом, творением могущественного волшебника. Казалось, комната была нарисована кистью художника, здесь не было ничего лишнего, все хранило следы пребывания ее последнего гостя.
Георг мог позвонить Лизель Бургер и поручить ей разобрать вещи. Это было бы самое верное решение, учитывая ее умение молчать. Однако в таком случае он никогда не узнает, что побудило отца расположиться в этом отеле.
— Сколько мой отец платил за эту комнату? — спросил Хойкен, отметив про себя, что должен был сказать «номер», а не «комната». Что ж, такое название было вполне подходящим. Он не любил слово «номер», это было слово из лексикона нуворишей, для которых любая приличная комната была слишком маленькой.
— Мы рассчитывались каждый месяц, — отвечал управляющий, — смотря по тому, как часто ваш уважаемый отец пользовался номером. Разумеется, мы сохранили за ним специальный льготный тариф.
— Если я сниму этот номер, скажем, на неделю, то смогу ли, учитывая обстоятельства, пользоваться этим тарифом? — спросил Георг и опять почувствовал, что у него пересохло во рту. Итак, отец, по-видимому, появлялся здесь регулярно. Хойкен хотел было спросить об этом, но передумал и сделал вид, что ему все известно.
— Само собой, — ответил управляющий, — никаких проблем, я отлично понимаю.
«Он не понимает», — подумал Хойкен и даже слегка улыбнулся. Первую задачу он решил без труда, он оставил номер за собой. Так было нужно для того, чтобы все здесь внимательно изучить и разгадать эту загадку.
— Спасибо, что проявили понимание в моем деле, — произнес Георг, — однако мне хотелось бы самому обо всем позаботиться, я справлюсь сам, без посторонних.
Его собеседник кивнул и красноречиво молчал, словно выражая безмолвное сочувствие. Хойкен попросил разрешения позвонить из номера, значит, будет занимать его. Управляющий уже повернулся, чтобы уйти, по-видимому, довольный, что этот неприятный и тяжелый случай так легко уладился.
— Просто захлопните дверь, когда будете уходить, — сказал он. — Я оставлю вам внизу регистрационную карту. Всего доброго. Уверяю, что, если пожелаете, я могу быть полезен вам во всех делах. Ваш отец был одним из наших лучших клиентов, мы очень ценили его, и мне бесконечно жаль, что это случилось именно у нас.
— Мой отец не умер, — заметил Хойкен, — он жив. Через пару недель мы втроем выпьем по бокалу шампанского в вашем баре. — Теперь он был абсолютно уверен в том, что не допустил ни одной серьезной ошибки. Хойкен потянулся и сказал вдогонку управляющему: — Да, еще одна маленькая деталь, от волнения я не расслышал вашего имени.
— Ваш отец называл меня Макс, господин Хойкен, — ответил управляющий.
— Макс, — улыбнулся Хойкен, — кому вы еще звонили, кроме моего секретаря и профессора Лоеба?
— Я сообщил о происшедшем в клинику и господину профессору и сразу после этого позвонил в концерн. Так как до секретаря господина Хойкена нельзя было дозвониться, меня связали с вашим офисом.
— Это все?
— Да, господин Хойкен, больше я ни с кем не разговаривал.
— Отлично, Макс, — сказал Хойкен и бросил свой пиджак на стул, стоящий у письменного стола. — Вы правильно реагируете и поступаете. Было бы хорошо, если бы эта новость не распространилась. Я надеюсь, вы меня понимаете.
Он положил руки на пояс, как делал всегда, когда хотел потянуться, чтобы размять свое длинное и стройное тело, еще раз слабо улыбнулся, слушая уверения Макса, который дважды повторил, что абсолютно ничего не выплывет наружу. Георг внимательно посмотрел на управляющего, долго и пристально глядя на его переносицу, отчего Макс непроизвольно потер лоб, повернулся и вышел, бесшумно закрыв за собой дверь.
3
Оставшись один, Хойкен наконец спокойно осмотрелся. Он погладил спинку красного кресла, стоявшего перед софой, словно хотел насладиться новыми ощущениями. Его внимание привлекли высокие балконные двери, рядом с которыми был виден плоский экран, висящий на стене. Георг не мог себе представить, что его отец проводил здесь время, смотря телевизор, ему самому иногда хотелось наверстать упущенное. Георг никогда не смотрел телевизор подолгу, но помнил массивный телевизор марки «Loewe» в темном деревянном корпусе на запорах, стоявший в бельевой комнате, который отец приобрел в начале 60-х. Он был для всех необыкновенным сокровищем, и пользовались им редко. Это была дань духу времени, все члены семьи не испытывали к телевизору никакого интереса. Здоровенный ящик пылился в каморке, и его створки открывали только в редкие дни, как ларец для хранения святого причастия, чтобы взглянуть на церемонию британских королевских шоу или встречу на высшем уровне Аденауэра и де Голля.
И даже теперь Хойкен чувствовал почти детскую радость, мелкую дрожь во всем теле при виде телевизора. Но как только он начинал раздумывать, включать его или нет, тут же понимал, что эти яркие цветные картинки вряд ли вызовут в нем тот ураган чувств, который вызывали вечно подернутые дымкой сигаретного и сигарного дыма черно-белые картинки его детства.
Зато музыку здесь он легко мог себе представить. Больше всего Георг любил джаз. Легкий, ненавязчивый поток медитаций саксофона Джона Колтрейна[1] подчеркнул бы элегантность этой комнаты. Отец, напротив, не получал от музыки особого удовольствия. Он был очень сдержанным и сентиментальным. Во время длительных поездок по стране или сидя поздно ночью дома, старик любил слушать французский шансон. «Je suis comme je suis» или «Sous le ciel de Paris» Джульетты Греко с ее меланхолическим блаженством напоминало старому Хойкену послевоенные годы, начало его становления, полуголодное, но не лишенное радостей существование, вкус настоящего дела, который он ощутил в первый раз.
Георг все еще испытывал неприятную сухость во рту. Он подошел к мини-бару и налил себе стакан минеральной воды. Бросалось в глаза большое количество бутылок шампанского. Это было похоже на отца: попадая в гостиничный номер, он тут же заправлялся маленькой бутылочкой и сообщал дежурному марки напитков, которые нужно немедленно доставить в номер, так как он предпочитает пить именно эти. Правда, он не пил много один, вообще нельзя себе представить, чтобы отец долго был один. Его день был расписан по минутам и заполнен встречами. Георг стоял перед письменным столом со стаканом воды в правой руке, а левой перелистывал карманный календарь из коричневой кожи, который лежал прямо на папке с почтовой бумагой. Сегодня на десять часов у отца была назначена встреча с ПФ, как гласило сокращение. Вчера была только одна запись: 13.00. Хойкену было немного неловко, когда он читал то, что, собственно говоря, его не касалось, но ситуация требовала неординарного подхода, так как сама была неординарной. Однако больше, чем календарь, который Георг засунул в левый карман, его заинтересовала маленькая записка, лежавшая возле настольной лампы. «Кип 730150» — было написано там и дважды жирно подчеркнуто. Хойкен несколько раз прочитал запись вслух, но так и не понял, что она может означать. Что-то чужое и враждебное исходило от этой записи, и он точно знал, что поставит на карту все, чтобы разгадать эту загадку. Кип могло означать что-то связанное с компьютером, во всяком случае, что-то техническое, это точно. А цифры могли быть серией. В наши дни скорее всего можно делать именно такие предположения. Георг взял записку, допил стакан, налил себе другой и подошел к широкой кровати. Эту ночь отец провел здесь один, так, во всяком случае, кажется. Для уверенности Хойкен заглянул под покрывало и обнаружил там три газеты. Он взял их, газеты были сегодняшние. Отец велел принести их к нему в номер и, вероятно, лежа в постели, читал перед завтраком. Старик считал, что чтение газет развило в нем большую часть его почти безошибочных инстинктов. Он был идеальным потребителем периодической литературы, прямо-таки одержимым своим ежедневным пайком свежего материала, в котором находил тенденции, чтобы накормить свой нюх, который безошибочно помогал принимать решения и контролировал их. Своим детям Хойкен также советовал читать много газет. Основной его целью было превратить распыленный в газетах материал в нечто прочное, долговечное — в книги, ряды книг, куда можно было углубиться и чем можно было бы долгое время заниматься. Даже его представления о художественной литературе, о романах и рассказах, о пьесах и особенно о стихотворениях основывались на его собственном понимании. Когда старик сталкивался с романом, повествующим о настоящей жизни, он готов был идти за ним на край света. Поэтому он редко успевал за немецкой литературой, которая была, с его точки зрения, слишком далека от мира деловых людей, слишком мало несла в себе тем, которые, пусть и не в достаточной мере, но все же интересовали читающую публику.
Георг положил газеты на письменный стол и бегло просмотрел их. Он не заметил ничего общего, ни малейшего намека на тайную связь с тем, что произошло с отцом. Обычные новости — финансы, наука, кривые колебаний процентных ставок и цен на нефть. Хойкен не любил читать газеты, это занятие казалось ему скучным. Его внимание привлекали разве что международные и спортивные новости. Иногда ему было интересно прочитать пару-тройку курьезных случаев или очерк о какой-нибудь баскетбольной звезде. В баскетболе он кое-что смыслил и когда-то сам неплохо играл. Однако в голове отца газетные строчки превращались в интересный, искрометный материал, который он переносил во все разговоры, вертел так и этак, обладая уникальной способностью находить верную тему для каждого собеседника.
Хойкен снова подошел к входной двери. Справа от нее стояло несколько шкафов. Он открыл их и увидел два висящих рядом костюма, халат и аккуратную стопку рубашек, которые чья-то заботливая рука уложила на полку. Георг принюхался, здесь запах отца был еще более концентрированным, чем в комнате, когда он впервые вошел туда. Это был полный букет, облако послевоенных «4711»[2]. Целая батарея флаконов и бутылочек стояла на полке перед зеркалом — крем для бритья, лосьон после бритья, гель для душа, все в излишне помпезном турецком золоте. Отец признавал только традиционные марки, утром он принимал душ, а затем сбрызгивал тело всегда одними и теми же духами — «Echt Kölnisch Wasser» — «настоящая кёльнская вода». Полотенца старик сбрызгивал тоже.
Туалетные принадлежности были так же заботливо расставлены, только гостиничный халат из белой махровой ткани лежал брошенный, как ставшая ненужной шкура, на краю черной мраморной ванны. Георг подумал о том, что порядок в комнате отца поддерживала дежурная по этажу или даже личная горничная. Наверняка большая часть персонала рысью носилась для него по отелю, поощряемая щедрыми чаевыми. Посыльные приносили почту, дежурные по этажу накрывали на стол в номере и приносили шампанское, в то время как горничная была занята одеждой старика и мелким ремонтом его дорогих костюмов.
Георг исключал возможность, что Лизель Бургер сопровождала здесь отца и вела его дела. Уже давно пора сообщить ей о случившемся. Он подошел к телефону и набрал номер — знакомый ему с молодых лет номер телефона родительского дома. Лизель подняла трубку, и Хойкен стал медленно объяснять ситуацию. Он рассказывал, осторожно подбирая слова, чтобы не вызвать у нее панику. С Лизель он мог быть откровенным. Он только спросил, известно ли ей, что отец часто останавливался в этой гостинице. Она ответила сразу:
— Да, конечно, я каждый раз собираю ему небольшой чемодан.
Хойкен замолчал, осмысливая услышанное. Итак, Лизель это знает. Это может быть полезно в будущем, потому что у нее можно выяснить, как дело дошло до того, что отец стал жить в этом отеле. Нужно было убедить ее не ехать в клинику.
— Оставайтесь дома, Лизель, пожалуйста, оставайтесь, вы ничего не можете сейчас для него сделать, к тому же кто-то должен быть дома. — Он пообещал, что сначала заедет в клинику, потом в концерн, а когда урегулирует важные дела, поедет прямо к ней. Описывая Лизель свой маршрут, Георг почувствовал, что его затылок слегка вспотел, словно кто-то провел по нему прохладной губкой. Он машинально протянул руку назад. Действительно, затылок был влажным. Хойкен с отвращением понюхал пальцы. Как и все в этой комнате, они пахли духами отца, как будто в этом месте начал течь маленький липкий источник «4711».
Он закончил разговор, развязал галстук и пошел в ванную, плеснул на шею холодной воды и услышал, как зазвонил телефон. Пересекая комнату, Георг еще раз коснулся шеи, будто хотел охладить рану, потом взял трубку и подошел к окну, чтобы посмотреть на площадь перед собором.
В этот пасмурный день пятнистые серые плиты были похожи на толстый слой льда, на котором, не спеша, выписывал свои фигуры скейтбордист. Хойкен следил глазами за этим типом в черном капюшоне, который, заткнув уши наушниками, плавно двигался в ритме музыки. С давних пор на площади перед собором, холодным и величественным, собирались маленькие группы туристов. Уже несколько лет Георг планировал написать книгу о соборе, однако это были все еще мечты: в его душе не возникло ни единого слова, чтобы воспеть его красоту, кроме обычного церковного канона.
— Слушаю, — сказал Хойкен быстро и резко, давая понять, что ему неприятен этот звонок.
— Это Макс, господин Хойкен. В нашем баре ожидает господин, который утверждает, что на 10.00 у него назначена встреча с вашим отцом.
— Вы его знаете?
— Нет, он мне незнаком.
— Я сейчас буду, — ответил Хойкен и еще раз посмотрел на толпу, которая суетилась на площади.
4
Когда он пришел в бар «Ustinov’s», туман вокруг букв ПФ рассеялся. «ПФ» означало «Петер Файль». Им оказался маленький черноволосый человек в куртке темно-красного цвета. Когда Георг спустился в холл, он как раз набирал себе чипсы из стеклянной вазочки.
Несколько лет назад Петер Файль был редактором одной кёльнской газеты. Добродушный и жизнерадостный человек, он однажды брал интервью у старого Хойкена и так ему понравился, что тот предложил ему место в концерне. Некоторое время Файль бил баклуши на никчемных должностях, но вдруг неожиданно освободилось одно место в пресс-бюро, и он его занял.
Работа у него спорилась. Петер делал из нагонявшего скуку сообщения в прессе маленький шедевр и приправлял его тем кёльнским юмором, которого недоставало жителям предместий, поэтому его статьи с удовольствием читали в глубинке. Проблемой были коллеги. С большинством из них Петер не ладил. Щепетильные и часто честные сверх меры, они тащились по служебной лестнице, в то время как могли бы и сами стяжать себе авторскую славу. Петер был слишком прямолинеен и непредсказуем и своим юмором действовал этим образцам честности из отдела производства и сбыта на нервы. Они видели в нем выскочку, который в разговоре слова никому не давал сказать и превращал интригующую беседу в пустую болтовню, одного из тех, которым нужно работать не в солидном книжном концерне, а где-нибудь на радиостанции, где он без труда выбил бы себе собственное комедийное шоу.
Со временем всеобщая неприязнь сделала Петера Файля раздражительным, в его отчетах и сообщениях начали проскальзывать ошибки. На его должность взяли другого специалиста, это оказалась женщина. Но старый Хойкен не бросил своего любимца. Он придумал для Петера занятие, для которого тот подходил просто идеально — Хойкен сделал его своим биографом. Файль был мастер по части сбора информации, он любил рыться в подробностях частной жизни, и самые сухие факты становились у него неповторимыми и интересными. Старый Хойкен дал Петеру два года и сохранил за ним приличную зарплату, которую тот получал на прежней должности. Раз в месяц они встречались для обсуждения подробностей. Петер тайно надеялся сделать из биографии бестселлер и уже поговаривал о дальнейших планах. Он хотел написать роман о династии Хойкенов и ее пути от нищенского прошлого до блистательного настоящего.
Они поздоровались и заняли места у стойки бара. Петер нисколько не удивился, встретив здесь Георга. Он подумал, что старый Хойкен с минуты на минуту появится во всем своем великолепии зрелого мужчины и потребует шампанского.
Хойкен не выносил этот напиток в столь ранний час. Для него шампанское не имело такого большого значения, как для отца. К тому же слишком часто он видел старого Хойкена с бокалом, чтобы повторить тот же ритуал. Георг заказал два стакана минеральной воды, взял Петера Файля за руку и повел в дальний угол бара к широкому окну, из которого можно было видеть площадь — плавно скользящего скейтбордиста в черном капюшоне, группу старушек, которые фотографируются на фоне собора, пожилую пару, пришедшую от этого в ужас и благоговейно взиравшую на шпили соборной башни.
Георг точно знал, как ему действовать. Он подождал, когда принесут минеральную воду, а затем коротко рассказал Петеру, что произошло. Он говорил, не останавливаясь, не задумываясь, как будто присутствовал при этом сам, и чувствовал, что окружающая обстановка все больше успокаивает его. Хойкен вдруг понял, что ему совсем не хочется уходить из отеля, раз он задержался здесь так надолго. Казалось, в этом месте ему ничего не может угрожать, потому что абсолютно все — от расстегнутой пуговицы на рукаве до небольшого инфаркта — получает быстрое и разумное объяснение. И даже этот инфаркт — не более чем хорошо отснятый двадцатиминутный эпизод, который заканчивается уходом через запасной выход во внутренний двор гостиницы.
— Вы один из первых, кому я это сообщил, — закончил Хойкен. — Даже моя жена еще ничего не знает.
Его слова произвели на маленького черноволосого человека в стильной куртке огромное впечатление. Присущий Петеру юмор сейчас не приходил ему на помощь. Вероятно, он прикидывал в уме, сможет ли закончить свой бестселлер. Однако Георг держался по-прежнему доверительно и еще раз повторил несколько эпизодов только что рассказанной истории, чтобы они хорошенько отложились в памяти Файля. Хойкен подумал, что только этот человек может помочь разгадать загадку, которую загадал ему гостиничный номер наверху. К тому же Петер не работал на концерн и подходил для тайных, возможно долгих, кропотливых и дорогостоящих поисков, для которых у самого Георга не было времени. Они договорились о скорой встрече, и Хойкен собрался ехать в клинику. На прощание он как бы между прочим спросил:
— Да, Петер, вы встречались с моим отцом в основном здесь, не так ли?
— Да, — ответил тот. Он был еще под впечатлением от всего услышанного. — Чаще всего здесь. Вашему уважаемому отцу так было проще говорить о своей жизни. Он утверждал, что концерн — неподходящее для этого место, там он чувствовал себя недостаточно свободно.
Хойкен положил руку Петеру на плечо и еще раз кивнул:
— Тогда и мы поступим так же. Мы будем встречаться здесь, возможно, я смогу поведать вам что-нибудь интересное об отце, что-нибудь такое, чего вы еще не знаете, а может быть, и вы в свою очередь удивите меня какой-то информацией. Во всяком случае, ваша работа сейчас важнее, чем когда-либо. Продолжайте начатое и рассматривайте меня с этого момента как ваше доверенное лицо. У меня всегда найдется для вас время, но сейчас прошу отнестись с пониманием, если я вас оставлю. Я должен быть в клинике.
Петер Файль не притронулся к минеральной воде, стоявшей перед ним на круглом столике. Стакан в его руках скользил по столу туда-сюда, словно Петер хотел попасть в ритм с движениями скейтбордиста на площади. Он был похож на маленькое усохшее растение, корни которого опустили в быстродействующий яд. Хойкен никогда не видел его таким тихим. Видимо, под влиянием сильного потрясения его губы подрагивали, и Георгу было неприятно это видеть. Однако Петер был одним из немногих, кто мог позволить себе несколько утешительных слов. Многие люди зависели от отца и немало нашлось бы таких, которые его даже любили. Старик делился с ними своей силой, он старался сделать жизнь легче, чтобы не упустить удачу и еще пару десятков лет иметь хотя бы половину таких же, как теперь, фигур в шахматной партии под названием «жизнь». На такую роль Георг не годился. Он был совершенно другим, прежде всего он был человеком, которому еще не представился случай проявить свои лучшие качества. Кто знает, какие не востребованные доселе способности в нем дремали?
Георг получил карту в бюро регистрации и вышел из отеля. Теперь его красная «Мазда RX» была ему еще ненавистнее. Он сел в машину, включил двигатель и непроизвольно съежился, подняв плечи, словно ему вдруг стало холодно. Тишина, лишенная отпечатка времени, которой отель убаюкивает своих клиентов, осталась позади. Георг медленно проехал по площади, прибавил скорость и свернул на дорогу, ведущую в клинику. Он подумал о том, что по этой же дороге везли на «скорой» его отца.
Хотя Георг родился в Кёльне и провел в нем большую часть своей жизни, он не очень хорошо знал город. Он не относился к любителям прогулок, любопытство которых простирается до самых отдаленных уголков. В юности он какое-то время шатался по улицам, но это было давно. Кроме того, ему казалось, что за последние десять лет Кёльн очень изменился, хотя Георг и не мог понять, в чем именно. Во всяком случае, его поражало, как редко тянуло его теперь в центр города. Сейчас здесь появились люди, не похожие на тех, прежних, которых Хойкен понимал с полуслова. Эти люди проповедовали странные культы и ритуалы, для которых он считал себя уже слишком старым.
Возможно, он и сам был виноват в этой отчужденности. С тех пор как родились его дети, он стал слишком ревностным приверженцем семейной жизни. Любую свободную минуту он посвящал воспитанию Марии и Йоханнеса. Первые годы они с Кларой даже редко выходили на люди, так они уставали. После этого длительного периода сомнамбулического состояния, бесконечного вида окрестностей, детских колясок и игровых площадок он уже не искал общения со старыми друзьями, а его развлечения становились со временем все более примитивными. Георг стал заглядывать в забегаловки, время не хотело, как прежде, течь незаметно и плавно, вместо этого оно распадалось на тяжелые, невероятно пустые куски.
Теперь Хойкен охотнее проводил время в одиночестве. Придя с работы, он садился на велосипед и отправлялся вдоль Рейна или совершал пробежки в быстром темпе. Несмотря на свои 190 сантиметров, весил он не больше восьмидесяти килограммов. Даже в самые напряженные годы, когда большинство мужчин, измотанные работой, буквально падают и у них не остается сил ни на что другое, Георг продолжал заниматься спортом и установил для себя такой ритм жизни, который держал его в тонусе. Немного разнообразия он мог добавить, но ритм должен был оставаться прежним. Георг не жаловался и считал, что стабильная семейная жизнь очень подходит к его целеустремленности и надежности. Среди Хойкенов он был единственным, кто выбрал такой образ жизни. Урсула рано разошлась с мужем и отдала своего единственного сына в пансион, а Кристоф никак не мог решиться предложить руку и сердце одной из своих многочисленных дам.
В последние годы, однако, общаться с отцом стало труднее. До сих пор считалось, что Георг был к отцу ближе, чем его брат и сестра. Как старший, он провожал старика в его многочисленные поездки и замещал его на встречах. Кристоф был очень привязан к матери и всегда находил повод пообщаться с ней, в то время как Урсула почти так же часто с ней спорила.
Развод родителей десять лет назад отдалил Георга от отца. Он со своими тогда еще маленькими детьми стал все реже появляться в родительском доме, где старик жил один, если не считать общества Лизель Бургер, водителя, садовника и целого штата прислуги.
Вскоре они стали встречаться только в концерне. Им хватало получаса, чтобы обсудить текущие дела, и даже в дни самых больших праздников они собирались всей семьей не дома, а в ресторане. Отец всегда садился во главе стола, чтобы все знали, что он в семье по-прежнему главный. Отец… Только его жесту повиновались официанты. С ним хотели пообедать все маститые писатели, долгими десятилетиями связанные с концерном. Клара не понимала, как Георг мог так долго выносить этого патриарха.
Свое блестящее искусство общения с окружающими старый Хойкен редко переносил на родных детей. Он держал их на расстоянии и постарался способствовать развитию конкуренции между ними. Первым получил свое издательство Кристоф, затем — Урсула, хотя всем было известно, что она не умеет руководить людьми. Только потом шел Георг. Ему, старшему, досталось унизительное последнее место в ряду претендентов. И, несмотря на то что он возглавлял крупнейшее в концерне издательство, Хойкен был вынужден жить с репутацией тугодума, который никогда не достигнет высот и не будет таким же богатым, как его отец.
Хойкен ехал в клинику, и в его памяти проносились картины прошлого. Старик до сих пор не решил, кто будет руководить концерном после него. Таким концерном не могут управлять три человека, которые будут во все глаза следить друг за другом и вряд ли когда-нибудь найдут’ общий язык. Георг решил позвонить брату и сестре только после того, как навестит отца. Во всяком случае, сейчас у него было преимущество, и он хотел, по возможности, его укрепить.
Все зависело от того, что скажет ему Лоеб. Георг знал его с самого детства и все же боялся этой встречи, как и самой клиники. Несколько месяцев назад он навещал здесь одного своего служащего, попавшего туда после инфаркта. Мужчина сидел в откидном кресле в белых бахилах и больничном халате, слегка протертом в нескольких местах. По коридору, покрытому блестящим линолеумом, полз слабый тошнотворный запах мочи вперемешку с запахом перетушенной кислой капусты. Георгу стало плохо, к горлу подобралась тошнота. В туалете его вырвало, и он долго пил холодную воду прямо из горсти. Потом он снова вышел в коридор, но лишь для того, чтобы понять, что сейчас его снова стошнит. Он чувствовал запах каждого больного, которого провозили мимо него по освещенному жужжащими неоновыми лампами коридору. В конце концов Георг сбежал в пустую больничную часовню, чтобы не видеть безмолвно сидящих в зале ожидания посетителей с их букетами цветов и огромными коробками конфет.
Ему потребовалось около двадцати минут, чтобы добраться до клиники. В лучшем случае отца довезли бы за десять минут. Они, вероятно, начали оказывать ему помощь еще в пути: кислород, инъекции, возможно, использовали слабую электростимуляцию — он не хотел представлять себе эту картину. Проходя по коридору к справочному бюро, Хойкен правой рукой ощупывал шелковый галстук и, найдя его ворсистую изнанку, несколько раз провел по ней большим пальцем, словно это чудесным образом могло защитить его от правды, которую скажет профессор.
5
Через два часа Хойкен сидел в своем офисе на верхнем этаже концерна. В хорошую погоду отсюда видны плоские равнины северной части Кёльна, где прежде выращивали капусту и картофель. В солнечный день воды Рейна окутаны мерцающим сиянием. Пустынные, плавно спускающиеся к воде песчаные берега поблескивают, как гладкие ковры, на которые сразу можно садиться. Однако пейзаж у нового здания концерна производил угнетающее впечатление. Вдоль улиц выстроились уродливые, низкие, полуразрушенные дома, сдававшиеся внаем. Фабричные корпуса, гаражи и сараи сливались с ними в одну большую пустыню, над которой, как чужеродное тело, возвышался огромный комплекс концерна с его главным офисом, хранилищем, типографией и белым кубом Художественного Зала, построенного на личные деньги отца. Через несколько месяцев старый Хойкен планировал устроить в нем презентацию своей коллекции и последние несколько недель уделял этому особое внимание, потому что коллекция с годами увеличивалась и являла собой яркую демонстрацию его склонностей и пристрастий — от эскизов Кёльна экспрессиониста Кокошки через авангардизм Бойса к воздушным акварелям Уэкера. Это были талантливые произведения искусства, рожденные на рейнской земле или тайно купленные в провинции. Сейчас, глядя на здание, Хойкен считал этот проект очень удачным. Все должно получиться как нельзя лучше. Единственным штрихом, который он мог добавить к этому событию в культурной жизни города, были запланированные джазовые сессии шесть раз в году в большом Зале музея.
Теперь Хойкен знал, что ему будет не до этого. Он только что сообщил брату, сестре и жене заключение профессора Лоеба. Дела у отца были хуже, чем он предполагал. По-видимому, это был обширный инфаркт, потому что Лоеб несколько раз повторил слова «кардиогенный шок», рассказывал о катетере с баллоном, который вводят в аорту, чтобы нормализовать кровяное давление. В своей маленькой лекции профессор позаботился о точности и образности: сжимая и разжимая правый кулак, он попытался имитировать работу беспомощного сердца старого Хойкена. Вся эта наглядность окончательно доконала Георга. В мимике Лоеба он пытался увидеть ироничного и жизнерадостного дядюшку и врача, каким знал его с самого детства. Во время их разговора Хойкен в глубине души надеялся услышать, как и раньше, что наступило моментальное улучшение или быстрое выздоровление. Однако прогноз болезни был неутешительным. В конце концов Лоеб вообще перешел на профессиональную лексику. «Я вас не понимаю, бросьте это, говорите наконец нормальными словами», — мысленно просил Георг. Но нет, Лоеб держал его на расстоянии своими медицинскими терминами вроде «гипотензия» и «релаксация». Что касается катетера, то его введение само по себе не гарантировало спасения, но было очень опасным из-за высокого риска инфицирования.
Когда Георг ехал в клинику, он надеялся, что сможет увидеть отца и пожать ему руку. Он очень хотел встретиться с ним взглядом, но Лоеб в конце своего монолога дал понять, что это невозможно. Старый Хойкен лежал в палате интенсивной терапии, в закрытой стеклянной камере, а в комнате контроля дежурный врач не спускал глаз с его кардиомонитора. Воспаление легких может стать для отца последним ударом. Угрожающее «отказ органов» еще звучало у Хойкена в ушах и сопровождалось страшной картиной постепенно коченеющего тела: органы один за другим отключаются, и в конце концов ничего не остается, кроме одного-единственного, последнего сигнала, означающего смерть.
Эта картина странным образом напоминала «Прощальную симфонию» Гайдна, и Хойкен старался выбросить ее из головы. Урсула отреагировала на звонок словами «О Боже!», Кристоф расплылялся в своем обычном красноречии. Даже сейчас он хотел показать, что кроме угрожающей болезни отца ему есть о чем думать. Клара вела себя образцово. Она умела поддержать в трудную минуту. «Я давно ждала этого», — сказала она утомленно и печально. После этого они вдвоем позволили себе пройтись по тем излишествам, которым предавался отец в еде и напитках. «Паштет из оленины на завтрак, концентраты в желатиновых упаковках», — вспоминал Хойкен. «Пережаренная кровяная колбаса с жиром», — вторила Клара так, что ему на мгновение стало даже смешно. Его жена могла во всем находить смешную сторону, и, хотя это было не всегда уместным, Георгу нравилось такое отношение к жизни, потому что юмор супруги избавлял его от подавленного состояния и в ее словах он получал заряд оптимизма, которого ему так не хватало и которого он так жаждал.
Пока Георг рассматривал северный район и мечтал увидеть, как блестит на солнце река, новость распространялась по городу. На состоявшемся в полдень совещании редакторов Хойкен сказал, что не может сейчас думать о начале следующего года, для этого ему нужна стабильность и покой. На совещании должны были принять программу издания новых книг на будущий год.
Первая серьезная ошибка Георга заключалась в том, что он не рассказал обо всем сразу Минне Цех, руководителю офиса отца. Когда старый Хойкен не появился в нем, как обычно, около десяти часов, Минна позвонила в Мариенбург и узнала о случившемся от Лизель Бургер.
— Таким образом, я — последняя, кто все узнает, — бросила она Хойкену, едва тот появился в дверях.
— Простите, Минна, так не должно было случиться. Это моя ошибка, — извинился он. Только одно это предложение, никаких объяснений, и она еще предложила ему чай! Минна молча рассматривала его и, так как он больше ничего не говорил, занялась приготовлением чая. Пока вода закипала, они стояли друг против друга и прислушивались к бульканью и треску пузырьков в чайнике. Минна не выдержала молчания:
— Все в порядке, Георг, — наконец произнесла она, не догадываясь, как приятно было ему слышать свое имя. Наконец-то ему дали понять, что он не только возможный преемник, но и сын своего отца. У него возникло чувство, что момент истины, с которым он боролся в больнице, настиг его в виде легкой депрессии, вызванной воспоминаниями. Он идет с отцом, за ними бежит маленький щенок, которого ему только что подарили. Это их первая прогулка в Южном парке… Он с отцом в богемной квартире одного венского лирика. Отец гордо представляет его, своего пятнадцатилетнего сына, абсолютно равнодушному к таким движениям души поэту. Отец в афинском Акрополе, под слепящими лучами солнца, окруженный произведениями греческих классиков. Его голос охрип от волнения, и любая фраза приобретает торжественное звучание. Хойкен подумал, что в трудную минуту ему вспомнились именно эти мгновения огромной близости, когда отец был сильным и беспомощным одновременно.
Когда Минна протянула ему чашку чая, он пробормотал: «Черт возьми, опять». Он еще противился этим путешествиям в прошлое, но вдруг почувствовал: Минна точно знает, что с ним сейчас происходит. С присущим ей прагматизмом, как она часто это делала, женщина взяла свою чашку и подошла к столу, на котором лежала стопка утренней почты.
— Ну, что будем с этим делать? — спросила она, распечатывая большую пачку сигар и ставя ее на образцово пустой письменный стол.
Каждому посетителю, приходившему на прием, отец предлагал сигару, невзирая на то, что многие давно уже бросили курить. Отец всякий раз зажигал сигару и первую часть разговора только тем и занимался, что раскуривал ее. Нередко он пытался с помощью этого ритуала смягчить особенно ожесточенного собеседника. И случалось так, что уже через полчаса посетитель следовал примеру старого Хойкена, словно загипнотизированный элегантностью его умения курить сигары.
— Просмотрите еще раз почту, Минна, — сказал Хойкен. — В случаях, не терпящих отлагательства, напишите короткое сообщение, что отец болен и свяжется с адресатом сразу после выздоровления. Передайте мне важную авторскую корреспонденцию. Составьте список встреч отца на этой неделе. Я посмотрю, смогу ли заменить его в важных случаях и нельзя ли отменить другие договоренности.
Минна явно обрадовалась, получив это поручение. Если бы она позволила себе вообще о ком-нибудь высказаться, так это о Георге. Она ценила его, хотя втайне, возможно, и сомневалась, что он именно тот человек, который нужен. Для отца она делала все, прощала ему даже грубость, иногда явную. «Ничто так прочно не связывает стариков, как общий опыт послевоенных лет», — считал старый Хойкен. Тогда, в самом начале, он и Минна были в том подходящем для старта возрасте, полные наивного оптимизма.
— Просмотрите встречи, назначенные на эту неделю, — повторил Хойкен. — Кто у нас самый крепкий орешек?
— Вильгельм Ханггартнер, — ответила Минна.
— О Господи, что у него за дело?
— Он сообщил, что будет у нас послезавтра и принесет готовую рукопись своего романа.
— Это любовный роман?
— Да. Один старый писатель влюбился в молодую продавщицу книг, которая каждый день пишет ему письма.
— Предъявил ли он нам хотя бы часть рукописи, чтобы я мог прочитать и вникнуть?
— Насколько я знаю, нет. Поговорите с господином Байерманом. Он обязательно что-нибудь знает, Ханггартнер звонит ему уже три дня.
— Хорошо, я поговорю с ним. И скажите еще, что в отношении этого собирался предпринять отец?
— Обед в итальянском ресторане, который любит Ханггартнер. При этом должна состояться передача рукописи, а затем обычные благодарственные гимны и излишества. Это может продолжаться часа четыре. Когда Ханггартнер напьется вина, которое он пьет по такому случаю — марку я могу узнать, — он топает на своих двоих на вокзал, садится на обратный поезд и едет в родное гнездо, на побережье Северного моря.
— Это уж слишком для меня, Минна. Я придумаю что-нибудь другое. Позвоните ему и как-нибудь поделикатнее поставьте в известность о состоянии отца. Скажите, что я буду рад видеть его послезавтра в концерне.
Близился полдень. Хойкен не мог оторвать глаз от жизни там, на улице. Его часто успокаивал этот вид, открывавшийся сверху. Он как будто избавлял его на короткое время от необходимости принимать срочные решения. Но Георг знал, что не может долго позволить себе пустое созерцание. Ему нужно перестроиться, научиться работать по-новому, именно так, как он представлял себе это, но как он себе это представлял?
Минна Цех и Гюнтер Байерман работали в концерне уже несколько десятков лет, Хойкен знал их с самого своего рождения. Ребенком он сидел у Минны на коленях, он помнил даже игрушку, которую она ему подарила. Ее уравновешенность и строгость положительно влияли на Георга. Долгое время он считал Минну неприкосновенной, знал ее умные ответы на все вопросы и все ее наставления выполнял так терпеливо и старательно, как это может делать только влюбленный ребенок. Однажды, когда ему было девять лет, он с восхищением наблюдал, как Минна клеит на конверты марки. Иногда она позволяла Георгу помочь ей делать это. Он точно знал, что позже должен будет сам отнести аккуратную стопку писем на почту. Чтобы ни одно письмо не упало, он держал стопку обеими руками и шел по коридорам старого здания концерна сосредоточенный, совершенно поглощенный красотой своих размеренных движений.
И вот теперь он должен изо дня в день работать именно с Минной Цех. Георг спрашивал себя, возможно ли это вообще. Любой производственный психолог порекомендовал бы ему не поддерживать подобные служебные отношения, не приближать Минну к себе и воздерживаться от ссор. Когда-нибудь нужно поразмыслить над этой проблемой, возможно, даже обсудить ее с Минной, но и на это у нее будет наготове четкий ответ — что-нибудь ясное, убедительное и такое, что ему будет тяжело опровергнуть.
Порядки, царившие в концерне в прежние времена, нравились Георгу. Тогда никто не задумывался над тем, что есть старая команда, стоявшая у истоков бизнеса и сгруппировавшаяся вокруг отца, и рядом — много очень молодых сотрудников, в которых видели замену старому штату. Переезд в новое здание сопровождался расколом между этими двумя группами. Немногие старики оказались готовы перебраться сюда. Вальяжность главного фасада, оснащенные первоклассной техникой уютные кабинеты за стеклом, амбициозный шик — зеленые внутренние дворики с чахлыми деревцами и музыкой в полумраке, — им было противно смотреть на все это. Ничего не осталось от той непринужденной обстановки, которой они наслаждались в старом здании. Вскоре одно за другим создавались новые рабочие места и новое здание начала осваивать молодежь. Простые и общительные, они мало внимания обращали на музыку во внутренних двориках, зато вечерами тщательно вычищали свои кабинеты-клетки.
Однако поколение старого Хойкена в концерне заменить было трудно. Чего Георгу не хватало, так это спутников своего возраста. Но что это за возраст и что за поколение?
Для отца таким спутником был Гюнтер Байерман, один из старейших редакторов концерна. Он был сценаристом и исполнителем всех своих проектов и умел ладить с самыми тяжелыми представителями пишущей братии. Со многими литераторами Гюнтер дружил, регулярно встречался, с некоторыми даже уезжал на пару дней, чтобы лично разобраться в причинах их душевных взлетов и падений. Все это заполняло его жизнь целиком, вряд ли ему хватало времени на себя самого. Единственное, что Хойкен знал о Байермане, — это то, что он страстно любил животных и был частым посетителем зоопарка, но при этом не любил, чтобы его кто-нибудь сопровождал. Это значит, что Гюнтер знал о животных почти все. Он мог бы при случае рассказать, что самец пингвина неделями стоит на одном месте, обогревая своего птенца и вливая в него особый внутренний жир, обходясь при этом без пищи и воды.
Любой автор удивился бы, начни Байерман говорить о животных. Этими рассказами он привносил бы в разговор много личного, тогда как редактор, как правило, сам должен был часами слушать своего автора. Не только маститые писатели старались поддерживать хорошие отношения со своим редактором, но и начинающие, такие уверенные и независимые, с виду совершенно не нуждающиеся в материнской опеке, ничего так не жаждали, как услышать его дружеский звонок.
Хойкен досконально изучил странную структуру этих контактов. Часто они приводили к созданию тесных, почти супружеских отношений, устойчивых дуэтов, неуклонно вращающихся по одной орбите, чтобы окружить творчество тайной и никому не дать проникнуть туда. Каждая черточка, любое изменение в тексте или новая приставка оставляли после себя на этой орбите волнообразные колебания и следы, вызывая задушевные исповеди, способные довести редактора до безумия. Он должен был все время ставить себя на место автора, постигать его характер и давать понять, что тот — единственный и неповторимый. Никакого избытка похвал, в нужный момент — немного конструктивной критики, главное, однако, абсолютное самоотречение и собственный вкус, ссылаться на который ни в коем случае нельзя. Хойкен никогда не мог себе представить, как высокообразованный человек может все это вынести. Такая жизнь казалась ему какой-то шизофренической. Все понимать, быть отзывчивым и безотказным, свято хранить тайны и при этом иметь типичную «болезнь» редакторов — угасание собственного «я», сопровождающееся потерей собственной воли, своих вкусов в результате постоянной готовности впитывать чужие.
Чтобы ближе познакомиться с этими процессами, Хойкен сам какое-то время пробовал себя в редактировании. Однако он быстро понял, что такой способ жизни не для него. Георг не отличался бесконечным терпением и покладистым характером. Кроме того, он смотрел на вещи прагматично, как деловой человек, стремясь прежде всего поучиться, а не заниматься всю жизнь редактированием, выискивая, словно ищейка, ошибки в тексте, чтобы их исправлять.
Отец тоже не все умел. Правда, многие годы он имел дело с писателями, которые были его ровесниками, и при этом у него был свой метод. Тяжелый труд корректора он взваливал на Байермана и вместо того, чтобы задыхаться от всех этих проблем, приглашал авторов на пышный обед, а потом отправлял их, захмелевших и расслабленных, домой, где они должны были сами справляться со своей работой.
Хойкен взглянул на часы. 12.00. Служащие отправились обедать. Он почувствовал голод, но ему совсем не хотелось показываться в большой столовой и отвечать на бесконечные вопросы о состоянии отца. Георг с удовольствием занялся бы сейчас каким-нибудь делом, что-нибудь уладил, например, подготовился бы к встрече с Ханггартнером. Он заставил себя подойти к письменному столу, снял трубку и, набрав номер Байермана, подошел с телефоном к большому окну. Хойкен смотрел вниз, на пестрые вывески небольших кафешек на углу. Раньше в полдень к ним тянулись группки служащих, чтобы покурить и выпить немного кёльнского пива. Однако теперь такие посещения были запрещены, потому что прием алкоголя очень мешал работе.
Байерман поднял трубку. Георг слушал его мягкий, приятный голос, который после нескольких слов зазвучал на легкой, глубокой успокаивающей ноте. Нужно было услышать всего несколько фраз, чтобы понять, что минут через десять Байерман будет в кафе. Он так быстро согласился на предложение Хойкена, словно уже несколько дней только и ждал этого звонка.
Когда Хойкен положил трубку, в комнату вошла Джоанна и, остановившись у двери, спросила, не принести ли ему поесть. Георг услышал ее, но ничего не ответил. Он немного помолчал, задумчиво глядя в окно, а потом сказал:
— Нет, спасибо, Джоанна, мы с Байерманом договорились перекусить в бистро.
Фраза прозвучала глухо, словно он говорил, обращаясь к самому себе, или был погружен в совершенно другие, тяжелые мысли. Возможно, эта интонация задержала девушку, во всяком случае, Хойкен заметил, что она сделала два шага к окну и остановилась. Какую-то долю секунды они были рядом, однако Георг не обратил на это внимания и пошел к столу, чтобы положить трубку на место.
Когда он повернулся, Джоанна все еще стояла у окна спиной к нему. Георг видел ее высокую худощавую фигуру. Она носила четко сидящие на талии брюки и блузку, которая была похожа на белую мужскую сорочку, а может быть, это именно так и было. Ее короткие белокурые волосы напоминали прическу молодой Миа Фарроу из фильма «Ребенок Розмари». Однако они были гуще, к тому же работа наложила на лицо девушки характерный отпечаток, так что теперь она больше походила на Николь Кидман. В офисе Хойкена было очень тихо, никто из них не издал ни единого звука. Джоанна уже давно должна была уйти в приемную, но все еще стояла у окна, безмолвная, словно тень своего шефа.
Она напомнила ему сцену из картины кисти самого Хоппера[3]: одинокая грустная незнакомка смотрит в окно. Когда Джоанна начала работать в офисе, Хойкен иногда пытался интересоваться ее жизнью: замужем ли она, есть ли у нее друг, но до сих пор ничего не знал. Георг даже не знал толком, где она живет, ему было лишь известно, что где-то рядом с церковью Святой Агнессы. Он смотрел и смотрел на девушку, пытаясь запомнить эту живописную картину, и, вместо того чтобы противостоять неосознанному импульсу, шагнул вперед, словно хотел вместе с ней смотреть на этот мокрый от дождя асфальт и трамваи, которые, покачиваясь, катились навстречу друг другу. Возможно, совсем не близость Джоанны, а эти черные брюки и белая мужская рубашка послужили необъяснимым сигналом, но Хойкену вдруг захотелось коснуться черно-белой одежды руками, взять эту девушку и приблизить ее к себе.
Почувствовав его прикосновение, она не отстранилась, не оглянулась. Они остались стоять рядом, чувствуя взаимную симпатию. Теперь Георг видел другую картину, не имеющую ничего общего с Хоппером, а наоборот, полную нежности. Он касался Джоанны так, как видел это в своих фантазиях, и ощущение покоя не покидало его. Все было так, словно они обнаружили в себе что-то общее, о чем раньше не знали, это была способность обмениваться мыслями и находить поддержку друг в друге. За все годы их совместной работы он никогда так не поступал, но не думал, что сделал сейчас что-то неприличное или неискреннее. Георг мог бы еще больше приблизить девушку, но, когда попытался это сделать, почувствовал, что этим все испортит. Он только прижал Джоанну к себе, и они смотрели из окна вниз, словно супружеская пара, которая только что переехала в новую квартиру и теперь наслаждается окончанием суеты и хлопот.
Через несколько минут Георг оставил ее, подошел к столу, положил в карман блокнот и сказал:
— Я вернусь через полчаса. Ты знаешь, где меня найти.
Джоанна все еще не двигалась. Она оставалась стоять возле окна, будто не хотела покидать это место, а может, ей нужно было еще немного времени, чтобы осознать, что это «ты», произнесенное Хойкеном так просто и буднично, предназначалось именно ей.
6
Кафе только полчаса как открыли, и в нем почти никого не было. Несколько стульев еще лежали перевернутыми на столах. Хойкен подошел к старому роялю — Георг еще никогда не видел, чтобы на нем кто-нибудь играл, — и занял место за темным столиком в дальнем углу. Молодой человек за стойкой, занятый уборкой, коротко поприветствовал его. Сейчас он включит свет и, не ожидая заказа, принесет кёльнского пива.
— Музыку? — спросил бармен и, когда Хойкен кивнул, тут же включил CD-плейер. Кто-то запел песню приглушенным хрипловатым голосом. «Паоло Конте[4]», — подумал Георг. Эту музыку он иногда слушал в дальних поездках. Она позволяла ему окунуться в свои мысли — легкие, безмятежные мечты, рожденные отдыхом на юге.
Он вспомнил свое недалекое прошлое, и это заставило его вернуться к событиям сегодняшнего дня. Теперь музыка напомнила ему о том, что случилось с ним только что, возвращая тихие мгновения, проведенные с Джоанной там, наверху. Хойкен был взволнован, потому что не знал, будет ли это продолжаться и если будет, то как. С самого начала он решил не говорить с Джоанной об этом. Прелесть неповторимого мгновения состояла в том, что они молчали. Это была просто сцена — в реальной жизни они на такое не способны, — сцена поэтическая, как во французских фильмах. Следующим шагом было бы тайно уехать с ней. Георг представлял, как он подъезжает к трехэтажному дому возле церкви Святой Агнессы, выходит из машины и открывает багажник. Джоанна уже внизу, рядом стоит маленькая элегантная дорожная сумка. «Париж?» — спрашивает Хойкен, когда машина трогается с места, и Джоанна улыбается ему, будто мечтатель из последней рекламы японской «Тойоты». Так каждый раз шутят Мария и Йоханнес, когда едут куда-нибудь.
Он сделал глоток пива. «Нет ничего удивительного в том, что в один прекрасный день тебя вдруг посещают такие мысли», — подумал Хойкен. Может быть, это происходит потому, что ему хочется сесть в машину, уехать куда-нибудь и окунуться в мечту, в которой все с самого начала пропитано тоской о прошлом, как в песнях Паоло Конте. К счастью, Георг не мог подолгу предаваться таким фантазиям. Он почти успокоился, когда увидел, что в бистро входит Байерман с большой стопкой бумаг, перехваченных тонкой красной резинкой. Мужчина подошел к нему, и Георг увидел, что он не принес с собой ни одной папки из офиса.
Однако белая пачка бумаг была верным признаком того, что Байерман держит в руках рукопись, потому что почти все кабинеты в издательстве были заполнены такими, более или менее толстыми, стопками бумаг с текстами. Их все время копировали, правили, отсылали по почте и снова распечатывали. Они необозримыми грудами лежали на книжных стеллажах, на столах, на полу и между другими бумагами. Они и только они были истинным сокровищем каждого издательства, думал Хойкен. Они получали интригующие или причудливые названия, а потом проходили много этапов на каждом этаже издательства, где были устроены даже специальные узкие конвейеры, которые перевозили их от отдела к отделу.
Отец взял себе за правило каждую осень или весну особо отмечать одну из новых рукописей. В концерне все называли ее «Золотая монета». Название, которое должно было принести деньги. При любом удобном случае отец заводил о ней речь, регулярно, с упоением расхваливая особенные качества данной книги. Три-четыре месяца он старался почти в каждом разговоре упоминать «Золотую монету», полугодие за полугодием он ставил на ее карту все, словно продажа книг была для него своего рода спортивным соревнованием. Другие издатели часто имели свои пристрастия и, вместо того чтобы ставить на «Золотую монету», цеплялись за свои книги, с которыми уже ознакомились и которыми восторгались. Но довольно часто тактика отца себя оправдывала, и книготорговцы верили этой устной пропаганде больше, чем результатам официального голосования за лучшую книгу сезона.
— Мне очень жаль, — сказал Байерман, когда они пожали друг другу руки. Его строгое лицо вернуло Хойкена к утренним переживаниям.
— Спасибо, — только и смог ответить Георг. Ни за что на свете он не стал бы сейчас говорить об отце. Вдруг он осознал, что говорит Байерману «ты». С незапамятных времен Хойкен обращался к нему на «ты», но именно сейчас подумал, что было бы, несомненно, лучше ответить этому умному и опытному человеку: «Благодарю вас, господин Байерман». Тогда общение было бы более официальным и за каждой сказанной фразой не скрывалось бы ничего личного.
Георг отодвинул бокал с пивом, чтобы освободить место для принесенной Байерманом стопки бумаг. На каждого, кто имел дело с изданием книг, такая стопка оказывала магическое воздействие. Хотелось снять красную резинку и сразу же прочитать несколько первых страниц. Начало всегда читаешь с особенным подъемом, буквально открыв рот. Когда же определишь тему и стиль — чаще всего это случается очень быстро, — напряжение спадает.
— Давай поговорим о Ханггартнере, — сказал он и уставился на белую стопку. Конечно, Гюнтер позволит ему взять рукопись, хотя Хойкен был бы рад этого не делать. Вот они, эти страницы, лежат возле Байермана, но Георг к ним даже не притронулся. Байерман принес рукопись и просмотреть ее — его прямая обязанность, поэтому Хойкен может пододвинуть рукопись к себе только после того, как редактор даст на это свое разрешение.
— Давай поговорим… — ответил Байерман. По крайней мере, это означало, что он пришел сюда, чтобы поговорить на серьезную тему. Правда, сначала он еще раз повернулся к парню за стойкой, чтобы заказать стакан воды и меню, которое принялся читать, словно отгораживаясь от Хойкена при помощи молчания. Георгу ничего не оставалось делать, как слушать Паоло Конти. Он помнил слова каждой песни наизусть и все же почти ничего не понимал, хотя некоторые слова многократно повторялись… «elegia, nostalgia, infanzia»… Он не позволял себе слиться с этими мягкими, сладкими звуками, напротив, он должен сконцентрироваться на Ханггартнере и уяснить, что ждет его завтра.
Отцу было бы проще. Они с Ханггартнером были почти одного возраста и знали друг друга еще с первых послевоенных встреч на литературном поприще. Ханггартнер уже тогда жил в этом захолустье у побережья, где его сейчас почитают как наследного принца. Он получил в наследство от отца усадьбу и осел в провинции, на самой окраине, воспевая в своих коротких очерках волшебное очарование сельских дворов, гостиниц и церкви. Отец все время навещал его там. Самое большее, чем угощали старого Хойкена, был свежеиспеченный пирог с яблоками. Пирог пекла жена писателя, которая вот уже более пятидесяти лет терпела своего тщеславного и своенравного мужа, перепечатывала его неразборчивые рукописи, отказываясь печатать только любовные романы. Один из них Ханггартнер опубликовал несколько лет назад, и с тех пор она была напугана. Дело в том, что писатель норовил каждый свой роман приправить пикантными историями. Чаще всего он прозрачно намекал, что кто-то лишил невинности молодое создание в его сарае или на конюшне. Потом эта разнесчастная и всеми давно отвергнутая персона вновь появлялась в его романе. Согласно духу времени, теперь это была женщина со сложными любовными отношениями, о которой все газеты писали, что она любовница одного большого человека. Хойкен часто видел Ханггартнера, но не был уверен в том, что тот о нем думает или знает. Хотя у этого писателя было несколько детей, его самого никогда не интересовали ни дети, ни подростки. Дети никогда не были героями его сюжетов, он их просто не замечал, уделяя все внимание своей собаке. Но, как известно, даже Томас Манн предпочитал общество своего пса общению с детьми.
Однако с отцом Ханггартнер считался так, как ни с кем другим. Эти двое понимали друг друга с полуслова и были закадычными друзьями. Поговаривали даже, что в молодости они отбивали друг у друга любовниц. Хойкен до сих пор не знал, было ли такое на самом деле, но хорошо мог себе это представить, стоило ему только вспомнить знакомую по многочисленным черно-белым фотографиям юношескую улыбку Ханггартнера. Жизнерадостная, самоуверенная и обаятельная — эта улыбка пробивалась через суровые очки в черной роговой оправе. Молодой Ханггартнер был типичный продукт своего времени — с виду такой беспомощный, нерешительный и зажатый, он всегда точно знал, в какой гостинице останавливалась молодая писательница или издательница, приехавшая на конференцию. В то время люди жили без телевизоров и больше слушали радио, и Ханггартнер начав свою карьеру с нескольких маленьких работ для радиопередач. Потом, год за годом, он заводил все новые и новые знакомства, чему способствовала его неуемная натура спорщика. Для каждой политической темы ему удавалось найти ключевую фразу, которая тут же подхватывалась и обсуждалась во всех фельетонах, пока проблема не сходила на нет.
— Это не новая рукопись Ханггартнера, — сказал Байерман, после того как наконец заказал себе греческий салат с овечьим сыром, — к сожалению, это не она.
Георг посмотрел на него. Байерман сидел как добрый самодовольный дядюшка, который принес подарок, оказавшийся всего лишь бутафорией.
— Что же это? — спросил Хойкен, пытаясь улыбнуться.
— Это его последний роман. Я принес его с собой, чтобы ты посмотрел, как выглядят рукописи Ханггартнера.
Хойкен был немного разочарован. Он протянул руку к стопке бумаги и пододвинул ее к себе, допивая свой бокал. Потом взялся за красную резинку и бросил взгляд на первую страницу.
— Увидишь, это великолепно, — произнес Байерман, — жена Ханггартнера отпечатала окончательный вариант и сама все исправила. Мне здесь почти ничего не пришлось делать.
Действительно, на страницах почти не было исправлений. Только кое-где Байерман изменил знак препинания или переставил слово. Его вмешательство проявлялось в виде легких карандашных пометок поверх четкого, угловатого почерка.
— Согласится ли он с твоими замечаниями? — спросил Хойкен и сделал знак кельнеру принести еще два пива.
— Вовсе нет, — ответил Байерман, — думаю, он и не взглянет на них. Я верну исправленную рукопись, и его жена внесет эти поправки в текст, если они представляют ценность с ее точки зрения.
— Понимаю, — сказал Хойкен, — стало быть, его жена — это его грамматика или текстовая программа.
— Да, верно. К счастью, в отличие от Ханггартнера она очень музыкальна. Он абсолютно немузыкален. Немузыкальный писатель, помешанный на прозе, — это едва ли не самое плохое, что может постигнуть редактора. Чаще всего ты вынужден полностью заново переписывать текст, что может длиться неделями. Но рукописи Ханггартнера забирают от силы недели две.
— Очень хорошо, — размышлял Хойкен, — по крайней мере, нам будет просто с ним в этом отношении.
— В этом отношении, пожалуй, да. Но есть еще кое-что. Хуже всего — его телефонные разговоры. Когда он сосредоточен на работе над рукописью, он звонит чуть ли не каждый день. Ему нужно отвлечься, как будто кроме меня ему поговорить не с кем. Ну, он и звонит. Бывает, он читает мне вслух газету или подробно комментирует новости. Кроме того, Ханггартнер обожает сплетни и хочет знать, кто из писателей и каких почестей у нас удостоился. Я подозреваю, что у него в голове есть что-то вроде списка лучших.
— По чему он судит?
— По величине аванса, который мы выплачиваем другим авторам. Я, конечно, к этому не имею никакого отношения, поэтому не знаю, откуда он берет эту информацию. Иногда он не очень близок к истине, но в действительно важных случаях знает точную сумму.
— У него есть агент?
— Конечно, нет. Такие, как Ханггартнер, в агентах не нуждаются. Ему доставляет прямо-таки дьявольское удовольствие каждый раз добиваться подписания нового контракта. Когда он отдает новую рукопись, предстоят такие переговоры.
— Ты хочешь сказать, он уже послезавтра будет говорить со мной о следующей книге?
— Совершенно верно. Но только если захочет видеть тебя своим партнером. До сих пор он разговаривал об этом только с твоим отцом.
Хойкен помолчал и сделал глоток пива. За окном по мокрой от дождя улице, усыпанной осенними листьями, движется машина. Рядом с водителем сидит кто-то другой. Они слушают Паоло Конте, который поет для двух молчаливых спутников, а город тонет в мягком вечернем свете, «in ип ambiente maron»…
— Почему же он меня не возьмет в партнеры? — спросил Хойкен, взглянув на греческий салат, который только что принесли Байерману.
— Не хочешь поесть?
— Нет, у меня сегодня еще одна встреча, поем позже.
Байерман склонился над некрасивой стеклянной миской, в которой возвышалась гора салата. Можно было подумать, что прием пищи он рассматривает как событие. Хойкен подумал, что редакторы, вероятно, не интересуются едой. Они всегда должны быть трезвыми и держать себя в форме, чтобы слушать безумные фантазии своих писателей, отсюда это самоистязание салатом и минеральной водой.
— Ты не обязан брать это на себя, — сказал Байерман, — это тебя не касается. Ханггартнер никого другого и не взял бы в партнеры. Ты знаешь, что он очень давно и тесно связан с твоим отцом.
— Посмотрим, — ответил Хойкен, — так или иначе, я готов с ним сотрудничать. Он уже что-нибудь говорил о своей последней книге?
— Нет, абсолютно ничего. Это так не делается. Есть ритуал. В первый раз он намекнет о содержании, когда заведет речь о договоре, потом постепенно будет раскрывать его. Разговор о теме и сюжете как-то сам собой превратится в подсчет количества экземпляров и условия договора. Однако на сей раз у меня есть подозрения.
— Я слушаю.
— После трех романов будет еще том с его речами и очерками.
— О нет!
— Да! Его речь, посвященная Бремеру[5] в ресторане ратуши, его «Размышления о Кафке и других личностях», его приветственный тост по поводу переезда Мёрике[6] куда-то в швабский кошмар…
— О нет, он же знает, что это будет абсолютно убыточная сделка, об авансе не может быть и речи.
— Пятьдесят тысяч!
— Сколько?
— Он требует пятьдесят тысяч евро, говорю тебе. Сорок тысяч за последний сборник очерков. Если не добавим еще десять тысяч, сделка не состоится.
— Мы заплатили ему за последний сборник очерков сорок тысяч?!
— Твой отец заплатил бы и восемьдесят. К счастью, Ханггартнер слишком наивен, чтобы так заноситься. Конечно, мы доплатим за сборники очерков, в конце концов, это было оговорено ранее. Таким образом, три последних романа Ханггартнера обойдутся нам в сумму более чем сто тысяч.
— Да уж, я это уже понял. Ты не поверишь, как это меня раздражает! Так и хочется поторговаться и сбить цену!
— Не делай этого, Георг, прошу тебя. Этот человек создаст проблемы и тебе, и мне. У меня уже нет сил выносить его чтение. Набросит шарф, как актер, играющий Зевса, и давай шевелить своими всклокоченными бровями вверх-вниз в такт произносимых гласных. Когда он разъезжает один, мы заранее точно инструктируем все книжные магазины. В последнее время он стал ворчлив, легко впадает в депрессию и, конечно, полон презрения к тем из них, которые продали меньше трехсот экземпляров его очередной книги. Но мы обнаружили, что есть верное средство против подобных проблем пожилого возраста. Например, он может принимать антидепрессанты. Очень хорошо помогает, когда во время его чтений в фойе какого-нибудь отеля ему представят молоденькую и, желательно, миловидную продавщицу книг, которая проведет с ним этот вечер.
— Что все это значит?
Хойкен заметил, что Байерман только разгребает салат вилкой. Мелкие и, возможно, несъедобные кусочки сыра он раскладывал на краю тарелки, где они лежали кучкой, напоминая известковую кашицу, а ломтики огурца поддевал по одному зубцом вилки и так медленно отправлял в рот, словно они были чересчур сладкие, чтобы съесть сразу.
— Это значит, что она приводит его на встречу с читателями и ждет, чтобы после сопровождать в гостиницу. Если Ханггартнер в настроении, она сопровождает его в какой-нибудь аристократический клуб, и они вместе идут в итальянский ресторан, чтобы отпраздновать презентацию. Там она сидит рядом с ним, словно принцесса. Если он начнет со спиртного, значит вечер удался. Пьет он много, ты знаешь, и если ты не пьешь так же много, он будет о тебе невысокого мнения.
— Я знаю, что ты скажешь, но не могу оказать ему такую любезность. Я не могу среди бела дня напиваться, после этого мне нужно минимум два часа поспать.
— В таком случае ложись и спи. Все лучше, чем его расстроить. Кстати, разочаровать его очень легко, ты в этом не раз убедишься. Может случиться так, что он вдруг вскочит, схватит свое пальто и просто покинет ресторан со словами: «Я разочарован».
— Небольшое театральное представление позабавит меня.
— Если послезавтра ты так позабавишься, это может стоить нам сто тысяч. После такой сцены он, пожалуй, уедет, много месяцев к нему будет нельзя дозвониться, и с уверенностью могу сказать, что в следующем году роман не появится.
Наконец Байерман повылавливал все кусочки огурца и задумчиво отодвинул стеклянную миску, дно которой теперь было залито вязкой маслянистой жидкостью, на середину стола. При этом он так посмотрел на миску, словно ему тяжело было с ней расставаться. Хойкен подумал, что с удовольствием сходил бы с ним как-нибудь в зоопарк. Если Байерман так внимателен к какому-то греческому салату, то при виде замерзшего пингвина, наверное, может даже заплакать.
— Что ты знаешь об этом новом романе? — быстро спросил Георг, чтобы справиться с подступившим смехом.
— Ну, — ответил Байерман, — не очень много. Один старый писатель, который живет за городом, день за днем получает от молодой продавщицы книг письма, ну и начинается обычная чепуха.
— Нельзя ли конкретнее? — Хойкен осторожно засмеялся.
— Я тебя умоляю, — сказал Байерман, — фантазии Ханггартнера всегда конкретны.
— Как раз нет, я нахожу, что он всегда немного символичен.
— Конечно, ты прав, аллегория — его отличительная черта, он всегда вставит где-нибудь какое-то абсурдное слово и ужасно этим гордится. Что касается новой книги, к сожалению, следует ожидать, что эта странная парочка будет посылать друг другу безумные письма, полные соблазна, потом она уговорит его выступать перед читателями в ее магазине, он будет выдавать ей щедрые авансы, она расскажет ему всю свою жизнь: что она делает, о чем думает, чего хочет. Недели три назад Ханггартнер намекнул, что в романе идет речь о его глубоко личных отношениях и страстных чувствах, я точно знаю.
— Страстные влечения… не может ли это быть названием романа?
— Он не говорит названия, пока не передаст рукопись. Кстати, еще ни разу не было так, чтобы мы предлагали ему свой вариант. Он приезжает с окончательным названием, во всяком случае, так было всегда. И в этот раз ты должен примириться с его формулировкой, даже если это будет «Тихое домогательство в Фюльсбюттеле».
«Когда Байерман начинает шутить, — думал Хойкен, — это свидетельствует о том, что разговор закончен, он позволяет себе короткую передышку, веселую историю, прежде чем перейти к следующему серьезному вопросу». В основе работы редактора лежит задача преодолеть кризис, тонко разбираться в чужой психике, которая, как Ганнибал Лектер, больше всего хочет затащить тебя в свои сети, извращенная и свирепая.
Чтобы дать Байерману еще немного времени насладиться салатом, Хойкен перелистывал страницы рукописи. Послезавтра он будет иметь дело с другой страстью. Возможно, он будет выбирать отдельные фразы и читать их вслух, чтобы дать Ханггартнеру возможность поразмыслить над своим своеобразным стилем.
— По-моему, основная идея совсем неплоха, — сказал он, чтобы вызвать Байермана на откровенность и выслушать его мнение как профессионала.
— Основная идея очень хороша и типична для Ханггартнера. Он мастерски использует самые современные вещи, в данном случае — электронные письма. Они доходят намного быстрее, более откровенные и искренние, чем прежние — рассудительные, неторопливые и порой слезливые. Электронное послание — это остановившееся мгновение, оно не требует труда, это просто короткий сигнал. Только описка или опечатка, которую нужно исправить, роднит его с обычным письмом.
— Даже удивительно, что человек его возраста имеет дело с такими новинками.
— Да, без сомнения, но проблема в том, что он сам не осознает особенность этих новинок. Он преобразует их в часть мироздания Ханггартнера, и там они превращаются в нечто искаженное и гнетущее.
— Ты представляешь, как в данном случае все может выглядеть?
— Полагаю, роман состоит из двух частей. Первая — это в основном электронные послания, которыми обмениваются писатель и продавщица книг. Вторая часть повествует об их первой встрече и разочарованиях, которые постигают их из-за крушения любовных планов, что является неизбежным в мире Ханггартнера.
— Оба не могут удовлетворить свои высокие запросы…
— Точно. Оба будут прилагать отчаянные усилия, чтобы приспособить свои беспомощные тела к возвышенному состоянию душ.
— Да, но это может быть просто смешно…
— Только не у Ханггартнера. Ведь он пишет этот роман, чтобы еще раз показать, как призрачна и мучительна любовь. Представь себе: он раздувает эту тему, а потом медленно и болезненно выпускает воздух и, смакуя, описывает каждую рану.
— И сколько принесет нам это описание?
— Мы продадим так много экземпляров этого романа, что никакая другая книга Ханггартнера с этим не сравнится. Продавщицы книг будут думать, что этим романом он ставит точку в своих любовных делах, что это его завещание, вершина его философии мученической любви.
— Итак, двести тысяч?
— Спорим на четверть миллиона.
Хойкен быстро прикинул в уме, как много может дать издательству сумма в двести пятьдесят тысяч евро. Вместе с продажей карманных экземпляров, которые появятся не позже чем через два года, продажей фильмов и других товаров, связанных с романом, получалась громадная сумма, которую приносила одна-единственная книга. Он и не предполагал, что встреча с Ханггартнером может принести такие плоды, он не мог поверить, что судьба сведет его со столь опытным и знаменитым писателем. Хойкен только сейчас понял, как важен для него этот обед, назначенный на послезавтра.
— Мы уходим? — спросил он спокойно.
— Да, — сказал Байерман, — пора заняться работой.
— Очень тебе благодарен, но у меня к тебе еще одна просьба.
— Я слушаю.
— Я хочу еще раз пойти с тобой в зоопарк, — сказал Хойкен после короткой паузы.
— Когда пойдем? — спросил Байерман, затягивая белую пачку красной резинкой.
— Мы так давно не ходили вместе в зоопарк, а я до сих пор помню каждую клетку, перед которой ты останавливался, и каждую историю, которую ты рассказывал мне при этом. Тогда я был еще совсем маленьким, но до сих пор при воспоминании о наших походах меня охватывает дрожь.
— Так я скажу, когда соберусь, — ответил Байерман, а Хойкен в тот же миг почувствовал прилив гордости, — и с удовольствием расскажу тебе новые истории. Между прочим, я знаю их столько, что мы можем проводить в зоопарке целые дни.
Они одновременно поднялись. Хойкен пошел первым, чтобы расплатиться у стойки. Здесь все еще пел Паоло Конте, а на улице было так темно и пасмурно, словно уже наступил вечер.
7
Он почти влетел в свою приемную. В его размашистых движениях было что-то легкомысленное. Такое воодушевление Георг иногда испытывал после тренировок. Он был весел и голоден, выпив всего два бокала кёльнского. Хойкен велел сварить кофе, решив воспользоваться охватившей его эйфорией и поработать еще пару часов. Когда Джоанна увидела его, она сняла наушники диктофона:
— Звонила фрау Цех. Вы должны ей срочно позвонить.
Он заметил, что она говорит ему «вы». На мгновение Хойкен задумался, должен ли с этим соглашаться, но быстро прошел в свой кабинет. Сейчас ему было некогда.
Набирая номер Минны Цех, он налил себе стакан воды, но она так быстро ответила, что Хойкен не успел сделать ни одного глотка.
— Минна? Это Георг. Я должен был позвонить?
— Да, Георг, спасибо. Я говорила по телефону с Ханггартнером, он потрясен, я долго не могла его успокоить. Он сказал, что инфаркт твоего отца — самый жестокий удар, который ему довелось пережить за последние годы.
— Да, да, для нас это тоже было совершенно неожиданно. Он что-нибудь говорил о своем визите в издательство?
— Собственно говоря, нет. Сказал только, что не приедет.
— Что?! Он не приедет?! Но почему, почему он не приедет?
— Потому что потрясен, потому что принял все это близко к сердцу и не хочет продолжать свои дела, пока твой отец борется со смертью.
— Он что, с ума сошел? Это полная ерунда, отец был бы рад, если бы получил рукопись и обговорил с нами все детали, чтобы книга увидела свет. Ты ему это сказала?
— Я постаралась сделать все возможное, Георг, но он не захотел со мной разговаривать. В конце концов, он старый человек, он так тесно сотрудничал с твоим отцом в течение многих лет, как никакой другой писатель. Ты должен понять, что это неожиданное ужасное известие выбило его из колеи.
— Я ничего не понимаю и не хочу ничего понимать! В этом — весь Ханггартнер! Это его чертовы театральные представления, которыми он всем нам действует на нервы!
— Нет, Георг, это не то. Ты должен людям, которые близко знают твоего отца, дать время, чтобы они справились со своими чувствами. Это тот случай, когда дела могут подождать.
Георг взял стакан и сделал глоток. Минна говорила спокойным и решительным голосом секретаря, который прежде он слушал с таким удовольствием. Пока пил воду, он заметил, что крайне взволнован, растерян и капризничает, как ребенок, самое заветное желание которого не исполнили. Хойкен допил воду и тут же налил себе еще.
— Георг, ты еще здесь?
Он шумно выдохнул. Минна должна услышать, как тяжело ему было принять это известие.
— Только что я подробно обсудил все с Байерманом. Я был готов встретиться с Ханггартнером, его книга избавила бы нас от многих проблем, понимаешь, Минна?
— Я отлично понимаю тебя, Георг, но ничего не поделаешь. Ты тоже должен понять Ханггартнера, как бы тяжело тебе ни было.
— И ты считаешь, нет никакой возможности переубедить его?
— Во всяком случае, я ничего не могу сделать, ты не можешь требовать этого от меня.
Хойкен залпом осушил второй стакан. Он почувствовал разочарование от тщетности затраченных усилий. Вместе с тем его так раздражала эта безнадежность, что он с удовольствием швырнул бы стакан в это чудовищно большое окно.
— Посоветуй мне, Минна, — сказал Георг, стараясь говорить тише, — что я должен делать.
— Выжди время, Георг, и ни в коем случае не звони Ханггартнеру.
— Теперь он будет часами висеть на телефоне и раззвонит об этом на весь свет.
— Скорее всего, именно так и будет.
— Он состряпает жуткий сценарий об ужасном конце нашего концерна.
— Вероятно…
— Он будет выходить из себя, и я должен позволить ему это делать.
— Да, Георг, позволь ему. Он успокоится, поверь мне, ему нужно два-три дня и много телефонных разговоров, но когда-нибудь он успокоится.
— Завтра? В течение завтрашнего дня?
— Нет, завтра наверняка еще слишком рано.
— В таком случае мы можем пока забыть о встрече.
— Да, об этом ты должен пока забыть.
Хойкен сел и стал раскачиваться на откидной спинке кресла. Когда он был ребенком, ему очень хотелось иметь обезьяну. Это желание было неизменным. Георг записывал его в список подарков на свой день рождения и в маленький черновик, который клал под подушку, чтобы упросить и смягчить благосклонные небеса. Он твердо верил, что со временем его просьба будет услышана. Но небеса оставались неумолимы, неподвижный и холодный строй белых ангелов ни разу не улыбнулся ему.
Теперь он говорил так тихо, что был сам себе противен:
— Спасибо, Минна, оставим это дело на время.
— Так будет лучше всего, Георг, поверь мне.
— Да, все в порядке. Я позвоню позже.
День был заполнен суетой с самого утра, с той самой минуты, когда он получил известие о болезни отца. Хойкен повернулся на вращающемся кресле вокруг своей оси, но это не помогло, ощущение тупика не покидало его. Он поднял трубку и набрал номер клиники. Прошло больше минуты, прежде чем к телефону подошел ординатор. Он был немногословен. Введение катетера было проведено успешно и обошлось без каких-либо серьезных осложнений. К сожалению, пациент до сих пор не приходит в сознание. Более подробную информацию может дать только профессор Лоеб. Хойкен спросил, нужно ли ему зайти в клинику. Нет, в посещениях нет необходимости, пациент ни в чем не нуждается.
Трудовой энтузиазм Хойкена быстро улетучился. Он чувствовал раздражение и был возбужден, как ребенок, который не знает, чем себя занять. Всю жизнь Георг терпеть не мог этих мрачных послеобеденных часов, знакомых ему с детства, когда все время чешешься или от скуки ешь много сладкого и в конце концов ложишься в постель. «Почему бы тебе просто не почитать?» — спрашивала его мать в таких случаях. Он брал какую-нибудь книгу и пробовал читать, но ощущение при этом было почти болезненное. Это был вид душевного застоя, почти отвращения к жизни, только не оправданное еще философскими размышлениями, как в подростковом возрасте. Георг вспомнил свою детскую комнату в родительском доме в Мариенбурге. Какой красивой была широкая лестница, ведущая на первый этаж, не говоря уж о прежней роскоши этого дома, в котором он провел все свое детство!
Хойкен снова набрал мариенбургский номер, как будто хотел услышать его необыкновенную тишину. Когда в трубке послышался голос Лизель Бургер, ему показалось, что он снова видит свою детскую комнату на первом этаже. Георг закрыл глаза и продолжал говорить тем же приглушенным голосом, каким заканчивал разговор с Минной:
— Лизель, это Георг. Я еще в офисе, но у меня сейчас есть свободная минута. Я бы с удовольствием заехал сегодня. Ты как?
Лизель ответила не сразу. Казалось, она привыкала к его необычно тихому и мягкому голосу.
— Ему не лучше?
— Нет, Лизель, ему не лучше, только давай поговорим об этом дома.
— Я приготовила ему суп, думала, он все-таки придет.
Хойкен промолчал. Он продолжал сидеть с закрытыми глазами. Эта фраза про суп была самой тягостной из тех, которые он услышал за сегодняшний день. Почему Лизель сказала это? Неужели она не поняла, что натворила этими словами?
— Я думала, он все-таки придет, — повторила женщина, словно подумала, что он ее не понял.
Хойкен ухватился за стеклянную крышку стола и спросил медленно, словно разговаривал с очень маленьким ребенком:
— Какой суп, Лизель?
— Овощной суп. По понедельникам, приезжая из отеля, на обед он ел овощной суп.
— И где он сейчас стоит?
— Он все еще стоит на плите.
— Лизель? А как давно он стоит на плите?
— Честно говоря, Георг, точно не помню. Вот досада, а ведь я должна была бы точно знать!
— Нет, Лизель, это не важно. Я просто хотел бы знать, съедобный ли он. Я голоден, Лизель.
— Так приходи, Георг.
— Хорошо, Лизель, через полчаса я буду у тебя, и мы съедим по тарелке супа, идет?
— Да, Георг, конечно.
Он отпустил стеклянную крышку, обронил: «До скорого, Лизель», потом провел рукой по убранному столу и подровнял пачку писем, из которой не просмотрел ни одного.
Как давно он не был в родном доме? Во всяком случае, после смерти матери — ни разу. Все, что происходило в этом доме после ее смерти, оставалось для Георга тайной. Он встал и какое-то время стоял, глядя на поверхность стола. На протяжении всех лет, которые Георг провел за этим столом, он не мог отделаться от ощущения, что его работа была просто игрой. Все, что он здесь делает, казалось ему нереальным, словно по-настоящему не касалось его, и все это точно так же мог выполнять кто-нибудь другой. «Основное различие между старшим поколением и нами, — думал Хойкен, — заключается в том, что старики никогда не чувствуют себя лишними, они абсолютно уверены, что все зависит только от них. Эта уверенность в собственной значимости вызвана тем, что они пережили войну и до сих пор молча радуются этому великому событию».
Он надел плащ и вышел в приемную. То, что произошло сегодня в этой комнате, было самым непонятным изо всех событий прошедшего дня.
— Я еду в Мариенбург, — Хойкен посмотрел на Джоанну, чувствуя, что должен сказать что-то еще. Они смотрели друг на друга, стараясь понять, что же случилось. Георгу очень хотелось произнести что-то такое, что отвечало бы моменту, однако он оставался в роли шефа и соблюдал дистанцию между собой и своей секретаршей.
Они смотрели друг на друга как-то уж слишком долго, пытаясь удержаться в этом напряженном состоянии, потому что не знали, как вести себя дальше. И вдруг Джоанна улыбнулась, словно хотела отпустить его, чтобы после иметь возможность снова вернуться к этим мгновениям. Георг улыбнулся в ответ, но как-то сдержанно. В тот миг он казался себе таким неуклюжим, неповоротливым, ему хотелось разрядить напряженную обстановку шуткой или ироническим замечанием.
Выйдя на улицу, он почувствовал, что этот зрительный контакт успокоил его и сделал более уверенным. Возможно, как раз в его возрасте и возникают такие связи. Во всяком случае, у него все будет не так, как у Ханггартнера, который, кажется, не верит в то, что встречи подобного рода нужно развивать постепенно, чтобы они были прекрасными. Для развития любовных отношений нет ничего хуже юношеской паники или похотливого влечения. Ханггартнер всегда стремился быстро добиваться своей цели, и эта цель всегда должна была быть новой. Он, как бродяга, таскался от одного книжного магазина к другому и везде оставлял последствия своих коротких экстатических вспышек. «Следовало бы выпустить карту Германии с указаниями всех его побед, — подумал Хойкен, — это была бы превосходная реклама. Пестрая карта, сплошь усеянная мелкими точками эротических опытов Ханггартнера, и сверху жирным шрифтом: «Страстные влечения Вильгельма Ханггартнера. Этапы и причины».
«Когда нам больше ничего не приходит в голову, мы устраиваем выставку, — продолжал говорить себе Хойкен, входя в стеклянный лифт, — потом рассказываем истории своих побед над женщинами, приносим маленькие фотографии отелей и марочные вина. После этого начинается грандиозный и откровенный обмен мнениями». Таким образом, выставка в очередной раз представила бы Ханггартнера в совершенно новом свете и послужила бы блестящей рекламной акцией.
Хойкен злорадно усмехнулся, но тут же подавил смех, потому что лифт спустился в фойе и стеклянная дверь быстро распахнулась. Он прошел мимо привратника, коротко поздоровался и быстрым шагом направился к парковочной площадке. Георг был абсолютно уверен в том, что за ним будут наблюдать из окон, а потом пройдет слух, что молодой Хойкен выбежал из офиса в страшном волнении и поехал в клинику, потому что его отец при смерти. После того как сорвалась запланированная встреча с Ханггартнером, он и минуты не хотел находиться в концерне и теперь, имея такое алиби, мог наконец спокойно исчезнуть.
«Мазда» рванула с места, Хойкен гнал ее, лишь несколько раз резко тормозя на поворотах. Теперь он — преданный сын, спешащий к постели умирающего отца. Георг присоединился к потоку машин на Аусфальштрассе и переезжал из ряда в ряд, пока не убедился, что за ним никто не наблюдает. Свернув с набережной, он откинулся на спинку сиденья и поехал медленнее. «Мазда» бесшумно катилась по аллеям Мариенбурга.
8
Тишина Мариенбурга с его зелеными улицами и виллами в стиле английских и американских землевладельцев заставала Георга врасплох всякий раз, когда он возвращался сюда после долгого отсутствия. Хойкен открыл окно машины, чтобы окунуться в это спокойное умиротворение. Запах влажной земли и осенних листьев ворвался в салон, словно из открытого флакона. Сейчас Хойкен был уже в совершенно другом мире, где нет забегаловок, магазинов, шумных сборищ и взволнованных спорщиков, потому что эта тишина — тишина богатства и роскоши, скрытая от остального мира. Высокие изгороди, за которые не проникнет ни один взор, охраняли этот мир, хотя они были не нужны. Вокруг — безлюдные улицы, лишь кое-где виднелись владельцы собак, которые вышли на прогулку со своими питомцами. Даже война с ее страшными разрушениями не коснулась этого островка покоя. Элитные районы Кёльна находились в стороне от воздушных маршрутов, по которым летали бомбардировщики союзников, так что здесь, как и сто лет назад, жили банкиры и финансисты, шоколадные фабриканты и очень богатые рейнские коммерсанты. Георг проехал мимо аптеки, магазина деликатесов, протестантской церкви и костела Святой королевы Марии, построенного в начале пятнадцатого века Домиником Бёмом[7]. Отец был в этом костеле на первом причастии Георга и Урсулы. Старику не нравились современные здания, и особенно его раздражала стеклянная стена главного помещения со всеми украшениями, на которые с любопытством глазели дети, стоя с матерью на долгих службах.
Хойкен подъехал к родительскому дому. Ворота на улицу были открыты. Он въехал во двор, где находился жилой дом с массивной угловой башней и гараж с домом шофера. С тех пор как Георг себя помнил, у отца было два шофера: первый проработал у них более тридцати лет, а второй, которого назвали Secondo (второй), возит отца вот уже лет двадцать.
Когда Хойкен заглушил мотор и открыл дверь, на пороге показалась Лизель. Они так давно не виделись, что он не сразу узнал экономку. «Она очень постарела», — подумал Георг. Прежде она была энергичной и подвижной, а теперь стала меньше, как будто съежилась, хотя лицо ее все так же выражало нежность и невероятное терпение, словно у женщин на полотнах Дюрера, во всяком случае, отец часто говорил об этом. Лизель подошла и обняла его. Георг прижался к ней своим большим телом и почувствовал, как прежде, у себя на спине ее сильные худые руки. Они зашли в гостиную, здесь был красивый балкон с видом на парк. Справа располагался кабинет отца с зимним садом, слева находились столовая, салон и большая кухня.
«Пожалуйста, раздевайся», — чаще всего говорила Лизель в былые времена и подводила его к гардеробу. Однако сейчас она спросила:
— Где ты хочешь есть?
Из раздевалки Хойкен прошел через высокие, роскошные помещения, чувствуя себя случайным гостем, который слоняется из комнаты в комнату, глядя по сторонам.
— Мы будем есть у тебя на кухне, — крикнул он и добавил: — Я же всегда обедал у тебя на кухне.
Так оно и было. Учась в гимназии, Георг любил делать именно так. Он был единственным из детей, для кого Лизель что-нибудь готовила. Кристоф ел у кого-нибудь из своих школьных друзей. Урсула обедала в женской школе, и это навсегда испортило ее кулинарные вкусы.
Хотя Хойкен до мельчайших подробностей знал эту огромную виллу и в ней ничего не изменилось со времен его юности, он еще раз невольно удивился ее размерам и ненавязчивому, продуманному чередованию светлых и темных помещений. Здание было построено в английском стиле незадолго до начала Первой мировой войны каким-то кёльнским архитектором. Комнаты первого этажа располагались вокруг центральной гостиной, которая была обшита темным деревом. В ней помещался большой камин. Стены и потолок кабинета были, наоборот, светло-зеленые, гардины — светло-желтые, а полки, шкафы и мебель библиотеки обиты темным, с матовой полировкой, орехом.
Но самой прекрасной показалась ему светлая столовая с окнами, выходящими в парк. Здесь вокруг стола, покрытого белой скатертью, все так же стояли легкие обтянутые красным шелком стулья. Гардины тоже были красные, такой тон был идеей матери, он контрастировал со стенами и дверью цвета слоновой кости. Комната и сейчас казалась уютной и праздничной, яркий контраст создавал впечатление, будто находишься не в Мариенбурге, а на одном из горных итальянских озер. Вилла была задумкой отца, которую он воплотил для своей молодой жены. Когда дети были маленькими, отец был еще переполнен жизненной энергией, и это великолепное семейное гнездо как раз подходило для того, чтобы удовлетворить его амбиции. Просторный, элегантный, окруженный парком и составляющий с ним единый ансамбль, дом Хойкена был идеальным местом для полуденных встреч с близкими друзьями и коллегами по работе, а также отдыха с компанией летними вечерами, когда парк становился одним большим праздничным лугом с украшенными цветами беседками и павильонами.
Все это было так давно, когда Георгу было лет пятнадцать-шестнадцать. В то время их дом заполняли бесконечные, идущие непрерывным потоком маленькие или большие группы людей. Ему, мальчишке, необычно одетые и странно ведущие себя гости казались участниками причудливого веселого карнавала. Нередко они были навеселе, и их дурачества были ему совершенно непонятны. Но в какой-то момент праздничная кутерьма в родительском доме пошла на убыль, гостей становилось все меньше. Семья уже не собиралась так часто, как раньше, пообедать вместе, наоборот, каждый шел своей дорогой и искал свое место в этом мире. Мать прибегла к старой женской тактике. Она терпела все выходки и вольности отца, которые он себе позволял, и не подавала виду, что хочет быть хозяйкой своей жизни. «Постепенно, — думал Хойкен, — мы все ушли отсюда. Сначала мама, потом Кристоф, потом Урсула… Я, по крайней мере, продержался до получения аттестата. Только отец не сдвинулся с места. Он пытался поддержать в доме прежние порядки, и в конце концов здесь стали появляться такие типы, которых хозяин едва знал, но которые пользовались возможностью вдоволь поесть, выпить и скоротать ночь в пустой болтовне».
— Георг, пора, — услышал он голос Лизель.
Хойкен по-прежнему стоял в столовой и смотрел из окна на парк. Теперь он жалел о том, что они с Лизель не будут есть в столовой. Он бы сел в конце стола, где раньше сидел отец… И все же, войдя в кухню, Георг подумал, что это место имеет свои преимущества. Каменный пол с черно-белой плиткой был яркой картинкой из детства. Хойкен вспомнил, как, сидя на этом полу, он что-то жевал и катал свою игрушку вдоль стыков между плитами. Если с кухонного стола падала картофельная кожура или ломтик чего-то съедобного, он складывал все это в свой маленький грузовик.
Он сел, как раньше. Лизель накрыла стол для двоих, а потом, как в былое время, сказала «Благодарим тебя, Господи» и быстро перекрестилась. Хойкен давным-давно не обращался к Богу перед едой, но сейчас повторил все, что она делала, словно это было для него в порядке вещей. В этот момент было бы просто смешно строить из себя современного скептика и игнорировать старые порядки родного дома, которые Лизель олицетворяла как никто другой.
На мгновение они благоговейно замерли, затем Георг развернул на коленях плотную белую салфетку и принялся за суп. Еда была простой, но питательной, и каждый овощ имел свой собственный вкус, словно его готовили отдельно. Георг подробно рассказал, что произошло со старшим Хойкеном в отеле. При этом он старался не очень расстраивать Лизель, чтобы она точно представила себе весь ход событий. Вечером она сама поедет в больницу, чтобы отвезти необходимые отцу вещи.
— Ты не заметила, — спросил Георг в заключение, — были какие-нибудь признаки того, что отец плохо себя чувствовал?
— Нет, — ответила Лизель, — ни малейших, но не могу утверждать, что он чувствовал себя, как прежде. Ты же знаешь, это такой человек, который никогда не постареет. Я уже заметила, что он никогда не оглядывается, не говорит о прошлом и не отдыхает, как многие его ровесники, которые только вспоминают свою молодость. Для него есть только будущее, он полон планов, он чувствует и думает, как двадцатилетний юноша, который каждый день начинает жить по-новому.
— Да, верно, он именно такой.
— Однако он находится как раз в том возрасте, когда время бесценно. Я часто сижу здесь и смотрю на наш парк. Все эти деревья и кусты живут и старятся вместе с нами. Я восхищаюсь тем, что они — такие редкие и красивые — из года в год покрываются листьями, которые потом опадают, а весной на них появляются новые. То же самое прячется глубоко в нас. Иногда, когда я сижу здесь одна, я даже начинаю петь. Все это так переполняет меня, что я должна немедленно выплеснуть свою радость. «Никто не слышит тебя, — думаю я тогда, — можешь петь». Но даже если бы меня слышали, мне было бы все равно.
Хойкен не ответил. Сейчас он не хотел ни о чем говорить опрометчиво. «Может быть, эта старая женщина окажется в конце концов единственной, кто будет ухаживать за этим домом и парком, — думал он. — Мы заняты своими делами, кроме того, мы не так энергичны, как отец, мы только прыгаем вокруг и делаем вид, будто придумываем что-то новое. Ничто так не стимулирует работу, как шум, поднимаемый вокруг какой-нибудь новости. Еще до того, как новые книги выйдут из типографии и разойдутся, мы уже думаем о самых новых, утратив связь с предыдущими. Мы связаны с книгами не больше, чем эскиз для обложки или подходящий рекламный девиз». А отец? Он всегда верил в успех своего начинания, верил в свои иллюзии еще больше, и при этом речь шла не о материальной выгоде, а о том, что книга попадет, как он говорил, на пульс времени. Вероятно, отец не мог больше выносить этот дом. Несовременный и молчаливый, он подавлял старика, которому был необходим приток новой и злободневной информации.
— Что ты думаешь о происшедшем, Лизель? Почему он ночевал в отеле? — спросил Хойкен, хотя понимал, что это раскроет ту пропасть, которая лежала между ним и отцом, — он ничего не знал об этих ночах и даже представить себе не мог, что это знали многие.
— Я тоже не знаю, что можно думать, Георг, хотя он не делал из этого тайны. Это началось около двух лет назад. У него была назначена встреча с господином Файлем, а он не хотел принимать его здесь, на вилле. Они встретились в отеле «Соборный», чтобы поужинать. Разговор предстоял долгий, и он решил снять номер. Там ему понравилось, он не любит этот дом, потому что здесь тихо. Отцу нужно было хотя бы немного развеяться, господин Файль помогал ему вносить это разнообразие в его жизнь.
— Файль? Петер Файль заботился о разнообразии его жизни?
— Да. Если хочешь больше об этом узнать, спроси у него. Он все устраивал, билеты в филармонию и тому подобное. Он часто звонил сюда и потом заезжал, чтобы организовать то одно, то другое. Напитки, сигары, а кроме того, акты и другие документы, — твой отец иногда работал там и, по-видимому, встречался с разными людьми. Конечно, я не знаю точно, иногда он случайно называл имя… Например, его агент, ты ее знаешь, я имею в виду ту, которая носит невообразимо короткие юбки и черные чулки в сеточку, как же ее?..
— Ты имеешь в виду Лину Эккель?
— Да, точно. Я уверена, отец часто встречался с ней. Она должна была рассказать ему о Нью-Йорке. Ничего не злит господина Хойкена больше, чем мысль, что в его возрасте он уже не может летать в Нью-Йорк. Нашими лучшими авторами всегда были американцы, так он часто говорил. Ты же знаешь его слабость: со старыми авторами-американцами он может пить, разговаривать и отключаться от всех проблем, только раздражается, когда его спрашивают, каким он видит будущее концерна и издательства. Господин Хойкен очень не любит, да и вообще не хочет говорить об этом ни с кем, только со мной. Мне он часто рассказывал о своих планах, когда мы с ним ели здесь суп или ужинали. Он любил есть на кухне что-нибудь простое и здоровое. Кулинарные изыски он предпочитал в выходные, во время своих тайных ночных отлучек.
Хойкен слушал Лизель как зачарованный. В его голове не укладывалось то, что отец, уже пожилой мужчина, по ночам встречался с какими-то людьми. Георга беспокоил бесконечный оптимизм, который скрывался за этим, потому что он сам в свои пятьдесят два жил так, словно для него все удивительное уже закончилось. Он взял большую суповую ложку и попросил еще тарелку супа. Эти ночные тайны, как их называла Лизель, таили в себе какой-то волшебный соблазн, какой-то дерзкий вызов. Вероятно, они придавали отцу жизненных сил, потому что именно в эти последние два года он был полон энтузиазма и желания жить. Без сомнения, именно хорошее самочувствие и было причиной того, что отец так редко заводил разговор о будущем. Но теперь об этом нужно было говорить, и Лизель понимала это. Хойкена разбирало любопытство. Это было почти физическое чувство — словно колючий пуловер под рубашкой, — которое заставляло Георга вертеться на стуле.
Какое-то время он машинально подносил ложку ко рту, размышляя, что Лизель могла воспринять его заинтересованность слишком прямо. Ему стало легче, когда он заметил, что женщина продолжает говорить:
— Мое отношение, Георг, могу тебе сказать прямо, было всегда ясным, ясным и недвусмысленным. Я всякий раз говорила твоему отцу, что концерн должен перейти старшему сыну, старшему — и точка! Урсула отпадает сразу, в этом мы с ним были единодушны, но сейчас я заявляю это категорически, потому что должна сказать правду. Это не означает, что твоя сестра мне не нравится, она мне и всем нам очень нравится, и твой отец, может быть, привязан к ней больше всего, но такая тяжелая работа ей не по плечу. Она просто сидела бы в своем кабинете в башне концерна и целые дни напролет читала бы прекрасные стихи одного кавказского поэта, которые опубликовала когда-то в трех томах. А Кристоф? Кристоф, я всегда говорила, еще не повзрослел. И как знать, не растратит ли он половину имущества на свои спекуляции с бестселлерами, если возглавит бизнес. Он унаследовал слишком много целеустремленности и смелости твоего отца и слишком мало его мудрости и коммерческой смекалки. У тебя, напротив, эта смекалка есть. Возможно, тебе не хватает настойчивости и смелости. Плохо, что ты никогда не сталкивался с трудностями и, как и твои брат и сестра, был так избалован, что даже не представляешь себе, как сложна жизнь других людей. Ваш отец умел поставить себя на место другого человека, правда, ненадолго, да и терпения у него не хватало, но он разбирался в людях, и это уберегло его от многих ошибок. Ну а ты? Знаешь ли ты людей? Можешь ли ты возглавить правление и вместе с тем внушить всем своим сотрудникам чувство, что ты их понимаешь, а при необходимости даже поддержишь?
Такой поворот в разговоре не понравился Георгу. Он не ожидал, что окажется в центре внимания, а качества его характера будут так подробно обсуждаться. Когда Георг был еще школьником, Лизель иногда начинала придираться к нему, стараясь заставить избавиться от своих маленьких слабостей. К сожалению, мать часто поддерживала ее, потому что сама не могла критически относиться к своим детям и объяснять им их ошибки. Она с удовольствием ехала с ними в город, покупала какую-нибудь обновку, а потом радовалась, глядя, как они из вежливости примеряют новую одежду. «Мама была чудесным человеком, — подумал Хойкен, — но никто из нас не понимал этого при ее жизни». Когда назревала ссора, мать вставала, уходила в свою комнату и, если ей что-то не нравилось, остаток дня никому не показывалась на глаза, а вечером шла в театр одна. Она не выносила скандалов, никогда их не устраивала, молча терпела все, что позволял себе отец, не считаясь с ней, пока чаша ее терпения не переполнилась и она не исчезла навсегда. Такого тонко чувствующего человека, как мать, он уже никогда не встретит. Отец после ее смерти был так подавлен, что потерял былую самоуверенность. Тогда у него и случился первый инфаркт.
— Извини, — сказала Лизель, — я не хотела тебе этого говорить. Это были просто мысли вслух. В конце концов, я очень привязана к концерну, ведь он является детищем твоего отца, делом всей его жизни.
«Делом жизни, — подумал Хойкен, — хорошо сказано. В этом слышится что-то грандиозное, возвышенное, торжественное».
— Нет, нет, ты не должна извиняться, — сказал он, — я рад, что мы заговорили об этом. Однако заговорили слишком поздно.
— Да, это верно. Слишком поздно мы вспомнили о подобных вещах. Твой отец откладывал эти разговоры, чтобы выиграть время. Он хотел увидеть, на что вы способны, и, конечно, хотел остаться самодержцем, потому что плохо представлял себе, как будет делить свое богатство с кем-то еще. Но он, по крайней мере, ничего не выпускал из виду и наконец принял необходимое решение.
Хойкен снова не ответил. Слово «решение», которое произнесла Лизель, эхом отозвалось в его душе. Он сразу почувствовал, что оно связано с чем-то неприятным. Возможно, речь идет о юридически оформленном завещании, которое (Георг был в этом уверен) только осложнит всем жизнь. Он скомкал свою салфетку и бросил ее на стол рядом с тарелкой. Как всякий раз, когда Хойкен старался внутренне защититься от чего-то, он откинулся на стуле и скрестил руки на груди. Еще ни разу в его присутствии отец не объявлял своего окончательного решения. По-видимому, только с Лизель он чувствовал себя достаточно свободно для того, чтобы произнести вслух это тяжелое слово, которое обдумывал годами.
— Хочешь знать, как выглядит это решение? — спросила Лизель, глядя в упор на Георга.
Он не знал, что ему ответить: «Да, я хочу услышать, потому что хочу наконец знать ответ» или «Нет, не хочу ни в коем случае, потому что не хочу узнать что-нибудь плохое». Если Лизель говорит о решении, значит, отец не считает его своим преемником, потому что в таком случае не нужно было бы принимать никакого решения. Оно напрашивалось бы само собой и было бы простым и понятным, таким, каким Хойкен часто видел его в своих мечтах — гладким, плавным переходом без потрясений и вопросов.
Его напряжение становилось невыносимым. Георг встал и подошел к окну, чтобы посмотреть на парк. Вот уже много лет никто не осмеливался потребовать от отца ясного ответа. Долгие годы руководство всего концерна — члены его правления, руководители издательств и сотрудники — увиливало от решения этой проблемы. Как Парсифаль[8], Георг боялся задать вопрос, а потом кружил по Граалю[9], все больше теряясь из виду. Но сейчас он сидит на кухне родительского дома, чтобы, как в детстве, поесть овощного супа, и не может понять, как он мог так долго сдерживаться и терпеть, почему допустил, что его заставляли униженно ждать, почему ни у кого не хватило мужества восстать против деспотизма отца и потребовать ясности.
— Не говори загадками, Лизель, — сказал Хойкен, продолжая смотреть на парк, — ты отлично знаешь, что только нервируешь меня своими намеками.
— Да, Георг, думаю, что так, и признаюсь, мне это даже немного приятно. И знаешь почему? Потому что я никогда не понимала вашего отношения к этому. Я расцениваю вашу сдержанность как трусость. Нужно было уже давно набраться мужества и потребовать, чтобы отец ясно высказался о будущем концерна. Но вы молчали, думая, что этот вопрос разозлит отца. Почему? Боялись рискнуть? Того, кто на это осмелится, я стану уважать, даже если это будет стоить ему причитающейся доли наследства. Когда-нибудь я должна была тебе в этом признаться.
— Хорошо, Лизель, я тебя понял. Сейчас я не хочу отвечать, хотя мне есть что сказать в свою защиту. Скажи лучше, какое решение принял отец? Нечестно с твоей стороны так долго держать это в секрете.
— Он ничего не скрывает. Такие люди, как твой отец, ничего не скрывают, ты должен это знать. Такие, как твой отец, просто думают и решают. Он предоставил вам троим право самим принимать решение.
Хойкен сощурил глаза. В вечернем сумраке старые лиственные деревья в самом конце парка были плохо видны, их выцветшие золотистые и бурые листья на фоне темно-зеленых сосен выглядели, словно палитра художника. Казалось, большие газоны были покрыты сырым изумрудным мхом. Георг и сейчас еще помнил, где находится ручей, который тянулся через весь парк к бассейну с кувшинками. Теперь деревья стали гораздо выше, чем тогда, во времена его детства. Они рядами окружали газоны, как ажурная рама, отчего создавалось впечатление, что весь пейзаж является театральной декорацией. Несмотря на некоторые перемены, места, которые Георг видел еще мальчишкой, одно за другим возникали в его памяти. В этом было что-то жуткое, словно он никогда не покидал родного дома и часть его души все время жила здесь и ждала его возвращения, и было абсолютно естественным снова войти сюда и вернуться к играм и старым порядкам прошлого… Вот зазвучал колокол в соборе Святой королевы Марии, и он с братом и сестрой идет в церковь… Вечереет, и Лизель спускается в сад, чтобы позвать их к ужину… Пес поранил лапу, и они с Кристофом несут его в дом…
— Ну что? — спросила Лизель. — Ты не понял, что я тебе сказала?
Хойкен засунул руки в карманы брюк, повернулся к ней и прислонился к окну. Сейчас в нем было что-то от того долговязого мальчишки, который читал книги Сэлинджера и всех этих пытливых, безумных американских авантюристов.
— Я слышал, Лизель, — ответил он и вдруг вздрогнул, как ошпаренный, как бывало с ним в юности, — я слышал. Отец предоставил нам самим решать, подумать только. Но как мы должны это сделать? Бросать кости? Или обратиться к звездам?
— Вы должны голосовать, — произнесла женщина, — я могла бы подарить вам избирательную урну.
— Большое спасибо, Лизель, ты очень щедра. Кому пришла в голову эта идея? Если мы проголосуем, судьбу концерна решит Урсула, это ясно. Тот, кому Урсула отдаст свой голос, и будет преемником отца. Ведь никто не поверит, что Кристоф отдаст мне свой голос или я отдам ему свой.
— Как знать? Кто может поручиться? Очень может быть, и на то всегда найдутся причины, чтобы один из вас проголосовал за другого или даже за Урсулу.
— Боже мой, Лизель, это же подло, это означает, что двое из нас должны объединиться против третьего.
— Возможно, твой отец именно этого и хотел. Сейчас он ждет от вас твердости. Кто хочет управлять концерном, тот должен уметь добиться этого, даже за счет своих братьев и сестер. Со мной он такой план не обсуждал. Он хочет, чтобы вы сами договорились между собой. Как вы будете это делать, решать вам.
Хойкен отошел от окна, взял стакан и пошел к мойке, чтобы набрать воды. Он выпил ее залпом и поставил стакан на место, затем вышел из кухни, прошел гостиную, открыл стеклянную дверь в сад и сделал несколько шагов. Над парком сеялся мелкий, будто влажная сетка, почти незаметный дождик, но это не заботило Георга, наоборот, дождь должен был охладить его голову. То, что от него требуют обставить своих брата и сестру, чтобы хотя бы один из них не чувствовал себя опозоренным, было не самым страшным. Борьба троих друг с другом — пожалуй, самая тяжелая задача, какую можно перед ними поставить. Фронты могут непрерывно меняться, и соответственно двое будут тайно объединяться против третьего. В таком случае волей-неволей будешь пользоваться наглыми и коварными приемами. Некоторым особо изобретательным методам Хойкен научился на курсах менеджеров в США, где в разделе о стратегии поведения говорилось о тактике ведения войны «чистыми руками».
Он осторожно коснулся дерна на лужайке. Георг никогда бы не поверил, если бы ему сказали, что об этой тактике ему придется когда-нибудь вспомнить. Тогда это показалось бы забавным, но сейчас ему было не до смеха. Он не двинется с места, не обдумав заранее каждый шаг. Плохо только, что все это требуется от него именно сейчас, когда он чувствует себя уже не таким сильным и уверенным, как раньше, и иногда бывает слабым и уступчивым. Внутренний голос подсказывал Георгу, что именно болезнь, сломившая отца, вытащила его из привычного оцепенения. Казалось странным, что этот дом и сад он уже не воспринимает как что-то чужое и ненастоящее. Наоборот, ему вдруг очень захотелось жить в этом доме. Он бы все здесь обновил и изменил. Раньше ни о чем таком Хойкен не думал. Возможно, так он отреагировал на то, что утром место отца оказалось не занятым. Место, которое Георг, не желая сознаться себе в этом, уже давно хотел занять. Он знал, что это зреет в нем, что он неосознанно старается удержать это в своих руках.
Как хотелось ему сразу что-нибудь предпринять! Он снова позвонил в клинику и немного поговорил с Лоебом. Тот, по-видимому, был удовлетворен состоянием отца, но так обильно пересыпал свою речь профессиональными терминами, словно имел дело с иностранцем и должен был произвести впечатление. По крайней мере, профессор разрешил навестить отца завтра утром. В конце разговора Хойкен почувствовал облегчение: сегодня он не должен ехать в клинику еще раз.
Он долго брел под дождем. Сейчас ему нужно было немного тишины, чтобы все, о чем он сегодня узнал, пропустить через себя. Георг хотел побыть один, совершенно один. Было бы прекрасно, если бы он мог уединиться. Войдя в дом, Хойкен остался стоять, поискал на дисплее своего мобильного номер и набрал его.
— У вас есть свободная комната? — спросил он. — Я приеду.
Когда женский голос ответил, что его ждут через двадцать минут, Георг глубоко вздохнул и вошел в дом.
Лизель стояла в гостиной, он видел ее в освещенном окне, пока медленно шел через парк.
— Кристоф звонил, — сказала она. — Он уже пытался найти тебя в офисе. Я должна тебе передать, что завтра он приедет в Кёльн, и Урсула тоже. Он спрашивал, будет ли у тебя время, он приглашает пообедать втроем в ресторане.
Хойкен кивнул, будто ждал именно этого. Дело принимает серьезный оборот. На сцене — чтобы попытать счастья — появляется его жизнерадостный младший брат, а в его кильватере идет Урсула, соображения и планы которой Георг видит насквозь.
— Мы могли бы пообедать у нас, — ответил он спокойно и в ту же минуту представил, как они вместе сидят в столовой дома в Роденкирхене и вяло разговаривают. Кристоф бросит пару язвительных замечаний по поводу кулинарного искусства Клары, Урсула будет его приструнивать и твердить о том, что перед едой следует выпить стакан теплой воды. В этом общении будет что-то неприятное, наигранное. Они будут долго ходить вокруг да около, скрывая желание задать главный вопрос, а потом будет уже слишком поздно для того, чтобы все обсуждать и вдаваться в детали.
— Кристоф настаивает на ресторане, — сказала Лизель. — Он сам подчеркнул, что хочет хорошо поесть и не в домашней обстановке.
— Это на него похоже, — заметил Георг. — «Хорошо и не в домашней обстановке».
— Он передал тебе, что сам зарезервирует места.
— Да, Лизель, хорошо, я понял. Кристоф велит передать, подчеркивает, настаивает, не спросив, разумеется, мнения остальных.
— Кристоф сказал, что Урсула согласна, по-видимому, он ей уже звонил.
— Отлично! Теперь наш младший брат еще заставит нас расположиться в том ресторане, который сам выберет.
Хойкен пошел к гардеробу и взял свое пальто. Когда он вернулся в гостиную, Лизель все еще стояла там. Он удивился, заметив, что глаза ее подозрительно блестят, и понял, как трудно ей было все это время скрывать свои чувства, наверное, теперь у нее нет больше для этого сил. Георг наклонился и поцеловал ее в правую щеку, чувствуя сильный запах супа, как будто он впитался в ее кожу и уже начал там разлагаться.
— Он не умрет, — прошептала Лизель, — я совершенно точно знаю, что он не умрет.
Хойкен выпрямился и стал застегивать пальто.
— Нет, Лизель, — ответил он, — отец не умрет. Конечно, нет.
Он поднял воротник, еще раз обнял женщину, пообещал позвонить на следующий день и вышел из дома.
9
Через двадцать минут Георг припарковал свою машину возле Рудольф-плац. Дождь все еще моросил. Хойкен прошел метров сто и свернул в узкий извилистый переулок. Он направился к зданию, которое из-за скромной витрины выглядело как маленькая лавка. Здесь был простой, расшатанный прилавок, на котором лежал какой-то товар. Георг открыл узкую дверь и вошел внутрь. Слева, из подвала, куда вели ступеньки, на него пахнуло удушливым паром. Услышав звонок, в прихожей появилась молодая женщина. Хойкен видел ее, он видел ее здесь уже много раз, но не знал, как ее зовут, а она не имела ни малейшего понятия, с кем имеет дело. Женщина была одета в легкие голубые брюки и белую рубашку с очень тонкими бретельками. Ее обнаженные руки и плечи были покрыты сильным ровным загаром, что говорило о том, что она недавно отдыхала где-то на юге. Георг представил ее на пляже, занятую всю первую половину дня одним-единственным коктейлем. Безобидная быстрая рыбка, которая подглядывает из укромного уголка за всеми изо дня в день и ни к кому не идет в сети.
Она слабо улыбнулась ему, пододвинула бланк, и Хойкен подписал его, как всегда, почти не читая о том, что клиент не страдает болезнями сердца, не состоит на учете у врача и не пил сегодня алкоголь в большом количестве. «Вся прелесть, — подумал Георг, — заключается не только в том, что можно вдруг решить позвонить и заскочить сюда просто, безо всяких принадлежностей, но и в том, что здесь можно хорошо укрыться от всех посторонних раздражителей».
Молодая женщина пошла вперед, он следовал за ней вниз по узкой лестнице в подвал. Хойкен испытывал уже знакомое чувство отрешенности, которое всегда появлялось у него, когда он шел по слабо освещенному коридору, потому что с каждым шагом помещение все больше походило на бордель.
Они вошли в тихую комнату, в которой стояли две большие тахты и журчал фонтан. Потом дверь открылась и в нее скользнула молодая женщина в голубых брюках и белой сорочке на бретельках. Хойкен очутился в маленькой, жарко натопленной каморке Центра развлечений.
Возле гардероба, когда они стояли рядом, очень близко друг к другу, Георг старался не смотреть слишком пристально на ее обнаженные кремовые плечи. Пока он снимал пальто и вешал его на крючок на двери, женщина вынула из шкафа стопку свежих полотенец. Хойкен не хотел раздеваться дальше, пока она находилась так близко. Ситуация стала бы неловкой и неприличной, он понял это, ощутив теплый запах ее тела, от нее пахло орехом. Когда женщина наклонилась, чтобы уложить полотенца на полку, он заметил, как из-под внезапно сползшей бретельки показалась ее острая ключица. Чтобы дать ей время убрать в комнате, Георг извинился и вышел в коридор. Туалет был напротив. Он ощутил острое облегчение, когда закрыл за собой дверь и никто не мог видеть, как он полощет раковину писсуара тонкой светло-желтой струей.
Когда он вернулся в жаркую комнату, молодая женщина, к счастью, исчезла. Он сразу стал раздеваться, хотя его не покидало чувство, что за ним тайно наблюдают. Возможно, из-за этого Хойкен тщательно и очень медленно укладывал каждую вещь, однако потом быстро отправился в душ и, пока стоял под тугими струями воды, неотрывно смотрел на большой овальный резервуар, который заполнял тесное помещение почти полностью. В целом он выглядел как огромное зеленоватое яйцо динозавра, чья верхняя часть была похожа на широко открытую пасть. Хойкен закрутил кран, поднялся и, пригнувшись, вошел в эту пасть, повернулся, сел в теплую, налитую до бедер воду и дернул занавеску, которая опустилась, издав резкий щелчок. Он вытянулся и сразу почувствовал, как вода, тяжелая, почти маслянистая от растворенной в ней соли, словно выталкивает его тело. Георг почувствовал легкость и радость, как будто он парит в космосе, потому что внутри закрытого резервуара было почти темно. Одновременно он услышал звуки льющейся откуда-то музыки. «Это, собственно говоря, и не музыка, — думал Хойкен, — это скорее похоже на широкую, медленную звуковую волну, словно бьют в огромный барабан». Звуки ударов заполняли все пространство, постепенно затихая. Все это не имело никакой мелодии и, тем более, никакого ритма, словно чистый космос, эти звуки падали, словно космические капли с воображаемой небесной высоты.
Он лежал на спине, плотно прижав руки к своему телу. Эта поза всегда напоминала ему древнегреческие скульптуры юношей с их холодными улыбками. У него было что-то от их застывшей прочности, но вскоре это должно было измениться. Затылок Хойкена касался подставки, а тело было почти полностью покрыто водой, только член иногда ненадолго всплывал во всей своей упругой непринужденности, похожий на плотный, ороговевший нарост на коже купающегося бегемота. Георг закрыл глаза и расслабился, вокруг него был полумрак, а где-то в глубинах его подсознания открывалось маленькое светлое окошко.
В первые минуты он сосредоточился на музыке и попробовал освободиться от калейдоскопа событий прошедшего дня. Было хорошо оттого, что он почувствовал благотворную легкость тела, вялые покачивания рук, слабые волны на поверхности воды, пробегающие вдоль спины до самых ног. Ералаш в голове Хойкена, казалось, медленно утихал, и приглушенные одноцветные пятна мыслей бледнели. На темно-сером экране его сознания они всплывали как широкие, трепещущие на ветру полотна, которые от успокаивающего музыкального ритма натягивались и сразу же расслаблялись, расслаблялись и снова натягивались.
Казалось, его тело постепенно теряет размеры и вес и с каждой минутой все больше превращается в маленькую икринку, которая беспорядочно движется в околоплодной жидкости. Давно позабыт внешний мир. Он еще заметен, но только когда меняет свои краски — вспыхивающие и снова затухающие, которые светятся все ярче и в конце концов полностью подавляют ощущение времени.
В свое первое плавание Хойкен отправлялся со страхом. Он напряженно выпрямлялся в воде и вглядывался в крышку бака, в которой отражался, разбиваясь на светящийся орнамент из линий, танцующий на воде свет. Теперь Георг научился получать удовольствие от перехода во внутренний мир картин и звуков, плавно скользя в лабиринтах времени. Магия составления фильма давала ему острое наслаждение. В его памяти возникали отдельные тревожно мерцающие кадры, рассеянные в темноте проектором машины времени. Сначала Георг узнавал портреты, овальные миниатюры, фасады трехэтажных домов в извилистых переулках, маленькие, словно в кукольном домике, комнаты и спальни. Блуждающая камера наблюдала за всем этим сверху, а потом неожиданно устремлялась внутрь осматривать интерьер. Конечно, Хойкен не знал точно, что он видит. Фильм начинался спонтанно и дрожащими сменяющими друг друга кадрами напоминал немые фильмы прошлых лет, которые Георг просто обожал.
Этот фильм Хойкен собрал из фотографий старой хроники концерна. Здесь были иллюстрации, взятые из богато оформленного издания, которое он часто перелистывал еще ребенком. Хроника начиналась в начале девятнадцатого века биографией одного из его предков, у которого был книжный магазин в Кёльне. Позже он превратил его в небольшое издательство и добавил к нему выпуск газеты. Этот предок считался основателем фамильного дела, хотя его младший брат тоже основал такой бизнес, но только в Лейпциге. Недовольный тем, что лавры достались не ему, младший брат переименовал издательство, убрав из названия их фамилию, чтобы ничего не напоминало ему о семье.
Несмотря на эти недоразумения, Кёльн и Лейпциг долгое время оставались издательскими центрами, которые описываются сейчас как простые, обычные конторы. Только в конце столетия вместо них появились большие здания с богатыми офисами. Мальчишкой Хойкен всегда удивлялся, как такое огромное количество людей находило в них работу. Но самое яркое впечатление на Георга производил кабинет его деда, со всей его помпезной старинной роскошью. Массивный овальный стол, который Хойкен видел на фотографиях, до сих пор стоял в кабинете его отца. Согласно фамильной легенде, за этим столом сидели знаменитые писатели, такие как Ибсен, Стриндберг или Герхард Хауптман. В наши дни к такой реликвии подводили писателей вроде Ханггартнера, чтобы позволить им хоть на пару часов приобщиться к звездам.
Он дрейфовал в темноте все дальше и дальше. Разрозненные дрожащие кадры сливались в струи и потоки. Было странно оттого, что постепенно они затягивали его в свой мир. Георг начинал смотреть на все глазами своего деда со старой литографии. Казалось, что это он идет по старому зданию издательского дома, смотрит в окно на безлюдную улицу, вдоль которой спешат одинокие фигуры мужчин в шляпах и развевающихся плащах. Все они напоминали Хойкену Франца Кафку. Он любил это объемное кино и совершенно точно помнил волшебную смену кадров, иногда даже предвидя их последовательность. Георгу нравилась мучительная неторопливость и повторяемость подобных снов, они действовали как легкий чарующий дождь, состоящий из картинок, которые менялись, словно в калейдоскопе.
Иногда картинки собирались в стаю и куда-то улетали одна за одной. Это напоминало Хойкену течение Рейна. Картинки сливались в тонкие струйки, которые блестели синими и зелеными красками и при долгом рассматривании околдовывали Георга так, что он уже не мог оторвать от них своих глаз. Удивительно — во время этого созерцания ничто не пугало его, не казалось отталкивающим или уродливым. Наоборот, все это внушало ему мысль о гармонии, которой он не мог достичь. Со временем картинки становились ярче и солнечнее, и вещи были при этом такими, как есть — простыми и честными, каждая на своем месте, с которого они начинали короткое путешествие в этом пленительном потоке воспоминаний.
Хойкен больше не думал о каком-то конкретном времени и пространстве, и вот уже события этого дня остались далеко позади. Его тело успокоилось и почти не реагировало на внешние раздражители, он дышал очень ровно и медленно. Наконец исчезли и картинки, и цветные полосы, которые напоминали ему блестящие воды Рейна во время заплывов на каноэ в годы его юности… наконец густая тьма постепенно превратилась в лучистое сияние, яркость которого затем снова померкла, однако через какое-то время достигла приятной гармонии.
Глухой продолжительный сигнал возвестил о том, что сеанс окончен. Хойкен еще какое-то время продолжал парить, потом открыл люк и вышел из резервуара. Его движения теперь казались ему ужасно замедленными, словно он вообще не сможет вернуться к прежнему, привычному для него состоянию. Георг тщательно смыл под душем соль со своего тела, вымыл волосы, потом немного посидел на деревянной полке и вытерся полотенцем досуха.
Он оделся и перед тем, как выйти, еще раз огляделся. Вода из бледно-зеленого яйца уже давно вытекла, его пустое пластиковое нутро казалось ему сейчас простым и обычным, как будто это была брошенная игрушка. Хойкен быстро закрыл за собой дверь, миновал две тахты и журчащий фонтан, поднялся по ступенькам наверх, к стойке, где его уже ждала молодая женщина, и перебросился с ней парой слов.
Когда он покидал плавательный центр, дождь уже кончился. Георг сделал несколько шагов и остановился. Все пойдет сейчас слишком быстро, а он не хотел поступать необдуманно и приспосабливаться к такой скорости. По дороге к месту парковки Хойкен смотрел под ноги. Сев в машину, он тут же сменил CD и сделал громкость чуть больше. Стереозвук, который напоминал барабанные удары и звучание бьющихся друг о друга кружек, снова рассыпался как мелкий дождь. Георг включил зажигание и, не раздумывая, двинулся в путь. Через десять минут он был уже в отеле «Соборный».
10
Перед тем как войти в номер, который еще утром занимал его отец, Хойкен на мгновение остановился. Ему хотелось, чтобы в комнате было уже убрано и ничего не напоминало об утреннем беспорядке. Он осторожно открыл дверь и медленно вошел в тихое помещение. Георг облегченно вздохнул, увидев, что в комнате идеальный порядок, а на столе и стульях нет никаких вещей. Узкие гардины, за которыми в холодных, ослепительных лучах солнца виднелась южная стена собора, были задернуты. Широкая кровать аккуратно, без единой складки, накрыта покрывалом. Письменные принадлежности, в беспорядке лежащие на столе утром, теперь были тщательно сложены. Стопка книг, газеты, пара блокнотов и подставка — сооружение из трех частей, похожее на маленький алтарь, — только это напоминало о том, кто вчера был хозяином номера.
Хойкен заглянул в шкаф. Одежда отца была теперь размещена так, что места и для вещей Георга оказалось достаточно. Ванная комната тоже была тщательно убрана: выставка «4711» турецкого золота отражалась в протертом зеркале, а все полотенца заменили.
Та педантичность, с которой была сделана уборка, вызвала у Хойкена хорошее настроение. С одной стороны, все ненавязчиво напоминало об отце, с другой же стороны, для нового клиента было достаточно места. Соотношение казалось Хойкену идеальным, и он был готов прямо сейчас жить в номере. Он раздвинул шторы. Пейзаж за окном словно приблизился и стал частью комнаты. Близость собора ощущалась так ясно, словно стекла большого окна и дверей были увеличительными. Георг начал раздеваться перед дверью, ведущей на совсем крошечный, узкий балкон. Он с наслаждением, небрежно и не глядя, бросал одежду на стоящий позади диван. Обладатель хорошего зрения мог бы сейчас увидеть его с площади перед собором и расценить это как эксгибиционизм, но Хойкен просто позволил своему нагому телу немного свободы и воздуха после благотворного сеанса.
Он ухмыльнулся, а затем направился к мини-бару, достал маленькую бутылку шампанского и налил его в бокал, который поставил вместе с бутылкой на ночной столик возле кровати. Потом откинул покрывало, достал из пиджака записную книжку отца и с наслаждением улегся в постель. Георг сделал глоток, прохладная жидкость медленно растеклась по языку. Шампанское разочаровывало его почти всегда, и почти всегда он думал, что откупорил не ту марку. Однако что-то в этом было. Отец всегда заказывал «Roederer Cristal» и, сообразно своему извращенному пристрастию к «Champagner-Rose», иногда даже «Rose Veuve Cliquot». Возможно, он должен просто подражать отцу. В конце концов, ему уже пятьдесят и он уже мог хотя бы частично копировать вкусы отца, вместо того чтобы, как раньше, подчеркивать разницу между ними.
Хойкен принялся медленно перелистывать календарь и исследовать многочисленные заметки о встречах. Буквы ПФ появлялись действительно очень часто, наверное, неплохо было бы завтра снова встретиться с Петером Файлем и рассказать ему кое-что о ночных вылазках отца. Много раз встречались инициалы ЛЭ, Лина Эккель, с ней он тоже должен как можно скорее договориться о встрече. Нужно выяснить, что означает пометка Кип, которую Георг нашел сегодня утром на одном листке, а сейчас — в календаре под числом следующей пятницы и с вопросительным знаком.
Он допил свой бокал и налил себе второй. Такого дня, как этот, Георг не мог припомнить. Во всяком случае, сегодня он отбил все удары. Вечер только начинается, а он уже лежит здесь, более-менее спокойный и с легкостью на душе. В этой комнате он начинает понимать то, что случилось. Хойкен почувствовал прежнюю уверенность. Если бы он допил второй бокал, эта уверенность перешла бы в ощущение собственной силы, и тогда он мог бы попытать счастья и позвонить Вильгельму Ханггартнеру.
Он выключил свет и голый снова подошел к окну. Внизу, на площади, ходили группки из трех-четырех человек в тех торжественных, плохо сидящих вечерних нарядах, которые эти люди, наверное, считали праздничными. Георг терпеть не мог, когда пожилые женщины надевали туфли на высоких каблуках, повисали на мужчинах в шерстяных пальто и шли, как парочка пингвинов, через площадь в филармонию, чтобы в течение двух или даже трех часов мучительно слушать симфонии Берлиоза или других почтенных классиков. Он засмеялся и громко напел какой-то мотив, подражая кларнету. Шампанское начинало действовать, и вид спешащих через площадь по своим вечерним делам прохожих веселил Георга. Он вдруг вспомнил, что находится в центре старого римско-католического Кёльна, который в прошлом имел форму квадрата. Восточная стена города проходила прямо за собором, недалеко от Рейна.
Итак, в этом легендарном месте с подземными каналами и ходами находилось таинственное пристанище его отца. Должно быть, старик так же стоял вечером у окна в предвкушении ночи. Во всяком случае, Хойкена возбуждал этот вид и мысль о том, что он может смешаться с этой фланирующей праздной толпой. Он чувствовал свое возбуждение по усиленной пульсации крови, наполнявшей его член и придававшей ему ощутимую тяжесть.
Через несколько минут Георг отошел от окна, чтобы допить шампанское. Потом он отправился в душ, захватив с собой белый махровый халат. Снимая халат с крючка, Хойкен вспомнил, что отец уже пользовался им. Значит, халат они не поменяли. Иначе когда бы он успел так пропитаться запахом «4711»? Георг прижался лицом к махровой ткани и понюхал. Действительно, эта белая интимная одежда впитала любимый аромат старика. Хойкен надел халат, завязал пояс, достал телефон и календарь отца, а затем сел в просторное кресло за письменным столом. Отыскав телефон Ханггартнера, Георг набрал номер, подумав о том, чтобы включить лампу, но решил остаться в темноте. Пока в телефоне слышались гудки, он опять посмотрел в окно. Его внимание привлекли три бронзовые двери южного портала собора. В них было что-то необычное. Хойкен заметил, что на них не было нескольких мотивов раннего Бойса, или он что-то перепутал, и в начале пятнадцатого века Бойс только помогал своему учителю Матарею в его работе? Он вдруг вспомнил картину пылающего Кёльна. Это воспоминание вдруг так взволновало Хойкена, что он был вынужден оторвать взгляд от зеленоватых блестящих дверей. В этот момент в трубке послышался голос Ханггартнера — глухой и печальный, как Георг его себе и представлял.
— Добрый вечер, Вильгельм, это Георг, — Хойкен слушал себя, он говорил тихо, будто комментировал конные скачки с препятствиями по третьей программе. — Не хочу тебя беспокоить, я только сейчас из клиники.
Ханггартнер ответил не сразу. Хойкен пытался сообразить, почему он молчит. Возможно, он привыкает к его тихому голосу или как раз сейчас ужинает с женой.
— Я не вовремя, Вильгельм? — спросил Георг.
Наконец Ханггартнер ответил:
— Нет, ты нисколько не побеспокоил меня… никоим образом… ни в малейшей степени.
Хойкен облегченно вздохнул — поток слов, журчащий и рокочущий, струился по-прежнему. Однако, чтобы он не перешел в бесконечный разговор, Георг решил как можно чаще прерывать собеседника.
— Я стою сейчас прямо у входа в клинику, Вильгельм, поэтому говорю так тихо. Надеюсь, ты меня хорошо слышишь. В конце концов, не обязательно кому-то слышать то, что я хочу тебе сказать.
— Я отлично тебя понимаю, Георг, к счастью, я еще не глухой. Как себя чувствует твой отец? Как он? Сегодня утром старушка Цех напугала меня до смерти, когда позвонила и рассказала…
— Я знаю, Вильгельм, — сказал Хойкен, продолжая свою тактику. — Минна сразу сообщила мне о том, как ты был потрясен. Это я попросил ее проинформировать тебя в числе первых.
— В числе первых? Но почему?
— Я подумал, что в первую очередь мы должны были довериться тебе.
— Очень приятно слышать. Все, что ты говоришь, Георг, я ценю. Меня радует, что старики еще играют какую-то роль и…
— Это случилось сегодня рано утром, Вильгельм, думаю, Минна рассказала тебе все подробности.
— Да, она изложила все в общих чертах, хотя мне, конечно, хотелось бы отдельно и поподробнее услышать, как…
— Для меня, Вильгельм, это был самый кошмарный день в моей жизни. Сегодня я уже трижды побывал в клинике, но только вечером мне разрешили ненадолго увидеть отца. — Хойкен сделал паузу. Из-за алкоголя он говорил быстрее, чем обычно. Старик часто говорил, что следует всегда владеть собой, когда пьешь, а умение вовремя остановиться является важнейшей чертой хорошего издателя. Раньше Георг не обращал внимания на эти советы, считая, что отец нахватался этого во время своего пребывания в Америке, но сейчас считал слова старого Хойкена неопровержимой истиной, которую когда-нибудь следует запечатлеть чугунными буквами на здании, построенном в его честь.
— Связь в порядке, Вильгельм? — он опять включился в разговор, когда Ханггартнер, удивленный паузой, уже не ждал ответа.
— Да, Георг, я тебя хорошо слышу, связь просто отличная…
— Прекрасно, Вильгельм, я рад. О чем я говорил? Я не могу сейчас вдаваться в подробности, ты понимаешь, дело не в них вовсе, наоборот, в такие тяжелые часы и минуты следует уловить суть, говорить по существу.
— Да, Георг, конечно, я тоже вижу, что…
— Два понятия являются наиважнейшими, Вильгельм, я назову их: одно — непрерывность и другое — надежность. Непрерывность и надежность — вот о чем говорил со мной отец, потому что, ты понимаешь, ничто не мучает его сейчас так, как мысль о том, что все наше дело может остановиться. «Этого нельзя допустить, Георг, — твердил он мне все время, — этого нельзя допустить».
Хойкен опять немного помолчал, размышляя, насколько это подействовало. Небольшая пауза заставляет слушающего испытывать волнение, а говоривший при этом берет инициативу на себя и руководит разговором. Хойкен в его теперешнем состоянии мог говорить часами, не задумываясь над тем, что говорит. Ему только нужно быть осторожным и четко произносить слова, чтобы вместо «неизменность» не брякнуть «низменность». Один-единственный такой промах, и разговор утратит свою патетику. Георг еще помнил курьезный случай, который произошел с ним на презентации одной книги. Тогда, насладившись всего лишь одним бокалом шампанского, он в своей речи обмолвился и вместо «смелый эксперимент» сказал «смелый сексперимент», за что был тут же наказан злорадным хохотом насмешников.
Хойкен сделал глубокий выдох. Сейчас, когда почва подготовлена, он должен заложить первый кирпич.
— Я несколько раз разговаривал сегодня с Лоебом, Вильгельм. Он сказал, что сейчас отца следует ото всего, абсолютно ото всего отстранить. Никаких разговоров, никаких контактов, никаких сообщений. Идеально, сказал профессор, было бы сейчас поместить больного в своеобразный вакуум, понимаешь, абсолютный вакуум. Лучше всего было бы создать что-то вроде искусственной комы, глубокого сна, полной отрешенности, чтобы тело получило шанс урегулировать свои проблемы и снова нормально функционировать.
Ханггартнер сделал такой же глубокий выдох. «Этот вакуум, — подумал Хойкен, — заставит его потрудиться. Он наверняка никогда не слышал, что тело следует помещать в вакуум, этого не было в его лексиконе. Теперь он немедленно захочет включить это слово в свой словарный запас и использовать при всяком удобном случае».
— Пока все идет нормально, — Хойкен помедлил и снова понизил голос, чтобы продвигаться к успеху в одной звуковой тональности. — А пока отец болен, возможно, ты можешь оказать нам большую услугу.
— Я? Я смог бы оказать вам услугу? — голос Ханггартнера зазвучал мягче. Стало ясно, что он чувствовал себя польщенным, потому что у него создавалось впечатление, что от него может многое зависеть. Человеку в его возрасте больше всего льстит, когда его о чем-нибудь просят.
— Да, Вильгельм, ты мог бы помочь отцу побыстрее выздороветь. Он просил, чтобы ты приехал послезавтра, как договаривались, и передал мне новую рукопись. Отец уполномочил меня принять ее.
— Он тебя уполномочил? Письменно?
— Письменно — нет, но он благословил меня, ты понимаешь, о чем я говорю. «Вильгельм не сможет нанести нам такой удар, — сказал он. — Иди с ним в его любимый итальянский ресторан, ешь, пей и празднуй передачу его грандиозного романа, и в конце выпейте за здоровье старого Хойкена».
«Сейчас все выплывет наружу», — подумал Хойкен и на миг закрыл глаза, как в дни своего детства, когда он обращался с короткой молитвой к Богу: «Господи, помоги, сделай так, чтобы никто не узнал о моем вранье». Католики для каждой ситуации знают молитву, а в особенно тяжелых случаях спешат на Купфергассе к Плачущей Мадонне и ставят перед ней свечу, от входа сразу налево. Как ни странно, после этого проблема часто улаживается как бы сама собой или просто появляется чувство, что она вдруг стала совершенно неважной. Почему Ханггартнер так долго не высказывает своего согласия? Как быть, если он скажет «нет»? Хойкену не приходила на ум никакая другая приманка, а молоденьких продавщиц книг у него под рукой не было.
— Вильгельм, мне очень жаль, что я ставлю тебя в такое положение, знаю, что утром ты принял другое решение. Я хочу, чтобы ты знал, что я сказал сегодня нашей старушке Цех: «Уважение и еще раз уважение. Я буду уважать любое решение, какое примет Вильгельм. От нас сейчас больше ничего не зависит, наоборот, мы будем ждать до тех пор, пока Вильгельм решит, когда можно будет продолжить работу». Но сейчас вечер, Вильгельм, и я стою здесь, одинокий и в таком жалком состоянии, в каком не был еще никогда в жизни. У меня в ушах все еще звучит слабый голос отца, и я вижу перед собой твоего старого друга, который не в состоянии даже оторвать руку от постели на пару сантиметров.
«Дальше уже некуда, — подумал Хойкен, — более трогательно я просить не смогу».
— Если бы я мог, — наконец раздался в трубке голос Ханггартнера, — если бы я только мог решиться приехать… могу ли я его увидеть? Возможно ли это?
— Отец как раз об этом и просил, чтобы ты зашел к нему, — ответил Хойкен, стараясь подавить ликование. «Пойдите, пообедайте, — сказал он мне, — а потом забегите ко мне на минутку, чтобы я мог пожать руку моему старому другу».
«Этого не будет, дружище, — подумал Хойкен, — но ты приедешь, чтобы лично собрать материал о друге, который попал в больницу. Он будет тебе нужен для нового романа в двести страниц».
— Георг?
— Да, Вильгельм?
— Я думаю, что должен сделать это для твоего отца, я приеду послезавтра.
— Я не настаиваю, Вильгельм, я не стал бы делать этого ни в коем случае.
— Я думаю, что буду считать себя виноватым, если не приеду, — голос Ханггартнера звучал теперь громче. Было ясно, что он решился. Его мозг уже работал в этом направлении: как бы сгустить краски и разукрасить ими трогательную историю. Старик, который спешит в больницу, к постели своего престарелого друга. Известный писатель, который в трудный для его издательства момент положит ему на стол свою рукопись. На стол, за которым уже сидели Ибсен, Стриндберг и умудренный жизнью Герхард Хауптман. Пятьдесят лет жизни писателя и труженика венчает нелепый роман в письмах, посланных по электронной почте, который, однако, критики отметят как сладкое, выдержанное, крепкое вино любви из урожая прожитых лет.
— Твой отец и я, мой милый Георг, — сказал Ханггартнер торжественно, — мы начинали вдвоем, и все эти годы все делали вместе. Были взлеты и падения, но мы всегда переживали их вместе. Сейчас, в конце пути, мы пьем одно и то же вино, одно и то же шампанское, любим одни и те же блюда. Женщины? О женщинах мы не будем говорить. Разве я могу не приехать в Кёльн, чтобы помочь ему? Разве я могу спокойно оставаться здесь, в своей деревне, когда речь идет о жизни и смерти моего друга?
«Сегодня утром, — думал Хойкен, — он, скорее всего, говорил совершенно противоположные вещи, но точно так же громко и взволнованно. Яркий представитель своего поколения, он обожает крайности». И если Ханггартнера сейчас не остановить, он так и будет тараторить без умолку. Еще десять минут такого разговора, и головная боль Георгу обеспечена на весь вечер. Однако Хойкен понимал, что ему есть чему радоваться. Благодаря этому звонку в событиях сегодняшнего дня произошел счастливый поворот, который многое исправил.
Георг несколько раз легонько стукнул телефонной трубкой по столу, потом медленно провел ею по махровой ткани халата и придал своему голосу оттенок того беспокойства, которое он сегодня утром испытал на собственной шкуре:
— Вильгельм, Вильгельм, я тебя плохо слышу! Что-то стряслось с батарейками, и эта дурацкая штука испускает дух…
Хойкен замолчал, Ханггартнер, казалось, тоже прислушивался. Георг покатал трубку по столу, словно раскатывал тесто.
— Здесь какие-то помехи, Вильгельм, поэтому я буду прощаться. Жду тебя послезавтра. Это будет великий день, Вильгельм. Вильгельм?!. Аккумулятор совсем сел. Я прощаюсь, наша старушка Цех завтра позвонит тебе еще раз. Скажи ей, когда прибывает твой поезд, я обязательно встречу тебя на вокзале.
Он услышал, как где-то далеко Ханггартнер сказал: «Прощай, Георг, прощай». Это напомнило Георгу колыбельную песню, которая звучала все тише и тише и наконец совсем смолкла. Он остался сидеть, но через секунду вскочил и несколько раз ударил кулаком по столу, чтобы освободиться от сковавшего его напряжения. Ему удалось это, и даже легче, чем он сам себе представлял! Чтобы отметить успех, Хойкен снова открыл мини-бар. К счастью, там стоял целый ящик таких же бутылок шампанского. Обслуга продолжала исправно доставлять их, как будто отец все еще распоряжался здесь.
Хойкен налил себе бокал и, чтобы насладиться сегодняшним успехом, сделал еще несколько телефонных звонков. Ничто не могло испортить сегодняшний вечер, он знал это. Он чувствовал себя сильным. Георг поговорил пару минут с Петером Файлем и договорился с ним о встрече. Он послал Минне Цех сообщение об изменениях в настроении и планах Ханггартнера и в заключение побеседовал с Линой Эккель, которая держала его в курсе профессиональных новостей.
— С Ханггартнером? Ты сейчас разговаривал с Ханггартнером?
— Десять минут назад. Он приезжает послезавтра сюда, чтобы передать свою новую рукопись.
— Поздравляю, дорогой! Знаешь, что он еще вознамерился сделать?
— Нет. Говори же, что он задумал.
— Он планирует устроить выставку дневников своих прошлых лет.
— Ты серьезно?
— Абсолютно, потому что ничего не обходится без своей противоположности.
— Что? Что за чепуху ты говоришь?
— «Ничего не обходится без своей противоположности» — так будет называться выставка.
— Лина, прошу тебя. Это, должно быть, шутка?
— Нет, нисколько. Просто яркий немецкий язык Ханггартнера.
Когда Хойкен немного успокоился, он почувствовал себя таким опустошенным, что его даже не смешило воспоминание о разговоре с Линой. Чтобы отвлечься, он включил телевизор и лег на кровать. Петра Герстер как раз рассказывала о сегодняшних новостях. Она смотрела на него своими большими глазами так наивно, что хотелось немедленно простить ее за катастрофическое потребление гашиша, о котором она сообщила. Делала она это фантастически. Георг подумал, что все женщины, комментирующие новости, в которых суперважным считался собранный за день мусор, постоянно этот мусор перетряхивают и все же умудряются сохранять свою свежесть.
Наверное, он выдержал бы такое только при условии, что после каждой телепередачи мог предаваться какому-нибудь извращенному удовольствию — пить семидесятитрехпроцентный «Lemon Hart» с Ямайки или «Japanese Whisky», «Suntory Yamazaki, 12 years». Однако уровня Петры Герстер он не достиг бы никогда. Никто не может сравниться с ней. Она не просто вела передачу «Мона Лиза», она сама была Моной Лизой, непостижимой, словно Мадонна.
Когда на экране появился какой-то синоптик и разразился сообщениями о температуре в Альбштадте и Баден-Вюрттемберге, Хойкен выключил телевизор. Он встал и, держа в руке бокал шампанского, снова подошел к окну. Движение на площади перед собором усилилось. Скоро должны были начаться вечерние мероприятия. В большинстве кабачков все места были уже заняты. Хорошо было бы сейчас с кем-нибудь договориться о встрече. С Моной Лизой или с женщиной, которая носит длинные черные брюки и белую мужскую рубашку. Он бы подождал ее в «Sir Ustinov’s Bar», а позже они прогулялись бы вдоль серо-голубого мерцающего фасада собора — незаметная пара, которая точно знает, как хранить тайны.
II Остановка
1
Хойкен проснулся, как просыпался почти каждое утро, около половины шестого, он всегда просыпался раньше, чем зазвонит его маленький дорожный будильник. Четверть часа он лежал и мысленно обдумывал план предстоящего дня. Потом он вставал, медленно шел в ванную, натягивал свой халат и по узкой витой лестнице спускался на первый этаж.
Около шести он был уже на кухне. Хойкен всегда просыпался первым. Он любил утреннюю тишину кухни с ее запахами семьи и еды, с которыми привык начинать день. Георг засыпал кофе в маленький фильтр кофемолки, поставил молоко на плиту, наполнил чайник почти до краев и принес пачку газет, которыми каждое утро был забит почтовый ящик. Он положил газеты на стол, подождал, пока в чашку не потекла узкая коричневая струя, потом снял с плиты молоко, взбил его и уложил пенку тонкими снежно-белыми полосками на кофе. Горячую воду он налил в стеклянный заварочный чайник в форме полушара и опустил туда два пакетика чая. Хойкен поднимал, опускал и шевелил их, словно это были две маленькие марионетки, за которыми вились золотисто-коричневые вуали, пока весь сосуд не окрасился в янтарный цвет. Потом он вынул их и бросил в мойку, куда они шлепнулись, превратившись в два маленьких мокрых пакета.
Георг пил капуччино и листал газеты. Он давал себе полчаса для того, чтобы просмотреть всю пачку, выбирая страницы со статьями, которые показались ему интересными, и собираясь их прочитать. К счастью, читал Хойкен быстро. Этому он научился давно, еще во время своего обучения в Америке, где ему привили необходимые навыки, которые облегчали жизнь и вносили в нее некоторый прагматизм. Чаще всего он начинал просмотр со «Скользящего света» в «Южногерманской Газете» и читал там «Обо всем понемногу» — короткую полосу слева внизу на первой странице раздела «Мир». Хойкен иногда пытался представить, кто стоит за этой полосой. Каждый день он тратит несколько часов, для того чтобы написать короткую полосу, а потом с опущенной головой три четверти часа прохаживается в редком лесочке в позе мыслителя — это Георг мог хорошо себе представить. Этот кто-то, неустанно упражняясь, изо дня в день создает небольшие, на двадцать пять строк, статьи с претензией на юмор, и после такого интенсивного короткого рывка ему требуется какое-то время, чтобы преодолеть пустоту в мыслях. По необъяснимым причинам Хойкен находил такую тихую жизнь и работу, основанную на одной-единственной ежедневной полосе, интересной. Возможно, он даже втайне мечтал о такой жизни, когда он имел бы четко очерченные обязанности, выполняя которые оставался бы в гуще событий, имел достаточно времени для личного досуга, а кроме того, был бы свободен, абсолютно свободен, и никому бы не должен был давать отчет.
«Скользящий свет», «Обо всем понемногу», иногда новости культуры на первой странице с фельетонами в «FAZ» — их он просматривал в первую очередь. Эти газетные полосы имели свой тон, были близки к событиям дня, но в то же время освещали подробности не очень глубоко, а, наоборот, отфутболивали их ироничным коротким резюме подальше. В них была та легкость и независимость, которую Хойкен всегда искал. Он не любил глобальные темы, раздутые многословными комментариями для того, чтобы они не потеряли актуальности хотя бы пару дней, поэтому пропускал их и сразу приступал к новостям спорта, которые, к сожалению, с каждым годом становились все менее интересными. Ему больше не нравились однообразные статьи о молодых футболистах, в которых пелись дифирамбы и помещались фотографии дорогих автомобилей, а также их владельцев с торчащими от геля волосами. К сожалению, старые спортсмены были ничуть не лучше. Георг до сих пор не мог понять, кому пришло в голову назначить тренерами национальных команд Эриха Риббека[10] или Берти Фогтса[11]. «Так все испортить, — подумал он. — И еще в придачу эти трясущиеся старики-активисты, астматики и ревматики развалились на лучших местах на трибунах. Журналисты всегда заостряют внимание на их светлом образе, который являлся им в снах как благородная баварская смесь доброго дядюшки и Деда Мороза». С легким отвращением Хойкен пробежал глазами таблицы с результатами итальянской, английской и испанской Лиги. Чем старше он становился, тем последовательнее мог связывать эти факты (Бильбао — Барселона 1:2). Названия зарубежных спортивных обществ с годами приобретали некоторую ауру и впитывались с воспоминаниями о переносных осветительных установках прошлого (начало в двадцать часов, конец около двадцати двух часов) безо всех этих, ставших сегодня обычными, идиотских интервью до и после.
Читая под конец обзор новостей «Со всего света», Георг допил капуччино и перешел к чаю. К сожалению, этот материал оказался почти таким же скучным, как и информация о спорте. К тому же выпитый чай пошел Хойкену на пользу, в отличие от возбуждающего капуччино, который активизировал его сонный мозг парой сильных кофеиновых толчков. Чай же вливался в Георга нейтральным потоком, приправляемый рекой известий. Примерно через час он весь выделился. Хойкен каждый раз почти с сожалением смотрел на нескончаемую струю мочи, которая подводила итог его одинокого утреннего чаепития.
То, что утром нужно пить много жидкости, он усвоил с детства от воспитательницы-японки, которая целый день пила воду и чай и всегда брала с собой в дорогу не меньше двух бутылок жидкости. С тех пор как у него самого появились дети, они с Кларой принимали на работу воспитательниц и домработниц из разных стран. Их происхождение почти всегда можно было определить по одним и тем же привычкам. Например, молодые итальянки охотно оставались дома и с удовольствием готовили, но только проверенные блюда, то есть макаронные изделия. Француженки, наоборот, готовить не любили, но были очень амбициозны, легкомысленны и требовали высокую оплату. Одна из них, молодая женщина по имени Доминик (Хойкен рассмеялся, когда вспомнил), однажды целую минуту подробно и зло объясняла, что зеленый салат нужно не только Вымыть, но и обязательно встряхнуть и высушить. У него перед глазами до сих пор стояли яркие картины — жесты и мимика этих женщин, в которых проявлялся их национальный колорит. Хойкену все это очень нравилось, и они с женой часто развлекались, вспоминая курьезное своеобразие их поведения.
Он как раз ударился в воспоминания, но вдруг услышал тихое шушуканье в коридоре — это домработница-англичанка, ее звали то ли Бетси, то ли Бески (он все время путал эти имена, а иногда и вовсе забывал), провожала своего любовника до двери. Каждые две недели она умудрялась подцепить нового. Чаще всего это были высокие худые парни, которых Хойкен видел из окна кухни. Они плелись по улице, измученные занятиями сексом всю ночь напролет и от этого словно помятые. Казалось, жизнь Бетси (или Вески) состояла только из секса и бесконечной музыки. Георг подозревал, что она предпочитала секс музыке, хотя ничего не мог сказать наверняка. Она всегда была приветлива, но, работая у них, вела себя сдержанно. Вероятно, она сосредоточилась только на деньгах, стараясь побыстрее выполнить свои немногочисленные обязанности, чтобы беспрепятственно продолжать длительные неустанные рейды по клубам и дискотекам. Каждое утро примерно в шесть тридцать пять она приходила на кухню, чтобы приготовить завтрак для Марии и Йоханнеса. Однажды Георг встретил домработницу, когда она вошла на кухню в распахнутом утреннем халате. Она даже не удивилась, когда увидела хозяина, а вместо этого сразу взялась за работу. Хойкен отложил в сторону свои газеты, удивляясь, что она почти не реагирует на его присутствие. Она даже не завязала пояс своего халата. Ее маленькие сочные груди время от времени выскальзывали из глубокого выреза ночной рубашки, как будто она хотела доставить ему удовольствие такой неожиданностью. Уже выходя из кухни, Георг заметил под ее русыми волосами наушники и понял, что она вся сконцентрировалась на музыке. Вероятно, домработница не обратила внимания на то, что он видел ее грудь, Хойкен просто не знал, что и думать. Она всегда была спокойна и настолько погружена в себя, что, казалось, у нее не было никаких чувств.
Но с детьми Бетси, наоборот, нашла общий язык. Иногда она рассказывала им о своем родном Бирмингеме, где якобы работала на одной местной радиостанции, знала каждый клуб и часто ездила с парнями из какой-то группы по всей стране. Он мог хорошо себе представить, как она руководит ими, готовит еду, договаривается о встречах и следит, чтобы юноши не употребляли наркотики. Она будет держать себя в руках, но вместе с тем разжигать в парнях ревность, потому что никому из них не позволит к себе приближаться, а будет каждый вечер появляться на людях с новым любовником.
Хойкен не мог сказать, отражались ли ее рассказы на детях. Несмотря на их возраст, у обоих не было ни постоянного друга, ни постоянной подруги. Удивительно, но они все еще были дружны, хотя между ними уже давно должны были вспыхивать свойственные переходному возрасту ссоры. У Георга была теория, что дети не могут интересоваться сексом из-за высоких нагрузок. Школа сегодня совсем не безобидна, наоборот, напряженное состояние в течение дня неизбежно приводит к стрессу. Спорт, театр, шахматы, музыка наполняют их жизнь, не оставляя ни одной свободной минуты. Они не могут даже нормально поскучать. Хойкен подумал о том, как сильно он скучал в их возрасте. В свои пятнадцать-шестнадцать лет он испытывал тяжелое чувство тоски и одиночества. Одиночество… Так называли депрессию, вызванную пубертатным возрастом. У Георга это началось, когда он перешел Уферштрассе и ступил на узкую тропинку, ведущую к Рейну.
Здесь однажды он вдруг подумал о том, что может уйти далеко от дома и встретить там что-то незнакомое. Связанный с этим страх вызвал чувство одиночества, особенно ранним вечером, и он с удовольствием прошел один несколько сот метров к Роденкирхену. Там, на берегу, заросшем густым кустарником, он увидел первый в своей жизни секс. Вид неистовой парочки влюбленных, которые даже не прореагировали, когда его заметили, запечатлелся у него в памяти. Он не мог забыть глупую, странно застывшую ухмылку мужчины и необычно широко открытый, хватающий воздух, как кузнечные мехи, рот женщины.
Эта возбуждающая картина наполнила содержанием такое емкое слово «одиночество». Одиночество означало холодное, бесчувственное прозябание без секса. Итак, он отправился в путь, чтобы в конце концов не быть одному. Дикие берега Рейна южнее Роденкирхена стали местом, где проходил период его полового созревания. Хойкен не пользовался успехом у девушек своего круга. Он находил себе подруг в кемпингах, которые располагались вдоль реки. Сюда приезжало много молодежи из Голландии или Скандинавии, чтобы на какое-то время стать участниками немецкого экономического чуда. Эти молодые люди были более раскованны. Он заметил это по их отношениям с родителями, которые могли уехать покататься на машине, оставляя дочь одну в лагерном вагончике.
Даже сейчас Хойкен ощущал тот почти невыносимый зуд, который вызывало в нем это белокурое создание. Он видел в реке ее гладкое, подвижное стройное тело, слышал ее веселый, волнующий смех и с возрастающим трепетом думал о том, как после мучительных петляний по кемпингу они все-таки найдут путь к вагончику, где наконец прекратят дурачиться и сразу приступят к делу, как будто ни о чем другом и не помышляли. До самого окончания школы он таким образом успешно боролся и с одиночеством, и со скукой. Кемпинги весь год были заполнены, а в выходные дни даже переполнены отдыхающими, так что он только иногда вынужден был брать тайм-аут, чтобы отдохнуть от вылазок в эти злачные для него места.
Хойкен допил свою третью чашку чая, сунул газеты под мышку и посмотрел на часы. Через несколько минут должна была появиться Бетси (или Бески), значит, ему пора уходить. Медленно, стараясь не шуметь, он поднялся по витой лестнице в спальню. Клара еще спала на большой, широкой кровати, где хватило бы места для нескольких человек. Каждое утро Георг наблюдал, как она спит, раскинувшись на своей половине и погрузившись в глубокий сон. Густые волосы закрывали все еще почти юное лицо, только прижатые к телу руки, покрытые тонкой сеткой морщин, выдавали ее истинный возраст. Удивительно, они так давно знали друг друга и все же сумели остаться жить вместе. Они ходили в одну гимназию, но тогда еще не были близко знакомы. Каждый день они проходили мимо друг друга, но самое большее — перебрасывались парой слов. Дружелюбная, рассудительная Клара была очень благовоспитанной, как и все люди ее круга. В то время ее родители работали учителями и давно решили, что их единственный ребенок продолжит семейную традицию. Клара была практичной и спокойной и при необходимости могла организовать для детей что-нибудь интересное.
После окончания школы они не виделись и даже не вспоминали друг о друге, пока совершенно случайно не встретились три года спустя в американском колледже западных посредников. Хойкен не сразу узнал ее. Клара стала женственной и казалась совсем взрослой. Они подружились и несколько раз «путешествовали» вдоль Миссури на взятом напрокат автомобиле. В то время они часто и много ездили, ходили в кино, и это бесцельное времяпрепровождение доставляло им удовольствие. Все дальнейшее произошло как-то легко, без особых ухаживаний, радостно, вдали от любопытных глаз и глупых комментариев, которые приходится выслушивать дома, когда встретишь свою первую настоящую, большую любовь.
Уже тогда он понял, что хотел бы видеть своей женой только Клару. Они никогда не говорили об этом, но она тоже — во всяком случае, Хойкен и сегодня в это верил, — планируя свое замужество, думала только о нем. И хотя позже у Клары, кажется, были другие увлечения, он ничего не знал об этом точно. Во всяком случае, после их совместного пребывания в Америке Георг уже ни в кого не влюблялся. Любовь ассоциировалась у него со взятым напрокат автомобилем и пышными, свежими пейзажами на берегах Миссури. Это представление оказалось таким прочным, что Хойкен сразу отказался от дальнейших завоеваний женских сердец. Он и Клара заканчивали свое обучение в разных городах и могли быть вместе только на каникулах. Клара изучала английский и испанский и упорно стремилась к профессии учителя. Она стала читать лекции в Аахене, и Георг навещал ее. Она жила в небольшой комнате в мансарде в старом городе. Когда он целовал Клару на улице, ему очень хотелось почувствовать терпкий весенний ветер на Миссури, так глубоко запали ему в душу те дни их любовных встреч.
Когда Клара нашла себе работу учителя в Кёльне, они сразу поженились. Старому Хойкену невеста очень понравилась, и он одобрил их брак. Потом появились дети, Клара оставила прежнюю работу и стала работать переводчиком. Сейчас она известный специалист, деловая женщина, у нее собственный офис. Время от времени она ездит в Париж и другие города, чтобы встретиться с авторами и договориться с ними о переводах.
«Тридцать лет, — думал Хойкен. — Тридцать лет супружеской жизни. Обойдя все рифы, мы очутились в этом доме, в котором еще вчера ночью долго обсуждали прошедший день». У Клары был объективный и довольно ироничный взгляд на вещи. Она с удовольствием слушала все, о чем рассказывал Георг, и потом говорила что-то такое, от чего ему сразу становилось легче. Она советовала ему чаще навещать Лизель Бургер и интересоваться ее мнением, она предупреждала его относительно Кристофа, который, кстати, ее терпеть не мог. «Если брат узнает об условиях передачи наследства, у тебя не будет и минуты покоя», — сказала ему жена, и Хойкен, как всегда, когда она говорила подобное, старался защитить Кристофа и больше не касаться этой темы. В глубине души он знал, что Клара права. Его брат был способен сделать такое, на что Георг никогда бы не пошел, но дело было даже не в этом. Просто у Кристофа в концерне было несколько друзей, о которых нельзя было забывать.
Хойкен положил газеты на ночной столик и пошел в ванную. Включая душ, он слышал, что Клара уже проснулась. Его жена считала утро тяжелым временем суток, она любила поспать и, если бы он не будил ее почти каждый день своим утренним туалетом, еще долго лежала бы в постели. Хойкен не спеша намылился и подумал, что нужно собрать небольшой чемодан, вечером он его почти собрал, не хватало только пижамы. Он уже обсудил это с Кларой, и она поддержала его идею провести как-нибудь в отеле всю ночь.
Хойкен выключил воду и услышал, как жена листает газеты. Теперь Клара сидела в постели в черных очках, которые купила в Брюсселе несколько недель назад. «Странно, — подумал Хойкен, — как очки могут выражать определенную волю к жизни». Он не спеша вытирался тяжелым банным полотенцем, от которого шел слабый запах лаванды. Уже потом Георг заметил, что это полотенце Клары. Он был очень невнимателен к таким вещам, что является непростительным для человека, который имеет опыт работы с книгами и фотографиями.
— Доброе утро, — крикнул он подчеркнуто приветливо через дверь, чтобы предотвратить возможную перепалку из-за использования полотенца. — Я по ошибке воспользовался твоим полотенцем.
— Н-да, — услышал он в ответ и сразу понял, что перепалки не будет, потому что этим «н-да» Клара снимала с него всю вину. «Н-да» было ее лаконичным и, к счастью, все еще шутливым ответом, который Георг слышал все тридцать лет их совместной жизни. Он прошел через спальню, чтобы одеться.
— Газеты уже так перемешаны, что я ничего не найду, — сказала Клара тихо.
— Бильбао — Барселона 1:2, больше ничего не нужно знать, — ответил Хойкен.
— Бески проснулась?
— Думаю, да. В конце концов, она еще ни разу не проспала.
— Она действительно проснулась или ты просто не хочешь пойти посмотреть?
Хойкен сглотнул. Он был уже одет. Когда они отдыхали на Миссури, Клара поражалась, как быстро он одевался. Ничего, почти ничего не изменилось. Ему по-прежнему достаточно было двух минут, чтобы одеться, только теперь каждая вещь стоила в десять раз дороже, чем вся одежда, которую он носил в юности. Рубашку с мягким воротником, которая сейчас была на нем, он не любил, потому что нужно было еще застегивать воротник и одевать галстук. Хойкен достал галстук из шкафа и, завязывая его, вышел в коридор. Внизу, на кухне, он услышал голоса детей, которые снова спорили из-за какой-то чепухи.
— Доброе утро, — крикнул он второй раз за сегодня, но теперь уже громче. Из-за открытой кухонной двери выглянула Мария. У нее были крупные черты лица. В отличие от своей матери, она спала немного и с ранних лет была самой флегматичной в их семье.
— Бетси уже там? — громко спросил Хойкен и заметил, что дочь сделала круглые глаза, это означало, что вместо «Бетси» он должен говорить «Бески».
— Нет, — сказала Мария и попыталась сдержать его громкость, — Бески больше здесь нет, господин Хойкен, Бески уже ушла, но мы завтракаем, и все в лучшем виде.
— Удачного дня вам обоим, — еще раз крикнул Хойкен и вернулся в спальню. Он никогда бы не подумал, что у него будет такая дочь. Своей решительностью и целеустремленностью она превосходила в этом доме любого. Когда Мария, подвязав свои длинные волосы, садилась на мопед, Георг даже гордился ею. Она была врожденным лидером. Начальником неважно чего. Просто идеальным руководителем, знающим, как решить любую проблему, и умеющим держать свои эмоции под контролем, так что они никогда не смогли бы ей навредить.
Правой рукой Хойкен проверил, как сидит галстук, одновременно обдумывая, что нужно положить в маленький чемоданчик. Две рубашки, пиджак и две пары брюк подходящего цвета и фактуры. Нижнее белье, носки, пара туфель. Это была одежда для отдыха, словно он собирался на выходные за город, чтобы расслабиться.
Застегивая чемодан, Георг почувствовал взгляд супруги, которая, кажется, все это время наблюдала за ним. Хойкен резко повернулся к ней. К черным очкам он еще не привык, они придавали Кларе академический вид, как будто она хотела вернуться к своей прежней профессии и принимала экзамен.
— Это выглядит так, будто ты собираешься далеко и надолго, — сказала жена, улыбаясь.
— А что, — ответил Хойкен, — это выглядит так, словно я собираюсь в Зауэрланд, чтобы развеяться в одном из отелей.
— Ну, тогда счастливо отдохнуть. — Клара снова принялась читать газеты.
Через полчаса они, как всегда, будут завтракать вместе на лоджии. Хойкен взял чемоданчик и понес его вниз. Детей уже не было, и кухня снова была такой опустевшей, как во время его утреннего чая. Он открыл холодильник и принялся накрывать поднос для завтрака. Было почти восемь часов, когда он внес поднос на лоджию. Георг хотел поставить диск с музыкой, но внезапно ощутил напряжение в области желудка. Он знал, что в этом нет ничего страшного. Больше всего Хойкена беспокоило то, что волнение повышало его аппетит. Так было всегда, еще со школьных лет, когда Георг боялся классных заданий и поэтому приходил в школу бледный. «Но ведь классные задания никогда не прекращались, — подумал Хойкен, — плохо, если не умеешь держать себя в руках». Пока не пришла Клара, нужно сделать себе успокоительного ромашкового чаю. Такой чай всегда помогал ему. Чай из ромашки нужен тому, кто сейчас отправится в путь, чтобы быть у больничной койки своего отца.
2
Около девяти часов утра Хойкен был у Лоеба. Сегодня профессор разговаривал совсем другим тоном. Они сидели в тесной комнате для отдыха и разглядывали друг друга, словно пытались понять, что нужно одному от другого. Хойкен заметил, что Лоеб сейчас немного спокойнее, чем вчера. Он уже не сыпал профессиональными терминами, по-видимому, это означало, что он все хорошо обдумал. Раньше, когда они только познакомились, отец предложил профессору проект создания новой книги. «Сердце» — так называлась книга, она вышла тиражом в семьдесят тысяч экземпляров и сразу стала бестселлером. Но еще более успешной оказалась вторая. У нее было гениальное название «Из искусства врача. Хорошо слушай, чтобы уметь». Это была популярная книга для тех, кто мог оценить поучительный и претенциозный труд, написанный ворчливым и заносчивым «белым халатом». Хойкен тогда занимался этой работой, поэтому прекрасно помнил главу об использовании профессиональной лексики. Там в своей умной и ироничной манере Лоеб пытался доказать, что человеческий мозг не воспринимает непонятные для него термины. Он утверждал, что заумные названия диагностических процедур звучат как фантастические неологизмы, а каждое необычное слово или название несет в себе некую опасность. Такими высказываниями Лоеб настроил против себя коллег и вызвал тем самым такие оживленные дискуссии, что у издательства не было никакой необходимости рекламировать этот бестселлер.
Наверное, профессор уже не помнил, что утверждал тогда, иначе не стал бы вчера устраивать это представление с использованием страшных медицинских терминов. А может, он просто капризный и своенравный человек и поэтому каждый день говорит своим пациентам и их родственникам абсолютно противоположные вещи. Их разговор все больше действовал Хойкену на нервы. В конце концов, он сидел здесь не для того, чтобы вникать в сложности характера Лоеба. Георг только хотел увидеть отца и то, в каком состоянии он находится. Его разбирало острое любопытство, как профессор заставляет замолчать пациента со всеми его катетерами с баллонами и укладывает его в реанимационное отделение, пользуясь пинцетом, чтобы не дать повода для дальнейших пересудов.
Чтобы остановить этот поток слов, Хойкен отвечал коротко и неохотно. Профессор спросил, почему отец ночевал в отеле, с кем и где он ел накануне вечером, как много пил и курил ли в последнее время. Хойкену была знакома презрительная ухмылка, которая появлялась на лице Лоеба при перечислении человеческих слабостей его пациентов. При этом сам профессор не мог являться примером для подражания, так как состояние его здоровья нельзя было назвать образцовым. С тех пор как стали выходить его книги, Лоеб с каждым годом становился все толще, так что его широкий халат с разрезами был не менее знаменит, чем он сам. И даже нелепые большие очки с огромными стеклами не могли отвлечь внимание от его толщины.
Когда все средства остановить лавину красноречия Лоеба были исчерпаны, а он продолжал говорить, Хойкен посмотрел на часы. Он задержал взгляд на циферблате, словно ему нужно было точно знать время. Этот простой прием возымел свое действие, и профессор тоже посмотрел на часы. Какое-то время они так и сидели, словно что-то обдумывая. Внезапно Лоеб встал, как будто понял, что досаждает Хойкену своими вопросами о пороках и пристрастиях отца, задерживая своего собеседника. У Хойкена мелькнула мысль о том, что его третья книга будет называться «Как заставить врачей слушать». С таким названием она наверняка займет первое место в списке бестселлеров. Георг на минуту задумался, не выдвинуть ли ему эту идею прямо сейчас, но вместо этого молча отправился вслед за профессором, который с неожиданной легкостью буквально понесся по коридору.
Когда они вошли в реанимационное отделение, Хойкену показалось, что он попал в церковь. Как в маленькой часовне, здесь господствовало большое пространство похожего на средний неф, широкого и почти пустого коридора, к которому, как два узких боковых нефа, примыкали с двух сторон застекленные палаты с пациентами. Хойкен заметил все это мельком, только общее впечатление простора запечатлелось в его сознании. Его поразила внезапная гнетущая тишина, которая нарушалась только попискиванием мигающих кардиомониторов. Георг был так взволнован, что не стал дальше осматривать помещение, в которое попал. Еще несколько шагов, и Лоеб остановился перед стеклянной перегородкой, молча глядя вовнутрь, словно там дремал опасный зверь, который мог выпрыгнуть в любую минуту.
Отец лежал на спине, однако ничего нельзя было увидеть, кроме головы с плотно закрытыми и странно запавшими глазами. Покрывало доходило ему почти до подбородка и укрывало всю кровать, как тонкий слой снега, яркая белизна которого разрезалась лишь несколькими тонкими прозрачными трубками и электрическими проводами. Из-под простыни, словно лапа какого-то животного, одиноко выглядывала нога.
Взгляд Хойкена сразу остановился на этой ноге. Георг изумленно смотрел на нее и не мог оторваться. Торчащие пальцы, сильно ороговевшие края которых покрылись трещинами, толстые, набухшие вены, лежащие на вялых сухожилиях, будто высохшие и замусоренные реки. Ногти были обрезаны очень коротко и почти не видны. Большой палец выступал, словно окоченевший или мертвый. Желтая, будто восковая, оцепеневшая нога казалась чужой и внушала Хойкену мысль о близкой смерти отца. Сейчас, увидев все это, Георг вдруг осознал, что произошло вчера. Бескровная, во многих местах странно натянутая кожа старика казалась ему пораженной тяжелым, опасным, идущим от сердца ядом, который расползался по всему телу до самых кончиков пальцев.
— Плохо себя чувствуешь? — услышал он голос профессора. — Принесите, пожалуйста, стакан воды! — услышал Хойкен опять и заметил, что Лоеб поддерживает его справа, словно размышляя, нуждается ли он в помощи. Внезапно, вопреки своему предубеждению, Хойкен понял, что профессору не чужды человеческие эмоции и он тоже способен переживать. Когда принесли стакан с водой, Георг отошел от стены и стал пить. Теперь он стоял так, что больше не видел голую ногу, а только белоснежную простыню, из-за которой виднелась голова очень старого мужчины, которого, казалось, уже никто не мог спасти. Итак, увы… Скорая смерть. Торжественная месса в соборе. Толпа людей, которая потом растечется по площади. Тяжелые удары колоколов болью отзываются в душе. Заключительная песня общины. Иногда, когда отец, шутя, говорил о своих похоронах, он просил устроить все именно так. Хойкен вернул стакан, но даже не заметил, кто его взял. Он словно издалека слышал, как Лоеб что-то говорит, пытаясь отвлечь его от тяжелых мыслей. Заставляя себя слушать его голос, Хойкен заметил, что теперь это были слова ободрения. Лоеб говорил о преимуществе надувных матрацев, о необходимости регулярной смены повязок, раз в два дня обычно достаточно, но в таком случае, как этот, требуется ежедневная перевязка, прежде всего, при рассмотрении факта, что…
Хойкен спрашивал себя, следует ли ему еще раз посмотреть на ногу отца. Как давно он не видел его нога голыми, кажется, несколько десятков лет. В последний раз это было на берегу Рейна, когда они с отцом ехали в Бонн и остановились отдохнуть. Отец снял туфли и носки и болтал ногами в воздухе. Тогда это казалось Хойкену таким ребячеством, будто этот сидящий рядом мужчина попал в давно утраченное детство. «Детство родителей, — думал Хойкен, — слишком трудно представлять, можно только угадывать. Если бы было время внимательно рассмотреть их детские фотографии, может быть, только тогда мы сумели бы проникнуть в атмосферу тех лет и пережить то, что пережили они».
— Тебе уже лучше? — услышал он голос Лоеба. Нужно было отвечать, но Хойкен не хотел показывать, что испугался. Что же ему сказать в ответ?
— Знаешь что, Джозеф? — сказал он и откашлялся. — Знаешь, о чем я сейчас думал? — Он наконец отважился посмотреть на профессора, но тот молчал и не отводил глаз от постели пациента, как будто сам размышлял о чем-то. — Я думал о Менцеле, — продолжал Хойкен, — об Адольфе Менцеле[12]. Недавно мы выпустили книгу его эскизов. На одном листе не нарисовано ничего, кроме его правой ноги — голой и чужой. Страх охватывает, когда видишь эту ногу.
— Менцель великолепен, — согласился Лоеб, по-прежнему не глядя на Хойкена. — С моей точки зрения, он вообще один из великих художников. Я видел много его картин. В Берлине, разумеется, да, в Берлине.
Они молчали, словно погрузились в разглядывание шедевра, после которого смотреть на другую картину нет никакого желания. Через несколько минут профессор оторвался от перегородки и еще раз коснулся руки Хойкена.
— Идем, Георг, выйдем отсюда.
После этого они перебросились парой фраз, Лоеб еще раз сообщил диагноз и только вскользь упомянул о возможных осложнениях, которые могут привести к кризису. Эмболия, местный тромбоз, большая опасность инфицирования. Лоеб расценивает теперешнее состояние пациента как удовлетворительное. «Ему просто говорить, — думал Хойкен. — Наверное, он видел случаи намного хуже, так что отец по сравнению с ними легко отделался». Но Георг еще никогда не видел своего отца таким, и то, что он увидел, сложилось в его сознании в такую страшную картину, которую нельзя было сравнить ни с чем другим.
Стоя в лифте, Хойкен еще видел перед собой стерильную палату и вышел онемевший, словно погруженный в гипнотический транс. Он даже несколько раз посмотрел на часы, но никак не мог запомнить, который час. Он не мог следить за временем. Выйдя из лифта и направляясь через холл к выходу, Георг увидел своего брата, шагающего прямиком в клинику. Они увидели друг друга и поспешили навстречу, словно договаривались встретиться именно здесь. Кристоф был без плаща, только в темном удобном костюме без галстука. Братья пожали друг другу руки. Хойкен почувствовал, что Кристоф разглядывает его и пытается понять его настроение.
— Ну, как он?
— Не поднимайся, Кристоф! То, что ты там увидишь, тебя не обрадует.
— Еще как поднимусь, мой милый! Как ты думаешь, зачем я в шесть часов утра уже выехал из Штутгарта?
— Ты приехал поездом?
— Конечно, иначе как бы я мог уже быть здесь?
— Что еще ты на сегодня запланировал? Когда уезжаешь?
— Сейчас я поднимусь к отцу, а позже приеду к вам в издательство. На сегодня я зарезервировал три места в «Le Moineau».
— В «Le Moineau»? Не нашел ничего попроще?
— Ты уже ел там когда-нибудь?
— Нет, но, конечно же, слышал о нем.
— Вот видишь, только слышал! Если бы я о чем-то только слышал, я не позволял бы себе судить об этом.
— Кристоф, я не позволяю себе никаких суждений, я только хочу спокойно пообщаться с моими братом и сестрой так, чтобы меня не забавляли все время крутыми изысками французской кухни.
— Изыски французской кухни! Вот как ты это называешь! Все еще заметно, что ты учился в США и ни одного семестра — во Франции.
— Зато ты учился во Франции и ни одного семестра — в США.
— Не хочешь ли ты сравнить Францию и США?
— Нет, Кристоф, не хочу. Я вообще ничего сейчас не хочу. Собственно говоря, я должен уже давно быть в издательстве. Согласен, пойдем в «Le Moineau», если это доставит тебе удовольствие. Встречаемся там?
— Встретимся прямо на фирме.
Хойкен посмотрел вслед своему младшему брату, увидел, как тот зашел в лифт, и немного постоял, мысленно прокручивая в памяти их короткий разговор. Кристоф учился во Франции. Всем своим поведением, привычками, образом жизни он отвергал попытки со стороны отца отправить его хотя бы на полгода в США. В молодости Кристоф считал, что это неинтересная, скучная страна, несчастный случай в истории. Позже, когда он вынужден был узнать США поближе, то сделал все так, словно ему это было не очень нужно, разве что набраться немного опыта. Несколько лет назад отец доверил ему руководство издательством «Фобос», выпускающим пособия для учителей начальных классов в скучной упаковке, но этого дела Кристофу было мало. Поэтому хорошо продаваемые, но скучные учебники он разбавлял плохо раскупаемыми, зато элегантными книгами по истории и философии, а также беллетристикой. С тех пор «Фобос» стал авторитетным, но в финансовом отношении дела его были плохи. «Элегантные побрякушки, le moineau, le plumeau, которые дорого стоят и трудно продаются, — думал Хойкен, — сделали брата заносчивым и одновременно нервным. В своем французском ресторане он непременно сядет во главе стола и станет торжественно демонстрировать свое искусство высказывать свое недовольство официантам».
3
Чуть позже Хойкен вошел в приемную своего офиса и оторопел. Джоанна всегда хорошо одевалась, но то, что она надела сегодня, означало скачок в следующую, высшую категорию. Георг был растерян, ему не хватало слов, чтобы дать определение тому, что он видел. Это выглядело скорее как белый блейзер из тонкого шелка, который блестел в свете, льющемся из маленьких ламп на потолке. Блейзер, кажется, был расписан переливающимся от светло-зеленого до воздушно-розового цвета рисунком, который был выполнен так искусно, что не видно было ни одного кармана, ни одной пуговицы или еще какой-нибудь детали. Они стали заметными, только когда Хойкен присмотрелся к блейзеру повнимательнее. Георг поздоровался, с трудом скрывая свое смущение. Перед его глазами возник короткий, прекрасный миг вчерашнего дня. Сейчас он точно знал, что для Джоанны те мгновения тоже не прошли бесследно, это было видно по ее наряду, который намекал, что она ждет от него следующего шага. Когда Георг это понял, его охватила гордость. Красота Джоанны льстила ему. Специально для него она превратилась почти в модель. Хойкен мысленно взвешивал, должен ли что-нибудь сказать ей, но оставил эту мысль и быстро прошел в свой кабинет, где еще некоторое время ходил туда-сюда, пока ему не удалось подавить в себе возрастающее желание. В его душе проснулись недоверие и выработанная за долгие годы осторожность. С тех пор как женился, Хойкен не допускал щекотливых ситуаций с женщинами и держался подальше от искушений. Нужно было сориентироваться или получить спасительный совет, поэтому Георг подошел к шкафу, где находились несколько рукописей и конфиденциальные бумаги, в том числе различные документы. Он быстро нашел личное дело Джоанны и принялся его изучать.
В жизни она была не похожа на свою фотографию в личном деле. Сейчас ее лицо уже не было таким молодым и худощавым, на нем не просматривалось упрямство и тщеславие. Давно исчезли признаки переходного возраста. Сейчас она была похожа на опытную женщину лет двадцати пяти, чьи завышенные претензии еще не удовлетворены и могут в дальнейшем возрасти. Джоанна… Где, впрочем, написано что-нибудь о Джоанне? Хойкен сразу заволновался, когда не нашел этого имени в личном деле. Там вместо Джоанны стояло имя Яна, что легко можно было объяснить местом ее рождения. Она родилась в Праге… Об этом Георг тоже ничего не знал. Еще одна информация, в корне меняющая прежнее впечатление о девушке, потому что до сих пор он думал, что ее родина — Испания. Она бегло говорила на английском, французском и испанском языках. Странное дело, о чешском нигде не упоминалось, это притом, что первые двенадцать лет своей жизни Джоанна провела в Праге и только потом переехала в пригород Кёльна. Она начинала работать в одной информационной фирме, после этого почти регулярно меняла места работы. Она работала в музее и в картинной галерее. В высшей школе СМИ Джоанна проработала дольше всего и получила оттуда наилучшие рекомендации, которые, очевидно, имели решающее значение при ее приеме на работу в концерн.
Хойкен прервал чтение, так как почувствовал, что всерьез заинтересовался девушкой и начинает вмешиваться в ее жизнь. Он представил себе Прагу, город, где прошло ее детство. Яна из Праги, это так неожиданно. Он тоже однажды посетил Прагу, в 80-х, когда еще не было экономического кризиса. Туманный город с хорошим, дешевым пивом. Тогда в Праге следовало предъявлять паспорт, если оказывался где-нибудь поблизости от иностранного посольства, а имя Франца Кафки было покрыто такой тайной, что можно было принять его за часть секретного кода каких-нибудь иностранных агентов.
Яна-Джоанна… Каждое из этих имен окружало голову статной белокурой особы, сидящей у него в приемной, как нимб. Как будто она была одной из прекрасных, одухотворенных героинь из романов Милана Кундеры[13], за которыми всегда ухаживают эти беспокойные парни, врачи с повышенной потенцией или бездарные писатели, которые полжизни ничем не занимались, но с помощью философствования и нежного воркования почти без труда добывают себе любую красавицу.
Хойкен улыбнулся, сердце его екнуло. Эту женщину он недооценивал, хотя она всегда была в непосредственной близости от него. Наверное, она только на первый взгляд секретарша, а на самом деле у нее совсем другая суть, которую он из-за проклятой рутины никогда не осознавал. Георг положил документы в шкаф, туда, где они хранились. Ничего не следует откладывать. Ему нужна правда, сейчас или никогда. Он склонился над переговорным устройством, нажал на кнопку и попросил ее зайти в кабинет. Потом подошел к окну и стал как раз на то место, где вчера с ними произошло то необъяснимое чудо. Джоанна вошла и остановилась у двери, он смотрел не на нее, а в окно и сразу задал вопрос:
— Скажите, Джоанна, почему вы все эти годы отзывались на имя Джоанна, тогда как вас зовут Яна? — Он произнес это нервно и несколько резко. Его довольно грубый тон только запутывал дело. Но в такие моменты он не мог контролировать свой голос из-за понятного волнения. В результате он срывался и все портил.
— Вы назвали меня в первый день Джоанной, — ответила девушка. — Я не знаю почему. Это была просто ошибка, но мне понравилось, и я захотела, чтобы меня называли так.
— Вы захотели? Но почему вы не настояли, чтобы я называл вас настоящим именем?
— Потому что в Чехии, где я родилась, так зовут очень многих девочек. Яна — скучное имя. Раньше я считала, что это вообще самое неинтересное имя.
— Вы родились в Чехии? Этого я тоже не знал.
— Да, странно, что мы никогда не говорили об этом. Но ведь это написано в моем заявлении о приеме на работу, вы могли все выяснить.
Теперь и ее тон стал немного резким. Было ясно, что Джоанна не могла понять, почему возник этот разговор, больше похожий на допрос. Ему не следовало продолжать в том же духе, он должен был поменять тон в направлении Милана Кундеры.
— Да, я должен был это знать, вы правы. Я глупец, глупец, который ни разу не прочитал ваше заявление. Вы еще поддерживаете связи с вашей родиной?
— Я родилась в Праге, но у меня нет чувства, что это моя родина. Мой отец — чех, моя мать — немка. Мы жили все вместе в Праге двенадцать лет. Потом родители разошлись, и мы с мамой переехали в Германию.
— Ага, вот оно что, понимаю. Вы говорили раньше по-немецки?
— Совсем немного. Отец терпеть его не мог. Немецкий был тогда для нас в Праге языком ГДР, языком оккупантов из 68-го.
— 68-й… Ах да! Конечно! Будучи западным человеком, следовало в первую очередь подумать об этой дате.
— Да, следовало. В 90-е годы об этом почти забыли, и через пару десятилетий никто не захочет ни говорить, ни вспоминать, что произошло в Праге в 68-м.
Сейчас они подошли к Кундере. Разговор медленно заселяли его персонажи. Хойкен вспомнил «Невыносимую легкость бытия» и ее экранизацию, а также энергичный секс, который в течение всего фильма поддерживал хорошее настроение зрителей. Где это было? Где же он смотрел этот фильм? Скоро он будет жалеть, что никогда не вел дневник и не уделял внимания маленьким сюрпризам своей жизни. Делая записи хоть иногда, он смог бы легко восстановить подобные случаи в памяти. А так прошлые годы лежат позади сплошной серой массой, на которой кое-где пестреют маленькие цветные пятна событий, и невозможно упорядочить их во времени.
Сейчас он уже дальше, чем был вчера. Его охватило огромное желание немедленно уехать куда-нибудь с этой женщиной, которая была похожа на героиню художественного фильма. Георг хотел, чтобы она рассказала ему всю свою жизнь, день за днем. Он даже связывал это желание с маленьким чемоданчиком, который утром поставил в багажник своей машины. Он словно чувствовал, когда укладывал вещи, что собирается в Прагу.
От сильного возбуждения у него пересохло во рту, и Хойкен был вынужден сглотнуть. В глубине души он чувствовал, как что-то давит его, и не мог избавиться от этого чувства. Ему очень хотелось поступить так, как поступают персонажи из романов Кундеры, но он не имел ни малейшего представления, как это сделать. В конце концов, он прочитал достаточно много, чтобы уметь вызывать соответствующие фантазии. Больше всего его беспокоила роль начальника. Она совершенно не подходила к утонченному созданию, которое он должен к себе привязать. Хойкен был намерен как-то с этим справиться и заставить Джоанну забыть, что он является ее шефом, хотя это казалось ему почти невозможным. Наверное, она в самом деле принимала его за кого-то другого — того, кто утром вошел в комнату в девять с минутами, чтобы быстро занять свое кресло и все о ней раскопать. В глубине души Георг понимал, что будет вынужден отказаться от некоторых жизненных удобств и ехать в поезде с задернутыми шторами. Но он любил читать, и романы делали его жизнь интересной. «Кундера» — это звучало как девиз, которым руководствовался в жизни его брат. Кристоф однажды даже обедал с Кундерой, конечно, в Париже, и рассказал об этом Хойкену, но тогда это было ему безразлично. Он слушал вполуха и думал, что знаменитый писатель был всего лишь литературным деликатесом Кристофа.
Джоанна все еще ждала у двери. То, как Хойкен вел с ней разговор, ему самому казалось неприятным. Он по-прежнему не выходил из роли начальника. Георг пытался придумать, что ему сказать после такой продолжительной паузы.
— Извините, Яна. Прага и вся эта история… Мне потребуется время, чтобы к этому привыкнуть. Вы иногда тоскуете по тому времени, думаете о Праге?
— О Праге, как о городе, редко, но чешскую музыку я люблю больше всего.
— Чешскую музыку? Какую чешскую музыку?
— Великую чешскую музыку — Сметана, Дворжак, Яначек… Эту музыку я люблю больше всего.
Он был совершенно не готов к такому разговору. Об этих композиторах он почти ничего не знал. Если бы несколько дней назад кто-то сказал Хойкену, что он когда-нибудь будет иметь дело с этой троицей, он бы только громко рассмеялся. Но сейчас — другое дело, потому что с сегодняшнего дня в его приемной сидит молодая женщина, которая ничем так сильно не увлекается, как поющими при луне русалками. «Русалка». Кажется, так? Есть у Дворжака опера с таким названием? И разве русалка — не славянская фея с длинными белыми волосами, которая соблазняет своих начальников? Он попытается. «Русалка» — единственный шанс, который он сейчас видит.
— Боже мой! Еще раз прошу прощения, Яна. Сегодня я что-то туго соображаю, никак не могу сосредоточиться. Я слышал когда-то прекрасную арию Русалки.
Если сейчас она начнет расспрашивать — он пропал. Никакой арии Русалки он не слышал. Самое большее — начало Moldau, это трогательное тихое журчание, которое в каждом документальном фильме сопровождает появление ручья на экране.
— Вы знаете «Русалку»? В самом деле? Тогда вы непременно должны знать и Магдалену Кожену[14].
Черт! Дьявол! Нет, он не знает эту Магдалену, чье мягкое, так красиво звучащее имя услышал только что. Но почему он не знает Магдалену Кошш? Потому что с раннего утра начинает читать не те вещи, потому что крут его интересов слишком ограничен и скудно украшен прекрасным жемчугом, который для других людей является необходимой частью их жизни. Он не может сейчас огорчить Яну тем, что ничего не знает о Магдалене Кошш, он должен продемонстрировать глубокую заинтересованность чешской музыкой.
— Да, припоминаю, я однажды видел ее по телевизору.
— О, как я вам завидую! Я ее еще ни разу не видела, но, конечно же, много раз слышала. Я с нетерпением жду ее концерта в филармонии.
— Она дает концерт здесь, в Кёльне? Об этом я тоже не знал.
— Она выступает в субботу с программой ее нового CD.
— Прошу прощения, Яна, что за новый CD?
— О, это великолепно! Я часто слушаю эту музыку в машине по дороге домой. Это CD с пьесами Баха, Иоганна Себастьяна Баха и его сыновей.
— И как он называется?
— Погодите минутку, кажется, «Lamento»[15].
Неужели она это серьезно? Или смеется над ним? Не может быть, чтобы CD с классической музыкой назывался «Lamento». Такое ужасное название совершенно невозможно. Однако лучше не расспрашивать, хотя на этот раз он все-таки догадался, что Магдалена Кошш — это певица. Но осторожно! Может быть, она играет на гобое или другом инструменте, который он недооценивает, как недооценивал чешскую музыку. Концерт, сейчас ему все внимание следует направить на концерт.
— У вас уже есть билет?
— Да, конечно. Я не могу дождаться вечера, чтобы забрать его в маленьком ларьке на Ронкаллиплац.
Как она его назвала? Да, точно, маленький ларек, как он называется? Случайно не «Köln-Ticket»? Он как раз виден из окна его гостиничного номера.
— Вы идете на концерт одна?
— Да. У человека, который бы с удовольствием пошел со мной, поменялись планы.
— Это значит, что вы заказали два билета и теперь один вернете?
— Да, сейчас буду звонить. Я только вчера узнала, что у моего спутника, к сожалению, нет времени.
— Можете не звонить. Я куплю второй билет.
— Это значит, что вы пойдете со мной на концерт?
— Можно сказать и так, если хотите.
Георг не припоминал, чтобы когда-нибудь с таким дерзким безрассудством приступал к какому-нибудь делу. Но остановиться он уже не мог. Внутренний голос постоянно твердил ему, что все должно быть так и никак иначе. Никакой тактики ведения беседы и обдуманной стратегии, никаких прямолинейных методов, при которых известны цели и намерения. «Русалка», Магдалена Кошш — вот волшебные слова, открывающие новые горизонты, о которых ему поведало это создание в блестящем шелковом блейзере, словно вышедшее из славянской сказки. Сейчас он был готов ко всему. Все чувства, которые вызвал в нем этот разговор, могли теперь вырваться наружу.
— Вам было бы неприятно, если бы я вас сопровождал?
— Неприятно? Вовсе нет, почему вы так решили? Я была бы рада этому.
— Хорошо, значит договорились. В субботу идем в филармонию.
Он вынул руки из карманов брюк, где держал их все это время, подошел к столу и повернулся к девушке. Она, казалось, ждала, что он займет свое обычное место, но ничего не говорила, просто стояла в своем сияющем блейзере и черных брюках. Георг чувствовал, что должен что-то сказать о том, как она выглядит, хотя у него это всегда выходило неловко.
— Ваш блейзер, должен вам сказать… Ваш блейзер, Яна, выглядит так, словно кто-то сшил его специально для вас.
— Вы хотите сказать, что это работа на заказ? Верно?
— Работа на заказ. Точно. Именно так.
— Вы правы. Это ручная работа. Сшит именно для меня. К сожалению, не так безукоризненно, как вам кажется. Он вам нравится?
— Нравится ли он мне? Вы отлично в нем выглядите.
— Спасибо. Значит, я могу снова приступить к работе.
Она замолчала. Все было как вчера, когда он уходил из офиса. Они напряженно улыбнулись друг другу, и только. Затем девушка вышла. Сегодня вечером она заедет на Ронкаллиплац, войдет в маленький кабинет и скажет: «Я заказывала билеты», оплатит их и положит в сумочку. Два билета, один для нее, а другой для него. Два билета для мужчины и женщины, которые вместе идут на концерт. Эти простые мысли бесконечно вертелись у него в голове. У него возникло чувство, словно он взлетает высоко-высоко, как раньше, когда курил эту чепуху. Клетки его головного мозга работали веселее и радостнее, чем обычно.
4
Хойкен вошел в угловое помещение на верхнем этаже, где должна была состояться закрытая конференция, одним из первых. Длинный стол, за которым через несколько минут будут сидеть сотрудники, был заставлен чайниками и кофейниками. Георг прошел к председательскому креслу и положил папку на стол. Сначала он скажет несколько приветственных слов, а затем сообщит о событиях вчерашнего дня. В местных газетах была помещена только маленькая заметка о них. О проведении конференции было объявлено еще вчера, и отменить ее не согласились. Сегодня Хойкен встретился с ядром издательства, самыми важными сотрудниками и товарищами. Эта руководящая элита ему нравилась, потому что перед множеством людей он был вынужден вести себя и разговаривать совсем по-другому, и каждый раз у него находились недоброжелатели.
Когда вошел Байерман, Хойкен подошел к нему и попросил сесть справа от него. Георг хотел, чтобы Байерман был рядом. Этот человек своим спокойствием и выдержкой благотворно влиял на Хойкена. Они стояли рядом во главе стола и тихо переговаривались, пока собирались сотрудники. Хойкен правильно делал, что держал остальных на расстоянии и создавал впечатление, что он и Байерман заняты важными и неотложными вопросами. При этом он внимательно наблюдал за тем, в какой последовательности собирается его команда. Петер Осткамп, молодой редактор немецкой литературы со свежим мальчишеским лицом, но старомодной прической, пришел первым. Затем вошли Юлия Хандвитт, редактор романской литературы, и Петра Зейбольд, редактор отдела искусства и фотографии. Следом пришел Герман Патт, редактор англо-американской литературы. Он держал в руке сигарету, в то время как Петра и Юлия прекратили курить перед тем, как войти. Заметив, что обе женщины внимательно смотрят на него, Герман послушно повернулся и направился к выходу, столкнувшись с Ханной Ротгербер, пресс-секретарем издательства, которую сопровождал руководитель отдела рекламы Норберт Волле, самый молодой из всех собравшихся. Постепенно все заняли свои места и сразу взялись за чашки. Началась обычная чайно-кофейная болтовня. Последним пришел Михаэль Дипгес, уполномоченный по сбыту. Хойкен увидел, что команда в сборе, и дал всем еще пять минут, чтобы успокоиться.
Он в двух словах рассказал Байерману о своем разговоре с Ханггартнером. Байерман был изумлен и даже не смог отпустить свою очередную шутку. Хойкен заметил, что в его глазах он сразу вырос. Георг почувствовал, что внушает уважение к себе. Второй раз за сегодняшнее утро он был польщен. Коротко и дружески сжав руку Байермана, он дал понять, что разговор окончен, затем пододвинул свое кресло ближе и занял место председателя. Когда Петер Осткамп почти одновременно с ним встал и закрыл дверь, все начали понемногу успокаиваться.
Хойкен поздоровался и открыл конференцию коротким рассказом о посещении клиники. Он не стал вдаваться в детали, дважды повторив успокаивающий оборот «состояние стабильное». Сотрудники слушали внимательно, однако Хойкен понял, что не нужно слишком долго развивать эту тему. Пока он говорил, в зале было необычно тихо, никто даже не пригубил кофе. Все сидели с отсутствующим видом, как будто ученики в школе, которые должны ловить каждое слово учителя. Георг постарался поскорее выпутаться из этого положения. Откинувшись на спинку кресла, он сделал паузу и слегка стукнул по столу рукой. Это означало, что пора переходить к повестке дня. Только Норберт Волле не умел, как другие, быстро переходить от подавленного состояния к веселому и оживленному.
Хойкен, вопреки всему, был в хорошем расположении духа. Он совершенно точно знал, чем оно вызвано. Тема конференции должна быть четко обозначена и детально рассмотрена. Речь шла о выпуске продукции весной будущего года. Предполагалось заслушать первые соображения по поводу предварительного просмотра программы, мнения о печати и рекламе. Каждый присутствующий здесь знал этот обычный порядок, но в начале собрания должна быть обнародована определенная идея, и эти слова звучали для всех как сигнал. Их маленькие нервные лошадки стояли на старте, а плети были зажаты под мышкой. Когда Хойкен приготовился открыть заседание, он подался вперед и, взглянув на Байермана, попросил его рассказать о проекте Ханггартнера.
Сообщение о новой рукописи Ханггартнера было предложено заслушать в первую очередь, потому что она станет самым прибыльным романом весны и все другие программы будут лучше продаваться благодаря этому изданию, а некоторые выпущены только потому, что появится этот роман. Конференция началась с представления романа Ханггартнера. Начало было сильным. Хойкен был доволен. Только при одном упоминании имени этого писателя все насторожились. Пять-шесть минут все присутствующие сидели молча, словно взяли маленький тайм-аут. Роман Ханггартнера было непросто предугадать и подсчитать прибыль от него, однако не было ничего скучнее, чем разбирать подробности его легко предсказуемого содержания.
Байерман это, конечно, знал. Поэтому он с самого начала заинтриговал слушателей заявлением о том, что фабула будущей книги все еще неизвестна. Сюжет романа Гюнтер описал намеками, представленными в форме вопросов, что позволило даже развеселить слушателей. Никто и подумать не мог, что такая тонкая тема может нести в себе столько остроты. Все с облегчением поняли, что им не придется скучать из-за надоевших причуд Ханггартнера. Хойкен тоже радовался, но никому этого не показывал и вертел в руках карандаш. На конференции без карандашей не обойтись — это излюбленный рабочий инструмент добросовестного и профессионального издателя, чьи комментарии, замечания (очень важные, а чаще всего мимолетные) и наброски с натуры можно в самом худшем случае тут же стереть ластиком.
Хойкен демонстрировал свой карандаш, а сам внимательно наблюдал за реакцией сидящих за столом. Волле записывал больше других, так усердно, будто грузил стройматериалы в слишком маленький грузовик. Парень еще не понял, что так можно опозориться. Своим беспрерывным конспектированием он расписывается в своем прилежании, но, в конце концов, показывает, что не может самостоятельно принять ни одного решения. Мог бы поучиться у Ротбергер. Ей достаточно бросить взгляд на страницу, и она уже видит, как использовать блок с вызывающе маленькими заметками в качестве площадки для игры. Она записывала от и до только заглавие и делала это очень быстро с помощью стенографии, словно при этом сразу и упорядочивала. Осткамп, напротив, ничего не записывал. Он сидел прямо и неподвижно и всем своим видом показывал, что все, что сейчас говорят о романе Ханггартнера, его не касается и Ханггартнер для него не только не предмет обсуждения, но вообще чуть ли не последний человек. Он, конечно, не имеет права здесь даже заикнуться об этом и сразу после утренних сплетен отправится в коридор.
Байерман закончил свое выступление. Он единственный из присутствующих дерзнул заявить, что с нетерпением ждет роман Ханггартнера, хотя точно знал: никто из сотрудников не заинтересуется всерьез этой книгой и позже они, самое большее, бегло просмотрят ее, чтобы посмеяться над особенно неудачными отрывками.
Затем было голосование, и большинством голосов роман Ханггартнера утвердили первым пунктом программы. Этого и следовало ожидать. Роману отводилось со всеми предоставленными для него сентиментально звучащими рекламными лозунгами («Еще одна любовь — еще одно счастье») минимум две, если даже не все четыре страницы предварительного просмотра.
Норберт Волле отреагировал на слова «предварительный просмотр» первым. Ему пришло в голову, что он, как руководитель отдела рекламы, должен подать хотя бы маленькую гениальную идею. Все устремили на него свои взгляды, когда Волле, как драгоценный трофей, вынул из своей папки фотографию, на которой был запечатлен Ханггартнер. На голове писателя была шляпа, а вокруг шеи обернут шикарный, очень стильный шарф, концы которого переброшены назад. Ханггартнер стоял, прислонившись спиной к белой стене, словно договорился с кем-то о встрече и ждал, как мечтательный юноша из «Явления Марии», еще одну женщину, сошедшую с небес. Волле в двух словах пояснил, что это, как он выразился, «магическое» фото не только украсит суперобложку, но будет задействовано для рекламы. При этом он развязно ухмыльнулся, будто рассказывал о скверной выходке хулигана. Осткамп тут же снова стал отрешенно смотреть перед собой, демонстрируя свое отвращение, которое все сразу заметили. Как редактор отдела искусства и фотографии, Петра Зейбольд должна была тоже сказать свое слово. Все ждали этого, предвкушая определенные замечания с ее стороны, которые не дали бы этой фотографии ни малейшего шанса быть так широко использованной, когда Байерман еще раз поднял руку и предупредил ее выступление. Он сказал, что подробное рассмотрение вопроса, к сожалению, следует пока отложить, потому что нет уверенности, что Ханггартнер отдаст свою рукопись завтра, как было условлено ранее.
Хойкен наслаждался наступившей паузой. Он заранее договорился с Байерманом, что это замечание тот выскажет в конце. Все, включая Осткампа, выглядели сейчас так, как будто что-то прослушали перед этим или не поняли сейчас. «Они чувствуют себя обманутыми, — подумал Хойкен. — Таким образом можно расправиться со всем высокомерием мира». Он приподнял голову, всем своим видом показывая, что для него это тоже неожиданность. При этом он почти восторгался тем, как изящно Байерман это сделал.
Ханггартнер не хочет отдавать рукопись… Ничего подобного никто в этом зале никогда не слышал, потому что все знали, что Ханггартнер день и ночь самоотверженно трудится. На всех его работах можно было так и написать: «Беспрекословное самоотречение». Благодаря этому Ханггартнер стал знаменитым. Он отдал всего себя служению литературе и весь свой талант, до последней капли, отдал людям. Никто не проронил ни слова. Все ждали от Байермана объяснений. «Вот он, драматический момент», — подумал Хойкен. Он не смотрел на Байермана. Его взгляд блуждал по потолку, как будто он думал о том, не поменять ли этот скучный светло-голубой тон.
Петер Осткамп был первым, кто пришел в себя. Он быстро поднял правую руку, чтобы взять слово. Возможно, он почувствовал, что есть шанс продвинуть свою молодую писательницу. Однако Хойкен проигнорировал просьбу Петера. Он захлопнул свою тяжелую папку и с решительным видом отодвинул ее в сторону. Все знали, что Ханггартнер всегда имел дело только со старым Хойкеном и ему первому передавал свои рукописи. Отец был связующим звеном между издательством и Ханггартнером, и теперь все увидели, что эта связь оборвалась. Хойкен дал им еще немного времени, чтобы страх заработал, потом отложил свой карандаш. Его считали в этом кругу способным менеджером. Никто лучше его не знал, как устроить так, чтобы книга продавалась, и способствовать этой продаже соответствующими методами. Но как редактор он не очень отличился и с авторами работал не часто, передавая это дело опытным коллегам-профессионалам. Раньше он был человеком, работающим для программы в целом, а не индивидуально с каждым писателем. Он обдумывал, какие книги к каким подходят, заботился о том, чтобы из общей литературной массы возникла хорошо подобранная серия, которую можно было пустить в продажу два раза в год, чтобы получить неплохую прибыль.
— Все мы, — начал он негромко и медленно, — знаем, что Вильгельм Ханггартнер уже много лет связан с нашим издательством так тесно, как никакой другой автор. И мы также знаем, что эта крепкая, дружеская связь основана на близких отношениях Вильгельма Ханггартнера с владельцем этого концерна. Вот почему, а также потому, что этот писатель и его роман занимают в наших планах особое место, Вильгельм Ханггартнер был одним из первых, кому я позвонил, чтобы сообщить о болезни нашего шефа. Вильгельм Ханггартнер был потрясен. Для него, как и для нас, это известие было совершенно неожиданным. Поэтому он просто не в состоянии действовать по заранее намеченному плану и приехать завтра в Кёльн для передачи своей рукописи.
Каждая произнесенная Хойкеном фраза делала свое дело. Георг чувствовал, что все уже сейчас так увязли в этой теме, что другие темы не могут с ней сравниться. «Вот типично ханггартнеровский метод, — подумал он. — Вильгельм делает это в каждой своей книге. Заботится о том, чтобы привлечь внимание какой-нибудь мыслью в фельетоне, а если это не помогает и его личные капризы ничего не дают, он брякнет что-нибудь неподходящее о состоянии нации». Однако на сей раз эти трюки пойдут на пользу не только ему и его книгам. Теперь, если все сделать грамотно, кто-нибудь другой, например Георг Хойкен, может использовать их. Он может ставить эти трюки прямо здесь, в этом зале. Пусть все хорошенько задумаются над тем, кто должен занять пост руководителя концерна.
Герман Патт, кажется, уже начал задумываться. Он вынул из кармана пачку сигарет и положил ее перед собой так демонстративно, словно сейчас ему могла помочь только еще одна доза канцерогенов, без которых он не мог думать. Петра Зейбольд стащила с носа очки и украсила ими свой календарный план. Наступило время раздачи подарков. Хойкен немного отодвинул кресло назад и провел рукой по волосам. Он говорил так, словно преподносил благодарным слушателям маленькие милые сюрпризы:
— Ханггартнер решил, что пересмотрит срок сдачи своей рукописи. Лично я отнесся к этому с большим пониманием. Такое же понимание я предполагаю найти и в вас, так как не поставил в известность об этом решении главы нашего концерна. В течение многих лет он плодотворно трудился на своем посту. Сейчас болезнь не позволяет ему участвовать в текущих делах. Мы должны попытаться, со своей стороны, доказать, что можем проводить эту работу так же хорошо, как она сейчас идет, и без его непосредственной помощи. Точно в таком же духе я высказался вчера вечером в личном и очень доверительном телефонном разговоре с Вильгельмом Ханггартнером. Мы с этим автором знакомы уже много лет и оба знаем, чего нам ждать друг от друга. Поэтому я был растроган, когда Ханггартнер в конце нашего разговора сказал, что принял решение приехать завтра в Кёльн, чтобы передать свою рукопись лично мне.
Хойкен не двигался, он сидел, наклонившись вперед, словно потрясенный своими собственными словами. Его взгляд застыл на пустой бутылке, которая стояла перед ним, как будто он смотрел трогательный фильм, посвященный его жизни. Герман Патт крутил на столе свою пачку сигарет, а Юлия Хандвитт подперла голову рукой. Только Байерман отреагировал сразу и произнес в полной тишине:
— Я думаю, это хорошая новость. Мы все знаем, что ты хорошо завершишь переговоры, Георг. Ханггартнер — это тяжелый, очень тяжелый случай, но после того, что ты сейчас сказал, у меня нет ни малейшего сомнения в том, что все завершится положительно. Все-таки в случае с Ханггартнером мы могли остаться в проигрыше.
Георг усмехнулся. Байерман разговаривал с ним, как со школьником, которому все время прощают его плохие привычки. Затем Хойкен выпрямился, стукнул кончиками пальцев правой руки по столу и сказал:
— В будущем году у нас будут еще книги. Господин Осткамп, продолжайте, пожалуйста.
Он знал, что это подло — давать теперь слово Петеру. Каждый, кто хотел выступить, должен был потрудиться, чтобы его стали слушать. Что бы ни говорил сейчас Осткамп о новых работах своих молодых писателей, его выступление обречено на провал. Роман «Быстрое удовольствие», дебют двадцатишестилетней писательницы из Бергиш-Гладбах. «Малые свершения», сборник рассказов одного опального у себя на родине писателя. «Яд и изнанка жизни», второй роман писательницы из Крефельда, известной больше по газетным полосам и с недавнего времени живущей в Берлине. Все эти заглавия с тихим шелестом проносились по комнате, как стрелы, летящие мимо цели. И это притом, что Петер Осткамп умел говорить. Он никогда не путался, хотя произносил слова довольно быстро, и выстраивал свои длинные, грамотно составленные предложения так, что они подводили к логическому выводу. «Странно только, что, невзирая на свой интеллект, он еще не понял, что пора бы бросить эти выверты, — думал Хойкен. — «Роман с логикой абсурда», например, своего рода академическое хулиганство, не говоря уже о «Перипетиях обыденности», где якобы при чтении каждой второй страницы мурашки по спине бегают». Он подумал, что Осткамп, должно быть, все еще хранит рефераты семинаров и внимательно читает все рукописи, даже если они навязывают какие-то новые понятия. Возможно, поэтому он еще ни разу не помог заработать ни одной новоиспеченной писательнице, занимаясь всеми этими перипетиями и аллегориями. Никаких вечеринок, секса и тем более наркотиков.
Когда после Осткампа слово взяла Юлия Хандвитт, которая была почти на десять лет старше Петера, Хойкен сразу успокоился. Сейчас будут французы и итальянцы. Юлия знала, как представить свои заглавия. У нее они звучали так, что ты чувствовал себя в отпуске, на прекрасных, фешенебельных южных курортах. «Прованс», — уже то, как она это произносила, улучшало настроение. И сейчас речь пойдет наверняка не о жалком пособии на существование, а о людях, которые еще на что-то способны. «Такие романы, — подумал Хойкен, — имеют аромат жизни, в них вещи имеют вкус, запах и излучают свет, а не похожи с самого начала на бесполезные отбросы». После этого опять стало скучно. Герман Патт представил роман американского писателя, который он искал пять лет. При этом он говорил так, словно рассказывал запутанную криминальную историю. Каждый раз все увлеченно слушали, а потом спрашивали себя, что, собственно, их так покорило. Американцы не должны бы так очаровывать. Петер Осткамп сказал бы, что они не посещали лекций по модернизму. Странно только, что их темы по сравнению с другими писателями часто были намного привлекательнее, как будто они снабжали свои тексты таинственными и сильными заклинаниями.
Время приближалось к полудню, когда Петра Зейбольд представила уже разрозненные экземпляры своего фотоальбома. Нет ничего приятнее, чем после двух часов просмотра более или менее профессионально сделанных фотографий увидеть город в утренней дымке. Весь этот туман, лежащий на тополиных аллеях, которые тянутся вдоль берега реки, все эти поля, коричневые, как какао, с трюфельно-черными полосками борозд! Эти картины вызывали легкое чувство голода, который между тем охватил почти всех присутствующих.
Хойкен был очень доволен. Встряска, сделанная в самом начале заседания, заставила сотрудников работать значительно усерднее, что так и соблазняло снова подражать известному драматическому писателю. В общих чертах программа предварительного просмотра была завершена. Каждые полгода это была икона, на которую молилось все издательство, итог бесконечных обсуждений, уточнений, интриг и компромиссов, о которых ни один посторонний человек не должен был даже догадываться. Последовательность: заглавие, количество страниц, автор, рекламные лозунги с их бесстыдными преувеличениями и, прежде всего, собственные тексты предварительного просмотра, которые умудрялись обкорнать книгу до плана содержания, когда сотни страниц «увариваются» до фразы «Две подруги много времени провели в пути», — все это приводило, в конце концов, к мучительному конструированию и только в редких случаях — к легкой органичной конструкции.
Теперь каждый желал высказаться и только и ждал своей очереди. Всем хотелось подвести итог или заострить внимание на каком-нибудь вопросе. Хойкен видел, что с каждой минутой активность сотрудников возрастает и конференция неоправданно затягивается. Когда он уже собирался сказать заключительное слово, дверь позади Петера Осткампа вдруг открылась. Петер обернулся, и все посмотрели на вошедшего мужчину. Тот медленно, не обращая ни на кого внимания, пересек комнату с таким видом, словно совсем немного опоздал. Подойдя к Георгу Хойкену, он занял место рядом с ним во главе стола. Все смотрели на братьев и ожидали, как они будут между собой общаться.
— В заключение еще неожиданный гость, — произнес Хойкен, улыбаясь, чтобы его гнев был не так заметен. Он подумал, что если сейчас не закончит, Кристоф испортит успешный итог всей конференции, ведь ему плевать на этих людей. С другой стороны, это очень похоже на брата. Если он почувствует себя уязвленным, то может отреагировать совершенно непредсказуемо.
— Пожалуйста, продолжайте, я вам не помешаю, — сказал Кристоф, как будто его присутствие здесь было чем-то само собой разумеющимся.
Хойкен почувствовал, как горячая волна ударила ему в голову. В детстве все было гораздо проще: Георг отвечал на нахальные выпады Кристофа парой шлепков, которые быстро и окончательно ставили младшего брата на место, и тот никогда не защищался. Кристоф уползал в детскую комнату, как крот в нору, где долго не мог угомониться, выкрикивая угрозы. «Уже тогда каждый из нас решал свои жизненные проблемы по-своему», — думал Хойкен.
— К сожалению, вы слишком поздно пришли, господин Хойкен, — сказал вдруг Байерман, словно говорил не от себя, а от имени всех присутствующих.
— Да, жалко, — сказал Герман Патт. — Вы пришли слишком поздно. Мы вам с удовольствием представляем бестселлер будущей весны.
— «Быстрое свершение», — сказал Норберт Волле, еле сдерживаясь от смеха. — Это книга, мимо которой не пройдет ни один читатель.
Началась кутерьма, как на детском дне рождения. Все говорили, обращаясь к соседу и стараясь превзойти друг друга в остроумии. Серьезные люди, которые несколько минут назад читали свои рефераты, превратились в шутников. «Яд логики», «Изнанка Прованса»… «Никогда редакторы не бывают столь изобретательны, — подумал Хойкен, — как тогда, когда они дурачатся и позволяют себе шутить над своим собственным делом. Жаль, что этой виртуозности нельзя найти практического применения. Самокритичные рекламные лозунги, тексты, пародирующие планы предварительного просмотра, — почему это до сих пор никому не пришло в голову?»
Хойкен высморкался в носовой платок, как бы демонстрируя свою неспособность унять развеселившуюся толпу. Потом он медленно поднялся и попрощался со всеми одной-единственной короткой фразой, которую никто бы не понял более ясно, чем они. Коридоры, лифт, столовая — есть так много возможностей продолжить любое заседание и прокомментировать его. Все устремились к выходу, желая поскорее рассказать своим коллегам о том, что услышали на конференции. Сильный акцент в начале и очень сильный в конце. Лучшего Хойкен и желать не мог.
Кристоф остался сидеть, закинув ногу на ногу, погрузившись в раздумья. Хойкен собирал со стола свои вещи с таким видом, как будто ничего особенного не произошло. Так как брат не двигался с места, Георг спокойно спросил:
— Что ты еще запланировал на сегодня?
— Я? — удивился Кристоф. — Разве это интересно, что я еще на сегодня запланировал? Кажется, здесь никого не интересует, о чем я думаю и что я запланировал.
— Прошу тебя, — сказал Хойкен, — не утрируй. Ты сам знаешь, как это бывает, когда дело идет к концу, а тут кто-то приходит и нужно начинать все сначала. Они устали, собирались уходить, перед глазами уже стоял обед и кофе на десерт.
Последний шаг будет таким: в узком кругу, с двумя-тремя сотрудниками, еще раз детально просмотреть программу. Еще ничего не знает Дипгес. Он должен в любом случае принимать в этом участие. Кроме него, Волле и Ротгербер. Итак, сбыт, реклама и печать. Соберемся, к примеру, как-нибудь вечером в «Рассвете». Хойкен еще никогда так не делал, он всегда избегал вечерних совещаний с сотрудниками и не задумывался над этим. Сейчас он заговорит по-другому, он представит дело так, будто эта идея пришла ему в голову случайно, и сразу добавит, что поймет, если они захотят провести свой вечер по-другому.
Может быть, это их разозлит, а может, заинтригует — встретиться поздним вечером и узнать его с другой стороны. С сыном патриарха в «Рассвете», за тарелкой супа с кислой капустой или порцией жареной говядины с яйцом — это довольно заманчиво. Почему бы не пожертвовать для этого одним вечером? Ханна Ротгербер придет, он в этом почти уверен. Она достаточно умна и не пожалеет одного вечера для отпрыска своего шефа. Волле придется сделать над собой усилие и вести себя при встрече сдержаннее. Дипгес наверняка придет в любом случае, но перед этим будет долго обдумывать, как вести себя за столом. Не стоит заказывать слишком много пива и, конечно, никаких бобов с салом и соленой картошкой, возможно, пирог со шкварками и салат или, лучше всего, кёльнская отбивная, слегка поджаренная говядина со сметаной и к ней жареный картофель. В детстве отец часто водил их в воскресенье после обедни в «Рассвет». Обычно он заказывал столик в углу зала. Поначалу мама еще ходила с ними, но отец всегда потешался над женщинами, которые сидели в ресторане, потягивая минеральную воду, возле своих мужчин, пьющих пиво. Собор и «Рассвет», как долго Хойкен не был ни там, ни там! Странно, что он по каким-то неясным причинам от этого отвык, а сейчас возвращается снова, волнуясь и радуясь одновременно.
— Ты мне так и не сказал, где будешь ночевать, — сказал он Кристофу.
— Где я буду ночевать? — ответил Кристоф. — Дома, конечно, Лизель будет очень рада.
— А Урсула? Когда она приезжает?
— Она приезжает сегодня вечером и тоже переночует дома. Теперь ты спокоен?
Хойкен не ответил. Он взял документы и направился к двери. Нет, он не спокоен, потому что ему не нравится, что брат и сестра будут ночевать в родительском доме. Он должен был спросить Лизель, есть ли завещание и где оно находится, да и она должна была подготовиться к такому набегу. К ее великой радости, почти вся семья соберется вместе и будет с кем поболтать.
Когда Кристоф открыл перед ним дверь и они бок о бок вышли в коридор, Георга начало немного знобить. В детстве он не любил ходить рядом с братом. Две большие, совершенно одинаковые фигуры создавали комичное впечатление не только в его глазах. Двое мужчин, которых можно было принять за близнецов, два худых, долговязых типа, один из которых сразу убегал, когда другой просто подрагивал мускулами. Оказавшись вместе, они постоянно следили друг за другом. Ни одному не удавалось сделать движение, чтобы другой тут же не ответил на него, а то и опередил. Но если при этом была Урсула, все было совсем по-другому. Ее присутствие сглаживало их постоянные судорожные движения, так что они снова превращались в двух отдельных парней, которые реагировали друг на друга не постоянно. Вот почему у отца возникла такая идея о наследстве — с одной стороны, современная и демократичная, а с другой — несколько архаичная. Поместить три родственные субстанции в одну колбу и наблюдать, как они друг друга выталкивают, связываются или распадаются. Хойкен вдруг представил себе светло-голубую жидкость, в которой плавают три кусочка краски, вступая в новые соединения.
Когда они подошли к его кабинету, Кристоф снова оживился:
— Скажи, кто, собственно говоря, эта красавица у тебя в приемной? Я ее никогда здесь не видел. С удовольствием сделал бы ей предложение поехать со мной в Штуттгарт. Я платил бы ей вдвое больше, чем ты, скряга, наверное, платишь.
Хойкен сделал вид, что не расслышал. Сейчас он хотел только одного — как можно быстрее отвязаться от этого хвастуна.
— Встретимся сегодня вечером в «Le Moineau», — сказал он тихо. — На который час ты заказал столик?
— На восемь часов, — ответил Кристоф. У него было продолговатое, словно лошадиное лицо, какое часто встречается у молодых мужчин из Рейнланда. Хойкен подумал, что, когда такие типы ухмыляются, сразу хочется дать им по морде — два-три точных удара в их наглые широкие челюсти.
— До вечера, — сказал Хойкен быстро, потом вошел в приемную и тут же закрыл за собой дверь. Яны в комнате не было, только компьютер тихо гудел и заставка, которую на прощание подарил фирме один практикант, разматывала свой бесконечный путь, который сотрудники трех расположенных ниже этажей находили просто тошнотворным. Фантастически быстрый и бесплотный, ты скользишь с невидимой камерой сквозь ходы и коридоры здания концерна. Иногда попадаешь в тупик, и тогда появляется красно-коричневая кирпичная стена, которая, однако, сразу отодвигается в сторону или поворачивается на месте, рассыпая по картинке маленьких мышек и толстых лохматых крыс. Или маленький фонтан плещется так торжественно, как будто это тайный Грааль. Хойкену все это не нравилось. Каждый раз, когда его взгляд падал на эти картинки, он быстро отводил глаза. Он прошел в свой кабинет и попробовал связаться с Лизель.
— Лизель? Это Георг. Кристоф сейчас в концерне. Он был у тебя до обеда? — Георг слышал, как она помедлила, точно обдумывала, что он хочет от нее узнать.
— Нет, он еще здесь не был, только позвонил, и я приготовила для него и для Урсулы комнаты.
— Прекрасно, Лизель, все в порядке, они должны хорошо себя чувствовать. Пожалуйста, не пугайся, если я задам тебе еще один личный вопрос.
— Что ты хочешь знать?
— Ты знаешь, существует ли завещание, и, возможно, тебе известно, где оно находится?
На сей раз Лизель не медлила, она ответила так быстро и тихо, словно они были заговорщиками:
— Завещание есть, Георг, и в нем сказано как раз то, о чем я тебе вчера говорила.
— Спасибо, Лизель. К счастью, я это знаю, — ответил Хойкен, — но прошу, не говори ничего этим двоим, я не хотел бы, чтобы они были проинформированы об этом уже сейчас.
— Я не собираюсь с ними об этом говорить, — сказала Лизель Бургер. — Мне бы хотелось, чтобы дело решилось в твою пользу, и тебе это известно.
— Да, Лизель, я это знаю. Но ты знаешь, где оно находится. Знаешь?
— Нет, Георг, этого я не знаю. Оно находится где-то в этом доме, но где точно твой отец его прячет, мне неизвестно. Мы никогда не говорили с ним об этом.
Ее слова звучали правдоподобно. Георг полностью доверял ей. Если бы Лизель знала, где тайник, она должна была бы показать его хотя бы одному человеку. Такую тайну она никогда не смогла бы держать в себе. Но этот один человек, кто он? У Лизель не было друзей, которым бы она доверяла. Это не мог быть никто, кроме него. Только он подходил для этого.
— Спасибо, Лизель, я на тебя полагаюсь. Мы обедаем сегодня вечером в «Le Moineau». Потом эти двое поедут к тебе. Я не поеду с ними, ты понимаешь, почему.
— Да, Георг, понимаю. Не волнуйся, от меня они не узнают ничего.
— Хорошо, большое спасибо, Лизель. Да, еще одно. Ты поедешь сегодня в клинику?
— Да, я собиралась.
— Я был там утром. Это ужасное зрелище, ты должна об этом знать.
— Я все равно поеду туда. Я обязательно хочу его видеть.
Хойкен попрощался, отложил телефон в сторону и на минуту закрыл глаза. Знает ли Лизель старый дом так же хорошо, как он? Во всяком случае, его брат и сестра знали дом гораздо хуже. Георг был первенцем и раньше, чем они, обследовал каждый уголок родного дома. Библиотека с двумя шкафами, которые закрывались на ключ и в которых отец иногда хранил взятые домой рукописи. Маленький встроенный в стену шкаф, в котором находились его часы, запонки и другие дорогие вещи. Три-четыре наметки в этом направлении Хойкен уже мог сделать. Если ему никто не помешает, он сможет подтвердить свое предположение.
Открыв глаза, он увидел CD, который Яна положила на пачку писем. Он и в самом деле назывался «Lamento». Магдалена Кошш смотрела с обложки так пристально, словно ее взгляд был предназначен только ему одному. Точно, как Хойкен и предполагал — статная женщина с длинными белыми волосами и, конечно, звучащим по-славянски низко меццо-сопрано, которое сопровождала музыка оригинальных инструментов. Флейта, гобой, фагот, пара струнных смычковых и, безусловно, клавесин. Хойкен был намерен хорошо подготовиться к субботе, чтобы на концерте не ударить в грязь лицом, если Яна вдруг поинтересуется его впечатлениями.
Хойкен почувствовал сильный голод. Слегка поджаренная говядина со сметаной и жареным картофелем в «Рассвете» была бы в самый раз. Он позвонит Петеру Файлю, который сидит внизу в бистро и ждет его, и спросит, не поедет ли он с ним в центр города чего-нибудь поесть. Петер Файль будет рад. Он будет говорить о чем-нибудь маленьком, вкусненьком, а потом не будет знать, что же именно ему заказать. «Вот такие они, эти молодые торопыги, — думал Хойкен. — Они и стильные, и компетентные, но за всю жизнь так и не приобрели правильных понятий».
5
Через полчаса они стояли у входа в «Рассвет». В это обеденное время помещение ресторана было переполнено, и они не нашли ни одного свободного столика. Ожидая, когда где-нибудь освободится место, они пили свое кёльнское пиво. Хойкену нравилось стоять среда небольших групп пьющих людей, к которым постоянно спешили официантки со свеженацеженным пивом. Петер Файль сегодня был в хорошем настроении. Он стряхнул с себя тревожную тяжесть вчерашнего дня и прекрасно ориентировался в потоке людей, как будто был в этом темном помещении с терпким запахом пива своим человеком. Хойкен мог не беспокоиться о том, как поддержать разговор. Подогретый пивом, Файль говорил почти без остановки. Еще работая редактором, он каждый день заходил сюда, чтобы показать себя и обсудить самые животрепещущие новости с коллегами и друзьями. Все это было не так давно, и его еще хорошо помнили. Петера постоянно кто-то приветствовал или о чем-то спрашивал. Можно было подумать, что он был здесь связующим звеном всех этих непрерывно говорящих людей, которые были только тем и заняты, что демонстрировали друг другу свое блестящее остроумие. Хойкен был на это не мастак. Он стоял чуть в стороне. Здесь никто его не знал, а если бы и знал, то не проявил бы к нему никакого интереса. В этом месте его ранг и имя не имели значения. Он знал, что прежде всего здесь ценилась способность выдать экспромтом пару острот. Так как у Георга это не очень хорошо получалось, он просто слушал рассказы Петера Файля о том, как тот в молодости водил туристические группы пивными маршрутами от одной пивоварни к другой.
Было шумно. Официанты в светло-голубых шерстяных жакетах и темных фартуках носились вокруг больших бочек, из которых за секунду набирался двухсотграммовый бокал пива. Дальше направо ставили пустые бокалы, которые перекладывали на крутящуюся подставку. От деревянного прилавка по всему залу разносили свежее пиво и ставили рядом с закуской. Пища была сытной и, как правило, жирной — нарезанная колбаса, буженина или даже блюда потяжелее — жареная копченая колбаса, уложенная на слой кислой капусты, залитой бульоном. У входа потоки посетителей соединялись и вливались в зал уже одной большой толпой, которая затем разделялась и оседала между столиками. Время от времени кто-нибудь ненадолго останавливался возле Файля. Все слова и обрывки фраз, непрерывное подбадривание и подшучивание он, кажется, как пиво, пропускал через себя. В тот день Петер был явно в ударе, потому что говорил почти непрерывно. Он рассказывал об отличительных признаках различных сортов пива. «Гаффель-Кёльнское», «Мюлен-Кёльнское», «Райссдорф-Кёльнское» — Файль обладал обширными познаниями в этой области, которые, казалось, можно получить только благодаря многолетней учебе. На мгновение Хойкен даже заподозрил, что ему это импонирует. Потом, однако, он отбросил эти мысли и больше не прислушивался к болтовне Петера. Вокруг было так шумно, что Георг мог слышать только обрывки фраз. Вместо того чтобы так утруждать себя, пытаясь расслышать каждое слово, он представил себе Файля как собеседника отца и сразу же понял, почему старик так ценил его. Живой темперамент Файля, его детская наивность действовали успокаивающе, как будто говорили всем и каждому: «У меня никаких проблем». В нем была какая-то легкость и свобода, что очень приятно в собеседнике, особенно когда ты имеешь дело с людьми, которые без кучи проблем совершенно не могут жить.
Не прошло и десяти минут, как Петер подал знак, что где-то в глубине зала освободился маленький столик на двоих. Хойкен шел за Файлем в полутьме, оба держали по бокалу пива в руке. Пена долго держалась у края бокала, а потом, словно белая гардина, медленно поползла вниз.
— Итак, — сказал Петер Файль и вдруг вынул из маленького бесформенного мешка, который он всюду таскал за собой, ноутбук. — Вы наверняка хотите знать, как далеко я продвинулся.
Хойкен сделал глоток пива и потер липкие от пены пальцы друг о друга. Ноутбук лежал на столе, словно интересная новая игрушка. Десять лет назад Файль достал бы записную книжку с неразборчивыми каракулями вместе с небрежно завернутым в грубую вощеную бумагу бутербродом. Бутерброд он тут же застенчиво затолкал бы снова в мешок. Однако сейчас все это было уже не так просто и трогательно. «Эта маленькая штука все вытеснила и проглотила, даже отняла аппетит у своих пользователей», — подумал Хойкен. Наброски биографии, список покупок, письма, фотографии и фильмы — вся жизнь и работа маленького беспокойного человека, с которым Хойкен пил пиво, поместилась в этом маленьком предмете. Георг невольно откинулся назад, когда из ноутбука его глазам предстали некоторые подробности его легендарных предков, которых он ни в коем случае не хотел касаться.
— Нет, Петер, — сказал он решительно. — Вы неверно поняли мой звонок. Я с удовольствием поговорю о вашей книге, но хотел встретиться с вами совсем не для этого.
Его слова, казалось, не произвели на Файля никакого впечатления. Он продолжал показывать пальцем на что-то в своем ноутбуке.
— Так мы встретились не по поводу биографии? — спросил он, как во сне, продолжая машинально постукивать пальцем по клавиатуре, как будто должен был сейчас исполнить какую-то программу и при этом следовать инструкции до конца.
Хойкен с минуту молча смотрел на него и почему-то вспомнил, как пропустил начало этой всеобщей мании. Все началось где-то в начале 80-х с того топорного ящика, который выглядел как микроволновая печь с заставкой. Хойкен не совсем хорошо понимал, как с ним управляться, и поручал техническую сторону работы другим. А теперь уже слишком поздно, для него поезд давно ушел. Между прочим, эти штуки со всей сопровождающей их шумихой и вечными дефектами были типичным фетишем для служащих. Гигабайты рухляди, отбросов и грязи, которые создавались только для того, чтобы наполнять это гигантское мусорное ведро до краев.
С тех пор как компьютеры стали встречаться повсюду, Хойкен не мог подавить отвращения, которое они ему всегда внушали. В каждом кабинете концерна стояли мониторы и блоки памяти, словно недоразвитые капризные существа, которые парализуют половину отделов. Он знал, что есть сотрудники, которые сразу отвечают на каждое поступившее по электронной почте письмо, не говоря уже о тех, которые по поводу любой проблемы или самого элементарного вопроса сразу ныряют в Интернет, чтобы пообщаться и отвлечься от собственных проблем. Как человек, имеющий дело с книгами, в своем противостоянии с Сетью Хойкен пошел по другому пути — он использовал ее от случая к случаю и без малейших уколов самолюбия демонстрировал свою независимость от этого аппарата. Георг слишком давно родился для всего этого. Если бы лет на десять-двенадцать позже… Он принадлежал к тому поколению, которое выросло еще без телевизора. Несколько лет назад он расценивал это как недостаток, но вместе с тем почти тосковал по 50-м годам, тишина и покой которых действовали благотворно и помогали сосредоточиться. По крайней мере, от тех времен остались аппараты, продающие квашеную капусту с пюре. Именно это он должен заказать, сейчас же. Хойкен спросил, что заказать Файлю.
— Что берете вы, Петер? — спросил он. — Что вам по вкусу?
— Днем я ем немного, — ответил Файль, — много еды просто не переношу. Иногда я представляю себя какой-то старой калошей, которая может съесть самое большее теплую корочку.
— Совсем неплохо, — заметил Хойкен. — Теплая корочка — это как раз то, что нужно. Что-нибудь маленькое, вкусненькое, не могу ли я вас этим соблазнить?
— Мне всегда так тяжело выбирать, — сказал Петер Файль. — Заказывайте вы, я не откажусь, а если не хватит, просто закажем еще.
Он встал и протиснулся между узкими сиденьями. «Эти тревожные, жестко поделенные ноутбуком на отрезки жизненные ритмы, — подумал Хойкен, — в них даже мочиться нужно быстрее обычного. Наверное, прежде струя мочи была куда более сочной и тугой, чем теперешняя, бесконечно тонкая и все убывающая. Вот почему сегодня молодые торопыги каждые две минуты бегают в клозет».
Позже, намного позже он сам спустится в туалет. Его струя мочи будет совсем другая, она сможет утопить полгорода, и этот равномерный светлый поток будет являться не чем иным, как немного измененной, но все еще узнаваемой переработкой светло-золотистого кёльнского пива.
В те годы, когда он был мальчишкой, перед входом в мужской туалет стоял круглый табурет, а на нем — белое блюдечко, в которое все бросали по десять пфеннигов. Монетки звонко ударялись о фарфор. На этот звук быстро выходил пожилой мужчина, который в ответ на «большое спасибо» прятался где-нибудь в подсобке, где играл карманный радиоприемник. В первый раз Георг услышал такой радиоприемник именно здесь. В воскресенье после обеда всегда транслировались футбольные передачи или музыка, танцевальная и легкая. Эти мелодии и сегодня звучат у него в ушах, напоминая о детстве каждый раз, когда он спускается по ступенькам в туалет.
— А, лакомая теплая корочка, — улыбнулся Петер Файль, вернувшись и окинув взглядом то, что принес официант. Маленькие порции буженины и копченой итальянской колбасы, обе с рогаликами — блюдо, которым подкреплялись в одиннадцать часов в те далекие времена, когда все еще работали в правильном режиме. Хойкен заказал маленький горшочек горчицы и два кёльнских, а потом сказал:
— Петер, вчера я долго разговаривал с Лизель Бургер. Я спросил, почему мой отец все время посещает отель «Соборный», она ответила, что я должен поговорить с тобой, потому что ты лучше всех знаешь, что происходит в отеле по ночам.
— Не хотите же вы сказать, что ничего не знали об этом? — удивился Петер Файль.
— Конечно, знал, — солгал Хойкен, — но не предполагал, что мой отец бывает в отеле так часто. Я никогда не разговаривал об этом ни с ним, ни с кем-либо другим. Я этим просто не интересовался.
— И что же интересует вас сейчас? — спросил Петер.
Хойкену на секунду показалось, что перед ним сидит совершенно другой человек, Файля словно подменили. В один миг он стал собранным и настороженным, как будто в другом участке его мозга включился инстинкт самосохранения, который ничего не знал о теплой корочке. Хойкен моментально отметил про себя эту перемену. Он понял, что нужно быть осторожным. Он должен завоевать доверие Петера Файля или, если это не удастся, хотя бы не заходить со своими расспросами слишком далеко.
— Жив ли еще ваш отец, Петер? — спросил он спокойно.
— Нет, — ответил Файль.
— И давно он умер?
— Три года тому назад.
— Когда вы вспоминаете об отце, не возникает ли у вас желание спросить его о чем-то таком, о чем вы не успели спросить, когда он был еще жив?
Файль посмотрел ему прямо в глаза, словно хотел найти в них твердую опору. Вопрос Хойкена выходил за те рамки, которых до сих пор, в течение их короткого знакомства, оба придерживались. Если Петер сейчас ответит, они перейдут в фазу «взаимоотношений двух мужчин», как это называется в американских фильмах.
— Знаете, господин Хойкен, — сказал Файль тихо и положил свою вилку на край тарелки, — за эти годы я много думал обо всем, что связано с моим отцом.
Итак, он зашел не слишком далеко. Чтобы наладить общение, потребуется еще немного времени. Хойкен попробовал улыбнуться и спросил:
— Вам нравится колбаса или лучше закажем что-нибудь другое? — Файль не ответил. Он продолжал пристально смотреть ему в глаза, а потом задумчиво уставился на колбасу. «Откуда у этих молодых такая недоверчивость? — размышлял Хойкен. — Вероятно, это происходит из-за их раннего приобщения к телевизору. С малых лет сидеть перед ящиком, смотреть на эти подлые, ужасно жестокие поступки… От этого станешь таким настороженным и боязливым, что перестанешь доверять даже самому себе. Поэтому все свои чувства они собирают в файл и защищают его паролем, словно кто-то внушил им, что ноутбук можно использовать в качестве сейфа, оберегающего их сердце. И чтобы положить туда новую тайну, стоит только быстро открыть дверцу».
— Колбаса хорошая, — сказал Петер Файль и вылил каплю горчицы на край тарелки. — Собственно говоря, я так и не понял, к чему вы клоните.
— Моему отцу очень плохо, Петер, в настоящий момент я не могу беспокоить его какими-нибудь вопросами. Но я хочу знать, чем отец занимался в отеле. Я хочу составить себе представление о его положении, вы понимаете?
Файль повозил маленьким кусочком колбасы по горчице. Видя, как он еще какое-то время так игрался и медлил перед тем, как отправить колбасу в рот, Хойкен понял, что сейчас потеряет всю свою сдержанность.
— Не знаю, смогу ли я помочь вам, господин Хойкен, — начал Файль. — За последние несколько месяцев я и сам не раз об этом задумывался, но прямо не спрашивал вашего отца. Я только могу сказать по этому поводу то, что он получал от этого удовольствие. Я всегда видел господина Хойкена в отличной форме. Больше всего ему нравилось сидеть в баре отеля, а вот ресторан он, наоборот, совершенно не любил и никогда там не ел. Красный ковер, безвкусная мебель, молодые официанты, на которых достаточно один раз взглянуть — и станет ясно, что они из Зауэрланда, — это было не для него. Господин Хойкен часто говорил, что у этого ресторана нет никакого шарма, он выглядит, как длинный вагон-ресторан, куда идешь, если не найдешь ничего лучше. Поэтому он пришел к мысли, чтобы ему приносили еду прямо в номер. Он заказывал ее в новом магазине, который открылся здесь, возле «Рассвета». «Деликатесы «Рассвета» — вот как он называется. Больше всего ему нравилось, когда я приносил ему в номер продукты, по большей части — маленькие, красиво оформленные салаты, хороший хлеб и все эти аппетитные соусы, да вы все это знаете. Я приносил их в белых пакетах с красным логотипом «Рассвета» и укладывал в специально для него встроенном, довольно вместительном мини-баре. Конечно, там были вино и шампанское, хотя он в этом отношении был довольно сдержанным. Если он хотел выпить, то спускался, как я уже сказал, в бар. Там он часто сидел до глубокой ночи, всегда с кем-нибудь беседуя, и никогда не оставался один.
Теперь Хойкен мог представить себе: слегка закусив у себя в номере, выпив бокал вина и бокал шампанского, отец спускается по небольшой лестнице в бар, где скоро соберет свой круг, чтобы пообщаться. Две-три кубинские сигары, один «Магнум», бутылка «Veuve Cliquot», позже — напитки покрепче, виски, конечно, «The Singleton of Auchroisk» почти тридцатилетней выдержки. «Sir Peter Ustinov’s Bar» был его салоном. Вероятно, старик обосновался там, словно король, которого всегда ожидала целая толпа людей, понятия не имеющих, с кем они встречались.
— Вы сказали, Петер, что он с удовольствием общался в баре, но знаете ли вы, с кем? Приглашал он туда своих знакомых или друзей из Кёльна, или это были чужие, случайные посетители?
— Не могу сказать точно, господин Хойкен. В конце концов, я не всегда был с ним. Но, насколько могу судить, со знакомыми он встречался реже, чем, как вы выразились, с чужими. Он был любопытным и интересовался, о чем они думают, что с ними происходит. Я уверен, он создавал себе картину тем и чувств, волнующих его собеседников, потому что все время находился в поиске новых идей для книг. Последние годы он все больше и больше тревожился за будущее своих издательств и всего концерна.
— Он делился этими тревогами?
— Да. Он говорил иногда, что сейчас книги не делают, а позволяют делать. Издатели ждут, чтобы агенты приходили с новыми названиями, они покупают то, что им предлагают. И что в итоге? Они не создают больше собственных программ и ничего не планируют. Ваш отец говорил: «Раньше мы сами открывали своих писателей и выращивали их. Раньше издатели сами придумывали названия. Мы были не зависимыми от вкусов других людей, мы имели свой собственный вкус. Мы устраивали дебаты и дискуссии и формировали книги, вместо того чтобы только заносить их в сборник, когда они поступили в продажу».
Хойкен удивлялся тому, с каким воодушевлением говорил его собеседник. Итак, он не только зависел от отца, но каждое его слово воспринимал как глубокую мудрость. Вероятно, в течение двух последних лет отец все больше покорял его, так что из Файля получился биограф, который не только кропотливо собирал материал, но и всей душой любил своего шефа. Биограф, который верит всему, что сообщает ему его объект. Биограф, которому через некоторое время уже не удастся сохранить и малейшей дистанции между собой и своим предметом. Только сейчас Георг постиг, кто перед ним сидит.
— Лизель Бургер, — сказал Хойкен, — ничего не рассказывала об этом. Но она говорила, что отец вечерами часто уезжал, причем было видно, что эти поездки доставляют ему удовольствие.
— Да, конечно. Иногда он, к примеру, посещал филармонию или театр или шел в хороший ресторан.
Отец один на концерте или в ресторане — этого Георг не мог себе представить. Думая, нужно ли подробно расспрашивать об этом, Хойкен положил в рот последний кусок буженины и какое-то время смаковал соленые, вызывающие жажду волокна, застрявшие между зубами.
— Несомненно, сейчас вы спросите меня о том, что называют «женскими историями», — сказал Петер Файль.
— Н-да, — отвечал Хойкен, — вы настоящий профи, Петер, вы знаете свое дело. Как раз сейчас я и обдумывал, как мне вас об этом спросить.
— Давайте сведем все к одной простой и короткой формуле: я ничего не знаю об этом.
— Что? Вы ничего не знаете? Этого не может быть. Чтобы вы совсем ничего не знали, это просто невозможно.
— Однако это так, господин Хойкен. Я действительно не знаю совсем ничего. У вашего отца тоже были свои секреты.
— Ага, у него были секреты, хотя бы это вы знаете. Пожалуйста, скажите мне, что вам еще известно. Можете быть уверены, что это останется между нами.
Петер Файль съел свою копченую итальянскую колбасу. Теперь он был носителем тайны, и ему хотелось пококетничать.
— Иногда, когда я приносил деликатесы в номер, ваш отец прятал в ванной комнате еще одного человека, я это знаю. Дважды я видел вашего отца, правда, на большом расстоянии, в сопровождении женщины. Она держала его под руку.
— В обоих случаях это была одна и та же женщина?
— Да, я уверен, это была одна и та же женщина.
— Но вы не знаете, кто это?
— Нет, господин Хойкен, не имею ни малейшего понятия. Я видел ее только издали. Кроме того, думаю, что ваш отец не хотел меня с ней знакомить, и с этим я должен был считаться.
Мало-помалу «Рассвет» снова пустел. Первые посетители толпами пробирались к выходу, а гул голосов в зале стал даже громче.
— Спасибо, Петер. Вы мне очень помогли, — сказал Хойкен. — Вы же понимаете, что я не могу сейчас говорить с отцом о таких вещах. Я не имел никакого представления о том, как он проводил время в этом отеле и что стоит за этой таинственностью. Но сейчас мне уже кое-что понятно. Я хотел бы выяснить еще только один маленький вопрос.
— Что именно?
— Кип 730150 — вам это о чем-нибудь говорит?
— Кип? Вы имеете в виду Кип-номер? Это же заметки, которые ставят перед выходными данными книг. Все эти указания для начала сокращенного названия книги в библиографии, я прав?
— Да, это мне уже ясно. Наверное, так оно и есть. Но мой отец записал этот номер на отдельном листке, который лежал на письменном столе в его номере, так что я думаю, это что-то другое, более важное.
— Что-то важное? Возможно, это какое-нибудь суперзаглавие или необычная идея новой книги, что-нибудь в этом роде. Должен ли я позаботиться об этом, попытаться выяснить, о чем идет речь?
— Если бы вы это сделали, вы бы мне очень помогли. Тогда я сделал бы еще один маленький шаг вперед и знал бы больше.
— Какой был номер?
— Кип 730150.
— Хорошо, я все сохранил. Я позабочусь об этом. Могу я что-нибудь еще для вас сделать?
— Нет, Петер. В настоящее время — нет. Я просто свяжусь с вами или вы свяжетесь со мной. Как-нибудь мы снова встретимся.
— А что с биографией? Не хотите ли хотя бы просмотреть ее?
Сейчас, после того как он наелся и выложил все, что знал, Петер Файль снова коснулся руками ноутбука. «Как будто провел пальцами вдоль ларца для хранения святого причастия, в котором самое святое ожидало, когда его выставят на всеобщее обозрение», — подумал Хойкен. От разговора и выпитого пива он чувствовал себя уставшим. Сейчас у него не было ни малейшего желания углубляться в биографию отца, но было уже поздно. Проворные пальцы Петера Файля на сей раз были очень быстрыми. Маленькая противная штука открыла пасть и прожужжала свою назойливую приветственную мелодию. На экран быстро выскочила смешная желтая папка с названиями глав: «Детство и юность», «Годы учебы», «Послевоенное время» — целая жизнь, маниакально упорядоченная и упакованная. Курсор поискал, что бы еще упаковать, а потом из темноты вынырнуло заглавие титульного листа, напечатанное черными прописными буквами — «Рейнхард фон Хойкен: биография издателя». Хойкен смотрел на все это, как на сцену, на которой разыгрывается волшебная пьеса, а он ничего не может с этим поделать. Петер Файль перепрыгнул через предисловие и очаровал его началом. Хойкен увидел две страницы отсканированных фотографий. Он сразу узнал их, очевидно, это были фотографии Августа Сандерса[16] из тех 30-х годов, которые хранили старый, еще не разрушенный Кёльн. Безлюдные улицы и площади Кёльна в ослепительном солнечном свете. Широкие просторы Рейна в утреннем тумане. Хойкен сглотнул. Полнота и совершенство материала притягивали его. Ему очень хотелось прямо сейчас взять корректор и поработать над этими строчками — перечеркивать, сокращать, переставлять, улучшать. Он не хотел просто читать то, что там находилось и вело себя так, будто оно непогрешимо.
— Видите, — сказал Петер Файль, — книга уже почти готова, девятнадцать глав, еще одной не хватает.
— Покажите-ка, — ответил Хойкен. — Найдите последнюю главу. Где вы остановились?
Петер Файль повиновался, но курсор вел себя самостоятельно и остался стоять как примороженный. Внезапно из ниоткуда вынырнули те фотографии разрушенного бомбежками Кёльна, которые Хойкен уже видел: из воды торчали остатки разбитого моста, от домов остались одни фасады, между которыми тут и там высились холмы мусора и кирпича. Каждый раз Георг вздрагивал, видя это. Над письменным столом в рабочем кабинете отца раньше висела фотография черного, почти разрушенного собора, в котором еле теплилась жизнь. В этом было что-то ужасное, и Хойкен всегда отводил глаза. От вида разрушения и смерти ему становилось тяжело дышать.
— Но это же не последняя глава, — произнес Хойкен раздраженно.
И тут появились страницы заключительной главы. Она называлась «Перспектива». Здесь были фотографии взрослых детей великого издателя. Хойкен стоял с Урсулой и Кристофом на берегу Рейна. Вся троица казалась бодрой и почти жизнерадостной, как будто им, таким дружным и сплоченным, нечего было волноваться о своем будущем. Странное дело, на Урсуле белые гольфы, хотя она уже была взрослой женщиной и тогда, когда была сделана эта фотография, как раз закончила свою учебу. Кристоф держал в правой руке очень тонкую сигарету. Хойкен среди этих двух, выглядевших значительно моложе, был помечен как первый, старший брат.
— Выглядит так, словно до завершения не хватает двух-трех деталей, — заметил он спокойно.
Петер Файль быстро посмотрел вверх и нажал кнопки для завершения программы.
— У меня есть распечатанная версия книги. Если хотите, можете прямо сейчас взять ее с собой, — быстро сказал он.
Конечно, у него все было под рукой — и распечатанный вариант, и копия на дискете, и вероятно, даже на CD. Наверняка он уже подумывал о сценарии для фильма, а потом и видеокассеты, и DVD с коротким предисловием главного бургомистра. Сегодня все препарируют собранные по крупицам сведения о себе для всех мыслимых СМИ, порционно или «в полном формате», как это всегда называют особенно продвинутые ребята из отдела программирования. «Рейнхард фон Хойкен — жизнь в фотографиях», «Сага о Хойкенах», часть 1. «Два брата с Рейна».
— Да, Петер, хорошо, я возьму ее с собой. Будет интересно почитать ее дома, в спокойной обстановке, — согласился Хойкен.
Петер Файль ни на что другое и не рассчитывал. Он быстро вынул из-под стола темно-красную пухлую папку и положил ее возле пустых тарелок.
— Желаю вам получить от этого удовольствие, — сказал он очень серьезно, затем встал, забросил маленький помятый мешок на плечо и попрощался.
6
Хойкен остался сидеть за чистым, убранным столиком. Только сейчас он почувствовал, что начинает что-то понимать. Георг открыл папку и полистал страницы, но потом отодвинул ее в сторону и сидел неподвижно, глядя на свет, падающий в зал с улицы. Ему захотелось хорошего, крепкого кофе или чего-нибудь другого, бодрящего. На него навалилась усталость, она давила на глаза, как маленькие гирьки. В «Рассвете» нельзя было рассчитывать на хороший кофе, и тот, что подавали в «Starbucks» напротив, тоже невозможно было пить. Для него, немца, это было что-то вроде бульона с различными шапочками из взбитых сливок в этих отвратительных картонных стаканчиках «coffe to go». Хойкен немного подумал и заказал можжевеловку. Когда он вспомнил о предстоящем вечере, то сразу сник. С каким удовольствием он бы остался сидеть в «Рассвете» весь остаток дня, а вечером поужинал здесь с братом и сестрой!
Он думал о том, что сказал Петер Файль. Значит, отец беспокоился. Иногда Хойкен замечал, что старик о чем-то размышляет, но они никогда не говорили о том, что его волновало. Георг, конечно, понимал, что в последние годы отец был недоволен работой в области издательства книг. У отца никогда не было даже полугодовой программы. Он планировал обширные, масштабные проекты. Втайне старик сравнивал все с послевоенной разрухой конца 40-х, когда он намечал свои первые серии карманных книжек, или с началом 60-х, когда со своими произведениями на рынок вырвалось новое, молодое поколение. Отец все время ждал чего-то похожего, хотя говорил, что сравнить настоящее время с теми годами невозможно. Тогда было совсем нетрудно совершать настоящие открытия, многие зарубежные писатели в Германии были еще не известны, к тому же появлялись неизвестные ранее работы эмигрантов. Всем этим авторам не нужно было искать себе темы для творчества. Их книги дышали тем, что они пережили в ужасные годы войны. Сейчас все по-другому. Для молодых первый бутерброд с «Нутеллой» несет в себе такие сильные впечатления, что может вполне серьезно считаться темой.
Хойкен вышел из-за стола и стал пробираться к лестнице. Он быстро и довольно энергично спустился вниз. Можжевеловка оказалась очень неплохой. Вся эта атмосфера пивоварни вызвала у него идею о легкомысленном фильме для рекламы. В туалете, возле постоянно промывающихся писсуаров, стояли двое мужчин и беседовали, пока справляли свою нужду. Хойкен поискал свободную кабину, но не нашел и присоединился к ним. Собственно говоря, у писсуара никогда не бываешь один. Журчит вода, слово за слово — в любое время совершенно естественно можно включиться в разговор, как будто ты принадлежишь к обществу, которое встречается здесь каждый день. Но Георг никогда не участвовал в таких сценах. Он всегда сторонился их. Замкнутый, осторожный, целеустремленный. Наверное, в этом была его ошибка. Во всяком случае, теперь он стал понимать, что в его характере есть что-то однобокое, и отец, вероятно, думал так же. В концерне он слыл человеком финансовой и рыночной стратегии. С детства Георг обожал считать. Человек вроде него отправится на скачки, имея с собой четыреста евро, и вернется не в убытке, хоть и без крупного выигрыша. Он считает и подводит баланс. Он точно знает, как при стартовом капитале в тысячу мешков арахиса сделать этот бизнес успешным. Под руководством Хойкена концерн никогда не станет банкротом. Ведь он — продавец без малейшей склонности к спекуляции, которая может привести к краху.
Иногда Георг чувствовал недоверие по отношению к авторам. Он считал их тронутыми, странными и не вполне надежными типами. Многие из них были бесконечно наивными и ужасно самоуверенными. Он не мог понять, почему какой-нибудь чудак вкладывает в свою работу так много сил и времени, не рассчитывая получить за это соответствующее вознаграждение. Непродаваемые шедевры внушали Хойкену ужас. Больше всего он любил иметь дело с авторами, у которых была разумная самооценка, хотя такие встречались редко, а за холодный разум их почти презирали.
Лет десять-двенадцать назад литераторы-новички были еще довольно робкими и сидели перед ним так, будто должны извиниться за свою рукопись. Казалось, они считали помещение издательства священным местом, куда не имели права заходить. Они могли даже подписать договор, не прочитав его. Большинство авторов обычно получали стандартный гонорар, который составлял десять процентов. Отец говорил: «Оформить!», они пожимали друг другу руки, и потом долго от них не было ни слуху ни духу.
Но в середине 90-х внезапно появились совершенно другие типы. Это были перезрелые мужчины в мятых костюмах, купленных в магазине «second hand» за час до посещения издательства. Они бросали свои легковесные рукописи с таким видом, будто у них не так уж много времени и они очень заняты другими делами. Писали они как бы между прочим, работая диджеями, артистами, устроителями выставок или частными предпринимателями. С их точки зрения, рукопись была маленьким шедевром и свидетельствовала об их пристрастии к театральным эффектам. «Каждое выступление перед читателями — это представление», — сказал один из таких писак. Это высказывание стало в издательстве крылатой фразой. Как ни странно, старику такое поначалу нравилось, однако позже, когда эти выскочки появились на титульном листе «Шпигеля» как шикарно одетые чистоплюи, гордые тем, что они чьи-то потомки, отец больше не хотел с ними работать. «Мне нужны парни, а не чьи-то внуки», — сказал он и отдал приказ, запрещающий иметь дело с их агентами: «Молодых авторов, которые присылают вместо себя своих агентов, я не хочу больше видеть». Тогда это прозвучало как окончательное и жесткое решение, но, как всегда, отец позволял переубедить себя при помощи одного-единственного женского взгляда. Лина Эккель так и сделала. Отец одно время был от нее без ума.
Хойкен вымыл руки. Эти кёльнские напитки пробуждали в нем сплошные воспоминания, которые невозможно было удержать в себе. Их хотелось кому-нибудь рассказать, такими свежими и злободневными они вдруг оказались. Георг вынул из портмоне монету в два евро, бросил ее в белую тарелку у входа и пошел, насвистывая, снова наверх, за свой столик. Толстая папка Петера Файля все еще лежала рядом с пустыми приборами, как будто на ночном столике в спальне. Хойкен сел и заказал еще одну, последнюю порцию можжевеловки. Его переполняли воспоминания, и он хотел докрутить фильм до конца, поэтому позволил себе еще глоток. А может, он просто боялся, что его хорошее настроение вдруг исчезнет.
Лина Эккель… Отец знал ее как работника галереи и переводчицу, поэтому был заинтригован, когда она вдруг выступила в качестве агента. Чаще всего они встречались в обеденный перерыв и исчезали в каком-нибудь кафе. Согласно их общему ритуалу, отца приглашала Лина. Она выбирала для переговоров всякий раз новые рестораны и уютные уголки, при этом отец всегда выдавал аванс, уходя оттуда без нескольких сотен тысяч, как будто попадал не к Лине, а к разбойникам. Ему так нравились ее лаконичность, напор и дерзость, с которой она вымогала у него эти большие суммы, что ей не составило большого труда добиться отмены приказа относительно агентов. Однако, по-видимому, отцу еще больше нравились ее экстравагантные наряды, длинные платья с боковым разрезом, чулки-сеточки, цветные очки, плакатный оттенок ее губной помады… да буквально все.
Отец очень любил и умел знакомиться с женщинами, но, поразительно, на Лину это не распространялось. По непонятным причинам он всегда боялся ее и остановился на одной встрече в месяц, причем каждый мог бы поспорить, что он добивался ее расположения, потому что если отцу нравилась женщина, он сразу бросался на приступ. Никто не мог от него спрятаться — ни сотрудница издательства, ни, тем более, писательница, за которой, если она была ему интересна, отец начинал настойчиво ухаживать, с цветами и телефонными звонками. Многие из слабости уступали его натиску и потом были рядом с ним несколько недель или месяцев. Он называл их «часть моего пути». Многие ожидали, что от этого они быстро продвинутся по служебной лестнице, но очень ошибались, потому что именно подружки отца сразу выходили в издательстве из доверия. Иногда доходило до ссор между его избранницами, когда отец принимался за новую писательницу, тогда как старая еще была уверена, что фаворитка — она. Такая ситуация чаще всего заканчивалась потоком слез в каком-нибудь уединенном кафе, что нередко приводило к тому, что эти писательницы сходили со сцены и больше ни одной их книги в издательстве не видели.
А мама, как она выносила все это? Долгие годы она игнорировала подобные истории и молчала. У отца для всех своих выходок имелось алиби, и никто в доме о его похождениях не упоминал.
Хойкен расплатился и вышел из кафе. Ему совсем не хотелось видеть яркий свет. Он дошел до Соборной площади, и вдруг подул такой сильный ветер, что Георг, втянув голову, поспешил к стене ближайшего дома. Спотыкаясь, он медленно шел вдоль выставочного зала «Kösel», где продавались книги, и смотрел, много ли книг его издательства лежит на витрине. И сразу на Хойкена навалились нерешенные проблемы сбыта. Никто не мог посоветовать ему, как преуспеть в этой области. В раздумьях он постоял немного под аркой книжного магазина. Слева от него находился маленький магазин «Köln-Ticket», а за ним — романо-германский музей, куда он раньше часто ходил с детьми по воскресеньям. Хойкен вспомнил, как они по слогам старались прочитать и перевести все эти латинские надписи. С тех пор он уже все забыл, только с трудом мог вспомнить родословную императорского дома. Эта династия начиналась с Августа[17] и императрицы Ливии[18] и заканчивалась через многие поколения Нероном[19]. Почти все мужчины в этом роду были полководцами или наместниками и, по-видимому, все время были заняты войнами и набегами. Юлия, Агриппа и Агриппина — гибкий детский мозг легко запоминал такие имена, ему же приходилось все время заглядывать в справочник. Эти подробности давно уже стерлись из памяти, только иногда всплывали удивительные или, скорее, смешные мелочи — кислая физиономия мраморного императора с завитыми волосами или толпа ярко одетых людей с кубками вина в руках.
Из-за сильного ветра площадь опустела. Хойкен никогда не мог понять, что означают все эти серые линии, квадраты и прямоугольники на ее светлой поверхности. Возможно, это был план старых романских улиц и домов. На большой прямоугольной плоскости не было ни единой скамейки, на которой можно было бы спокойно посидеть и полюбоваться собором. Через его высокие шпили и столбы струился свет полуденного солнца.
Георг медленно подошел к магазину «Köln-Ticket». Ему вдруг захотелось войти. Внутри он увидел двух молодых мужчин и девушку, которые сидели за компьютерами. При его появлении они подняли головы. Хойкен остановил свой выбор на молодой женщине и обратился к ней, словно на самом деле нуждался в совете и помощи:
— Не могли бы вы мне помочь? Я хочу знать, кто дает концерт в филармонии в ближайшую субботу.
Ей даже не понадобилось никуда смотреть, женщина ответила заученной фразой:
— О, в субботу вечером будет нечто особенное, у нас в гостях Магдалена Кожена.
На вид Хойкен дал бы ей лет двадцать пять. Наверное, здесь она зарабатывает деньги, чтобы оплатить свое музыкальное образование, и поет душераздирающие, печальные арии в Высшей музыкальной школе, надеясь, что ее случайно откроет какой-нибудь король дисков.
— Возможно, вы примете меня за профана, если я скажу вам, что, к сожалению, не знаю Магдалену Кожену? — сказал Хойкен. Он заметил реакцию девушки, она улыбалась, кокетничая. Если бы не его унылый старомодный пиджак в клеточку и стремление равняться на степенных банкиров, он имел бы некоторые шансы даже у этой двадцатипятилетней.
— Магдалена Кожена — это певица, новое чудо из Праги, — ответила девушка. — С тех пор как ее диски стали бестселлерами среди меломанов, билеты на ее концерты раскупаются моментально.
— Вы хотите сказать, что билеты на этот прекрасный концерт уже распроданы, как раз теперь, когда я только начал этим интересоваться?
Она снова внимательно посмотрела на него, потом постучала немного на своем компьютере.
— Да, к сожалению, все продано.
— Нет ни одного свободного места? — допытывался Хойкен.
— Больше ни одного. Однако вы можете спросить в вечерней кассе.
— Я прошу вас, — сказал он тихо. — Стоять весь вечер в очереди не доставляет мне удовольствия.
— Н-да, тогда мне действительно жаль.
Они опять посмотрели друг на друга. Хойкен подождал две-три секунды, не придет ли ей в голову какое-нибудь решение, а потом спокойно произнес:
— Я зайду как-нибудь опять, может быть, мне повезет. Вы здесь бываете во второй половине дня?
— Я работаю через день после обеда, — сказала девушка и улыбнулась так, как будто понимала, что его интересует не только концерт.
Хойкен взял один проспект и отметил про себя, что раньше ему ни за что не удалось бы так легко поболтать. Пересекая площадь, он посматривал на окна своего номера, словно хотел там, на втором этаже, кого-то увидеть. Какое это прекрасное, окрыляющее чувство — ожидать кого-то там, наверху. Возле телефона, на письменном столе стоял бы букет цветов, и лилась музыка. Но перед этим он должен спуститься в гараж, чтобы взять из машины маленький чемодан. Свою «Мазду» он сегодня оставил в гараже, а вместо нее взял внедорожник, на котором часто ездил, когда нужно было уладить дела.
Подземный гараж находился внизу, под Соборной площадью. Хойкен шел мимо камней, которые остались от римской городской стены. Здесь он остановился и стал тихо читать надпись на табличке, прикрепленной к стене напротив. Он давно забыл, о чем в ней шла речь. Почему все это больше его не интересует? Почему уже давно он проходит мимо таких вещей? Что-то случилось с ним сегодня. Возможно, ему мешает легкое волнение, вызванное непривычно большим количеством выпитого пива и можжевеловки. Во всяком случае, у Хойкена появилось чувство причастности к окружающим его предметам, как будто это были не безжизненные руины, а что-то обаятельно-чувственное, ждущее того, что Георг с ним поговорит, прикоснется и возьмет в руки. Ему очень захотелось сфотографировать эту стену, чтобы иметь хотя бы жалкую копию таких прекрасных мгновений.
Удивительно, каким бодрым и искренним он чувствовал себя сейчас, как отдавался всему — свету приближающегося вечера, коротким, резким порывам ветра, этой старой, пахнущей погребом римской стене. Раньше Георг пересек бы негостеприимную Соборную площадь гораздо быстрее. Она всегда выглядела так, словно была создана по замыслу сурового кардинала, из-за запутанных проповедей которого из собора ушли последние верующие.
Он всегда ходил быстро, почти стремительно, как человек, ни о чем другом, кроме своей цели, не думающий. У него не было времени для общения с окружающим миром, он ни с кем и ни с чем не входил в контакт. А сейчас ему не хватало хорошего собеседника. Вне работы он ежемесячно встречался с кёльнскими издателями, но о чем они говорили? О возможностях и способах рекламы, стоимости хранения и самых последних скидках в книготорговле.
Хойкен прекратил созерцать стены и медленно пошел к своей машине. Внезапно ему пришла в голову мысль, которая затмила желание взять маленький чемодан и отнести его в номер. Только что он больше всего хотел попасть в свою комнату, раздвинуть шторы и разложить вещи из чемодана по шкафам и полкам. Прибыл, наконец-то прибыл, чтобы стать хозяином этого полного тайн пространства с величественной панорамой из окна! Но нет, это прибытие он вынужден будет немного задержать. Сейчас Хойкен должен реализовать другую заманчивую идею, которая пришла только что ему в голову.
Он вынул из кармана мобильный телефон и попытался дозвониться Лизель Бургер. Он звонил дважды и дважды слышал длинные гудки. Ее там нет. После своего послеобеденного отдыха она поехала в клинику и вернется только к вечеру. У него есть от силы три часа времени, чтобы поискать завещание.
Георг открыл дверь машины и положил папку с рукописью Петера Файля на сиденье, рядом с водительским. Затем он нажал на газ, еще раз бросив короткий взгляд на папку, словно хотел убедиться, что сидящий рядом пассажир пристегнут. Выезжая из гаража, Хойкен почувствовал, как у него появляется такое же отвращение к этому автомобилю, какое он испытывал к «Мазде». Эта машина тоже больше не нравилась ему. Стук мотора был не такой, как прежде. Автомобиль ожидал приказов, но при малейшем отклонении от обычного порядка отказывался повиноваться, как будто напрашивался на ссору. У Лины Эккель, наоборот, была «Альфа Ромео», модель десятилетней давности, выдержанная в старомодном аристократическом стиле, которая точно соответствовала характеру ее владелицы. Вся она была загружена портфелями и хозяйственными сумками, что свидетельствовало о контактах, которые поддерживала Лина. Каждые полчаса она переключала свою жизненную энергию на другой вид деятельности.
Старая «Альфа Ромео», полная сумок… жизненная энергия… чувство, что ты находишься в центре жизни, чтобы действовать, быть не зрителем, а одной из тех мгновенно реагирующих рыбок, которых он однажды видел в темном аквариуме кёльнского зоопарка. В маленьких искусственных джунглях из морских водорослей они перемещались, сладострастно изгибаясь, ориентируясь при помощи своих чутких сенсорных датчиков.
Отец дал бы молодой женщине из «Köln-Ticket» свою визитную карточку и пригласил бы на восемь часов вечера в бар отеля чего-нибудь выпить. Его даже не интересовало бы, что из этого получится. Он бы просто радовался возможности продолжить беседу. Таков его отец. Полная жизненных сил, подстерегающая добычу акула, готовая схватить и проглотить все, что угодно, которая ничего и никого не боится. Хойкен очень много думал об этом, и его грызли сомнения, не прожил ли он так, что ни разу не ощутил истинной радости и большая часть прекрасного мира осталась для него почти неизвестной? Когда-то его мозг, словно сейф, медленно и зловеще закрылся, чтобы спрятать от него все это.
7
Свернув на Уферштрассе, Хойкен вставил CD с ариями пражской чудо-певицы. То, что он услышал, было ему совершенно чуждо. С такой музыкой он не имел дела уже очень много лет. Текст песен он понял не полностью, а те обрывки, которые разобрал, звучали мрачно и по-протестантски грустно. «Я с головой ушла в свои грехи…» Почему эта молодая привлекательная женщина предается безутешному плачу и назвала диск «Lamento»? Вероятно, у нее любовная связь с изощренным мазохистом-фетишистом, который заставляет ее носить черные одежды в наказание за ее русалочью красоту. Сухопарый флейтист, который в течение всего концерта неотступно следит за ней с раздувающимися от гнева ноздрями. Хойкен сделал музыку громче. Интересно, сможет ли его хорошее настроение справиться со всеми этими горестями?
Двадцать-тридцать лет назад в круг интимных привязанностей отца входили певицы и актрисы. Тогда на берегах Рейна в укромных тенистых уголках еще сохранились винные ресторанчики, которые отец так любил. Теперь в них оборудовали бистро для водителей автобусов, идущих из Вестфалии. Со временем половина старой части города у берегов реки приобрела мрачный вид, даже невозможно вывезти туда деловых партнеров из Америки. «Моим вздохам нет конца, и мое сердце разрывается от печали…» Все-таки нужно как-то попасть на этот концерт в субботу, чтобы докопаться до причин такого загадочного самобичевания. Неплохо было бы разузнать, в каком отеле остановилась Магдалена, и прислать ей перед концертом букет цветов, приложив загадочную записку: «В безутешной тоске — почитатель». Сухопарый флейтист, конечно, выбросил бы цветы, и она уже перед концертом немного поплакала бы, чтобы ее изощренные воздыхания позже казались подлинными. «Оттого и плачу я так, и мои глаза истекают слезами».
Хойкен въехал во двор родительского дома и удивленно засмеялся. Во дворе как раз находился Secondo. Он приводил в порядок черный «Мерседес» отца. С закатанными рукавами, с тряпками и щеткой в руках, он стоял как чистильщик обуви, который часами только и делает, что трет одно и то же место. Что вообще делает этот парень сейчас, когда отца не нужно возить в офис? До обеда он будет возиться с обоими автомобилями и одного за другим, как старых-престарых черных псов, вывозить прогуляться вдоль Рейна. Около полудня за ним зайдет его друг, и они пойдут в маленький итальянский ресторан выпить по чашечке эспрессо. Secondo очень любит часа полтора сидеть над одной чашкой эспрессо. Этот парень воплощал в себе тип упрямого и гордого итальянца, который никогда не вышел бы на улицу с зонтом. Они сухо поздоровались, так как больше им не о чем было говорить. У Secondo не было ни семьи, ни женщины. Он был слишком гордый, чтобы обзаводиться такими довесками к жизни. Когда он предложил Хойкену помыть его внедорожник, тот отрицательно покачал головой. Ему не хотелось, чтобы кто-нибудь увидел Secondo, который моет машину сына своего хозяина.
Георг достал из кармана большую связку ключей и открыл массивную входную дверь. Он спросил у Secondo, дома ли Лизель. Нет, ее дома не было. Она в клинике, как он и предполагал. Secondo хотел ее подвезти, но она отклонила его предложение. Конечно, Лизель не позволила бы себя везти как какую-нибудь важную особу. Secondo это отлично понимал и предложил это просто так, из вежливости.
Хойкен закрыл за собой дверь и остался один. Он стоял, как будто хотел сориентироваться. Он удивился тому, что не может вспомнить, когда оставался в этом доме один. Раньше ему навстречу выбегали собаки. Чаще всего Лизель или — это было так давно — мама выглядывала с верхнего этажа и спрашивала, как дела. Тишина и пустота, окружившие его сейчас, были невыносимы. Георг снял пиджак и бросил его, как в школьные годы, на деревянные перила лестницы. Даже напольные часы тикали как-то не так, чересчур тяжело и вяло, как будто им самим скоро не будет хватать воздуха. «Что же здесь происходит?» — думал Хойкен. Никто не заботится обо всем этом, только двое слуг и остались от былой феодальной роскоши.
И все-таки он чувствовал, как дороги ему эти комнаты и вещи. Такие места гораздо сильнее нас, они впитывают время и зовут — тем настойчивее, чем старше мы становимся — вернуться в старые времена, которые мы пережили вместе. Это как поезд, который хочет привезти нас назад, чтобы мы провели время здесь, а не где-нибудь еще. Косые лучи света, падающие из окна… Лампы и светильники, которые, казалось, горели всегда. Большое латунное блюдо на столе в прихожей, в которое раньше складывали письма. Иногда они оставались нетронутыми, потому что никто не хотел их читать. Они лежали так долгое время, как ненужная бумага, которую давно пора выбросить в урну для мусора.
Но острее всего Георг чувствовал запах. Ему показалось, что сегодня он даже сильнее обычного, как будто на кухне в большом котле прямо сейчас варился бульон, от которого шел густой пар. Не доверяя себе, Хойкен пошел на кухню. И действительно, на плите на очень маленьком огне стояла кастрюля. Сначала Георг подумал, что экономка о ней забыла. В кастрюле что-то варилось. К возвращению Лизель оно как раз будет готово. Этот запах был знаком ему с детства, но Хойкен никак не мог понять, что готовится. Он взял кухонную тряпку и поднял крышку. В кастрюле, доверху наполненной бульоном, плавала большая, разваренная суповая курица. Кожа на груди треснула, и из-под нее выступили комочки желтоватого жира. Почему его обоняние отказывалось распознавать запах куриного бульона? В их доме только один человек с удовольствием ел такое блюдо. Это была Урсула. Куриный бульон, в отличие от другой еды, она переносила в любом случае, даже когда ей становилось плохо и ее желудок восставал против другой пищи. Теперь Хойкен понимал, почему здесь готовится этот суп. Сегодня здесь ждали Урсулу. В этом доме она будет ночевать, а перед этим, в «Le Moineau», наверное, опять ни к чему не прикоснется. Но Лизель об этом подумала и заранее все спланировала. Она варит бульон на тот случай, если Урсула приедет сюда глубокой ночью, так и не поев ничего за целый день.
Георг опять накрыл кастрюлю крышкой. Он был так тронут заботой Лизель, что какое-то время стоял неподвижно и смотрел из окна в парк. Хойкен узнал двух садовников-сербов, которые осенью должны были работать ежедневно, чтобы сгрести граблями всю листву в большие кучи. Они работали в разных участках парка, однако периодически сходились вместе и тогда стояли какое-то время рядом и разговаривали. О чем же они говорят? Об отце? О капитализме? О том, что их хитрые, бегло говорящие по-немецки сыновья зарабатывают за час на автопредприятии намного больше, чем они? Когда несколько лет назад садовники начинали работать у отца, все думали, что они без конца говорят о войне на Балканах, но оказалось, что они делились впечатлениями о новых предложениях от «Aldi», а также о других дешевых марках машин. Отец всегда говорил, что не понимает, что происходит у них на родине. Раз в год он приглашал садовников с их семьями на пикник в сад. Те появлялись со своими толстыми женами, толпой детей и дальних родственников, рассаживались на газонах и принимались жарить на гриле молочных поросят и ягнят.
Хойкен оторвал взгляд от парка и отправился в библиотеку. На воспоминания у него сейчас не было времени. Оба шкафа, в которых отец часто что-нибудь прятал, были не заперты, и Георг не нашел там ничего интересного. Два ящичка сигар, четыре коньячные рюмки, бутылка «Hennessy Paradis Extra» и несколько прозрачных пакетиков со счетами за последний месяц. Он положил квитанции на место и поднялся по ступенькам на второй этаж, где раньше находились детские комнаты и спальни родителей. Дверь в комнату отца была открытой, фрамуги балкона слегка подрагивали, словно старик собирался провести здесь, как всегда, будущую ночь. Узкий письменный стол перед большим, занавешенным гардинами окном был совершенно пуст, только на самом краю, плотно прижатые друг к другу, стояли несколько вещей, которые отец хранил как память — египетская кошка, гипсовая римская матрона и маленькая фигурка ангела с распростертыми крыльями. Одна его нога была занесена назад, как будто он вот-вот собирался взлететь в небо.
Ящики стола тоже были необычно пустыми, в них Хойкен обнаружил только почтовую бумагу и конверты всевозможных размеров. Он открыл маленький, встроенный в стену шкаф, расположенный за дверью, и, не обнаружив там того, что искал, присел на широкую кровать, покрытую тяжелым покрывалом. Родители приобрели эту красивую вещь из дорогой венецианской ткани во время своей поездки в Италию. Он вспомнил, как им вручили пакет через неделю после их возвращения, когда его уже никто и не ждал.
Хойкен потерял всякое желание продолжать поиски. Он был чем-то похож на вора, который тайно пробрался в дом и теперь наказан тем, что ничего не нашел. Георг посмотрел на часы. У него еще есть два-три часа для того, чтобы провести их в своем номере и отдохнуть там перед встречей с братом и сестрой. Он встал и вышел в коридор. Комнаты матери находились совсем рядом. Ни после ее переезда в пустующее здание на краю парка, ни после ее смерти в них ничего не меняли. Узкое темно-красное кожаное кресло с высокой спинкой все еще стояло в спальне наискосок от окна возле большой вазы, в которой даже сейчас были свежие цветы. Мамина прихожая выглядела точно так же, как и раньше. Отец хотел, чтобы все оставалось здесь без изменений.
Размышляя об этом, Хойкен открыл два светлых, достающих до самого потолка шкафа. В них была мамина одежда. На верхних полках в идеальном порядке лежали шали и палантины, которые мама почти всегда носила поверх пальто, а во время дождя набрасывала на голову. Странно, что она совсем не носила дамских шляпок, но в то же время шляпы и даже шапки часто дарила отцу.
Почему они разошлись десять лет назад, Хойкен не знал до сих пор. Одни считали, что мама просто устала от измен отца и разрыв в отношениях произошел по ее инициативе. Существовала и другая версия, по которой развод затеял отец после одной серьезной ссоры. Однако что послужило причиной для этой ссоры, о которой все время говорили, но свидетелей которой не было?
Хойкен ни разу не был свидетелем родительских конфликтов. На людях они всегда производили впечатление образцовой, дружной супружеской пары. Когда они где-нибудь появлялись вдвоем, все были от них в восторге. Конечно, люди знали, что отец развлекается на стороне, но эти интрижки никто не принимал всерьез. Мама находилась от них на недосягаемой высоте, и они не могли испортить ее идеальный образ умной, образованной жены, по сравнению с которой ее помешанный на сексе муж иногда казался маленьким ребенком, который не понимает, что нельзя хватать руками все подряд.
И действительно, в этом доме никогда не жила и ни одной ночи не провела другая женщина. Хойкен мог бы поспорить, что это так, хотя, конечно, и не знал этого на сто процентов. Чужая женщина здесь, в этих комнатах — это просто невозможно. Если бы отец придавал большое значение своим легким знакомствам, он бы думал о серьезных отношениях. Но такого ни разу не было. Отец брал своих подружек с собой в деловые поездки или ложился с ними в постель перед ужином в каком-нибудь маленьком отеле или двухкомнатной квартире, которую иногда снимал для этого. Но родной дом с прилегающими постройками и большим садом оставался для него святыней. Это была большая, общественно признанная территория брака, которую ни один из супругов не ставил под сомнение и уж тем более не обсуждал, пока та злополучная ссора не разорвала, казалось, одним ударом эти старые, прочные связи.
Все здесь выглядело так, словно мама никогда не покидала их дом. После ее смерти отец велел перенести сюда ее вещи и разложить их в прежнем порядке. У мамы тоже был свой тайник, в котором она хранила дорогие вещи. Возможно, Хойкен единственный, кто знает о том, что он находился за спинкой ее кровати, в маленьком отверстии в камине, которое закрывалось заслонкой, выкрашенной в белый цвет. Как-то раз он случайно увидел, как мама открывала свой тайник. Она не рассердилась на Георга, а только попросила, чтобы он никому не рассказывал об этом. Хойкен умел держать язык за зубами, так что ему можно было ничего не говорить. Это было их маленьким общим секретом — место, где мама хранила часть оставленных ей в наследство драгоценностей и крошечную черно-белую фотографию локанды в венецианской лагуне, где они с отцом провели первую брачную ночь и медовый месяц.
Хойкен вдруг вспомнил все это так отчетливо, словно близость старых вещей вернула его в прошлое. Он решил еще раз посмотреть на тайник, перед тем как выйти из комнаты. Георг отодвинул кровать, чтобы лучше видеть, лежит ли еще что-нибудь в маленьком отверстии в камине. Он сразу вспомнил, где располагался тайник, нащупал рукой заслонку и открыл ее. Драгоценности были на месте — темно-синие шкатулки стояли рядом и одна на другой, будто волшебные сокровища, к которым давным-давно никто не прикасался. Маленькие черно-белые фотографии лежали рядом. Они были такие крошечные, что без лупы нельзя было рассмотреть детали. Хойкен забыл название старой локанды, это было известное в Венеции имя, имя мужчины, который открыл в этом городе «Harry’s Bar» и позже стал владельцем этой гостиницы в старинном местечке Торчелло. В ней после войны осень и зиму жил Хемингуэй со своей четвертой женой. Подражая знаменитому писателю, с которым много раз встречался и которого считал тогда величайшим из живущих классиков, отец сделал Венецию и старую локанду в Торчелло местом для своего свадебного путешествия.
С фотографиями в руках Георг подошел к маленькому секретеру, в котором мама хранила свою корреспонденцию. Он открыл верхний ящик, но лупы там не было. Ящик был почти доверху заполнен аккуратно уложенными и плотно связанными в пачки письмами. Но под этими пачками, как старые близнецы, лежали два темных конверта. Они были не заклеены, поэтому Хойкен открыл один из них и вынул несколько скрепленных между собой страниц. Это было завещание отца, Георг понял это, как только взглянул.
Хойкен отложил его в сторону и открыл другой конверт. Здесь были листы с длинным рукописным текстом, который был озаглавлен как «Предложения по завещанию». По-видимому, мама написала его после развода с отцом и прислала незадолго до своей смерти.
Хойкен был так взволнован, что не мог понять смысл написанного. Он листал страницы, читал отрывки на первой, перечитывал окончание, стараясь как можно быстрее ухватить суть. Но это ему не удалось. Изобилующие подробностями размышления и конструкции были слишком сложными, чтобы он понял их за несколько минут и смог правильно истолковать.
Георг положил листы в конверты и стал внимательно рассматривать связки писем. Все они были адресованы маме, и писали их разные люди, во всяком случае, это было видно даже при очень беглом осмотре.
Снова холодный пот. Знакомое влажное пятно. Хойкен вспомнил его, проведя рукой по шее. Итак, страх, беспокойство, как вчера, только еще острее и почти без повода. Нет, Хойкен все же считал, что повод есть и не такой уж безобидный. Наоборот, Георг был уверен, что находится у истоков всех тайн, которые этот дом издавна хранил и не выдавал. История любви его родителей. Их тайные завещания. И наконец эти маленькие черно-белые фото молодой и красивой пары перед локандой в Торчелло, которая (он вдруг точно вспомнил) принадлежала Арриго Киприани. Точно, это было имя ее хозяина, который имел «Harry’s Bar» и несколько отелей и впоследствии стал крупным владельцем империи, имеющей сегодня филиалы по всему миру. Тогда, пятьдесят лет назад, Киприани часто обедал в старой локанде в Торчелло. На одной из фотографий они втроем сидели и демонстрировали фальшивую улыбку преуспевающего американского писателя.
От волнения Хойкен перемешал фотографии и открытые пачки писем. Ему нужно было время, чтобы все спокойно прочитать, и комната, где бы он был один и ему никто не мешал. Здесь Георг не мог себе позволить ни того, ни другого, поэтому взял с собой документы, а драгоценности, которые никто не тронет, положил обратно в тайник, о котором, кроме него, кажется, никто не знал.
Он оставил синие конверты, письма и фотографии на секретере и поспешил по широким ступенькам в холл. К счастью, Лизель еще не приехала. Ему было бы трудно утаить от нее свои находки. Хойкен вышел из дома, чтобы взять из машины портфель. Во дворе Secondo все еще возился с «Мерседесом». Он посмотрел на Георга так строго и задумчиво, как будто пытался решить трудную задачу.
— Secondo? — Хойкен внезапно понял, что парень имеет отношение к старым фотографиям.
— Да, господин Хойкен?
— Secondo, в старом Торчелло возле Венеции есть гостиница, в которой останавливался знаменитый Хемингуэй, она случайно не называется «Локанда Киприани»?
— «Локанда Киприани», да, господин Хойкен, это я знаю точно. Я родился примерно в пятидесяти километрах оттуда. Вы говорите о «Локанде Киприани», которая раньше принадлежала Арриго Киприани и сейчас принадлежит его сыну или, может быть, уже его внуку. Она находится рядом с обеими старыми церквями Торчелло. Там есть прекрасный розовый сад, в котором, если погода хорошая, можно завтракать. Сейчас, осенью, когда уже нет большого наплыва туристов, но все еще довольно тепло, там, пожалуй, лучше всего. Почему вы об этом спросили? Хотите отдохнуть в локанде?
Хойкен слегка вздрогнул и провел рукой по шее, как будто должен был стереть волнение, которое снова дало о себе знать. Поехать в Торчелло… о таком Георг еще не думал, хотя это совсем близко от райского уголка, который он сам когда-то посетил. Хойкен ездил в Венецию, когда ему было шестнадцать лет. Они с братом и сестрой должны были поехать туда с родителями на неделю, но в Торчелло жили не вместе. Все-таки удивительно, как много это место значило для родителей. Возможно, они тайно ездили туда, но не говорили детям об этом. Может быть. Тогда они с братом и сестрой, как все подростки, были уже не так сильно привязаны к родителям и стремились к самостоятельности.
— Да, Secondo, после книжной ярмарки у меня часто бывает маленький тайм-аут, пять-шесть дней. Неделя где-нибудь на юге, где абсолютно спокойно и все к твоим услугам. Я думаю, Торчелло и старая локанда в этом смысле как раз то, что нужно.
— Поезжайте туда, господин Хойкен. В начале октября отдыхать в Торчелло просто чудесно.
Хойкен взял из машины большой портфель, в который всегда укладывал свои документы, и вернулся в дом, чтобы забрать конверты, письма и фотографии. Теперь он мог не торопиться. Управившись с этим и вновь подойдя к машине, Георг быстро сунул папку с рукописью Петера Файля в сумку.
Он развернул машину и выехал со двора. При этом Secondo отдал ему честь, словно генералу. Рядом, на сиденье, словно упругий, спелый плод, лежал туго набитый портфель. Давно Хойкена не тянуло так почитать, как сейчас.
8
Вечер только начинался, когда Георг, оставив машину, шел к «Le Moineau». Так получалось, что уже давно он ходил пешком не больше двадцати минут. Но сейчас выдался случай, и Хойкен решил пройтись. Он вышел из отеля в легком пальто, которое нес в руках. Он не торопился, у него было достаточно времени, чтобы насладиться осенним вечером. Только что, спускаясь по широкой лестнице (лифтом он решил сегодня не пользоваться), Георг подумал, что, наверное, снял этот номер для того, чтобы познать еще одну, совершенно новую сторону жизни. Наслаждаться этим легким, беззаботным настроением, брести по коридору отеля, окунуться в тепло гостиничного номера, который дает начало самым важным, полным жизни дорогам. Телефонные разговоры, заказы — любое желание выполняется в кратчайшие сроки. Живешь, как король, окруженный невидимой, но безотказной командой слуг. Но, с другой стороны, в такой жизни было что-то монашеское. Она была похожа на отшельничество и казалась замкнутой. Уже во второй раз Хойкен испытал прилив радости, когда входил в номер. Откуда это смятение в душе? Всякий раз, когда он раздвигал гардины и видел, как через площадь спешили, подгоняемые порывами ветра, или медленно шли толпы людей, его покидала привычная сосредоточенность, становилось легко, словно в этой комнате он выскальзывал из своей кожи, одевал другую, и мир сразу становился ближе и понятнее.
Хойкен хорошо знал, где находится «Le Moineau». Однажды поздно вечером он забирал оттуда Клару. Когда ее авторы-французы приезжали в Кёльн, они, как помешанные, стремились туда. И не удивительно, потому что даже во Франции не везде можно было так поесть, как там. В сущности, «Le Moineau» был не рестораном, а бистро. Каждый второй говорил, что у него есть шарм. И сначала шарма там было столько, что франкофилы могли наслаждаться им безгранично. Молодая пара — владельцы заведения — приложили для этого много сил и старания. Разумеется, они прибыли из Франции и, конечно, были маленькими, щуплыми и стройными, как будто клетки их организма очищались всеми теми фантастическими винами, которые они ежедневно пробовали. Когда супруги вдвоем стояли за маленькой стойкой, то выглядели как брат и сестра. Черные, коротко подстриженные волосы, несколько прядей спадает на приветливое лицо. Молодая женщина без украшений — и так пышет здоровьем и свежестью, словно принимает ванну по три раза на день. Они очень подходили друг другу. Когда Хойкен прошел через стеклянную дверь, он услышал, как Ив Монтан пел что-то о днях, проведенных в Париже. Большинство посетителей уже плохо стояли на ногах и потому спешили устроиться на красных кожаных стульях и скамьях.
Он увидел Кристофа сразу, как только вошел. Тот сидел за длинным узким столом в углу. Георг сразу направился к нему. Что-то в нем изменилось: брат выглядел дружелюбнее и, кроме того, переоделся. Это означало, что он уже побывал в Мариенбурге, не мог же он переодеваться в издательстве? Где же тогда? В комнате отца? Неужели Кристоф действительно переодевался в комнате отца?
Представив это, Хойкен на мгновение растерялся. Так бывало всегда, когда ему казалось, что он что-то упустил, недосмотрел. Пробел в системе, маленькая трещина, которую он мог бы устранить и не устранил. Еще школьником он испытывал в такие моменты легкое головокружение, как при проверке контрольной работы, когда с каждой минутой нарастала уверенность, что придется исправлять ошибки. Сначала обнаруживаешь только одну, потом вторую, потом натыкаешься на третью, потом все начинает медленно оседать, будто непрочное здание, начинает шататься и угрожает окончательно скатиться в пропасть.
— Добрый вечер, мой милый, я вижу, ты переоделся, — сказал Хойкен, решив сразу задать беседе легкомысленный тон.
— Да, — ответил Кристоф и подвинулся, освобождая брату место справа от себя, — я провел все послеобеденное время в комнате отца и поболтал с Минной.
«Итак, — подумал Хойкен, — Кристоф был в рабочем кабинете старика и к тому же беседовал с Минной». О Минне он снова забыл. Вчера Георг уже совершил подобную ошибку. Когда он уделяет внимание Дизель Бургер, то забывает о Минне Цех и наоборот. Он не может их обеих представить вместе, потому что должен скрывать от одной то, что говорит другой. Никто не знает, которой из них отец доверял и рассказывал больше. По торжественным дням они сидели или за разными столами, или, если за одним, как можно дальше друг от друга.
Хойкен сел возле брата. Тот сразу налил ему стакан воды. Как пить дать, это одна из тех успокаивающих водичек, о которых он иногда мечтал. Даже питье воды для Кристофа — маленький повод пофилософствовать. Как первый акцент этой встречи, на столе уже стояла большая бутылка воды, этикетку на ней Хойкен не мог рассмотреть. «Освежись, смочи свой язык водой». Сейчас появится симпатичный владелец этого заведения в своей маленькой «бабочке» в горошек и Провозгласит следующие заповеди ордена. «Придерживайся еженедельного меню». Порции здесь маленькие, по сравнению с обычными, но состоят из четырех блюд, и в этом есть свой смысл. «Ты убедишься, это лучше, чем все, что ты в своем невежестве мог себе вообразить».
Кристоф сидел, закинув ногу за ногу. Рядом с ним на красном кожаном сиденье лежала открытая книга. Конечно, Кристоф решил у всех на глазах изображать из себя страстного книголюба, с наслаждением перелистывая каждую страницу средним пальцем правой руки, за которым следовал указательный, если в этом была необходимость. Чтение, игра пальцев, поглаживание обнаженных, словно девственное тело, которое все позволяет, страниц книги. Нужны ли Кристофу вообще очки для чтения? На нем были узкие женские очки в темно-коричневой оправе, которые сползли на кончик носа, как испуганная доверчивая птица. «Что ты читаешь такое интересное?» Взгляд Кристофа говорил, что Хойкен должен сейчас задать именно этот вопрос. Но он его не задал. Георг не хотел ничего заказывать, а просто взял свой стакан с водой. Вдруг появился хозяин ресторана в белой в голубую полоску рубашке с «бабочкой» в горошек. Он действительно предложил после короткого приветствия особенное, «наше меню на неделю», творение из четырех блюд, подробно представленное и описанное на оригинальной маленькой карточке, и три стограммовых бокала вина. Кристоф, однако, не захотел это вино, он потребовал карту вин, где было около ста наименований и как минимум пятьдесят открытых.
— Урсула только что связалась со мной, — сказал он как бы между прочим. — Ее поезд намного опаздывает, и она просила начинать без нее.
Огромную карту вин принесли по первому знаку патрона, но не дали в руки, а положили на край стола, словно для того, чтобы она еще некоторое время могла настояться. Кристоф, однако, не хотел выпускать инициативу и широким взмахом руки придвинул карту к себе. Кроме того, к его услугам предоставлялась литература для чтения на многих листах в приятной кожаной обложке, и можно было блеснуть своей осведомленностью. Бывало так, что Кристоф за вечер выпивал целую бутылку воды перед тем, как демонстративно перейти к вину. «Люблю воду, ее прозрачность, ее пресную пустоту. С нее мы начнем ужин и станем ненадолго буддистами». Этими словами, которые Кристоф вычитал в тексте у какого-то знакомого автора, будет сопровождаться его манерная жестикуляция.
Хойкену абсолютно не хотелось, чтобы его сейчас спрашивали, с чего он предпочел бы начать — с «Pouilly Fumé» или «Chablis», — поэтому он взял инициативу в свои руки и начал рассказывать о встрече с Петером Файлем. Он рассказывал о долгожданной биографии, которая вот-вот будет закончена, о том, что ему очень хочется, чтобы она стала достойной книгой и имела успех. Но, по правде сказать, Хойкен не прочитал за последние несколько часов ни одного предложения, написанного Файлем. Он приехал в свой номер, распаковал чемодан и читал рукописи, которые прятались в конвертах, и при этом лежал на широкой и прохладной гостиничной кровати и пил кампари со льдом.
Больше всего его поразили мамины предложения по завещанию, потому что она безо всяких экивоков высказалась за передачу руководства концерном ему, своему старшему сыну. «На мой взгляд, Георг стоит на первом месте в вопросе наследования». Он так много раз перечитывал это предложение, что выучил его наизусть. Никогда никакая другая фраза не потрясала его так, как эта. «На мой взгляд… на первом месте» — такой категоричности и прямолинейности он никак не ожидал, даже учитывая, что эта ясность точно соответствовала трезвому и искреннему мышлению мамы. Он все время перечитывал ее короткие, лаконичные доводы, указания на его «приятные манеры», его «осторожность» или «ответственное отношение к торговым операциям». Вероятно, в последние годы своей жизни мама была о нем лучшего мнения, чем он сам. Обсуждая вопросы наследования, она дала объективную характеристику всем троим, притом такую точную и непредвзятую, как будто говорила не о своих собственных детях, а о дальних родственниках, о которых ей позволено судить, несмотря на известную дистанцию. Георг подумал, что так честно и недвусмысленно пишут только перед расставанием. Наверное, мама предчувствовала свою скорую смерть. На этих страницах она как бы подводила итог прожитой жизни и без колебаний высказывала свое потрясающее мнение. Пока Хойкен рассказывал о биографии отца, которую написал Петер Файль, его все сильнее охватывала эйфория, причем для радости не было, собственно говоря, никаких причин. В конце концов, отец так и не прислушался к маминым советам и вместо этого предложил свой бесчестный способ выборов, о котором ему рассказала Лизель. Дети должны были выбрать наследника сами. Избранный (или избранная) получал, кроме того, дом в Мариенбурге, а побежденные будут довольствоваться компенсацией в 1,5 миллиона евро каждому.
Хорошее настроение Хойкена объяснялось тем, что он считал, что находится сейчас на шаг впереди брата с сестрой, и чувствовал поддержку со стороны матери, словно, находясь по ту сторону жизни, она посылала ему знак, что он идет по правильному пути, и ожидает от него большего, чем от других.
Георг заметил, что Кристофу стоит большого труда прислушиваться к его рассказу. Брат перелистывал карту вин страницу за страницей, как будто мысленно пробовал их все, и ни разу не поднял глаз, а только иногда что-то бормотал себе под нос, чтобы показать, что он слушает. Конечно, он не испытывал большого интереса к биографии отца, но он также не старался это скрыть, а просто позволил Хойкену все время говорить самому, как будто тот был обязан заполнять время непринужденным разговором, пока Кристоф решает, что ему заказать.
— Я думаю, мы начнем с шабли, — сказал он, неожиданно перебивая рассказ Хойкена.
Георг ничего не ответил. Он молчал, как учитель, который таким молчанием отбивает реплики своих учеников.
— Шабли просто больше подходит к рыбе, чем «Sancerre». Однако от выдержанного «Macon-Villages» я бы быстро ослабел, — продолжал Кристоф. Он точно знал, что Георгу противна эта болтовня, но каждый раз начинал с нее, преподнося это как драгоценные специальные знания и злорадствуя оттого, что брат ничего в этом не понимает.
С годами они стали еще более чужими, чем были в детстве. Кристоф был боязливым, плаксивым и вечно сопливым ребенком, который в сомнительных ситуациях предпочитал тут же ретироваться. Когда фотографировалась вся семья, он всегда находился где-то в стороне, и приходилось силой втягивать его в круг. Ему вечно что-то не нравилось или он плохо себя чувствовал. Уже по одежде было видно, что с ним что-то не так. Брюки были почти всегда слишком маленькие, тесные и при любом удобном случае лопались, так что в конце концов его засунули в широкие кожаные штаны, которые болтались на худом животе. Никто не хотел иметь с ним дело, и Кристоф слонялся по округе, пытаясь завести с кем-нибудь знакомство. Хорошего друга, который мог бы долго выдержать его, брат не нашел. Он был лишь попутчиком в шумных сборищах, которые только тем и занимались, что восхищались какой-то непонятной ерундой. После окончания школы Кристоф казался совсем потерянным. Щуплый, все еще не оформившийся, он целыми днями слонялся по дому. Мама изо всех сил старалась наладить с ним контакт, но он никого не подпускал к себе, а только становился все более замкнутым. Когда Кристофу исполнилось двадцать лет, отец предложил ему на выбор ехать в Англию, США или во Францию, чтобы продолжить образование. Отец не мог выносить его бесцельного шатания и, наверное, хотел просто на время услать Кристофа с глаз долой или утвердиться в своем плохом мнении о нем, увидев, что он такой и за границей пропадет.
Однако в Париже он так хорошо приспособился, как никто и не ожидал. Франция и ее культура, казалось, были созданы для него. Друзья отца, тамошние издатели, вдруг начали сообщать ему, что молодой немецкий, как там называли Кристофа, стал любимцем парижского общества. С ним произошли удивительные перемены. Это было заметно уже по его внешнему виду: он стал как-то особенно элегантно одеваться и приобрел уйму близких друзей. Из-за его многочисленных дружеских связей с авторами мака заподозрила, что Кристоф стал гомосексуалистом, однако когда он возвратился в Кёльн, то опять поразил всех, на сей раз бесконечными мимолетными связями с женщинами. Даже отец, на которого поначалу эти манеры ловеласа произвели впечатление, со временем стал считать его многочисленные интрижки чересчур многочисленными.
Хойкен подумал, что определенный шарм, который Кристоф приобрел за годы учебы во Франции, все еще сохранился, но в немецком обществе брат выглядел чужим. Издалека в одежде с иголочки, которая сидела на нем как влитая, его можно было принять за интересную, много путешествующую личность, которая имеет мало общего с Германией. Как издателю, который придавал большое значение крепким связям с авторами, этот имидж подходил Кристофу идеально. Он окутывал его романтическим флером и еще сильнее подчеркивал его эмоциональность.
— Меню действительно начинается с рыбы? — Хойкен не прекращал злить брата такими вопросами. Чтобы подчеркнуть свою неосведомленность, он схватил маленькую желтую карту, в которой каждое блюдо было так подробно описано, что его было даже утомительно читать. «Dorade royale sur une purée de pommes de terre á l’huile de ciboulette…» — читал он, специально растягивая слова, будто тут же переводил каждое слово отдельно.
— Пожалуйста, прекрати, — прервал его Кристоф. — Твой французский с каждым годом становится все хуже.
— Речь идет о дораде на картофельном пюре, — продолжал дурачиться Хойкен. — Что на нем royale есть, мы, надеюсь, увидим.
Желая предотвратить назревающий конфликт, возле них снова появился проницательный патрон. Кристоф обрадовался. Наконец у него появилась возможность подискутировать о том, что больше подходит к королевской дораде — шабли или «Sancerre». Хойкен делал вид, что следит за беседой с большим интересом, но на самом деле незаметно осматривался. Что бы он ни говорил, но места, которые его брат выбирал для совместных ужинов, всегда были вполне удовлетворительными. «Le Moineau» тоже нравился ему. Старинное золото на стенах и орнамент в молодежном стиле. Пол выложен черной и белой плиткой, а само помещение разделено колоннами, отчего кажется, будто находишься на шахматной доске. Молодые официанты в бело-голубых полосатых рубашках все время снуют от столика к столику. Очевидно, у них не было закрепленной за каждым территории. Они следили за всем и везде успевали. Падающая салфетка подхватывалась на лету и водворялась на место.
То, что «Sancerre» все же лучший выбор для дорады, патрон доказал с двух позиций: во-первых, из-за его молодой свежести, а во-вторых, из-за острого привкуса. Кристоф, как бы он ни торопился, всегда стремился показать, что у него есть время, чтобы обсудить, какое вино подходит к данному блюду, или до мелочей продумать меню. На его месте Хойкен давно бы уступил выбор хозяину ресторана, чтобы сократить пустую болтовню.
— Вуаля, — сказал Кристоф и повернулся, наконец, к нему. — Мы долго спорили, и я остановился все-таки на «Sancerre». Если не возражаешь, с него и начнем. Что касается заказа, то на Урсулу рассчитывать не будем.
Хойкен согласно кивнул и улыбнулся патрону. Тот моментально ответил ему точно такой же улыбкой.
— Петер Файль… — начал Кристоф, — ты говорил о Петере Файле. Позволь и мне добавить к этому кое-что. Я никогда не одобрял того, что отец выбрал Файля для составления своей биографии. Петер Файль может собирать факты и выполнять черновую работу. Я бы предложил ему написать краткий биографический очерк, страниц сто пятьдесят — двести, ни в коем случае не больше. Но большую биографию, такую, какую отец заслуживает, я бы поручил написать признанному или, лучше сказать, известному литератору, который постигнет жизнь отца во всех ее измерениях.
— Во всех измерениях? В каких измерениях?
— И ты еще спрашиваешь? Большая жизнь — это тебе не какая-нибудь заурядная жизнь. Ее нужно изучать как философию. Отец составлял тезисы, а затем искусно их развивал.
— Ах, в самом деле? Ты считаешь, что отец умело строил свою жизнь?
— Да, абсолютно в этом уверен. В своей издательской деятельности отец всегда действовал как завоеватель. Речь идет не об авторах, а скорее о континентах или, будем говорить, о территориях.
— Какие территории ты имеешь в виду, скажи пожалуйста?
— После войны он ринулся в Соединенные Штаты. Тогда американские писатели и большая история значили для отца все. В начале 60-х появилось новое поколение молодых немецких авторов, конечно, уже не того уровня, зато их читали даже в самой отдаленной провинции, и прежде всего в школах. Конечно, с рассуждениями о том, что литература умерла, распространившимися в конце 60-х, отец ничего поделать не мог. Еще в 70-х и начале 80-х он боролся с разрушительными последствиями этого антиэстетического слабоумия. Это были годы, которые я бы назвал годами поиска. Годы, которые прошли в упорном завоевании утраченных территорий. И все-таки он не сдавался и все время богател.
Хойкен слушал, как его брат упрямо выдвигает свои теории. Эти теории рождались у Кристофа экспромтом, и он с таким воодушевлением погружался в красоту их риторического построения, как будто сам находил их неотразимыми. Поначалу он брал три-четыре понятия и носился с ними, пока не затирал до дыр. Со временем он стал предварительно обдумывать свой поток красноречия, чтобы потом выдавать его за импровизацию зрелых и умных доводов. Но еще вероятнее, такие идеи были своего рода обработкой прочитанного. Иногда, как в этом случае, он добавлял что-нибудь для усиления эффекта. На сей раз это был «привет из кухни», который должны были принести вслед за вином. Хойкен не знал точно, что это будет. Наверное, что-нибудь маленькое, политое бульоном и блестящее.
Теории Кристофа, непонятный «привет из кухни» и в придачу «Sancerre», вкусовые оттенки которого ему предстояло сейчас оценить, — все это для Хойкена было уже слишком. Он бы с большим удовольствием заказал сейчас кёльнского, рассказал о своем сыне и его преклонении перед Лукасом Подольски[20], но, увы, до этого дело не дойдет. Откуда-то из глубины зала послышалось «Je suis comme je suis». Хойкен узнал эту мелодию с первых аккордов. Он слушал и пробовал вино, он кивал и соглашался, а музыка тем временем заполнила все помещение так, что он замер, словно оглушенный. Отцу иногда хотелось послушать этот шансон в дороге, Secondo на этот случай всегда возил с собой старую кассету. Ему нравилась выразительность и гордый характер песни и, конечно, голос Джульетты Греко[21]. Сухой тон неприступной женщины, которая просто идет одна по парижским улицам. Когда старик слушал песни, он всегда подпевал. Это была единственная мелодия, которая у него действительно получалась. В сущности, он был немузыкальным или просто противился музыке, как утверждала мама.
— Наш «привет из кухни», — тихо сказал владелец ресторана и посмотрел на маленькую тарелку с такой любовью, как будто это был беспомощный младенец в люльке. — Сегодня это каннелони, наполненный кремом авокадо и ароматизированный сиропом-эссенцией плода пассифлоры.
Оба брата подняли головы и поблагодарили почти одновременно. Однако общность этих движений вызвала в Хойкене такое беспокойство, что он поспешил напомнить Кристофу о его размышлениях.
— Итак, отец богател, — заметил Георг. — Что ты имел в виду, когда сказал, что он богател?
— Да, именно, — произнес Кристоф. — Я говорил о жизни отца во всех ее измерениях, о его стратегии разведчика новых территорий, о его гениальной способности думать не сегментарно, а комплексно.
Хойкен попробовал сдержать легкую ухмылку, но ему это не удалось, губы его не слушались.
— Что такое? — спросил Кристоф. — Что смешного я сказал?
— Это к тебе не относится, — ответил Хойкен, — это каннелони развеселил меня. Не могу постигнуть, как такая крошечная штука может иметь такой концентрированный вкус? Я почти насытился.
— Ты прав, это поразительно.
— Сироп очень сладкий, чтобы сделать терпкий крем утонченнее. У него все же сохранился пикантный вкус, только он лучше, резкая терпкость перебивается, так что можно даже насладиться вкусом авокадо.
Кристоф изучающе посмотрел на Хойкена. Казалось, он удивлялся, что его брат так долго разглагольствует о каннелони, а может быть, его поразил жуткий лексикон Георга. Во всяком случае, брат разозлился, что в его рассуждениях опять вышла заминка.
— Отец богател, — сказал Хойкен, стараясь на сей раз казаться серьезным и внутренне наслаждаясь голосом Джульетты Греко, который манил уже одним намеком на мелодию. Возможно, и затейливые арии Магдалены раньше воспринимались так же, как камерный шансон, хрупкий и безмятежный?
— Латинская Америка… — продолжал Кристоф уже более громким голосом. Все это его раздражало. — После унылого периода засухи 70-х и начала 80-х отец устремился в Латинскую Америку. Это было повторное открытие романов о сельской жизни и семье. Никаких эпических произведений, только обозримые, хорошо связанные между собой истории, богато разукрашенные и, чаще всего, излишне эмоциональные.
— Правильно, — согласился Хойкен. — Я хорошо помню книжную презентацию. Были сигары с Кубы и ром с Ямайки и, совершенно неожиданно, такие яркие обложки — цветы и птицы, волшебные существа и животные с человеческими лицами, и все такое магическое, очень необыкновенное.
Кристоф снова подозрительно уставился на Хойкена и на мгновение замолчал. Хойкен использовал наступившую паузу.
— Это выдержанное «Sancerre», не так ли?
— Что? Что ты имеешь в виду?
— Мы пьем выдержанное «Sancerre», а не нового урожая, или я ошибаюсь?
— Ах, вот ты о чем! Нет, ты не ошибаешься.
— Тогда продолжай, пожалуйста. Твои многомерные картины начинают мне нравиться.
— Воссоединение… — начал Кристоф в который раз. — Воссоединение принесло отцу самое большое разочарование. Талантливые непризнанные гении, у которых рукописи просто вырывали из рук. Они прибывали в Кёльн один за другим, отец встречал их уже на вокзале, заинтересованный и полный надежд, как было в начале 90-х. Он обедал с ними и ужинал, он даже сделал ошибку, открыв большой филиал издательства в Лейпциге, чтобы быть ближе к этим кометам на литературном небосклоне. Правда, сначала появились два-три успешных молодых автора, но на том дело и кончилось. Сидят сейчас целых четыре наших сотрудника в красивом офисе из восьми комнат и работают над книгами Гете… Годы жизни в Лейпциге.
— Точно, — сказал Хойкен. — Только неделю назад я просматривал счета. Если так пойдет дальше, придется закрыть эту лавочку, самое позднее, через два года.
— Последнее время отец совсем не заботился о структуре в целом, — добавил Кристоф.
— А ему и не нужно об этом заботиться, — ответил Хойкен. — В конце концов, я об этом позабочусь, это моя забота.
Он говорил немного резко. Сейчас ему было жаль, что отец так много внимания уделял новым территориям. К тому же это еще не говорило о том, что с провалом его планов в 90-е годы грандиозные проекты закончатся. Однако главная причина, из-за которой старику в последнее время ничего не удавалось, заключалась в том, что он не чувствовал того воодушевления, с которым раньше брался за осуществление своих планов. Этот спад и болезненные поиски чего-то нового, главного, которые отец предпринимал на протяжении вот уже нескольких лет, объяснялись тем, что он не мог заботиться обо всем в полную силу.
Dorade было подано. Оказалось, что это пласт рыбы, поджаренный на гриле, который, как в кроватку, был уложен в очень светлое картофельное пюре и укрыт сверху тонким слоем поджаренного лука. Не в силах удержаться, Хойкен схватил вилку и взял себе пюре, как раньше, когда ему вечно не хватало того, что приготовила Лизель. Она готовила бесподобное рейнское пюре, он больше нигде не ел такого. Сейчас это было совсем не рейнское и не пушистое, как обычно. Поданный картофель напоминал сливочный крем с вкусовыми добавками. Масло, вино, мускатный орех и, наверное, даже горчица.
— Знаешь ли ты, вообще, какую последнюю грандиозную вещь наметил отец? — вдруг спросил его Кристоф.
Хойкену хотелось распробовать принесенное блюдо, перемешать лук с картофелем и подцепить вилкой с маленьким кусочком рыбы. Его желание проделать это было так велико, что он пропустил вопрос Кристофа мимо ушей.
— Ты имеешь в виду новый роман Ханггартнера? — Георг быстро отправил кусок рыбы в рот.
— Ханггартнер? Ханггартнер — это преходящая ценность. Пусть радуется, если его последний роман потянет на столько же, на сколько не тянули его предыдущие романы.
— Он потянет и на больше. Это я тебе говорю. Ты бы радовался, если бы среди твоих авторов хоть один сравнился с ним.
— Да, да. Очень хорошо. Минна сказала мне, что ты лично хочешь заниматься романом Ханггартнера.
— Пока еще нечем заниматься, у нас нет даже рукописи. Надеюсь, Минна тебя об этом тоже проинформировала.
— Нет, не проинформировала. Однако я о многих вещах осведомлен намного лучше, чем ты. Во всяком случае, сегодня я узнал, что отец запланировал еще одну, последнюю грандиозную попытку. Минна показала мне его проектные планы.
— Проектные планы? Какие проектные планы?
— Ну, я же говорил, ты не имеешь об этом ни малейшего понятия. Отец хотел увенчать дело всей своей жизни этим последним завоеванием.
— Последняя территория, как ты это называешь? Ты имеешь в виду Аляску или, может, Гренландию? Или это другое «белое пятно» на Земле? Я весь дрожу от нетерпения. Я хочу немедленно отправиться покорять этот райский, еще не открытый остров.
— Тогда держись крепче, мой милый, потому что отец думал о Европе, и не меньше.
Хойкен с удовольствием съел дораду с несравненным картофельным пюре и как раз принялся за «Sancerre», чтобы докопаться, что же означали слова «острый привкус». Джульетта Греко уже давно исчезла в дали серых парижских улиц, и теперь ей вторил Ив Монтан со своей «А Paris». Все прекрасно. «Le Moineau» мог бы быть его любимым рестораном, если бы не Кристоф, который все время старается выставить его дураком.
— Европа? Что значит Европа?
— Да, мой милый, новый проект прост, как все гениальное. Отец назвал его «Библиотека XXI столетия». Речь идет о серии, состоящей из двадцати четырех томов в год, лучше сказать, по два тома в месяц, один — европейского автора, другой — немецкого. Все жанры — от лирического романа до очерка или литературного репортажа. Но главная идея заключается в том, что автор должен быть не старше шестидесяти лет! Что ты теперь скажешь?
Хойкен сделал второй глоток. Острый привкус означал, что еда не перебивала вкус вина. С каждым глотком вино давало о себе знать все сильнее, пока его привкус постепенно не погашал вкуса пищи. Неплохо. Не то что молодое вино, которое только незаметно сопровождает еду. Незаметно — это всегда плохо, «незаметно» — это слово, которое он по-настоящему ненавидит. Кроме Европы. «Европа» с этого мгновения стала вторым ненавистным ему словом.
— Ты мне не веришь, — торжествовал Кристоф, — думаешь, наверное, что я все это выдумал.
— Я тебя внимательно выслушал, — ответил Хойкен, — но это не похоже на отца. Первая часть проекта еще может быть его идеей. Но вторая, которая касается возраста, никак не может исходить от него. Как бы он смог, будучи сам немолодым человеком, смотреть в глаза авторам своего возраста? Что бы он сказал, если бы автор лет шестидесяти пяти принес ему рукопись и спросил, подходит ли она для его европейского проекта? «Мне очень жаль, но вы слишком стары»? Нет, это не может быть его идеей.
— Ну, ладно, предположим, мы отбросим эту идею с возрастным ограничением, как тебе остальное?
— Я должен узнать обо всем больше и подробнее, но в общих чертах идея мне нравится. Запоминающаяся, простая, четко обозначенная, а главное, это перспектива развития литературы, устремленная в будущее.
— Да, я тоже так думаю. Наш старик, мой милый, заткнул нас за пояс. Ведь этот проект не пришел в голову ни мне, ни тебе. Мы слишком медлительны и трусливы, чтобы заглядывать в будущее, но, прежде всего, мы не умеем думать так просто, как он. О Европе. Как о единственно возможном будущем литературы. О политике. Об общественности. Европа — это центральное, главное слово этого столетия, но мы оба, к сожалению, не додумались до этого. Несмотря на наше образование, а лучше сказать, из-за нашего образования мы так и не пришли к этой простоте. Я тебе говорю, я был потрясен, когда сегодня утром Минна показала мне планы отца. Он нацарапал их от руки на четырех листах бумаги, только заглавие отпечатано. Он рассматривает их как свой тайный, хорошо охраняемый динамит. Самое интересное, что то, чего ты как раз не ожидал от отца, исходит именно от него и оно же и является самым гениальным. Потому что новая Европа — больше не для старых костей, которые постоянно говорят о де Голле и Аденауэре, понимаешь? Поэтому отец и установил возрастные границы, чтобы заставить молодежь выйти наконец из своих укрытий.
Вторая часть плана стала теперь правдоподобнее, чем показалась сначала. Если Кристоф и дальше будет говорить с таким энтузиазмом, то ему, пожалуй, придется по душе план в целом. Но почему Минна никогда не показывала Хойкену эти заметки? Почему она знала и рассказала об этом именно Кристофу? Потому что хочет, чтобы он стал наследником. Потому что она, в отличие от Лизель Бургер, которая поддерживала Георга, предпочитала его брата. Итак, Кристоф. Кристоф — любимец Минны Цех, Хойкену следовало бы давно это знать. Сейчас весь вопрос заключается в том, знает ли она о завещании отца. Если знает, то должна была рассказать Кристофу. Или отец говорил с Лизель о завещании, а с Минной — о своем большом последнем проекте?
— Во всем этом есть одно «но», — сказал Хойкен.
— И что же это?
— Отец сам слишком стар для такого проекта. Именно в этом его могут упрекнуть коллеги, отчего могут возникнуть конфликты в отрасли.
— Правильно, он слишком стар для этого проекта.
— Если бы он хотел быть последовательным, он должен был передать это дело кому-нибудь более молодому.
— Опять правильно, но кто тебе сказал, что он не хотел быть последовательным?
— Он хотел?
— Да, один из нас двоих должен это сделать.
— Ты или я?
— Наследник отца. Ты или я.
— Там так и написано, черным по белому?
— Так он написал.
— А что с Урсулой? Ее тоже принимают во внимание?
— Он написал: «Мой наследник должен детально распланировать проект и выполнить мои предложения. Дальнейшее указано в моем завещании».
— Его завещание? Минна Цех и об этом с тобой говорила? Она что-нибудь знает о завещании?
— Нет, ничего не знает.
— А ты знаешь что-нибудь об этом?
— Нет, я ничего не знаю.
9
Хойкен повернулся к патрону и заказал еще бутылку воды. Проект отца и его завещание дополняют друг друга. Наследник должен взять на себя осуществление проекта. Тот, кто идеально исполнит проект, имеет больше шансов. Кристоф, наверное, имеет то преимущество, что лучше знает Францию, которая играет в Европе большую роль. Опыт руководителя, приобретенный Хойкеном в Америке, в данном случае не так актуален. С другой стороны, две новые книги выдающихся авторов в месяц нуждаются в тщательном планировании, как и весь проект. Чтобы выйти с ним на рынок, необходимо разработать надежную стратегию. Это, несомненно, он сделает лучше Кристофа. В то же время брат смог бы, наверное, лучше, чем он, подобрать авторов. Когда Георг захотел продолжить разговор, Кристоф встал. Он смотрел на дверь, и Хойкен тоже посмотрел туда. Он узнал Урсулу. Она в длинной накидке медленно вошла в зал. Хойкену не нравилось, когда она так медленно подходила. Урсула шла как-то тяжело, волосы падали ей на лицо с обеих сторон и так плотно закрывали его, что сестру едва можно было узнать. С детства у нее была привычка входить в двери таким образом — осторожно, тихо, как будто ей угрожала опасность. Хойкен никогда не видел, чтобы сестра входила в помещение стремительно и беззаботно. Нерешительная вялая походка привлекала внимание окружающих, и все невольно наблюдали, когда же эта перепуганная особа найдет наконец спасительное убежище. Когда Урсула была еще маленькой, ей часто говорили, что она должна ходить быстрее и шевелиться, но все было по-прежнему. Хойкен тоже встал. Вид сестры вызвал у него жалость. Он не должен был идти ей навстречу, выражая и демонстрируя свое сочувствие, но сделал это, обнял Урсулу и поцеловал в щеку в знак приветствия. Сестра ничего не сказала и проследовала за ним к столику. Кристоф тоже приветствовал Урсулу поцелуем, взял ее черную накидку и отправился с ней в гардероб, чтобы по дороге обратно заскочить в туалет.
Хойкен предложил сестре место на скамейке слева от Кристофа и занял свое место. Кристоф был мастер при необходимости тихо и незаметно удаляться. Он хорошо знал, как трудно начинать с Урсулой разговор при встрече. Вот и сейчас она сидела, не говоря ни слова, убирала с лица волосы и робко осматривалась, словно ей нужно было время, чтобы прийти в себя. Иногда она была похожа на маленькую девочку, которая ждет, чтобы ее взяли за руку, но могла производить также впечатление замкнутой женщины средних лет, которая не отвечает на вопросы, а только тихо сидит, смотрит и приглаживает свои волосы. Было ужасно странно, что отцу эта ее особенность совсем не мешала. Он просто говорил и говорил, и через какое-то время Урсула оттаивала и вступала в разговор. Так и следовало делать, Хойкен это знал, но иногда тоже упрямился, и тогда они сидели друг против друга и молчали по нескольку минут. Были авторы, которые отчаивались, встречая такой прием, и отказывались с ней работать. Откуда им было знать, что они должны были поступать так, как отец, чтобы до нее достучаться? Говорить, смеяться, тарабанить пальцами по столу, что-нибудь заказывать — словом, вести себя так, как будто имеют дело с нормальным человеком. На сорокалетний юбилей отец подарил Урсуле издательство. Не какое-нибудь, а одно из самых крупных в стране — «F. Schimmer-Verlag». С тех пор сестра восседала на верхнем этаже небоскреба во Франкфурте, в кабинете, откуда иногда не выходила целый день. Дверь закрыта, никаких контактов, и только сотрудники бегают по ступенькам туда-сюда, дожидаясь ее решений. Со старыми писателями, которые уже считались классиками, Урсула премило общалась и, по-видимому, ей это нравилось больше всего. Если бы это от нее зависело, то вся новая литература была бы классической, чтобы ее можно было завернуть в кожу, вынести на рынок и таким образом иметь дело только с благородным ассортиментом. С молодыми авторами она отказывалась работать. Этим разбитным и напористым типам нечего было делать в ее издательстве. Урсула много читала и долго молчала, но если иногда принимала решения, то добивалась их осуществления. Никаких дискуссий, никаких вопросов, все будет сделано так, как она продумала.
— Рада видеть вас, — сказала Урсула тихо.
— Рад тебя видеть, — ответил Хойкен. Ему захотелось стукнуть себя по лбу, чтобы выбить этот тормоз из своей головы. Такой паралич нападал на него всегда с первых минут встречи с сестрой. Казалось, ее манера поведения передавалась ему и полностью блокировала те важные клетки, которые отвечали за интерес к окружающему миру и заботились об установлении контакта с ним.
К счастью, появился патрон. Он поздоровался и спросил, что желает заказать дама.
— Апперитив, вино? Что она будет есть?
— Принесите мне, пожалуйста, графин теплой воды, — сказала Урсула и вдруг посмотрела на мужчину так строго, словно своим заказом следовала жестоким правилам тайного ордена.
В определенных ситуациях сестра могла смотреть строго, строго и беспощадно, как будто миру следовало стыдиться того, что он уж слишком к ней приблизился. Как-то, во время катания на лодке по Боденскому озеру, когда ее строгость не сразу пробрала попутчиков, она просто в одежде прыгнула в воду, нырнула и скрылась из виду. Плавала Урсула очень хорошо. Это был единственный вид спорта, которым она серьезно занималась, казалось, именно для того, чтобы уметь нырять и уплывать ото всех.
— Желаете воду с газом или без? — осведомился владелец ресторана.
— Я хочу теплую свежевскипяченную воду, — ответила она. Наверное, здесь еще никто не делал такого заказа, но для нее это было нормально, поэтому мужчина смотрел на нее во все глаза. Вот сидит странная персона с заскоком, нужно о ней позаботиться.
Урсула надела очки, которые использовала для чтения, и принялась изучать меню. Хойкен почувствовал, что должен сейчас влезть в шкуру отца.
— Кристоф сегодня вечером играет первую скрипку, — начал Георг. — Я бы устроил нам встречу чуть подешевле. Но мы так редко собираемся втроем, что раз уж наконец собрались, то и «Le Moineau» сойдет, мне даже начинает здесь нравиться. Мы пили «Sancerre», говорят, очень пикантное. Еще ели крошечные каннелони и королевскую дораду, уложенную на пюре. Такого я еще никогда не пробовал. Ты должна обязательно это заказать. Посмотри меню на неделю. Следующее блюдо, минуточку, следующее блюдо «Tartare tiéde de veau sur un gratin de blettes avec gribiche pimentée». — Он протянул Урсуле меню, но ее взгляд был еще такой жесткий, что Хойкен засомневался, может ли сестра чем-нибудь восторгаться. И опять она не отвечала, только продолжала приглаживать волосы.
— Только взгляни, — не сдавался Георг, — они написали «Tartare», по-французски это, наверное, правильно, хотя по-немецки написали бы «Tatar». «Tartare» и «Tatar». Странные слова.
— Они произошли от слова «татары», — почти прошептала Урсула, — которые известны тем, что едят много жареной рыбы.
— Ах, в самом деле, это все объясняет. Уверен, что раньше я тоже об этом знал.
Она снова замолчала. То, что Урсула дала короткую информацию, совсем не означало, что она хочет вступить в разговор. «Разве это нормально, раздумывать, на какой козе подъехать к сестре, чтобы втянуть ее в разговор? — думал Хойкен. — Сейчас придет Кристоф, пусть теперь он попытает счастья».
— Как себя чувствует отец? — неожиданно спросила Урсула, когда Кристоф вернулся и сел на свое место. — Кто из вас видел его сегодня?
Вот оно что. Вот, значит, с чего она хотела начать разговор. Начинала сестра всегда с самого плохого.
— Я был у него сегодня утром, сразу после приезда, — сказал Кристоф. — С профессором я, правда, не разговаривал, это сделал Георг. Медики не пустили меня к отцу. Сейчас они ограждают его от любого общения. Каждое сказанное нами слово для него — яд, потому что сразу напомнит ему об издательстве и его проектах.
— Общаться с Лоебом не просто, — подхватил Хойкен. — Вчера он сыпал своими профессиональными терминами, а сегодня разговаривал со мной как приветливый дядюшка и делал вид, что с отцом ничего страшного не случилось. Так, прицепилась пара болячек.
— Я хочу услышать от вас не о профессоре, а о состоянии отца, — произнесла Урсула.
— Если ты так ставишь вопрос, то я тебе скажу, что у меня впечатление самое плохое. Я с трудом узнал его в этой стеклянной клетке. Он лежал неподвижно, с закрытыми глазами и показался мне таким сморщенным, как будто два инфаркта убили его жизненную энергию.
— У меня впечатление еще хуже. Я больше не верю, что отец поправится после второго инфаркта, — сказал Кристоф.
Сестра сняла очки и стала медленно пить свою теплую воду, которую патрон принес ей лично, как исключительную драгоценность.
— Итак, если все так и есть, — сказала она по-прежнему почти шепотом, — тогда получается, что каждый из нас по-разному к этому подходит.
Урсула была очень прямолинейной и бесчувственной, но при этом каждый видел, как сильно она любит отца. Мать она, конечно, тоже любила, но с ней у Урсулы было много трений по совсем непонятным причинам. Внешне их сестра была очень похожа на мать, особенно сейчас, разве что волосы носила очень неумело. Она не могла решиться коротко их остричь, но и длинные не отращивала. Эта нерешительность портила впечатление, которое могло бы производить ее лицо, если бы не было прикрыто вечно падающими на него волосами. У Урсулы было красивое лицо, но из года в год оно все больше расплывалось, тогда как у мамы, наоборот, черты лица с каждым годом обозначались все четче, а незадолго до смерти она, казалось, стала даже еще красивее, чем прежде.
Патрон снова появился у стола и поинтересовался, что дама будет есть.
— Я ничего не буду есть, — ответила Урсула немного громче, — но позже принесите мне второй графин.
Кристоф плотно сжал губы. Видно было, что он заставил себя сдержаться. Теплая вода вместо «Sancerre» и легендарного «меню на неделю»! Это настолько раздражало брата, что он не мог удержаться от колкостей.
— Я должна знать, как хорошо вы проинформированы, — сказала Урсула, словно беря на себя ведение заседания. Один из бывших администраторов «F. Schimmer-Verlag» рассказывал, что случилось, когда она однажды на это решилась. Урсула вытаскивала один козырь за другим и не остановилась, пока не положила на обе лопатки всех сидящих за столом. Потом она скрылась в своих апартаментах и, наверное, разожгла там костер победы, совершенно одна, словно злая ведьма, которая поставила всех глупых мальчишек на место.
— О чем мы должны быть проинформированы? — спросил Кристоф.
— Об урегулировании вопроса о том, кто будет наследником отца, — произнесла Урсула.
— Мы только что об этом говорили, — заметил Кристоф. — Проблема состоит в том, что нет завещания, которое регулировало бы преемственность.
— Ерунда, — сказала Урсула. — Завещание есть, и я подробно проинформирована обо всех распоряжениях. Кроме того, есть один проект, который определенным образом связан с условиями завещания.
— Если ты имеешь в виду проект-концепцию планов отца «Библиотека XXI столетия», то я только сегодня днем узнал о нем.
— Да? И от кого же?
— От Минны Цех, — ответил Кристоф и погрузился в молчание.
Она заставила Кристофа замолчать. Значит, бывший администратор «F. Schimmer-Verlag» был прав. Хойкен решил про себя, что ни в коем случае не признается, что знает о завещании. Он ничего не знает. Он не просто глупый мальчик, он безнадежно глупый мальчик, которому нужно все растолковывать.
— А ты? Что ты знаешь? — спросила Урсула теперь уже у него.
— Урсула, я отвечу тебе вопросом. Как вышло, что ты оказалась в курсе дела? И как получилось, что тебя проинформировали, а нас обоих, как видишь, нет? Я, во всяком случае, сижу здесь, как дурак, и ничего не знаю.
— Это я тебе могу объяснить, — сестра посмотрела Хойкену прямо в глаза. — Отец со мной обо всем говорил, мы вместе ломали голову над завещанием. Потому что всем ясно: один из вас должен стать наследником. Я недвусмысленно объяснила отцу, что не имею видов на руководство концерном. Я бы могла осуществлять руководство, но я не хочу. Еще лет десять я с удовольствием буду руководить «Schimmer-Verlag», а потом передам его наследнику отца.
Она могла бы осуществлять руководство концерном, неужели Урсула это сказала? В голове у Хойкена молнией пронеслись картинки, которые демонстрировались на курсах катастроф. Он представил себе Урсулу, которая, как Брунгильда[22], парит над кёльнским зданием концерна и жестоко казнит администраторов, пока все здание не рушится, как башни-близнецы. Затем она издаст пронзительный крик и ринется в Рейн, чтобы исчезнуть навсегда. Сейчас Хойкен чувствовал себя паршиво. У него в голове появляются только подлые мысли. До чего же он докатился, если таким образом пытается взять себя в руки.
— Пожалуйста, рассказывай все по порядку, — сказал Кристоф. — Идея с библиотекой фантастическая, мне кажется, Георг и я по меньшей мере понимаем, чего ждет от нее отец. Но чего я не пойму, так это того, как он представляет себе наследование. Если ты не хочешь принимать в этом участия, Урсула, тогда наследником должен стать Георг — как старший, или я — как издатель, которому проект, связанный с Европой, наверное, не совсем чужой. Была бы, конечно, и третья возможность, если бы мы бросили жребий.
Брат засмеялся. Бедняга думал, что удачно пошутил. Он и понятия не имеет, что будет дальше, потому что сейчас Урсула вытащит самый главный козырь и щелкнет им по столу, так что маленький француз в Кристофе не прикоснется ни к Tartare, ни к Tatar.
— Мы втроем будем решать, кто будет наследником, — произнесла Урсула. — Мы втроем будем его выбирать. Так как каждый из вас хочет им стать, то мой голос будет решающим.
— Ты не можешь говорить это серьезно, — заметил Кристоф.
— И тем не менее, я говорю серьезно, — ответила Урсула. — И то же самое сказано в завещании отца. Вот, прочитайте!
Она вынула из сумки и положила на стол текст завещания. Очевидно, отец предоставил ей копию. Хойкену пришлось приложить усилие, чтобы с заинтересованным видом пролистать страницы и убедиться, что содержание ему уже известно. Кристоф же сидел так, словно он ничего не понимал.
— Минуточку, — сказал он. Таким беспомощным Хойкен видел его только в детстве. — Минуточку. Вся эта конструкция означает, что на следующей неделе мы с Георгом только и будем делать, что целовать тебе ноги. Отец захотел сделать из нас идиотов?
Вернулась старая плаксивость Кристофа. Хойкен понял это по быстрому и беспрестанному подергиванию век брата, как будто он хотел таким образом убрать из поля зрения неприятные картины. Кристоф не совсем точно понял смысл завещания, он был занят исключительно тем, что боролся со своим разочарованием.
— Кристоф, что ты говоришь? — спокойно возразила Урсула. — Никто не делает из вас идиотов. Каждый из вас имеет свое преимущество. Отец не смог сделать свой выбор, поэтому нашел другое решение, нейтральное. После смерти мамы это могла быть только я.
— И на основании каких критериев ты хочешь решать, позвольте вас спросить? — поинтересовался Кристоф.
— Это очень просто, — ответила Урсула. — Вы оба предложите мне разработку папиного проекта — темы, авторы, калькуляция, реклама, в общем, все. Та разработка, которую я сочту самой убедительной, получит мой голос, и тогда появится наследник.
— Две порции «Tartare tiéde de veau sur un gratin de blettes», — сказал патрон на своем певучем французском языке. — Не хотят ли господа еще вина? «Sancerre» скоро закончится.
— Нет, спасибо, — ответил Кристоф. — Я больше не пью вина. Я выпью той восхитительной воды, которую предпочитает моя сестра.
— А я выпью еще бокал, — сказал Хойкен. — Что вы порекомендуете?
— Я сейчас принесу вам карту вин, мсье, а там посмотрим.
Кристоф не будет больше пить вина, такого еще не было. Он всегда выпивал не меньше двух бутылок. И к Tatar, кажется, не хочет прикасаться. Он бы с удовольствием сейчас скрылся, как раньше, когда в подобных ситуациях просто прыгал в кусты, а к вечеру возвращался с ободранными коленками. Мама мазала их йодом, и из ванной комнаты слышались стоны, как будто Кристоф терпел невыносимые муки.
— Ты не будешь есть Tatar? — удивился Хойкен.
— У меня пропал аппетит, — ответил Кристоф.
— Дай его мне, — сказала Урсула. — К счастью, я ничего не заказала.
— Ты получишь его, если выпьешь со мной вина, — произнес Хойкен. — Было бы просто стыдно такую изысканную еду портить водой из графина.
Она посмотрела на него и улыбнулась. Урсула улыбнулась первый раз с тех пор, как зашла сюда. Они обсудили все тяжелые темы, можно и расслабиться. Если она согласится и действительно выпьет красного вина, может быть, вечер еще будет не совсем пропащий. Только с Кристофом будет тяжело. Вот он сидит, задумчивый и оглушенный.
Хойкен взял карту, открыл ее и начал просматривать страницы красных вин.
— Я посоветовал бы вам «Charmes-Chambertin» из Бургундии, — заметил патрон, который вдруг снова появился возле них.
— Хорошо, так мы и сделаем, возьмем это, — согласился Хойкен. — Принесите, пожалуйста, три бокала и уберите наконец эту ужасную воду.
Урсула улыбалась и молчала, и Хойкен подумал, что такого почти не бывало, чтобы она молчала, соглашаясь.
10
Они расстались у входа в ресторан сразу после полуночи. Сестра в своей черной накидке села с Кристофом в такси, а Хойкен пошел пешком в отель. Утром они уедут. Урсула — после того, как навестит отца в клинике, а Кристоф — рано, около шести, чтобы в девять уже появиться в своем издательстве в Штуттгарте. Втроем они осушили бутылку «Chambertin». От выпитого вина Хойкену казалось, что он парит над землей на воздушной подушке. Приятное чувство — эта легкость, кажется, откуда-то с небес протянулась чья-то рука. Рука, всегда готовая помочь.
Под конец вечера Урсула по-настоящему разговорилась, блистая тем шармом, о котором так растроганно говорили ее старые авторы. Может же она быть умницей? Да конечно же может. Когда она хочет, то откупоривает чувства своих старых авторов, как флакон с благородными, прекрасными духами, и тогда на свет появляется новый сборник стихов. «На чужбине».
Хойкен шел по северной части города и удивлялся, что в такое позднее время на улице полно народа. Ночью люди жили совсем другой жизнью. Георг вспомнил, что в издательстве есть много сотрудников, которые до двух-трех часов ночи где-то развлекаются, а потом появляются на работе около девяти с восковой бледностью, которую до обеда пытаются убрать с лица при помощи кофе.
Двери турецких закусочных были широко открыты, над жаровнями, как будто отражение огня, мерцал слепящий неоновый свет. Внутри стояли старые турки и беседовали между собой. Многие ели что-то, держа еду в руках. Если бы Хойкен только что не съел теплый шоколад с ванилью, то позволил бы себе что-нибудь турецкое. Еда в «Le Moineau» была очень вкусной, но совершенно не такой, как в других ресторанах. Хойкену постоянно казалось, что он только пробует. Как на детском дне рождения, когда детям завязывают глаза и они должны угадать, что едят. «М-м-м, вкусно, но я не знаю, что это… Сейчас попробую еще раз…» Что-то в этом духе. Порции были такие маленькие, что годились только для пробы и, попав на язык, тут же таяли во рту. Потом следовал озадаченный взгляд. Что я только что съел? Что это было? Кухня в «Le Moineau» в общем неплохая, только нужно знать, что они кладут в блюда. Сидишь там, как младенец, а патрон кормит тебя с ложечки: «Ну, еще кусочек, мой хороший, пока ты наконец не поймешь, что этот восхитительно легкий вкус с душком исходит от свиной ноги». Что? От свиной ноги? Так вот почему вы так упаковали ее в Taco! Да, это тайна, эта свиная нога в виде Тасо. Это введет в заблуждение любого гурмана. И это тоже интересно и даже поучительно. Вот именно — поучительно, вот, правильное слово наконец найдено. «Haute Cuisine» — это нечто поучительное, ничего менторского, только поучительное. В Германии следует четко разделять эти два понятия. Он должен это записать, чтобы при случае вставить в разговоре. Наверняка Кристоф заранее продумал свои теории и убедительные утверждения, которые на слух воспринимаются как умные афоризмы молодого Канетти. Вот еще тип, который в двадцать лет уже тянул на Нобелевскую премию и позже действительно получил ее. По сей день не понятно, за что. Три тома мемуаров, которые пишут только тогда, когда ничего другого не приходит в голову. А перед этим? Что было перед этим?
Эти места с их турецкими киосками, закусочными и шикарными ресторанами, собственно говоря, тоже являются территорией, как говорит Кристоф. Возможно, было бы неплохо выпустить о ней маленькую карманную книжку. Указать в ней все рестораны, часы работы каждого киоска и добавить к этому беседы с жителями, их истории, их жизнь. «Как я, будучи отцом большого турецкого семейства, обеспечиваю своих родных». Что-нибудь в таком роде, неплохая идея. Определенно, этим людям есть что рассказать. Удивительные истории о том, как бабушка плела корзины где-то в Анталии и таким образом зарабатывала на жизнь, а отец перетащил всю семью в Кёльн и неплохо получал на «Форде». У двух его сыновей собственные рестораны, а третий, гений в работе с недвижимостью, купил здесь половину земельных участков. Десять внуков, один уже баллотируется от партии «зеленых», ни один из них больше не верит в Аллаха, в то время как отец упорно пьет только турецкий чай и еще ни разу не прикоснулся к настоящему кёльнскому пиву.
Хорошая идея, эти территории. В сущности, этим он обязан Кристофу. Идею можно расширить и выпустить целую серию таких книг. Серия карманных книг о кёльнских кварталах, каждый из которых имеет свое лицо, свою гордость, свою культуру, как сказал бы внук того турка. В голове у Хойкена уже вертелись названия книг, он думал обо всех этих ресторанах, историях и культурах. Однако нужно найти хорошего составителя книг, надежного, живого, цепкого, который держал бы отряд своих информаторов в кулаке. Петер Файль подойдет для этого идеально. Итак, решено. Файль. Хойкен придумает, как сделать это предложение привлекательным для Петера.
Башни собора были видны почти все время. Они возвышались над крышами домов и иногда выныривали на заднем плане прямых рядов улиц, как два громадных темных пальца, которые оповещают: «Я здесь!». Генрих Белль как-то сказал, что эти башни не дают ему покоя. Подумать только, какую чепуху он иногда говорил. Красивый, мелодичный звон колоколов доводил его до транса. На самом деле башни собора были просто ориентиром, который был виден из любого уголка Кёльна, предшественником телевышки, если угодно. В них не было ничего священного или сверхъестественного. У них было разумное предназначение, и по поводу этого Георг с удовольствием поспорил бы с Беллем.
Сейчас Хойкен стоял перед тремя главными порталами собора. Все нижние скульптуры поблескивали в золотом сиянии прожекторов, на их фоне темным серебром выделялась ажурная резьба. Георг подошел ближе и остановился, рассматривая множество маленьких фигур. Днем они прятались в темноте, и только сейчас их можно как следует рассмотреть. Нужно сфотографировать каждую в отдельности с близкого расстояния. Можно сделать целый том с сотнями этих шедевров, на которых отдыхает глаз, — большая процессия, густой толпой плывущая через стрельчатые арки. В придачу можно рассказать историю этих прекрасных и выразительных творений, которые, кажется, только того и ждут, чтобы сбросить с себя покров тайны. Прочь из ваших укрытий, прочь из ваших камер и склепов! Итак, портал — это тоже территория, почему он раньше сам до этого не додумался? Чтобы разбудить этот мрачный, уставший от столетий камень, нужен хороший рассказчик, и не искусствовед, как Хойкен полагал раньше. Целый собор как отдельный квартал города, как маленький замкнутый мир со своими прекрасными и грустными историями — вот что это такое.
Хойкен так увлекся своими идеями, что сердце его стало учащенно биться. Его охватило волнение, он был бодрым и радостным. Георг посмотрел на отель. В окне его номера горел теплый молочно-белый свет, который создавал ощущение безопасности. Хойкен оставил торшер включенным, чтобы окно можно было увидеть с улицы. Он вошел в отель и увидел, что в баре еще есть посетители. Хойкен подумал, не зайти ли ему на огонек, и решил, что будет совсем неплохо ненадолго заглянуть туда, чтобы немного успокоиться. В баре было полно народа, свободные места оставались только у круглой стойки. Георг сел и заказал один бурбон. Все пары сидели за маленькими столиками перед большой стеклянной стеной с видом на Соборную площадь. Ночь вызывала у них чувственную сексуальность. Бокал вина, второй, и вот уже рука тянется к руке. Только бы касаться друг друга, держаться за руки, только бы не исчезать по одному в молчаливых номерах гостиницы, чтобы сидеть там в одиночку, мурлыча себе что-то под нос перед включенным телевизором. Глубокой ночью хороший бар в отеле — самая настоящая сводня. На заднем фоне негромко звучит джаз, подражая биению сердца, и алкоголь действует все сильнее. Сначала вино, потом напитки покрепче, от которых теряешь контроль над телом, — виски, джин, которые властно толкают в постель, и заранее известно, что будет утром, если наслаждаться ими ночью. Но чего хочет он? Хойкен сидит здесь один, а все другие по парам. Стыдно долго сидеть в баре одному. Он не относится к тем типам, которые сидят как загипнотизированные и, если с ними заговорить, отвечают обрывками фраз. Модное сейчас увлечение аутизмом просто ужасно. Что они находят в этом положительного? «Модное увлечение аутизмом» — кажется, звучит неплохо. Нужно будет ввернуть эту фразу завтра на встрече с Ханггартнером. «Вильгельм, как ты борешься с ночным одиночеством после встреч с читателями?» Это будет совсем неплохой вопрос. Ханггартнер загорится и будет рассуждать о различных формах поведения человека в баре. «Не могло бы это стать темой для эссе?» — лицемерно спросит он под конец. И Вильгельм Ханггартнер запишет название темы «бар в отеле» в свою засаленную записную книжку.
Хойкен не мог долго выдержать того, что сидит в баре один. С каждой минутой в нем росло желание найти собеседника и общаться так, как это делали все вокруг. Те, кто уже нашел себе пару, наблюдали за ним. Неужели сидеть за столом одному доставляет ему удовольствие? Все было так, словно ты находишься на карнавале, но не можешь принять участие в веселье и примкнуть к остальным — это так противно. Хойкен принялся за последний бокал и вдруг поймал себя на том, что думает о Яне. Было бы совсем неплохо посидеть здесь с этой девушкой. Он думал, что бар ей понравится, но догадывался, что Яну можно поместить только в определенную среду, чтобы разбудить в ней дух Кундеры. В субботу после концерта будет удачный момент. От филармонии до отеля всего несколько шагов. Он может прогуливаться с ней по Соборной площади и задать совершенно безобидный вопрос: «Не хотите чего-нибудь выпить?» В субботу вечером в баре полно народа, поэтому придется заранее побеспокоиться и заказать столик возле стеклянной стены, где он сейчас сидит один. Впрочем, нужно ли так рисковать? Если он посидит с ней в баре… а вдруг начнется то, от чего ему потом будет не так просто отделаться? Но почему он так думает? Зачем оставляет открытым путь к отступлению? Хойкен решил, что нужно следовать своему настроению. Он не станет заказывать столик, нет, он этого не сделает.
Георг выпил свой бокал, расплатился и пошел в свой номер. Когда он открыл белую дверь, его неприятно поразила тишина внутри. Эта неожиданная тишина ему никак не нравилась. Великолепные идеи, которые все еще витали у Хойкена в голове, сразу поблекли. Тишина парализовала его. Он видел каждую мелочь — вазу с цветами, там, на письменном столе, в которой умирала вялая роза, сложенные горкой стаканы на шкафу бара. Рано утром он попросит у Макса CD-плейер и будет слушать здесь свой собственный ночной джаз. Например, «Ночной мечтатель» Вейна Шотера[23]. Хойкен взял пульт, включил телевизор и попробовал просмотреть пару программ. Вот искусные бильярдисты нагнулись над темно-зеленой фланелью стола, а вот какой-то не по годам умный, очень строгий немецкий учитель гимназии с доской и мелом всей душой отдавался самым далеким планетам. «Ночь в космосе» и «Бавария 3» — он смотрел эти передачи, если далеко за полночь не мог заснуть. Плывущая по Вселенной Земля — разноцветный шарик, который однажды кто-то привел в движение, как кий игрока — бильярдный шар…
Хойкен выключил телевизор, потянулся и подумал, нужно ли задергивать гардины. Может ли кто-нибудь с улицы видеть его комнату? Возможно, человек из собора, монах, который ночью молится за грешников и старательно наводит в церкви порядок. Освободившись от многонациональной толпы туристов, собор следующие двенадцать часов предоставлен сам себе. На днях нужно обязательно зайти туда, только выбрать время, когда в нем будет не очень много людей. Ты меня слышишь, человек в соборе? Большой Бог согнул спину и стал маленьким-маленьким, он ходит туда-сюда по собору и наслаждается ночной тишиной. Взволнованный, потому что ему не нравится пение церковного хора, в плохом настроении, оттого что не может пожаловаться самому себе. Кому должен жаловаться Бог? Снова вопрос, который можно задать Ханггартнеру. Тот иногда впадает в безудержные теологические рассуждения и на своих воскресных чтениях ни с того ни с сего начинает читать проповеди о вечной жизни после смерти. «Транс-цен-ден…» — как Ханггартнер это выговаривал, медленно, с долгим «а», словно это не имело ничего общего с латынью.
Хойкен оставил гардины открытыми. В доме отца они висели только как украшение, и портьеры в столовой были просто декорацией. Георг пошел в ванную комнату, принял душ и лег спать. Когда он закрыл глаза, собор все еще стоял у него перед глазами, этот одинокий черный остров с освещенной шкатулкой из серебра и золота. И джаз, в его ушах еще звучал джаз из «Sir Ustinov’s Bar», как будто кто-то забыл выключить маленький вентилятор. Хойкен нащупал выключатель лампы на ночном столике и погасил свет… Однако после короткого и яркого сна, в котором он шагал по ночным улицам, Георг снова проснулся. Было около трех часов ночи. Хойкен надел халат и прошелся по комнате. Он устал, но не мог спать, что-то очень беспокоило его. Эти разговоры в «Le Moineau», все эти проекты и планы будущего, которые только напрягают его. Кристоф наверняка плохо представляет себе, что наметила Урсула. Кажется, она и в самом деле хочет объективно оценить оба плана, но, возможно, у сестры уже давно есть фаворит. Кристоф гораздо больше напоминает ей отца, но наверное, он ей тоже импонирует, потому что лучше решает финансовые проблемы. Вероятно, Урсула не может себе представить, как он живет и что думает. Сестра видит в нем отличного шефа, который еще не допустил ни одной грубой ошибки. Никто не может знать, какое решение она примет в конце концов. Урсула может взять себя в руки и все свои эмоции подчинить разуму, это пойдет ему на пользу. Но может случиться по-другому, и она пойдет на поводу у своего настроения, тогда преимущество будет на стороне Кристофа.
Хойкен попробовал почитать. Здесь это у него не получалось, как не получалось слушать джаз. Постепенно он все в номере обставит по-новому. Единственное, что Хойкен мог читать сейчас, — это письма, написанные несколькими авторами и адресованные матери, часть биографии отца, которую составил Петер Файль. Сегодня днем он пролистал некоторые из них и не мог понять, что этим, судя по тексту, отчаявшимся мужчинам нужно было от мамы. Сюда, естественно, не прилагались ее ответы, из-за чего было трудно воссоздать переписку, но через время Хойкен догадался, о чем шла речь. Речь шла о дружбе. Все эти слабые и вконец упавшие духом мужчины искали прежде всего маминой симпатии и дружбы, им нужен был человек, который бы слушал их днем и ночью. Большинство из них писали по два-три письма в неделю, не меньше. Почти всегда они начинались словами сердечной благодарности. Благодарности за ее поддержку, за книгу, за оказанное внимание, один даже благодарил за «восхитительные груши из райского сада в Мариенбурге», как будто она была феей, которая одаривала поэтов целебными яблоками. Многие письма были написаны старомодным стилем. Это был очень старый, эпистолярный стиль. В нем было что-то недосказанное, как будто все эти мужчины ходили в одну школу с Рильке[24] и старались хоть немного быть на него похожими. Хойкен представлял их беспокойными, идеализирующими самих себя созданиями, полными меланхолии, которые беспрестанно пишут, склоняясь с легкой улыбкой над листами бумаги, чтобы потом из гор написанного извлечь крошечную жемчужину. Мама опекала их, как доктор опекает своих пациентов. Для них она была единственной опорой и единственным голосом, к которому они еще прислушивались. Мужчины, неуверенные в своих чувствах и взвешивающие каждое слово, чтобы об этой неуверенности рассказать, — может ли быть что-нибудь хуже? Терпение, которое мама пускала в ход, чтобы ответить на все эти послания, было достойно восхищения, хотя она не выносила сентиментальности. Мама держала своих последователей школы Рильке вместе, хотя, скорее всего, ни один из этих жаждущих поговорить мужчин ничего не знал о существовании других. Она подбадривала и направляла всю команду старых авторов издательства. Если отец был с ними слишком резок, они бросались к маме, чтобы выплакаться. Отец наверняка потерял бы многих своих писателей, если бы она не направляла их своими усилиями назад. Таким образом, можно сказать, что мама незримо, тайно, издалека участвовала в руководстве концерном. И об этом отец ничего не знал. Неужели он действительно не догадывался? Наверное, этому великому патриарху было неведомо, насколько он и его словоохотливые работники зависели от его супруги.
Хойкен сидел в удобном кресле у торшера и читал письмо за письмом. Его усталость уносилась прочь, первый луч солнца заиграл на башнях собора напротив и скатился к Рейну, словно белая волна с далекого холма. Хойкен встал и улегся в постель. Около пяти часов утра он уснул.
III Выход
1
Поезд, на котором ехал с севера Ханггартнер, опаздывал минут на двадцать. Хойкен не хотел снова спускаться на эскалаторе вниз, в удушливое царство магазинов и закусочных, поэтому он медленно прогуливался вдоль железнодорожных путей. Его не волновало то, что приходится ждать. У него было время еще раз обдумать эту важную встречу со своим популярным автором. Минна Цех распланировала все до последней мелочи и хорошо его подготовила. Все должно проходить точно так же, как при встрече с отцом, чтобы эта стабильность постепенно продвигала Ханггартнера к последнему этапу — передаче рукописи. Итак, они пообедают у Клаудио на Марцелленштрассе. Столик в углу, справа от входа уже заказан. Сначала будет любимое вино Ханггартнера, черная «Barbera». Клаудио Марини, семидесятилетний владелец ресторана, который обосновался в Кёльне более тридцати лет назад, принесет большую доску с особыми предложениями дня, кряхтя и подшучивая над своим возрастом.
Наконец прибыл белый междугородный экспресс. Хойкен ожидал на платформе возле того места, где останавливались вагоны первого класса. Ханггартнер путешествовал не только с максимальным комфортом, но и занимал сразу два места. Второе ему нужно было для портфеля или еще бог знает для чего, скорее всего, ему просто не нравилось, когда кто-то сидел с ним рядом. Длинный поезд подъезжал очень медленно и остановился почти бесшумно. «Машинист, должно быть, эстет, — подумал Хойкен. — Во всяком случае, он знает, как устроить великолепное прибытие поезда». Двери вагона бесшумно распахнулись. Из первого класса вышло всего несколько человек, которые сразу затерялись среди других приезжих. Ханггартнер появился последним. Хойкен сразу узнал его по шляпе и элегантному шарфу вокруг шеи. Ханггартнер был одет точно так, как на той фотографии для рекламной кампании, — задумчивый, но еще жизнерадостный мужчина, прибывший из поездки и всем своим видом показывающий, что получил от этого удовольствие. По тому, как Вильям шел со своим чемоданом на колесиках, было понятно, что в нем кипит жизненная энергия и он справится еще не с одним самым последним романом. Его нужно только подбодрить. «Следует направлять автора и ставить перед ним задачи», — как часто говорил отец.
Когда они поравнялись друг с другом, Хойкен замешкался на мгновение, не зная, что ему делать дальше. Обнять Ханггартнера казалось ему неудобным, просто пожать ему руку — слишком невыразительно для такого случая. Но сам Ханггартнер был далек от таких сомнений. Он просто оставил свой чемодан и прижал к себе Хойкена так крепко, словно они были родственниками и сто лет не виделись. Лицо Ханггартнера оказалось теперь так близко, что Хойкен мог уловить терпкий, слегка дурманящий запах крема после бритья. Минна Цех утверждала, что Ханггартнер очень заботится о своей внешности и что раньше она много раз беседовала с ним по телефону по поводу правильного выбора крема от морщин под глазами. Хойкен принял эту информацию к сведению с легким чувством отвращения. Уж лучше бы он этого не знал. Подобные разговоры привели к тому, что он долго не мог решить, как одеться на встречу. Сейчас на нем был синий пиджак и белые брюки. Георгу хотелось выглядеть моложе и увереннее. Клара наверняка съязвила бы, увидев его в такой упаковке рядом с Ханггартнером.
Несмотря на протесты писателя, Хойкен хотел сам потащить чемодан. Он терпеть не мог чемоданы на колесиках. Изначально они были придуманы для старух. Сейчас же половина платформы была заполнена этими тарахтящими колымагами, которые занимали всю дорогу. О чем он должен говорить и в каком ключе? Хойкен выбрал не очень громкий тон. Поблагодарил Ханггартнера за его приезд, упомянул о встрече с братом и сестрой прошлым вечером. Теперь он должен перевести разговор на проблему преодоления кризиса. Говорить нужно серьезно и сдержанно. Вильям должен понять, что машина концерна, несмотря ни на что, продолжает работать наилучшим образом. Выражать свои мысли нужно три, максимум четыре минуты, а затем дать слово Ханггартнеру. В присутствии писателей никогда не следует долго рассуждать самому, первую скрипку должен играть автор. Он кашлянул, и Ханггартнер тут же завелся. Он сказал, что не мог усидеть дома, так как инфаркт его старого друга поразил его в самое сердце.
— Я позже упрекал себя, Вильгельм, за то, что позвонил тебе, — сказал Хойкен.
— Упрекал? Я прошу тебя, не говори так! Ты поступил как сын своего отца, он поступил бы точно так же, — ответил Ханггартнер и взмахнул правой рукой, как будто дирижировал своим маленьким оркестром из эмоций. На своих встречах он тоже без конца рубил и разгребал руками воздух. Иногда это выглядело так, словно он хотел очистить свои тексты от ненужной шелухи, чтобы сделать их привлекательными. Следует отдать ему должное, он не принадлежал к числу авторов, которые исполняют свои произведения так вяло, как будто им все безразлично. Большинство старых авторов являются на удивление хорошими, профессиональными чтецами. Многие из них считают образцом Томаса Манна и читают свои произведения в кругу семьи.
— Мне нужно было подождать, — возразил Хойкен. — Я должен был дать тебе время свыкнуться с плохой новостью.
Ханггартнер шел рядом с ним энергичным, решительным шагом. До ресторана было совсем недалеко, и брать такси не было смысла. Сейчас писатель казался Хойкену взволнованным и импульсивным. «У Ханггартнера написано», — иногда говорил отец, подразумевая, что Вильгельм никогда не прекращал писать. Он был романистом и писал обо всем, что видел. Это означало, что он не выбирал тему и не знал отдыха, как лирик, который каждое наблюдение крутит так и эдак перед тем, как оно выйдет из-под его пера в виде стихотворных строчек. Однако постоянное внутреннее сочинительство сделало Ханггартнера беспокойным и раздраженным, особенно тогда, когда оно не выливалось в какое-нибудь произведение. История с инфарктом отца была настолько неординарной, что Вильям никак не мог определить ее тему, чтобы упрятать в один из ящиков своей обширной картотеки.
Вдруг он остановился. Хойкен не ожидал от этого ничего хорошего. Никогда нельзя было угадать, что последует за внезапной паузой.
— Я хочу кое-что узнать, Георг, и прямо сейчас, — сказал Ханггартнер решительно.
«Слишком рано для серьезных фраз, — подумал Хойкен. — Было бы лучше сначала угостить его хорошим глотком «Barbera». Тогда его упрямство растворится в пылу алкогольного блаженства».
— Давай отложим этот разговор, пока не придем к Клаудио, — ответил Георг, хотя давно уже понял, что не сможет удержать Ханггартнера. Если бы он попробовал это сделать, тот наверняка бы уперся. Охваченный духом противоречия, Ханггартнер мог перевернуть стол, изорвать меню, так что сейчас лучше дать ему свободу.
Они стояли сейчас прямо перед отелем «Hilton». Означало ли это, что Ханггартнер решил здесь расположиться? Может быть, поэтому он и остановился? Минна Цех говорила, что он ночует у своей сестры, в Дюссельдорфе. Конечно, о ее жизни он тоже написал роман. «Игра с двумя неизвестными» — так он назывался. Однако эта работа не имела большого успеха у читателей, хотя и рассказывала о тернистом пути бракоразводного процесса. Между прочим, его сестра давно уже подцепила другого мужа, якобы бразильца, имеющего дело с банковскими фондами.
— Скажи мне только одно, — произнес Ханггартнер так торжественно, как будто ожидал услышать важную новость. — Скажи мне, что ты сейчас чувствуешь, ты сам, лично. Вот что я хочу знать.
Хойкен не сразу понял, что означал этот вопрос. Ханггартнер задал его так значительно, словно хотел не просто узнать о его самочувствии. Сейчас Георг не мог увильнуть, он должен был сказать что-то такое, что могло бы произвести на Ханггартнера впечатление. Хойкен понял, что старый болтун хотел найти веский повод, чтобы уехать домой.
— Честно говоря, Вильгельм, — ответил Хойкен, — честно говоря и только между нами: я никогда не чувствовал себя таким сильным.
— Это я и хотел услышать, — сказал Ханггартнер и впервые улыбнулся. — Теперь я спокоен.
Раньше Хойкен долго не раздумывал, ему не стоило больших усилий сказать что-нибудь особенное и блеснуть умом. Однако отец не отличался красноречием и находчивостью, кроме того, писатели не любят, когда рядом с ними блистает кто-нибудь еще. Итак, он будет немногословен, он будет говорить кратко и веско, как претендент на трон. Пусть Вильгельм почувствует, что тяжелое состояние отца не выбило Хойкена из седла. Такая сила и решительность заставят Ханггартнера предположить, что Георг и три следующие программы осилит сам, без чьей-либо помощи, используя свою собственную энергию и освободившись от опеки отца. Это произведет впечатление и покажет Ханггартнеру, от кого в дальнейшем он будет зависеть. Прекрасные времена с отцом остались в прошлом, теперь наступили прекрасные времена с его сыном.
Не оглядываясь на Ханггартнера, Хойкен пошел дальше. В сущности, в своем ответе он не сильно соврал. Сегодня он открыл в себе силы, о которых до сих пор и не подозревал. Оказывается, нужно было случиться этому инфаркту, чтобы разбудить Хойкена и заставить его начать независимую жизнь. Но что будет, если сотрудничество с Ханггартнером не продолжится? Что, если Кристоф его опередит?
— Пойдем, Вильгельм, — сказал он через плечо почти сердито. — Давай обсудим дальнейшее у Клаудио. Я голоден как волк.
Не успели они войти в ресторан, как к ним тут же вышел старый Марини. В темных брюках и синей рубашке с закатанными рукавами и широким галстуком. На нем был большой, почти до пола, белый фартук. Перед своими клиентами Клаудио всегда появлялся, уплетая самый лучший кусок из своей кухни. Это сладострастие стоило ему жены, которая с некоторых пор жила отдельно.
— Какое счастье видеть вас! — воскликнул Марини и взмахнул руками, как курица крыльями. Хойкен не обиделся, что тот едва взглянул на него, направив все внимание на Ханггартнера. Эти двое должны исполнить свое старческое токование, это ему было понятно. Отец давным-давно облюбовал ресторан Марини для встреч со зрелыми авторами. Это было удлиненное, не очень шикарное помещение, которое напоминало гостиные начала 70-х. За маленькими квадратными столиками сидели солидные мужчины, которые хотели, чтобы никто не беспокоил их во время двух-трехчасовой деловой встречи. Высокие цены держали случайную публику на расстоянии. С незапамятных времен у Клаудио были постоянные клиенты, которые передавались из поколения в поколение, как будто здесь предлагалось бог весть что. Однако ничего особенного здесь не было. Особенной была атмосфера ресторана. В нем царила стабильность — постоянная смена блюд, постоянная деревянная мебель, отмеченная духом своего времени. Чемодан на колесиках был в конце концов поставлен возле столика в углу, справа от входа. Ханггартнер уселся так, чтобы можно было видеть весь зал. Хойкен сел к посетителям спиной. Марини кружил вокруг них, расспрашивая и воркуя. Наконец он ушел и вскоре вернулся, как всегда, с тяжелой деревянной доской, на которой было написано сегодняшнее меню. Ханггартнер завел с итальянцем непринужденную беседу в дружелюбном, почти сердечном тоне, тогда как обычно мог быть в разговоре даже немного вульгарным.
Когда Вильгельм очень уставал или чувствовал себя непонятым, он становился невыносимым и надолго уходил в себя. Отец постоянно жаловался на то, какими своенравными и тяжелыми бывают многие писатели в разговоре. Только со старыми американскими авторами дела часто шли лучше, потому что у большинства из них было какое-нибудь хобби — гольф, шахматы или парусный спорт. Обо всем этом отец мог поговорить со знанием дела. Но у Ханггартнера не было никакого хобби. У него была преданная ему жена, несколько детей, собака и на все свое мнение. Когда приходилось совсем плохо, он так забивал всем этим голову своему собеседнику, что тот с радостью играл бы часами в скат, чтобы вытрясти все это из головы.
Минна Цех упомянула, что каждый раз в качестве закуски Ханггартнер заказывает раков на листьях салата. Хойкен твердо решил, что при встрече он тоже это сделает. Сейчас он позволил Ханггартнеру еще раз перечислить все закуски, расспрашивая его обо всех подробно. Конечно, каждое название звучало словно какой-нибудь деликатес. «Carpaccio vom Fisch», — сказал Вильгельм и откинулся на спинку стула, как бы обдумывая и мысленно представляя себе это Carpaccio. Теперь Хойкен понимал, почему обед с Ханггартнером может длиться часами. Вильгельм принялся смаковать каждую мелочь, стремясь придать этому литературную окраску. Георг подумал, что романиста такого масштаба можно представить себе как некую ходячую энциклопедию, заполненную экзотическими словами и маленькими рисунками, которые их объясняют. Из года в год его словарный запас пополняется, каждый новый роман приобретает все более заковыристое название и вмещает трудные для понимания слова. Конечно, можно давать пояснения в сносках, но Ханггартнер наверняка воспротивился бы такому прозаическому отображению его мыслей.
— Боже мой! — воскликнул он в конце концов и воздел руки вверх, словно желая продемонстрировать, что не будет сопротивляться. — Это возвращает меня к прежним временам и прежним удовольствиям, я не могу этому противиться. В молодости я любил почти все эти блюда, но сейчас мой вкус ограничен настолько, что я опять возьму раков на листьях салата.
— Раки на листьях салата… — сказал Хойкен, как будто слышал об этой закуске впервые. — Неплохо. Думаю, я тоже присоединюсь.
Присоединяться, заказывать то же, что и автор, — это еще одно железное правило, которому следовал отец и которое запечатлелось в сознании Хойкена. На встречах такого рода следовало пренебречь собственными мыслями, интересами и желаниями. Этим достигалось определенное созвучие, которое так льстило литератору.
Хойкен размышлял, не следует ли снова начать разговор о состоянии здоровья отца, но потом отказался от этой мысли. Он почувствовал, что не должен обременять Ханггартнера тяжелыми мыслями. Сейчас у него была другая роль — роль слушателя. Большой человек вдруг увеличился настолько, что занял весь ресторан. Еще никогда Хойкен не сталкивался с ним так близко. Почему же раньше он не заметил у такого известного актера ни одной уловки? Ханггартнер переставил маленькую вазу на свободный столик, взял оттуда пепельницу, поставил ее перед собой, положил ложку, вилку и нож на туго накрахмаленную салфетку, вынул из кармана пачку сигар и закурил. «Willem II», голландская марка, он курит их уже два года. «Сигары сопровождают меня всю мою жизнь…» — так говорил герой одного из его романов, который делал рекламу какой-то табачной компании. В сущности, он мог бы рекламировать все что угодно, — свои украшения, свою шляпу, шарф, очки или мимолетный взгляд, свою походку, даже раков на листьях салата — все, что его касалось и носило его отпечаток. Как это выдерживала его семья? Как можно день ото дня защищаться от человека, который моментально воспринимает все чуждое?
Сейчас Ханггартнер рассказывал о доме, но делал это с почти отсутствующим видом. Он вспоминал, как выехал утром, описывал свою усадьбу на побережье, и эта картина проецировалась на стену ресторана, чтобы стать подходящим фоном и усилить ауру, которую создавал вокруг себя рассказчик. Он скосил траву, последний раз в этом году, он собирал груши и яблоки. «Я покончил с пылающей осенью» — так он сказал, почти шепотом, и спрятался в клубах дыма от своей сигары. Все, что Хойкен сейчас слышал, ничуть его не интересовало. Двор Ханггартнера, его груши и яблоки были ему совершенно безразличны. Но он сидел и изображал на лице такое внимание, словно каждая фраза несла в себе полезную новость и все, о чем говорил сейчас собеседник, было необычайно занимательно.
Его только раздражало, что Ханггартнер не выпускал из виду трех официантов, которые их обслуживали. Каждый раз, когда Вильгельм брал у них корзинку с хлебом, апперитив или еще какую-нибудь мелочь, у него был уже наготове вопрос. Он втягивал их в короткий разговор, интересовался, как их зовут, откуда они родом, есть ли у них семья, потом называл их по именам, чем пробуждал в них ощущение собственной значимости. Воспринимать жизнь серьезно, творение ставить в неловкое положение, обращая на него внимание. Это случайно не предисловие к его сборнику эссе «О путешествиях и других невозможностях»? Прежде всего ставить творение в неловкое положение. Это типичный Ханггартнер. Как хотел он даже Богу объяснить, как следовало бы устроить мир!
Они в первый раз чокнулись. Оба бокала, наполненные «Prosecco», тихо звякнули друг о друга.
— Все-таки это всегда прекрасный момент, — сказал Ханггартнер, как будто был обязан следить за тем, чтобы ни одно событие не прошло без комментария.
Вскоре принесли раков на листьях салата, и Ханггартнер, воскликнув «ах!», сразу на них набросился. Хойкен поймал себя на мысли, что ситуация становится все глупее. Сидеть здесь часами, слушать лекции Ханггартнера обо всем и ни о чем, терять драгоценное время и ни на йоту не продвинуться. Он должен завладеть ситуацией и шаг за шагом свести разговор на рукопись романа.
Хойкен начал со вчерашней конференции и подошел к теме программы на будущую весну. Он упомянул названия нескольких книг и позаботился о том, чтобы слова «бестселлер» и «программа будущей весны» шли друг за другом.
— Бестселлер — это, конечно, не что иное, как твой новый роман, Вильгельм, — заметил он. — Все в издательстве заинтригованы, каждому хорошо известно, какой темы ты коснулся на сей раз.
Ханггартнер взял половинку лимона и сдавил ее, высоко держа над оранжево-красными раками, так что брызги сока разлетелись по всему столу. Согласись Хойкен сейчас, Ханггартнер прочитал бы лекцию на тему «К вопросу о святой воде в католической церкви». Ей он тоже посвятил одно довольно большое эссе. Писатель подцепил вилкой кусочек рака, забросил его в рот, и его кустистые брови запрыгали.
— Хорошо, — сказал Ханггартнер, — хорошо. Наш друг Байерман все-таки намекнул, в каком направлении движется моя работа.
— Нет, — Хойкен был решителен. — Байерман не намекнул. Он утверждает, что не видел ни одной страницы из твоего романа.
— Боже мой, так и есть. Но я ему, по крайней мере, описал его в общих чертах. Знаешь, Георг, иногда я думаю, что Байерман слишком скрытный. Я уже сделал с ним много романов, но если захочу вспомнить, что он мне говорил по поводу каждого из них, то не вспомню почти ничего. Ничего, абсолютно ничего! Ни похвалы, ни отрицания, как такое может быть? Иногда я вижу его самого героем романа. Особенно когда он сидит напротив меня, ковыряется в салате и, как всегда, уходит от ответа или когда я настойчиво прошу его взять меня с собой в зоопарк. Что тут скажешь? Он просто увертывается, находит какую-то тайную дверцу и в последний момент исчезает за ней. Да, это он, Байерман, неуловимый, таинственный и ускользающий. Это меня все же нервирует, «ненадежит», как сказала бы моя младшая дочь.
Хойкен подумал, что Байерману не нравятся романы Ханггартнера и для всех это является тайной. Но даже если бы они ему нравились, он никогда бы не пошел с Ханггартнером в зоопарк. И не на что ему обижаться. Ханггартнер в зоопарке. Страшно даже представить. Он, наверное, и слонам бы внушал, что они должны что-то делать с его романами. «Слоны все время заставляют нас удивляться, почему мы, будучи людьми, не во всем искусны…» Примерно так начиналась бы глава о зоопарке. И дальше в таком же поэтическом духе утомительные рассуждения о зоологии. От фламинго с бегемотами до жирафов и носорогов. «Фламинго как медитативное явление… Пингвин как модель наших фантазий об удобной одежде…» Хойкен вовремя заметил, что он уже и сам начинает отклоняться от нужной темы.
— У Байермана есть свои заслуги, ты это знаешь, Вильгельм, — убеждал Георг. — Он превосходный редактор и внимательный наблюдатель и всегда протянет руку помощи своим авторам.
— Ты прекрасно это сказал: «Он протянет руку помощи». У Байермана действительно есть что-то от священника. В нем прячется такой тихий, углубленный в себя монсеньор. Я представляю, как он прогуливается по садам Ватикана, настраивает свой бинокль и предсказывает темному большому кипарису ужас его осени.
Невозможно следовать за ним его извилистыми путями. Как же отцу удавалось вывести разговор на прямую дорогу? Вероятно, он со своей стороны тоже предпринимал соответствующий натиск, оставаясь таким же неясным, но используя слова из языка Ханггартнера. Может, стоит попробовать? Хойкен решил разок рискнуть.
— Ты заговорил об осени, Вильгельм. Между нами говоря, этой осенью я хочу наслаждаться. Трудности делают человека одиноким, а это лишает наслаждения, но кому я это говорю? Наш брат не очень доверяет одиночеству, оно не спасает от забот, которые если уж лезут в голову, то грызут тебя и не отпускают. Возможно, писатели, люди искусства и выигрывают от одиночества, может быть, они продуктивно используют его. Наш брат, во всяком случае, в этом не разбирается. Мы ищем спасения вне самих себя — в тебе, в твоих романах, в том, чтобы посмотреть, как это одиночество ты описываешь.
Хойкен не мог припомнить, чтобы когда-нибудь так говорил. То ли он находился под гипнотическим воздействием Ханггартнера, то ли сам выпустил свой язык на свободу. Но, во всяком случае, он построил для своего собеседника мост. Одинокий автор за своим письменным столом — это точно отправная точка его романа. «Господи, направь его по этому мосту», — тихо молился Хойкен. На счастье, Ханггартнер покончил с раками. Листья салата он есть не стал, осушил бокал «Prosecco», и тут Хойкен понял, что упустил. Не хватало «Barbera». Сначала — «Barbera», потом — рукопись. Минна Цех сделала на этом особое ударение.
— Хорошо сказано, Георг. Я повторяюсь, но для чего-то же существует в языке повторение. Я совсем забыл, что ты учился во Франции, но сейчас услышал это совершенно отчетливо. У твоих фраз почти романское построение, мне это очень нравится. Мой внутренний мир так связан с Прустом, что порой меня охватывает стыд от невозможности развить его в немецком. Немецкий Пруст — это, к сожалению, немыслимо. Это единственное, к чему у меня, наверное, есть призвание. Но это высокая цель, которая с годами становится все дальше.
Поправлять Ханггартнера и уточнять, что он учился не во Франции и его перепутали с братом, Хойкен не счел нужным. Но лгать он тоже не хотел. Единственное, что пришло ему в голову, это извиниться и постараться уйти от подобной темы. «Одинокие мужчины в темном туалете…» Язык выдавал ему сейчас сплошь ханггартнеровское. Но перед тем, как он действительно пошел в туалет, ему удалось заказать «Barbera». Немецкий Пруст, французский Кафка… В сущности, это плохой признак, когда такой автор, как Ханггартнер, ориентируется на какие-то образцы. В двадцать — ну, хорошо, в сорок — еще можно, но когда дело идет к восьмидесяти… Зрелому автору не нужно учиться у Пруста или Кафки. У него к этому времени должен быть свой дом со светлыми окнами и местом, где поклоняются тебе, а не Прусту и Кафке.
Когда он вернулся из туалета, Клаудио Марини как раз откупорил бутылку вина, и Ханггартнер пробовал его. Большая, убеленная сединами голова писателя слегка наклонилась вперед, как будто в этом положении вино могло достигнуть самых дальних уголков его мозга. Хойкен сел и постарался собраться с мыслями, но вдруг увидел посредине стола стопку бумаги, на которой, как роскошное приложение, лежали два толстых черновика. Вино, две сигары, все приборы убрать! Наконец-то!
— Одиночество. — Ханггартнер подхватил тяжелое слово и поставил его во главу угла. — Одиночество — хорошее слово для названия моего романа. От него не только душно, еще больше оно отражает потребность в общении. Не иметь возможности, не сметь ни с кем поговорить — что это, если не потребность? Главный герой моего романа одинок. Интуитивно ты прочувствовал и высказал тему, мой милый.
Хойкен почувствовал, как на него волной накатилась усталость. Пить в обед крепкое красное вино — это ему даром никогда не проходило. Но слышать при этом голос Ханггартнера — это его доконало. Он крепко вцепился в стол правой рукой и погрузился в дрему. Ханггартнер как раз рассказывал об одиноком, «уже в годах» писателе, который необдуманно впутался в переписку с продавщицей книг, девушкой гораздо моложе его. Ханггартнер приукрасил этот первый намек, но сразу переключился на рассуждения об особенностях общения по электронной почте, которое из-за высокой скорости передачи оказывает давление на получателя и заставляет его быстро отвечать. Небыстрый ответ в этом случае означает немедленный отказ. Немолодой писатель положил себя, как жертву, на алтарь электронной почты, в то время как молодая, почти незнакомая ему продавщица книг направила секционный нож и своими бойкими, короткими письмами ранила его в сердце, самое чувствительное место, — место, где обитает любовь…
Хойкен молчал, находясь в легком трансе. Уже не одна продавщица книг рассказывала, что во время необузданных введений, которые Ханггартнер читал на своих творческих встречах, она тоже впадала в подобное оцепенение. Внезапно Георг понял, что они при этом чувствовали, когда сидели, уставившись на писателя, с приоткрытым ртом, почти физически ощущая эту праздную болтовню.
— Это первая часть, — подчеркнул Ханггартнер и сделал довольно большой глоток вина. — Во второй части они впервые встречаются, начинается неистовая, до изнеможения, любовь. Их постоянно разлучают, они хотят снова увидеться, они едут друг за другом, они погружаются в страстное безумство любви, которая внутри всех нас подавляется нашим убогим существованием. Все это болезненно и горько, потому что эти двое, конечно, знают, что их борьба, борьба против законов жизни и времени, безуспешна. Мой писатель, как я уже сказал, мужчина почтенного возраста. Еще раз напомню тебе позднего Гёте, которого неожиданно посетила мечта быть вдвоем с любимой, еще раз пережить эти часы и дни, еще раз… — Он запнулся. Хойкен заметил, как близко Ханггартнер принимает все к сердцу, и понял: в этом романе он описал свои собственные несбывшиеся мечты.
— Мне было тяжело придумать концовку, Георг. Конец был очень важен для моих героев, для меня. Я прикидывал так и эдак, следует ли доводить моих персонажей до последней черты — утраты, расставания? Все мое существо противилось этому. Невозможно было пренебречь их счастьем и заставить разбежаться. Будучи автором, я могу быть Богом. Все законы жизни в моих руках. Я могу наказывать и вознаграждать. Могу отвернуться. Ах! В конце я отвернулся от моих героев. Отвернуться, отойти в сторону. Старый автор-бог уходит и предоставляет жизнь самой себе. Как ты это находишь?
Хойкен подумал, что, с точки зрения рыночного спроса, такой конец был просто идеальным. Это гарантировало роману Ханггартнера вдвое больше читательниц, чем если бы он закончился катастрофой.
— Это звучит замечательно, Вильгельм, — сказал он и почувствовал, что его голос звучит глухо из-за непроходящего транса. — Это звучит замечательно и величественно. Более благородно завершить этот роман просто нельзя. — Хойкен подумал, что в этой стране Ханггартнер получил уже все мыслимые литературные награды и венцом его трудов могла бы быть Нобелевская премия. Уже много лет он шел к этой высокой награде, которая не знает государственных границ, и день, когда ему объявят о ее присуждении, будет великим хеппи-эндом его жизни.
— Больше я ничего не хочу говорить, Георг. Сейчас у меня ни слова не сорвется с губ, ты меня понимаешь. Я только скажу: «Вот он, у тебя. Я передаю его тебе. Бери его, роман мне больше не принадлежит. Я передаю издательству «Caspar & Cuypers» мой роман под названием «Дело сердца».
Хойкен почти испугался, когда услышал эти торжественные слова. Он вышел из оцепенения моментально. «Дело сердца» в качестве заглавия книги — совсем неплохо, звучит интригующе и обозначает тему романа. Хойкен встал. До сих пор такие сцены были ему знакомы только по детским воспоминаниям о посещении церкви, когда во время мессы в нужных местах, когда произносились определенные фразы, следовало вставать. Горе тому ребенку, который оставался сидеть!
— Что ты делаешь? — спросил Ханггартнер. — Что с тобой? Я прошу тебя, это совсем не обязательно. Оставайся сидеть, мы можем чокнуться сидя.
Но Хойкен продолжал стоять, неумолимый и упрямый. Отец наверняка не вставал, когда Ханггартнер произносил свои торжественные слова. А он встал. Это должно быть воспринято как новое правило или даже новый стиль, которого следует придерживаться в дальнейшем. И наверное, Ханггартнер понял его мысли, потому что медленно поднялся из-за стола во весь рост и встал рядом. Старый автор-бог протянул руку своему новому молодому издателю.
— Я сделаю всё, что в моих силах, чтобы этот роман имел большой успех, — сказал Хойкен. Его ничуть не пугали взгляды, которые бросали на них посетители. Они уже давно узнали эту пару и смотрели на них, чтобы не пропустить ни одного жеста. Хойкен подумал, что завтра в утренних газетах появятся короткие заметки в разделе «Общество и Жизнь».
Он поднял бокал, и Ханггартнер взял свое «Barbera». Хойкен заметил, что Ханггартнер попытался залпом осушить свой бокал. Он не должен морщиться, он тоже должен выпить до дна этот крепкий напиток. Когда Хойкен опустился на стул, он почувствовал, как теплая волна алкоголя уничтожила в нем всю волю. В таком состоянии никуда не хочется ехать.
2
Когда Клаудио Марини принес горячее, Хойкен заказал еще бутылку вина. Этот день он может забыть. Он может радоваться, если незаметно доберется до отеля, чтобы юркнуть в прохладную постель. Ни в коем случае он не допустит Ханггартнера к больничной койке отца. Он должен отговорить его от этой идеи. Вид отца может испортить умело достигнутое взаимопонимание.
Спинка барашка-гриль с зелеными бобами… Огромный пахнущий чесноком кусок мяса, посыпанный зеленью, лежал у Хойкена на тарелке. Марини принес им по острому ножу, чтобы было удобно срезать с костей упругое блестящее мясо. Перед тем как продолжить трапезу, Ханггартнер передал Хойкену рукопись. Чтобы еще раз подчеркнуть свою искреннюю заинтересованность, Георг заглянул на первую страницу и прочитал вслух: «Норберт Штетиг был писателем уже в годах…» Да, так начинается история, которой скоро будет заниматься все издательство и которая через полгода принесет два миллиона. Ханггартнер положил оба черновика на край стола. Он не спускал с них глаз. Большой человек запланировал что-то еще.
Они отрезали розовые куски мяса и отправляли их в рот, а Хойкен попутно обдумывал свои дальнейшие действия. Следует ли ему рассказывать о домашних делах? О чем-нибудь невинном, безобидном? Чтобы разговор принял легкий характер. Ханггартнер может обидеться, что его роман так быстро отошел на второй план. Будет лучше, если он продержит такой торжественный тон еще немного и потом повернет разговор на коммерческую тему.
— Мы дадим рекламу во всех больших газетах, — сказал Хойкен. — На нескольких колонках, с твоей фотографией. Я лично напишу рецензентам и попрошу, чтобы они отнеслись к этому со всем вниманием. Мы начнем с тиража в сто тысяч, но типография будет готова для работы на полную мощность.
— На какой доход вы рассчитываете? — спросил Ханггартнер.
— На четверть миллиона, — ответил Хойкен.
Ханггартнер смотрел на него. В его голове кружились маленькие колонки цифр и застревали в «Barbera». Колонки цифр по колено в вине. Ханггартнер вытаскивал их на берег и заставлял маршировать, но ничего не получалось. У него сейчас на это не было сил.
— Это будет… — не сдавался он.
— Мы посчитаем, исходя из розничной цены девятнадцать евро девяносто, — сказал Хойкен. — Ты получишь пятьдесят процентов гонорара. Ни один из наших авторов не получает столько и еще долго не будет получать. Без книг карманного формата и всего прочего ты сможешь, если все пойдет гладко, заработать три четверти миллиона евро.
— Да ты шутишь, — изумился Ханггартнер.
— Предоставь это мне, — сказал Хойкен, чтобы напомнить о себе как о коммерсанте.
— Да, торговля у тебя в крови, — согласился Ханггартнер.
— Да, Вильгельм, это у меня в крови. Если у меня что и получается делать, так это продавать.
— О лучшем не нужно и мечтать, — сказал Ханггартнер, гордясь им, словно сыном.
— Я надеюсь, что все в концерне думают, как ты, — ответил Хойкен.
— Силы небесные, кто же может думать иначе? Только глупцы могут думать по-другому! Кто они, только скажи мне, кто они! Я им выскажу свое мнение! Сейчас, когда нам так не хватает твоего отца, только ты будешь издавать мои книги, и никто другой.
Хойкен пропустил мимо ушей этот взрыв эмоций. Сейчас слова Ханггартнера могли ему только помешать. Он искал возможность открыть шлюзы и красиво завершить эту встречу.
— Благодарю, Вильгельм. Но я как раз подумал об отце. Ты настаиваешь, чтобы увидеть его сегодня?
— Но ведь мы же договорились.
— Да, но я подумал… Будет прекрасно, если я принесу отцу радостное известие, когда ему станет чуть лучше. Мы должны, насколько возможно, избегать волнений. Твое появление, все эти яркие воспоминания — это может оказаться для него губительным.
Ханггартнер ел намного быстрее, чем Хойкен. Он резал мясо не маленькими, а большими, широкими кусками и принимался жевать. Каждый кусок он запивал глотком вина. Бобы он отодвинул в сторону, а вместо них уже второй раз брал себе хлеб. Хлеб, вино и мясо. Вильгельм тоже вырос в обычной католической семье.
— Я понимаю, — услышал он голос Ханггартнера и уже начал было торжествовать. Хойкен выпил столько вина, что мог ликовать по любому поводу. «Barbera» придавало такую бодрость, что казалось, будто внутри тебя медленно разливается пламя, вспыхивая все выше и ярче. Во всяком случае, его сердца оно уже достигло, и теперь с ним можно было делать все, что угодно.
Вторая бутылка тоже опустела. Хойкену ужасно хотелось узнать, что находится в тех двух черновиках. Нужен был еще один маленький толчок, чтобы он достиг цели.
— Предлагаю взять третью бутылку и продолжать праздновать. Давай выпьем за отца. Это будет правильнее, чем сейчас навещать его.
Ханггартнер, казалось, даже обрадовался. Он вытер салфеткой рот и посмотрел на Хойкена тем преданным взглядом, который появлялся у него всегда, когда он уютно устраивался под крылышком концерна.
— Я согласен с тобой, Георг. Как ни тяжело, но приходится согласиться. Сегодня я, ты видишь и слышишь это, соглашаюсь со всем, что ты мне советуешь. Твой совет значит для меня очень много. Перед тем, как прийти сюда, скажу тебе прямо и честно, я не представлял, как много он для меня значит.
«Три четверти миллиона, — подумал Хойкен, — мой совет значит для тебя три четверти миллиона». Он заказал третью бутылку вина и пообещал себе, что впредь будет держать себя в руках.
— Я подозреваю, Вильгельм, что ты не просто так положил сюда оба эти дневника. Что за этим кроется, можешь ты мне объяснить?
Они уже покончили со спинкой барашка. Кости лежали в тарелке, как часть натюрморта. Бобы они оба проигнорировали. Клаудио Марини снова сервировал стол, Ханггартнер стал разговаривать с официантами. Любимый объект его вопросов был родом с Сицилии и имел троих детей. «Сицилия», — подвел итог Ханггартнер. В Италии его книги продавались плохо. Италия не для него. Италия для таких, как он, слишком вычурная и чужая. Он достаточно умен для того, чтобы принимать юг близко к сердцу. Но с каким бы удовольствием Хойкен затерялся сейчас в этой теплой стране! И песни Паоло Конте тоже там есть. «L’amore é un stregone». Он бы окружил себя сейчас всем, что можно слушать. Хойкену хотелось музыки, но в ресторане Клаудио Марини ее не было. Старые господа ее не любили, и это, в сущности, тоже было нормально. Но сейчас, в этот момент, Георг хотел, чтобы его искушали дальше. Песнями, лагунами, угасающей осенью.
Ханггартнер взял черновики и подтолкнул их к Хойкену.
— Прошу, — сказал он, — взгляни сам.
Это были толстые неподписанные тетради. От частого употребления их края стали засаленными. Внутри находились записки Ханггартнера, написанные разборчивым, но некрасивым почерком. Он писал шариковой ручкой. Хойкен подумал, что его не волнует то, что шариковой ручкой пишут только дилетанты, которые могут писать еле-еле, — ремесленники или малограмотные. Удивительно, как его не раздражал этот почерк. Должен же он видеть, что из-за неопрятного письма многие буквы были смазаны и голубая паста оставляла там и сям жирные блестящие кляксы. «Я и счастье — между этими двумя словами лежит пропасть», — тихо прочитал Хойкен и продолжал листать дальше. Записи были короткими и отделялись друг от друга чертой. Почему он показал ему это словесное месиво, чего он хотел? Хойкен чувствовал, что Ханггартнер внимательно следит за ним и понимает, как постепенно в нем просыпается издатель и начинает что-то подсчитывать и о чем-то догадываться.
— Мои дневники, — тихо сказал Ханггартнер, — хроника моей жизни.
Хойкен хотел тут же возразить, что это что угодно, только не дневники, но, к счастью, вовремя удержался от реплики. Это не дневник, а записная книжка, чтобы записывать, а потом использовать эти заметки в своих романах. Ханггартнер хочет назвать их дневником, потому что дневник продается, а записная книжка практически никогда. И вообще, кто печатает дневники еще при жизни? Как может волшебник слова в почтенном возрасте рыться в старом хламе, когда свежий товар для продажи закончился?
Клаудио притащил третью бутылку, но тут Хойкену пришла в голову мысль получше.
— Клаудио, я думаю, мы изменим решение. Три бутылки «Barbera» — это, должно быть, слишком. Заказывал же отец иногда шампанское, какой-то особенный сорт…
— Очень необычная марка, господин Хойкен, и ваш уважаемый отец пил его только в совершенно особых случаях. Речь идет о «Veuve Cliquot Rosé», — сказал Марини.
— Когда он бывал здесь со своими женщинами, он наверняка заказывал это шампанское, — Хойкен улыбнулся. — Я, во всяком случае, никогда не пил с ним ничего подобного.
— Вы правы, — ответил Марини. — «Veuve Cliquot Rosé» он заказывал только тогда, когда с ним были очень красивые женщины.
— Принесите нам бутылку, — попросил Хойкен. — Мы выпьем за отца. Кроме того, у нас есть кое-что еще, за что мы должны выпить.
— Что ты имеешь в виду? За что мы должны еще выпить? — удивился Ханггартнер.
«Как бесхитростно он это спросил, — подумал Хойкен. — А ведь знает, что я ни о чем другом, кроме публикации его заметок, и не думаю. В сущности, эти раскопки могут заинтересовать только специалистов. Ученые бросятся писать диссертации об истоках его романов. Но следует подумать и о том, как донести записки до широкой публики. Продумать способ, как из мыльных пузырей делать воздушные шары и отправляться с ними в народ».
— Мы выпьем за твои дневники, Вильгельм. Мы возьмем их, часть за частью, и будем регулярно издавать. Каждые два года или, возможно, чаще, чтобы читатели могли проследовать за тобой сквозь годы. Как ты думаешь, сколько томов это может составить? Десять? Или пятнадцать? Когда ты начал их писать?
— Когда ты появился на свет, — сказал Ханггартнер, — чуть больше пятидесяти лет назад.
— Великолепно, — произнес Хойкен. — Мы начнем будущей осенью, сразу после выхода твоего романа. Байерман, конечно, поможет тебе со сборником текстов. Думаю, мы попробуем сначала издавать один том в два года, но о деталях поговорим позже. Давай сюда свои черновики. Байерман просмотрит их, и мы сможем сразу составить калькуляцию этого проекта. Я бы с удовольствием прямо сейчас подписал договор, но многие этот замысел посчитают невозможным, ты понимаешь почему. О чем ты думаешь? Есть какие-нибудь идеи?
— Пятьдесят тысяч задатка за том, — сказал Ханггартнер, — пятьдесят процентов гонорара, как всегда.
— Можешь считать, что мы договорились, — согласился Хойкен, радуясь, что так легко уладил дело. Дневники принесут не так много, как роман, но если преподнести их должным образом и сопроводить соответствующей рекламой… Их можно неплохо продать, во всяком случае, лучше, чем сборник эссе. — Прежде чем мы выпьем, Вильгельм, еще одно. Я знаю, что тебе никто не указ, что касается названия. Однако на сей раз у меня есть предложение. Ты сам придумал, как назовешь свои дневники?
— Как назову? Никак. Дневникам не нужны названия. Мы их назовем просто «Дневники» и пронумеруем.
— Мы назовем их «Страсти души» и дадим подзаголовок «Роман моей жизни». — Хойкен давно не был так доволен собой, как сейчас.
— Гениально, — медленно сказал Ханггартнер, — это гениально. «Страсти души» — это суть всех моих маний. Неудержимое желание писать — это же страсть, неистовое желание, требующее всего моего времени и всех моих сил. Эти дневники можно читать, как роман, такая мысль мне еще не приходила в голову, можно считать эти записки моей автобиографией. Выпьем, Георг, за эту твою замечательную идею…
Они сидели почти до четырех. Остальные посетители уже давно ушли. Две бутылки «Barbera», одна «Veuve Cliquot Rose». Под конец разговор принял ностальгический характер. Ханггартнер вспоминал 50-е годы — время, когда он только начинал писать. Внезапно Хойкен вспомнил старую фотографию, очки Ханггартнера в золотой оправе и его молодое лицо. Он дал ему возможность наговориться всласть, а сам тем временем обдумывал еще один план: как запрячь Ханггартнера в работу по выполнению грандиозного проекта отца. У Вильгельма большие связи, он может помочь Хойкену привлечь известных зарубежных писателей. Но сегодня он не хотел больше морочить голову ни себе, ни Ханггартнеру. Роман и дневники — вот программа на следующий год, и этого вполне достаточно.
Когда они поднялись, к ним подошел Марини. Он тоже сообразил, кто теперь будет заказывать здесь «Veuve Cliquot Rose».
— Пожалуйста, Клаудио, заготовьте для нас на будущее эту редкую марку шампанского. В ближайшие месяцы мы будем часто ее заказывать, — сказал Хойкен, и Клаудио Марини кивнул головой, как ребенок, которому пообещали как раз то, о чем он мечтал.
3
Через несколько дней облака неожиданно рассеялись и подул сильный ветер. Стояли ясные солнечные дни, вся природа постепенно погружалась в осенний покой. Деревья на длинных аллеях вдоль Рейна застыли в своей яркой, вызывающей красоте. С противоположного берега тянулся и исчезал на середине реки легкий дым от первых костров.
Хойкен любил это время, лучшее время года. Ушла душная летняя жара, но в памяти еще хранились ее последние ослепительные картины. Сухая листва ложилась под кроны деревьев. Иногда по утрам уже случались первые заморозки, дул холодный ветер с Рейна и холмов, но солнце теплыми лучами покрывало все вокруг, словно теплой накидкой.
В концерне работа шла полным ходом. Вот-вот должна была открыться книжная ярмарка. Осенняя программа на рынке была уже давно, ее обсуждали рецензенты, оставалось только активизировать продажу книг, чтобы она длилась по меньшей мере до Рождества, а если повезет, и до весны. Когда книги расходились, на полках уже лежали новые, и старые названия исчезали навсегда.
У Хойкена в это время было очень много работы. Каждый день был заполнен до отказа — деловые встречи, круглый стол с представителями отдела сбыта и агентами, с отделом рекламы и отделом маркетинга. Собственно говоря, ему это нравилось. Работа отвлекала его и заставляла быть в тонусе. Параллельно Хойкен работал над проектом «Библиотеки». Он встретился с Петером Файлем, чтобы поделиться с ним своими соображениями по поводу создания серии книг о кёльнских кварталах. Несколько раз созванивался с Линой Эккель, которая вкратце описала ему ассортимент новых перспективных книг для его проекта. С Урсулой и Кристофом он больше не виделся и не звонил им. У них хватало работы в собственных издательствах. Кроме того, Урсула попросила братьев не звонить ей и связывалась только с Лизель Бургер или звонила непосредственно в клинику.
Клара уехала в Париж к писательнице, работу которой переводила. Жена договорилась провести с ней вместе несколько осенних дней на юге, в загородном доме, чтобы там закончить перевод. Когда Клара была в отъезде, Хойкену совсем не хотелось ехать домой. В такое время Вески брала на себя домашнее хозяйство и готовила на ужин свои невкусные блюда.
Когда он однажды все же заехал без предупреждения, чтобы надеть свежую рубашку и сменить белье, в доме оглушительно ревела музыка — итальянские сентиментальные песенки. Хойкен удивился тому, что Вески докатилась до итальянских песенок, но когда вошел в комнату, то увидел свою дочь, которая танцевала с черноволосым кудрявым парнем. Это выглядело легкомысленно и безобидно, и он сразу успокоился. В этом танце еще не было ничего от чувственного, лихорадочного прикосновения тел. Когда Хойкен открыл дверь и удивленно уставился на них, эти двое только рассмеялись.
— Что это такое? — крикнул он, стараясь перекричать струнный оркестр и хор. Мария подбежала к нему и показала CD. «Ренато Зеро», — прочитал он, но это ему ни о чем не говорило.
— Возьми с собой, — канючила Мария, — тебе точно понравится. — Она так просила, что пришлось подождать, пока диск не засунули в футляр и не передали ему. Но потом он все же поспешил улизнуть.
Когда Клара была в отъезде, ему было неуютно в этом современном доме с его огромными верандами, выходящими к Рейну. В последнее время он чувствовал себя в нем не очень хорошо. Это здание не имело никакого отпечатка времени, оно старело неправильно. Казалось, дом остался в том времени, в котором был построен, и с тех пор не менялся. Дети, конечно, не испытывали ничего подобного. Они любили свое жилище и даже этот стерильный сад с коротко подстриженными газонами и неухоженными кустами, которые так заросли, что ветки торчали не прямо вверх, а свешивались на дорожки. Когда один из них (или они оба) уезжал, дети приглашали друзей и устраивали праздник на зеленом лугу, который всегда казался ему безжизненным. Хойкен хорошо представлял себе, что кто-нибудь из детей в будущем будет здесь жить, так сильно любили они эти места, Рейн с его песчаными берегами и нетронутые лесополосы, которые тянулись на юг до самого Бонна. Они катались на велосипедах и жили в палатках на тихих лугах возле дороги, которая почти не изменилась с тех пор, когда Георг сам был ребенком. Иногда ему казалось, что они никогда не расстанутся со своим безоблачным детством. Наверное, поэтому у них до сих пор не было постоянных партнеров. Мария интересовалась самочувствием отца. Йоханнес же ни разу с ним об этом не говорил. Скорее всего, он боялся, что потеряет деда, и тема болезни и смерти еще пугала его.
А отец? Как с ним обстояло дело? Каждое утро Хойкен ехал в клинику и разговаривал с Лоебом. Диагноз старика не менялся, все было по-прежнему. Вместо того чтобы говорить о болезни отца, профессор беседовал с ним совершенно о других вещах. Живопись и фотография были его коньком, но Хойкен не любил врачей, которые в свободное время занимались искусством. Поэтому он избегал подобных разговоров, хотя и замечал, что это портит его отношения с Лоебом. Профессор сортировал пациентов по их профессиям. На самой высшей ступени стояли те, у которых он мог получить интересную информацию и разбавить таким образом свои тревожные врачебные будни. Отец разбаловал Лоеба, посылая ему книги и поднимая настроение другими подарками. Но Хойкен не мог этого делать. Люди, подчеркивающие свою жажду острых ощущений, были противны Георгу, и он не мог понять, почему таких, как Лоеб, называют «сливки общества».
Он терпеливо ждал, но профессор все не шел. У Хойкена было такое чувство, что его кормят обещаниями и никогда не дают полной информации. Ему не позволяли первому посещать отца. Такая привилегия была только у Лизель. Лоеб считал, что ее присутствие способствует выздоровлению больного. Хойкен получил разрешение видеться с отцом только после своего настоятельного требования. Ему можно было находиться около старика двадцать, максимум тридцать минут каждое утро. На первый взгляд, это очень мало, но Хойкену свидание казалось таким долгим, что он вспоминал об этом целый день.
Действительно, каждая встреча была грустной. Когда Георг подходил к кровати, отец брал его за руку и крепко держал, как будто не хотел никогда отпускать. Его лицо было болезненным, кожа на скулах натянулась. Отец так похудел, что, казалось, можно рассмотреть его скелет. Куда девалась его полнота! После инфаркта он стал каким-то тихим, словно замороженным. Его движения были такими замедленными, что у Хойкена сжималось сердце.
Если отец говорил, то только о доме. Он хотел лежать в своей большой спальне, возле открытого окна. Это звучало так, будто он говорил о своем конце, подводил итоги своей жизни и со всем примирялся. Больничная обстановка была старику противна, о профессоре он говорил тоже без симпатии и благодарности.
О концерне отец не спрашивал. Хойкен думал, старик забыл о нем вообще. Когда Георг упомянул имя Ханггартнера и коротко рассказал о выпуске его романа, отец улыбнулся и прошептал имя писателя, как будто тот был существом, которое старик не видел так давно, что не может его вспомнить. Вместо этого он интересовался сербами-садовниками. Он хотел знать, в какой части сада они сейчас работают. Он также спрашивал о Secondo, как будто садовники и шофер были ему ближе, чем сотрудники его концерна.
Иногда Хойкену казалось, что отец ушел в мир фантазий. Георг чувствовал себя беспомощным, не понимая, что творится со стариком. Как будто в его голове перепутались главы какой-то книги, а начало вообще потерялось. В такие моменты Хойкен просто смотрел на отца и молчал, словно у него закружилась голова и ему нужно подождать, пока все вокруг перестанет вращаться.
Единственным человеком, с которым он об этом говорил, была Лизель Бургер. Хойкен появлялся в клинике рано утром, а экономка уже сидела на краю кровати и разговаривала со стариком. Георг слушал, стараясь понять, как это у нее так хорошо получается. Она говорила тихо и не умолкая. Оба что-то бормотали о доме и всяких мелочах, которые так или иначе их связывали.
— Я постирала занавески в столовой, — сказала Лизель, и отец смотрел на нее, словно она говорила о чем-то действительно интересном. Он держал голову прямо, но через некоторое время устал и она упала вперед, почти касаясь подбородком груди. Хойкен не мог смотреть на это без боли, но Лизель встала, взяла голову старика обеими руками и поправила, как если бы это была ваза, которую нужно поставить на прежнее место.
— Лизель, — сказал Хойкен, когда они остались одни. — Лизель, что с ним? Он говорит о вещах, о которых я бы даже не подумал говорить, или смотрит на меня неподвижным взглядом, как будто ждет, что я разгадаю для него какую-то загадку. Что бы это могло быть? Чего он ждет? Что с ним происходит?
— Он мечтает пройтись по саду в своих старых черных туфлях на босу ногу, — отвечала Лизель. — Он хочет сидеть в кресле-качалке у окна своей спальни и слушать песни Джульетты Греко. Он хочет сидеть со мной на кухне и разгадывать кроссворды. Он вспоминал нашу собаку и спрашивал, не надо ли приобрести новую. Он мечтает прокатиться с Secondo на машине.
Хойкен слушал и никак не мог сложить эти фразы в одну логическую цепочку.
— Это вещи, которых он не делал целую вечность, — произнесла Лизель. — Всю жизнь он думал о концерне и его будущем. Сейчас, когда у него почти не осталось сил, для него стало важным совсем другое.
— Ты хочешь сказать, что ходить по саду в старых туфлях на босу ногу — это может быть важно?
— Да, это важно. Сейчас, когда он оглядывается на свою жизнь, это вообще самое главное. Только эти маленькие, но сильные желания имеют для него значение. Даже свое прежнее пристрастие к хорошей еде и напиткам он утратил. Представь себе, что сейчас для него все позади и не представляет ни малейшего интереса.
— Его издательство, его авторы — ты хочешь сказать, для него это больше ничего не значит?
— Да, они больше его не интересуют. У отца теперь одно желание — попасть домой и посвятить себя тем мелочам, которые только могут прийти ему в голову. Он хотел бы видеть Марию и Йоханнеса, бросать с ними кегли, смотреть, как они играют в бадминтон. Он мечтает о том, чтобы они ходили выгуливать нового щенка, а он сидел бы в спальне и выглядывал их с прогулки. Он хочет, чтобы шел дождь, — он все время об этом говорит, — а он сидел бы на кухне и смотрел из окна, как в саду образуются лужи и наполняется водой наш пруд.
— Но почему он смотрит на меня и ничего не скажет об этом?
— Потому что у тебя в голове только концерн. Потому что ты не поймешь. Потому что он боится попросить тебя, чтобы ты посадил его в машину и повез домой.
— Отец боится? Почему он боится?
— Он говорит, ты хочешь, чтобы он поправился. Но хочешь отвезти его не домой, а в концерн. Он боится всех, кто его не понимает. Его пугает Лоеб, и, я думаю, ты сейчас его тоже пугаешь.
— Но, прости меня, я ничего плохого ему не делаю. Я остерегаюсь даже упоминать о концерне. Я стараюсь не волновать его, я молчу обо всем, что может напомнить ему о работе.
— Да, все правильно, но он видит, что тебе это тяжело. Он сказал мне очень странную вещь. Он говорит очень много странного, не хочу утверждать, что я понимаю все, что он мне говорит.
— Что такого странного он тебе сказал?
— Он сказал, что был бы рад, если бы ты стал хорошим учителем.
— Что?
— Хорошим учителем, по-настоящему хорошим. Не издателем и чтобы ты вообще не имел никакого отношения к изданию книг.
— Лизель, я этого не понимаю. Из меня никогда не получился бы хороший учитель.
— Да, я знаю, ты прав. Я думаю, он просто хотел бы иметь родственника, который не был бы связан с издательским делом и занимался бы чем-нибудь совершенно другим. Чем-нибудь тихим, безобидным и незаметным. Думаю, это именно то, что стоит за профессией учителя.
— Но концерн — это дело всей его жизни. Я не понимаю, как это могло стать ему безразличным до такой степени, что он мечтает о сыне, который не имел бы с этим делом ничего общего? Отец считает, что все, чем он до сих пор занимался, — ошибка?
— Нет, почему же? Это другое, совсем другое. Он думает не об этом. Он просто не хочет, чтобы его что-нибудь обременяло. Дождь, сад, игры твоих детей — он хочет просто созерцать, он не хочет никакой суеты. Ты должен понять: отец страшно устал, Георг, он больше не может так жить.
— Лизель…
— Давай не будем себя обманывать, Георг. Я очень долго у вас работаю и поэтому точно знаю, что с ним происходит. Мы оба хорошо понимаем друг друга. Я напеваю ему старые песни. А он вспоминает, кто их пел. Ему не нужны никакие книги, никакие газеты. Твой старый немузыкальный отец хочет, чтобы я напевала ему песни. Он сказал однажды, что музыка — это самое прекрасное в жизни, это притом, что он не имеет о музыке никакого понятия.
— Лизель, что я могу для него сделать?
— Есть только одно, Георг, что ты можешь сделать. Ты можешь вытащить его из этой тюрьмы. Разве ты не видишь, что ежедневные инъекции, анализы и этот ужасный монитор над головой его только раздражают? Его тело не реагирует больше на эту холодную опеку.
— Я должен пойти к Лоебу и потребовать разрешения увезти отца домой?
— Да, ты должен взять на себя эту ответственность. Только ты. Будь это в моих силах, я бы давно это сделала.
— Лизель?
— Да, Георг?
— Лизель, ты должна мне помочь. Один я не могу на это решиться. Прежде всего, я хочу удостовериться, что испробованы все средства и возможности для того, чтобы мой отец снова стал здоровым.
— Да, Георг, я понимаю. Но, говорю тебе, — все это бесполезно. Каждый день, который он проведет здесь, будет для него потерянным.
— Дай мне еще немного времени, Лизель. И ответь мне еще на один вопрос: говорил отец что-нибудь о своем наследнике? Упоминал ли он об этом хоть раз?
— Нет, Георг, ни одним словом. Он только спросил меня об одной странной вещи: был ли ты у нас дома и не заходил ли ты случайно в комнату своей матери?
— Именно так и спросил?
— Да, и это удивительно, но он попросил пригласить тебя к нам пообедать и передать, чтобы ты осмотрел мамину комнату.
— Но зачем?
— Не знаю, Георг. Я редко захожу в комнату твоей матери. Я там даже никогда не пылесосила и не убирала, а просила кого-нибудь другого. У меня всегда было чувство, что мне нельзя туда заходить, это место было для меня почти священным.
— А отец? Он когда-нибудь заходил в эту комнату?
— Нет, ни разу. Он никогда не заходил в комнату твоей матери, во всяком случае, я такого не припомню.
— Теперь я знаю, что он имел в виду.
— Ты знаешь?
— Да, я был там несколько дней назад. Я встретил Secondo, он мыл машину во дворе. Тебя не было дома, Secondo сказал, что ты поехала к отцу в больницу. Я искал завещание. Ведь я знаю в доме все тайники, о которых другие даже не догадывались. В маминой комнате я нашел завещание, оно лежало в ее письменном столе. Там же находилась большая пачка писем, о которых я раньше ничего не знал. А ты знала об этих письмах?
— О каких письмах?
— О тех, которые писали маме авторы. Там очень много писем, по большей части благодарственных. Ее благодарят за то, что она помогла. Она многим из них помогала.
— Нет, о них я ничего не знаю. Но я знаю о других письмах.
— Каких письмах?
— О письмах, которые твои родители писали друг другу после развода. Твой отец передал эти письма мне и сказал, чтобы я сохранила их.
— И где ты их хранишь?
— Этого я тебе, к сожалению, не могу сказать. Я должна их хранить, а после смерти отца передать вам троим. Так просил меня твой отец. Прошу, не спрашивай меня больше ни о чем.
— Ты знаешь, что написано в этих письмах?
— Конечно нет. Я их не читала.
— Ты догадываешься, почему мы должны прочитать их только после его смерти?
— Да, у меня есть одна мысль, но я не скажу об этом, ты должен меня понять.
Когда Хойкен снова увидел отца, он вспомнил все, о чем старик говорил Лизель, — сад, кроссворды, дождь, садовников… Георгу тяжело было думать об этом. Вдруг он понял, что Лизель права. Старик лежал такой безучастный, он уже со всем смирился, но не мог покинуть этот мир, не исполнив своего последнего желания. Однако Хойкен не хотел упускать последний шанс. Он согласился держать отца в клинике, чтобы Лоеб попробовал сделать все, на что способна медицина. Всякий раз, выходя из палаты, Георг оборачивался на пороге, ожидая увидеть улыбку или другой знак, но старик тихо смотрел на него, приоткрыв рот.
Если Хойкен куда-нибудь отлучался, то позже заезжал в клинику еще раз. Вечером с отцом не разрешалось говорить, можно было только посмотреть на него издали, так, чтобы старик его не видел. Георг наблюдал за ним и все время вспоминал слова Лизель: «Отец хотел бы пройтись по саду в своих старых черных туфлях на босу ногу».
После этого Хойкен еще долго кружил по улицам, проезжал через южный мост, потом на север и по зоологическому мосту возвращался обратно. В номере его уже ждал CD-плейер и легкая джазовая музыка. Он слушал ее до полуночи, лежа на кровати, мечтая и наслаждаясь молочным светом южного фасада величественного собора. По примеру отца, Георг не выходил из номера, и все, что было нужно, ему приносила обслуга. У него, как у дурака из сказки, было три неисполненных желания.
4
Хойкен уже много лет не был в филармонии, а на концерте музыки в стиле барокко — вообще впервые. За полчаса до начала он стоял внизу, на берегу Рейна — прилично одетый господин, который вышел подышать свежим воздухом. Георг немного поломал голову над тем, что ему надеть. Что надевают, когда идут слушать цимбалы, пару струнных и белокурую диву, распевающую «Lamento»? Он решил, что наденет свой темно-синий костюм без галстука — открытая рубашка подойдет для такого торжественного спектакля. Ему хотелось чувствовать себя непринужденно и легко, во всяком случае, свободнее, чем в своем офисе, где он никогда не появлялся без галстука. Уже пора идти. Чувствуя легкое волнение, Хойкен посмотрел на часы. Последний раз он переживал что-то подобное, когда был школьником и хотел познакомиться с какой-нибудь девочкой. Тогда он болтался без дела, поджидая свою красавицу, а когда она появлялась в цветастом платье, рад был тотчас же исчезнуть.
О чем он будет говорить с Яной? Как и отец, Хойкен слабо разбирался в музыке. Светскую беседу в узком кругу он еще мог кое-как поддержать, но даже это для него всегда было тяжело. Георг не знал, о чем говорить на свидании. У него было неприятное ощущение, что он делает что-то такое, что потребует от него напряжения, и чувствовал себя не в своей тарелке. Такая же дрожь в желудке появлялась у него во время экзаменов в школе. Хойкен не мог понять, почему давно забытые ощущения вернулись именно сейчас, после всех этих лет, во время которых ему приходилось справляться с трудностями совершенно иного рода. Но в глубине души Георг догадывался, что его страшит. Он боялся, что Яна появится перед ним в чем-то сияющем, надетом специально для него. Больше всего ему хотелось бы избежать такого натиска. Он не мечтал ни о чем особенном, просто в этот теплый, прекрасный вечер хотел наслаждаться концертом, на который попал по воле случая, поддавшись своему настроению.
Черт, уже пора идти! Не может же он и дальше стоять на берегу Рейна, как будто не он сам все это затеял. «Наслаждалась покоем, к которому стремилась моя душа…» Эта ария нравилась ему больше всего. Он слушал ее много раз, даже однажды ночью прослушал весь диск. К счастью, у Кожены было не сопрано, как у Марии Каллас. Сопрано он не выносил. Голос Магдалены звучал приятно и мягко, словно она пела для своих хороших друзей, когда можно даже иногда взять не ту ноту. В нем чувствовалась теплота, кроме того, певица четко произносила слова. Это ему тоже нравилось. Хойкен любил понимать, о чем поют, а не вслушиваться в пение. Так о чем же он беспокоится? Он подготовлен, он выполнил домашнее задание, а сейчас нужно идти в зал. Эти два часа он выдержит с честью.
Хойкен узнал Яну сразу, как только вошел в фойе. До начала концерта оставалось около двадцати минут. Всюду прохаживались немолодые пары, по их многозначительным взглядам можно было заключить, что они собрались прикоснуться к возвышенному. Яна стояла среди этих людей совершенно спокойно. Она не озиралась, а перелистывала программку, словно пришла сюда одна. Однако выглядела она при этом так, что все присутствующие, тайно бросавшие на нее заинтересованные взгляды, понимали, что эта высокая красивая девушка в темно-синем платье на тонких бретельках не могла прийти сюда одна. Костюм Хойкена был только чуть-чуть светлее ее платья. Когда Георг направился к ней, все выглядело так, будто они заранее договорились, что оденут на концерт. Он с удовольствием сбежал бы сейчас отсюда в свой номер, чтобы переодеться во что-нибудь другое, так неприятно было ему все происходящее. Хойкен сглотнул и замедлил шаг. Там стояла не его секретарша, а молодая женщина, которая ждет своего любовника.
Георг шел к ней, и Яна вдруг посмотрела прямо на него и сразу узнала, как будто почувствовала его приближение. Однако она не двинулась с места — так и осталась стоять, ожидая, пока Хойкен подойдет, и от ее улыбки ему стало еще тревожнее. Он протянул ей руку. «Меня зовут Хойкен», — пронеслось у него в голове, потому что ему показалось, что он на вечеринке и должен представиться.
— Добрый вечер, — услышал он голос девушки. Она сказала это совершенно непринужденно, без тени смущения и, протянув программку, принялась что-то объяснять.
Он плохо слушал, потому что был слишком занят ее внешностью. На ней было платье без рукавов, которое облегало ее фигуру, оставляя спину открытой. Когда она направилась в концертный зал, Хойкен шел сзади, ослепленный этим зрелищем. В то же время все выглядело так, словно она не собиралась произвести своим нарядом впечатление. Это платье было не очень нарядным, нет, overdressed, как сказал бы Петер Файль.
Сейчас он должен был справиться со своим возбуждением и вести себя как можно естественнее. Наверное, было бы неплохо выпить бокал шампанского. Тогда они не стояли бы такие растерянные, обсуждая тему музыки в стиле барокко. Хойкен незаметно огляделся. Возле маленькой стойки с напитками не было ни одного человека. «Типично для немцев, — подумал Георг. — Все ждут антракта, чтобы выпить, потому что так принято, пьют в антракте и ни в коем случае не перед концертом». Следует ли ему и дальше обращаться к ней на «вы» или отважиться перейти на «ты»?
— Давайте перед началом что-нибудь выпьем, — сказал Хойкен, и его голос показался ему просто ужасным. Он взял девушку за локоть и повел к маленькому прилавку, у которого стояла усердно поработавшая над своей внешностью девица. Без конца повторяя свое «пожалуйста», она дрожащей рукой наполнила шампанским маленькие бокалы. Делая заказ, Георг посмотрел в большое зеркало, перед которым пожилые дамы поправляли свои шали. Они смотрелись как пара. Пара давно знакомых людей, которые уже не в первый раз пришли сюда вечером послушать музыку. И что же они могут при этом говорить друг другу? Они чокнулись. Хойкен говорил о том, что много раз слушал весь диск, однако не просто сообщил Яне об этом, а рассказывал, как школьник рассказывает выученный урок.
— «Наслаждалась покоем…» — сказал он, улыбаясь. — Когда слушаешь это, снова веришь в людей.
Яна засмеялась. Очевидно, она находила его неловкие фразы смешными. Он продолжал в том же духе. Ему не нужно было утверждать, как ей, что музыка в стиле барокко значит для него все. Вдруг Яна сказала: «Пойдем?» — и он сразу прекратил свою болтовню. Толпа направилась в зал, и они пошли туда же. В руках у девушки были билеты. Вопреки общепринятым правилам, билеты были у нее.
Они вошли в зал филармонии, и Хойкен вдруг успокоился. Все получалось просто, гораздо проще, чем он мог бы подумать. Яна была раскованной, кроме того, она была так рада предстоящему концерту, что эта радость передалась и ему. Медленно спускаешься по узким ступенькам вниз между рядами кресел, которые круто поднимаются к сцене, и попадаешь в священную зону партера. Высоко над головой, словно воздушные конструкции в цирке, раскинулись перекладины похожей на палатку крыши. Когда они заняли свои места, Хойкен посмотрел вверх. Он увидел пронзительную синеву, как будто филармония наполовину погрузилась в темноту, в то время как сиденья оставались сдержанного приятно-красного цвета. Весь концертный зал лежал под землей. Теперь он чувствовал ауру этого необычного места. Звуки внешнего мира сюда не проникали. Казалось, что они в просторной элегантной капсуле нырнули в другой, абсолютно беззвучный мир. Какое это, в сущности, фантастическое состояние — погружение в музыку! Никаких отклонений от курса, никаких окон, люки задраены, вся публика молча распределилась по местам, проходы свободны. Барокко-концерт — это не место встречи, как он думал раньше, пожилых пар, которые слушали каждую кантату Иоганна Себастьяна Баха по меньшей мере дважды. «Наслаждалась покоем…» Сегодняшний концерт начинается с его любимой арии. Хойкен наклонился к Яне, чтобы заглянуть в программку, и их плечи соприкоснулись. Боже мой! Такое ощущение он испытывал только в молодости, когда каждое прикосновение к девушке буквально сводило с ума. Тогда жажда телесной близости была сильнее всех других чувств. Измученной неудовлетворенным желанием коже хватало одного прикосновения. А потом — поцелуй. Первый поцелуй! И ты даже не подозревал, какими чувствительными могут быть губы.
Но сейчас — все! Он должен сосредоточиться. В этот момент он подумал о том, что мужчины редко рассказывают о своих первых эротических ощущениях. Чаще они расспрашивают об этом женщин, как будто их опыт богаче. Ранняя эротика. Он бы с удовольствием прочитал что-нибудь об этом. Но сейчас — все. Музыканты вышли на сцену, и публика разразилась вежливыми аплодисментами, словно желая еще раз напомнить о своем присутствии.
Они продолжали касаться друг друга. Хойкен не мог не заметить, что она не отстранилась, хотя уже давно не смотрела в программку. Их руки лежали рядом, они прильнули друг к другу, словно пара влюбленных, которые наслаждаются прекрасными звуками и сидят здесь, чтобы разделить еще одну радость — переживать вместе высокий полет возвышенных эмоций.
Наконец появилась она, Магдалена Кожена. На ней было длинное, без рукавов, темно-красное платье. Ее пышные волосы, казалось, составляли с нарядом одно целое. Красивая, статная, величественная — эта женщина действительно производила впечатление. «Наслаждалась покоем…» Концерт начался именно с этой арии. Хойкен откинулся на спинку кресла, как будто ехал в своей «Мазде». Шампанское начало действовать. Как бы он хотел сейчас, как в школьные годы, коснуться ладони сидящей рядом женщины! Тогда концерт стал бы просто божественным.
Начался антракт, а они сидели, словно не желая прерывать нить, которая их связывала. Яна рассказывала о концертах в Праге и Вене, на которые она ходила много раз. С кем? Ему так хотелось спросить об этом, но он понимал, что для этого еще не пришло время.
— Терпеть не могу антракты, — вдруг произнесла она, и Хойкен вздрогнул, потому что сам хотел только что сказать именно это. Все эти походы в туалет, толкотня у стойки с напитками, когда каждый ревниво следит за тем, чтобы никто не пролез раньше него к теплой минеральной воде. — Давайте просто посидим, — прошептала Яна так, будто обращалась к себе самой. Он не ответил.
Они остались сидеть — одна пара во втором ряду, сюда доходил даже запах пота цимбалистов. Поразительно это старательное рвение музыкантов, которые отдавались игре душой и телом, это беспрекословное повиновение, как будто приносить себя в жертву Иоганну Себастьяну Баху было чем-то само собой разумеющимся. Здесь, внизу, в глубине зала, можно было и вправду подумать, что музыка — это центр мироздания или по крайней мере его подлинный язык. Казалось, здесь собралась тайная секта, чтобы насладиться этим странным безумством и вознести молебен на этом великолепном языке.
Во втором отделении концерта Магдалена казалась такой же печальной. Она пела, почти не двигаясь. К счастью, ей не приходило в голову принимать всевозможные вычурные позы, которые всегда только портят впечатление, — прижимать руки к груди, широко вскидывать их, как благословляющий проповедник, — Магдалена отказалась от этих жестов. Вместо этого она просто держала в руках ноты, в которые изредка заглядывала. Певица взяла их с собой, чтобы занять свои руки. Интересно, что Кожена будет делать после концерта? Сидеть с музыкантами она наверняка не будет. Скорее всего, возьмет дирижера и исчезнет с ним в ночи. Не читал ли он чего-нибудь в таком духе? Что она, прихватив с собой дирижера, исчезла на пару дней? О ком это было? Или Хойкен только нафантазировал себе все это, потому что раздумывает, куда бы пойти после концерта? Он больше не мог вслушиваться, только глаза были внимательными и замечали любую мелочь. Наверное, половина зала давно уже не слушала музыку. У одних такая мелодия вызывает раздумья и фантазии. Остальные просто убивают таким образом время и не должны оправдываться, что бесцельно сидят здесь.
Музыка в стиле барокко подчиняется слову. Хойкен постиг умиротворение, которое она излучала и которому пела гимн, и оно ему понравилось. Господь Бог сидит наверху, в небесах, а все происходит здесь, внизу, и, как следствие, душа улетает. Истинная жизнь разыгрывается где-то в мыслях о вечной жизни после этого недостойного земного спектакля, который никто не принимает всерьез, спектакля запутанного и отвратительного. А красота существует только там, далеко, по ту сторону бытия. Магдалена поет, но кажется, что это поет ее душа, мудрая и прекрасная.
После двух коротких выходов на бис концерт закончился. Они встали почти одновременно. Хойкен решил для себя, что нужно чаще ходить на разные концерты, не обязательно слушать музыку только в стиле барокко. Интересно было бы попасть на концерт какого-нибудь молодого пианиста и смотреть, как странный чудак два часа напрягает «Steinway». Яна посмотрела на него.
— Ну как? — спросила она.
— Неплохо, — ответил он. — Я не ожидал, что такая музыка очень успокаивает.
Яна сунула ему в руку программку, и он положил ее в карман. Спускаясь по ступенькам, Хойкен чуть было машинально не взял девушку за руку.
— Я бы с удовольствием еще чего-нибудь выпила, — сказала она.
— Что ты хочешь? — услышал он вдруг свой голос и это неожиданное «ты». Опять она разговаривала с ним так, словно они уже посещали ресторан.
Когда они вышли на площадь, он взял инициативу в свои руки. Хойкен мельком взглянул на окна своего номера. Торшер был включен, как всегда. Хойкен подумал, не сказать ли ей, что вот уже несколько дней он ночует там, наверху, но у него не хватило на это смелости. Он снова решил, что говорить об этом еще слишком рано. «Sir Ustinov’s Bar» — вот подходящий этап для разбега. Он указал на ярко освещенные окна, за которыми в этот теплый субботний вечер собрались посетители:
— Как ты смотришь на то, чтобы посидеть в этом баре?
— С удовольствием, почему бы нет? — ответила Яна, словно действительно хотела провести с ним еще один час.
5
Бар был переполнен. Не было ни одного места у стойки или свободного столика. Посетители стояли небольшими компаниями, как на вечеринке. В глубине зала настраивал инструменты джазовый оркестр. Наконец он заиграл, эта мелодия Хойкену была уже знакома. На минуту бар показался Георгу частью его номера. Он протиснулся к стойке и перекинулся парой слов с барменом.
— Одну минутку, сейчас здесь освободятся два места, — ответил тот.
Хойкен спросил у девушки, что ей заказать. Она попросила джин-тоник, и Георг сделал заказ, чтобы скоротать время, пока освободятся места. Через пять минут они уже сидели на высоких табуретах вплотную друг к другу прямо у стойки бара. Он наклонился к Яне, голова к голове. Вокруг стоял такой шум, что понять собеседника можно было, только близко придвинувшись к нему. Они чокнулись и выпили. У Хойкена было такое чувство, что на них все смотрят. Да это и понятно. Такая пара могла стать объектом всеобщего внимания уже только благодаря своим нарядам. Когда девушка поинтересовалась, как чувствует себя отец, он тут же стал рассказывать о нем, о клинике, о Лизель Бургер. Хойкен удивлялся, почему ему так легко говорить с ней, Яна словно открыла в нем какой-то источник. Наверное, он ждал уже много дней, чтобы нашелся кто-то, кто выслушал бы его. Кто-нибудь близкий, но не настолько, чтобы его касалось все происходящее. Георг чувствовал, что ему хорошо и спокойно, когда он обо всем ей рассказывает. Время от времени девушка задавала вопросы, но у него не создавалось впечатления, что она спрашивает из простого любопытства. Хойкен подумал, что Яна занимает нейтральное положение по отношению к событиям в семье и концерне, она не связана с ними напрямую, но знает всех участников и поэтому может представить себе все, что происходит. И все, что не происходит! Когда Хойкен оглядывался назад, он терял чувство времени. Там все события происходили одновременно, он не видел их последовательности, как будто время чудовищно сжалось и выбросило его из своего безопасного гнезда. Он все время куда-нибудь ехал, постоянно пытался собрать и скрепить между собой части одной большой конструкции, которая все время норовила рассыпаться. Георг не знал, удастся ли ему это сделать, он знал только, что это совсем неправильно — все время осматриваться, делать шаг за шагом и проверять, правильно ли ты поступаешь. Но именно это он сейчас и делал.
Хойкен с удовольствием расслабился бы и рассказал Яне о своей жизни со всеми подробностями. Ему очень хотелось сделать именно так. Но потом Георг подумал: что бы Яна ни говорила, он должен контролировать себя и держать правильный темп, не действовать слишком быстро. Жить каждое мгновение. Это было маленькое правило, следовать которому он приучал себя всю жизнь. Как же это здорово — сидеть вот так вместе и разговаривать! В конце концов этим вечером он не будет один. Они оживленно беседовали, и шум в баре постепенно отдалялся. В этой толпе Хойкен и Яна были словно на маленьком острове, где оказались только они, и все, что им нужно, — напитки, тихая, ненавязчивая музыка, которая звучит непрерывно.
— Тебе нравится твоя работа? — спросил он, и девушка ответила, что разбирать почту и выполнять обязанности секретаря ей нравится, но это не то, чего бы она хотела в жизни. На предыдущем месте она имела дело с искусством и творческими людьми. Яна хорошо знала эту сторону жизни, у нее был опыт работы в галерее, связи с организаторами и спонсорами выставок. Хойкен подумал, что ей не хватает проекта — плана, по которому она могла бы работать. Ей была нужна определенная цель. Это было как раз то, что нужно для подготовки и проведения выставки, о которой мечтал отец. Георг не понимал, почему он не догадался об этом раньше. Он рассказал Яне о коллекции отца, истории ее приобретения, о крупнейших владельцах галерей и торговцах, на которых возлагал надежды. Судя по встречным вопросам, которые задавала девушка, можно было понять, что она очень сообразительна и хватает все на лету. Если бы не эта встреча, Хойкен бы никогда не узнал, что человек, которого он так долго искал для организации этой выставки, сидит у него в приемной. Ему больше не нужно было заказывать выпивку: старый бармен понимал все с полувзгляда. Когда бокал опустошался, Хойкену достаточно было просто встретиться с ним взглядом. Да, еще два бокала. Георг чувствовал, как постепенно отходят на задний план его проблемы, спадают тревога и напряжение, и ему даже стало казаться, что все вопросы могут скоро решиться.
Вскоре ему надоело сидеть, путаясь своими длинными ногами в подставке табурета. Хойкен встал и уступил место другому, а сам остался стоять рядом с Яной. Она повернулась к нему, а он облокотился рукой о барную стойку и вдруг заметил, что девушка прильнула спиной к его руке и придвинулась к нему так близко, как будто хотела найти в нем опору и защиту. Короткий момент, когда Хойкен ощутил тяжесть ее тела, был для него сигналом: начать сейчас — самое время. Он подумал, что Яна перешагнула черту и увлекает его за собой, остановок больше не будет, и этому влечению невозможно противиться. Хойкен протянул свою руку назад и медленно положил ей на талию. Этот жест выглядел так, словно он хотел ее защитить, но это было совсем другое. Он гладил ее тело, это было тайное, скрытое ото всех движение. Стало ясно, что прекрасное мгновение в его кабинете было своеобразным извещением о сегодняшнем вечере. Яна ничего больше не говорила. Она сидела, глядя на него и наслаждаясь его прикосновением. Он видел, как по-кошачьи изогнулось ее тело в ожидании чувственного наслаждения. Хойкен подумал, что воспринимает все это трезво, не так, как в молодости. Он чувствовал, как растет его желание. Раньше в такие моменты его разум отключался, а тело превращалось в безвольную и податливую субстанцию, над которой быстро теряешь контроль. Теперь он совсем по-другому чувствовал течение времени. В молодости он бы сидел, боясь выпустить подругу из объятий и все ускорить, не желая прерывать прекрасных минут. Сейчас они уже не могли позволить себе ждать и долго терпеть эту пытку. Слишком сильно они хотели друг друга.
Хойкен придвинулся к девушке как можно ближе и стал говорить, что в отеле у него есть комната, в которой он ночует, и почему так случилось. Он вынужден был рассказать ей всю правду. Яна помолчала, а затем спросила, где находится этот номер. Он ответил, что это угловая комната на втором этаже с видом на собор.
— Значит, прямо над нами? Двумя этажами выше, и ты — как дома? — спросила она и посмотрела на него.
— Да, — ответил он, — если ты хочешь, мы пойдем туда сейчас.
Она не ответила, просто сидела и смотрела прямо перед собой. В этот миг она казалась скульптурой, которую было бы неплохо сфотографировать. Хойкен был уверен, что фотография получилась бы то что надо. Его охватило легкое волнение. Приглашение послано, почта в пути. Ему нечего больше сказать, совсем нечего. Он чувствовал свое дыхание, считал секунды и потерянное время. Сколько ей нужно времени, чтобы все обдумать? В молодости такие решения принимались моментально, ты ничего не терял и ничего не обдумывал, только «да» или «нет», которое нужно было говорить сразу. Но теперь это решение было совсем не простое. В такой момент совесть проверяла половину твоей жизни, и могли понадобиться часы, чтобы взвесить «за» и «против» и, в конце концов, не сделать шаг навстречу. Георг взял ее бокал и осушил его одним глотком. Внезапно он понял, что Яна пойдет с ним. Боже мой! Она приняла его предложение. Все эти годы он клялся себе, что с ним ничего такого не случится. Он придумал себе крепкую броню, которая сейчас казалась ему почти смешной. Хойкен сделал заказ в номер и заплатил бармену. Потом они встали и рука об руку пошли по узкому, плохо освещенному коридору. Когда они вошли в лифт и дверь закрылась, девушка прильнула головой к его плечу. К его номеру они подходили обнявшись.
Хойкен открыл дверь, вошел и посмотрел направо. Он шел немного впереди, чтобы проверить, все ли в порядке, прежде чем она войдет следом за ним. Он снял пиджак и бросил его на софу. Сейчас он играл роль гостеприимного хозяина дома, который обо всем позаботился. По правде говоря, Хойкен немного нервничал. Он попробовал отвлечься и составить себе программу, чтобы не мешкать в последний момент. Выходило так, что подобные ситуации остались у него далеко в прошлом. Он не знал, чего она ждет и как себе все представляет. Может быть, она переспала со всеми художниками, о которых рассказывала ему только что в баре. Среди них наверняка была пара бойких юнцов, которые, не медля ни минуты, отправлялись с ней в постель. Может, она хочет, чтобы он сразу потащил ее в постель, повинуясь своему желанию? Или ждет искусного обольщения, сюрпризов, которые следуют один за другим, связанные между собой, как в тонком механизме, и постепенно приводящие их тела к кульминационной точке? Сейчас у него нет времени думать, он должен делать именно то, что ему нравится. Что он сейчас хочет делать? Больше всего ему хотелось слушать джаз и пить шампанское. И Георг сделал то, что велел ему внутренний голос: подошел к CD-плейеру и включил его. Какой диск он слушал последним? Хоть бы в его коллекцию не затесался отвратительный свинг. Но нет, на счастье, Майлс Девис. Уже хорошо. Другие ему нравятся больше, но на первый случай сойдет и это. Уголком глаза он заметил, что Яна подошла к окну и смотрит на улицу. «Тебе нравится?» — чуть было не спросил Хойкен, но одновременно с тем, что он делал, это прозвучало бы ужасно. Он даже вспомнил что-то подобное из американского фильма, который когда-то видел: молодая девушка пришла в комнату к парню, он поставил пластинку, потом оба подошли к окну, и он прошептал: «Тебе нравится, любимая?» Хойкен продолжал хозяйничать, открыл дверцу маленького шкафчика-бара и вынул оттуда бутылку «Veuve Cliquot Rosé». Между прочим, он пристрастился к этой марке и каждый вечер выпивал один бокал. Очень быстро засыпаешь и просыпаешься через короткое время. Этот обманчивый напиток быстро валит с ног и коварно будит снова, чтобы глубокой ночью ты выпил еще бокал и только тогда получил полный покой. Георг даже не забыл о бокалах, поставил их рядом на круглый стол и откупорил бутылку. Звук вылетающей пробки обычно возвещает о чем-то торжественном — наступлении Нового года, дне рождения или другом празднике. Хойкен должен был что-то сделать, чтобы не возникло подобных ассоциаций. Но так как ничего подходящего в голову не приходило, он просто наполнил бокалы и отставил бутылку в сторону. Сейчас на его столе разместился маленький праздничный ансамбль, который только и ждал, чтобы его использовали. Хорошо, что играет музыка. Он не мог себе представить, что бы он делал без музыки. Наверное, он сразу потащил бы Яну в постель. Заговорить с ней в тишине — это было бы для него слишком. Но выход есть. Нужно просто довериться джазу. Джаз знает ответ, предоставь все ему. Можно даже танцевать под блюз, спокойно, погрузившись в свои мысли. Много лет назад в Америке он часто танцевал ночи напролет. Он любил танцы под джаз. Все другое его угнетало, но только не джаз. По шкале Лоеба, он принадлежал к сливкам общества. Правильными он считал такие танцы, в которых можно выразить свои интимные чувства, а значит, их нельзя было танцевать открыто, на людях. Все общедоступные танцы преподносят самих себя. Заведенные пары демонстрируют свои отработанные па, поэтому танцевальные турниры лишены эротики. Хуже всего в этом отношении танго, который почему-то считают самым эротическим танцем. С его точки зрения, танго представляет собой просто сборник эротических поз, как книжка с картинками: много наглядности, а в конечном итоге — неуклюжесть. Что же теперь? В бокалах пенится шампанское. Только главные действующие лица еще не заняли свои места. Они стоят перед большим окном и не могут оторваться от созерцания площади внизу и снующей по ней толпы. Ему было знакомо это чувство. Когда Георг увидел эту картину впервые, он чувствовал то же самое. Ему казалось, что она имеет какую-то силу и полна тайной свободы. Он чувствовал себя режиссером, который руководит мизансценами там, внизу, и может в любое время поставить новые. Казалось, Яна целиком поглощена этой картиной и ее совсем не интересует то, что происходит рядом. Бретелька на ее правом плече соскользнула вниз. Девушка стояла, словно в трансе, но потом обернулась и посмотрела на Хойкена. Это длилось всего лишь мгновение, но ее взгляд разволновал Георга так, как будто Яна заглянула в его душу. Вдруг, в один миг, он понял, что произошло. Еще никогда он не испытывал подобного безумства, он никого не любил до этого. Хойкен не двигался, он смотрел на девушку, как будто пытался постичь ее тайну. Там, у окна, стоял дорогой ему человек. Этот человек принадлежал ему. С этого момента Хойкен будет делать все, чтобы как можно чаще быть с ним вместе. Георг почувствовал, как тают последние следы отчуждения и открываются шлюзы, за которыми скрывались самые сокровенные желания. Он уже не спрашивал себя, что ему делать дальше. Он подошел и привлек Яну к себе. Ее руки сомкнулись у него за спиной. Он знал, что она чувствует то же, что и он. Они действительно начали танцевать, медленно покачиваясь на месте. Он еще не постиг до конца этой перемены. Он думал о своей жизни. Вот промелькнул кадр с его кабинетом. Он шеф, она сидит в его приемной, поглощенная работой. Нет, не то. Тот кадр никак не связан с этим танцем. Хойкен должен вспомнить последние дни, когда он уже желал ее. Да, никого и ничего так не желал он в эти дни, как ее и того, чтобы провести с ней ночь в этом номере. Для нее он наводил здесь порядок. В глубине души Георг желал близости с ней, и эта жажда становилась все сильнее. Возможно, его страсть стала источником силы, которую он сумел приумножить. В борьбе за право быть наследником отца, а прежде всего в борьбе с тяжелой апатией и поднимающейся в душе горькой печалью. Он боролся со всем этим. После того незабываемого мгновения в его кабинете облик Яны все время стоял у Хойкена перед глазами. Его связи с семьей давно ослабли. Дети уже не нуждались в нем так, как раньше, и ничто не связывало его с Кларой. Большую часть времени она проводила за границей. Связь, такая крепкая когда-то, постепенно ослабела, а затем порвалась. Однажды он сказал, что живет по инерции, но осознал это буквально вчера, когда заболел его отец. Георг сам нуждался тогда в поддержке, но нигде не нашел ее. Бески, или Бетси, приготовила завтрак, он упаковал свой чемодан… В этот момент он уходил из дома. Конечно, тогда он не знал, что делает именно это. Он делал это неосознанно. Он переехал в этот номер и каждый день понемногу привозил сюда свои вещи. И вот он здесь. Приготовления были не напрасны. Хойкен не знал, что бы он здесь делал, если бы оставался один. Надолго. Может, отказался бы от наследства и продал его брату. Может, примирился бы с тем, что проведет в этой комнате несколько лет своей жизни. Просто проживающий, который ни с кем не разговаривает. Что это может плохо кончиться, он тоже понимал…
Через несколько часов он лежал бодрый и полный сил. «Veuve Cliquot Rosé» действовало на него, как раньше, тогда как Яна крепко спала. Хойкен встал, сделал еще один глоток и пошел к окну. Секс. Секс этой ночью ошеломил его. Тридцать лет подряд у него был секс с одной и той же женщиной. Только с одной. С тех пор, как они с Кларой вместе, она была его единственной женщиной. Когда волна сексуальной революции захлестнула всех и дошла до каждого его сверстника, Георг ее проигнорировал. Он всегда считал ее делом сутенеров и кривляк, которые на каждом углу пытаются приставать со своей беспомощной стратегией улучшения качества жизни. Правильное питание, питье, спорт или секс — на все это были свои продавцы. Хойкен точно знал, что этим занимается половина концерна. Находишь какого-нибудь партнера, а потом встречаешься с ним в одном из многочисленных клубов на окраинах города или где-нибудь в деревне. Секс в Зауэрланде. Только представить себе: темные уголки в перестроенных зданиях бывших сараев и конюшен, где еще десять лет назад находился крупный рогатый скот. Но сейчас — поехали. Вдвоем, втроем, вчетвером, вдесятером — чем больше, тем лучше и чем чаще, тем спортивнее. Пару своих сотрудников он застал за отбором. В понедельник они сидели в Интернете и просматривали рынок сексуальных услуг. Париж — это Мекка. Все говорят только о Париже и фантастических тамошних клубах, «прямо в центре, я же тебе говорю, прямо в центре, напротив — Нотр-Дам, слева — берег Сены, третий этаж, вот адрес». Французская литература переполнена описанием таких встреч во всех подробностях. У побывавших в Зауэрланде от них просто немели языки. Кристоф в своем издательстве выпустил две книги этого жанра, переведенные с французского. Они имели большой успех. Брат часто устраивал себе такие экскурсии выходного дня в Париж. В понедельник утром он снова сидел в своем директорском кресле, белый, как стенка, и еще раз педантично вспоминал все свои экстазы. Парижские салоны. Под таким названием все это уже давно обосновалось в Кёльне. Несколько лет подряд Хойкен наблюдал, как расширяется эта индустрия, как на каждом углу не позже полудня открываются эти клубы, так чтобы через час-другой можно было воспользоваться их секс-услугами. А он? Иногда он казался себе смешным со своей сдержанностью и антипатией. Тридцать лет сексуальных отношений с одной и той же женщиной… Кристоф хватался за голову, когда слышал об этом. Но Хойкен неохотно говорил с ним о таких вещах. Кристоф практиковал быструю смену партнерш уже с незапамятных времен. Хойкен подозревал, что он ведет дневник. Когда-нибудь, наверное, сразу после его смерти, эти заметки опубликуют. Ничего другого его брат, конечно, не напишет, кроме того, как можно роскошно развлекаться. Хойкен представлял себе, до какого высокого уровня Кристоф развил это умение. Даже если разговор был совсем недолгим, его брат все равно успевал сказать пару слов о своей сексуальной жизни. Когда его книга выйдет в свет, кого она будет интересовать, если во Франции тема секса в конце концов сойдет на нет? Его сексуальная жизнь была брачным сексом — единственный жанр, в котором Хойкен разбирался. О брачном сексе он мог бы написать целую книгу, он считал эту идею довольно оригинальной. С годами они с Кларой научились так чувствовать друг друга, что секс получался простым, как еда или питье. Достаточно было малейшего сигнала, чтобы их тела начинали делать одно общее дело. «Общее дело». Это хорошо, это было бы подходящим названием для его бестселлера. Именно эта общность и была самым прекрасным. Она расслабляла, она придавала сексу некую экзальтированность. Секс успокаивал и усыплял, как легкий наркотик, который принимается через день, чтобы дать отзвучать хорошему дню или плохой сделать по меньшей мере не таким плохим. С Яной все оказалось совсем не так. Она была не похожа на очень опытную женщину. Это Хойкен почувствовал бы сразу. Возможно, он был тоже очень занят собой. Его все время поражало, что с Яной у него все не так, как было до сих пор. Он был с ней осторожным, бережным. У них еще было время.
Хойкен подумал о том, что скоро взойдет солнце. Было уже около пяти часов, но еще не светало. Он сделал последний глоток. Бутылка пуста. Шампанское — единственный напиток, который можно пить в такую ночь. Оно дает ощущение легкости, как будто ты, невесомый, идешь по канату, натянутому в вышине.
Хойкен поставил бокал и снова лег на кровать. Тыльной стороной ладони он коснулся ее бедра, и Яна зашевелилась, как улитка, которая от прикосновения твоей руки убирает рожки и немного погодя выпускает их обратно. Глаза девушки были закрыты, Георг ощутил тепло ее ищущих пальцев. Ее губы сразу нашли Хойкена, как будто она не переставала его целовать. Прикосновение губ — очень сильное ощущение. Сладкий водопад радости пронизывает тело, подавая сигнал, что все скрытые в тебе силы пробудились, и ты расслабляешься и движешься, словно амфибия в теплой морской воде.
6
С тех пор они виделись почти ежедневно. Они не договаривались о встречах и не настаивали на них. Хойкен удивлялся, что все получалось само собой. У Яны был ключ, и теперь каждый мог приходить в отель вечером, не условливаясь о времени, чтобы провести вместе этот вечер и ночь. Свет торшера был для них сигналом: если он горел, значит, кто-то из них уже был в комнате. Самым прекрасным для Хойкена был момент, когда он входил в номер, а Яна в его халате лежала на кровати и читала. Она дожила свою стройную ногу на гладкую белую простыню, а ступней другой, согнутой в колене, упиралась в спинку кровати. Когда она так лежала, то выглядела старше, да, иногда она выглядела как зрелая женщина, которая ожидает молодого любовника. Каждый раз, когда Хойкен видел эту картину, в нем что-то замирало. Ее небрежная поза возбуждала. Казалось, она целый день пролежала в этой кровати и только если ей было что-то нужно, лениво шевелилась. Кожа девушки была очень нежной, ее белизна контрастировала с помадой на губах. Когда Хойкен наклонялся над ней, чтобы поцеловать, то утопал в неповторимом запахе ее тела, который соединялся с запахом цветов в вазах, которыми была украшена вся комната. Со своим запахом, музыкой и красками этот номер больше не походил на пристанище холостяка. Теперь он выглядел эротично — уютный уголок, устроенный только для ее сладострастных движений и близости тела, которая вводит в транс.
Утром Яна исчезала — так она делала всегда — и сразу направлялась в офис, где вскоре они встречались снова. Сейчас Хойкен воспринимал ее там абсолютно по-другому. Он передал ей часть своей работы и доверил разрабатывать свой проект. Все, что было связано с открытием Зала искусств, перешло сейчас под ее руководство. Втайне Георг подумывал даже о том, что позже доверит Яне место Минны Цех. В концерне они ни словом не упоминали о том, что произошло, только чаще, чем прежде, говорили друг с другом. Он всегда держал дверь своего кабинета открытой, чтобы было видно, что они работают как одна команда.
Хойкен садился в свою машину и медленно ехал через центр Кёльна. В дороге он слушал диск, который дала ему Мария. «Renato Zero» — это как раз подходило к осеннему пейзажу, к яркой пестроте красок и скользящим движениям машины. Иногда в его сознании звучала «Наслаждалась покоем». Он никогда бы не подумал, что может без конца вспоминать музыку Баха. Конечно, дело здесь было не столько в музыке, сколько в ощущении новой связи, к которой она привела, и в том воодушевлении, которое подарила ему. Иногда Хойкен напевал обрывки мелодии и представлял, что сидит не в машине, а в темно-синем зале филармонии. Часть его сознания была выключена. Он не мог теперь постоянно держать все в своих руках, но это совсем его не беспокоило. По крайней мере, в концерне все идет как надо. Скоро открытие книжной ярмарки. Это занимало сейчас все мысли Хойкена и было его ближайшей целью, на которой он сосредоточил свои усилия. Он тщательно готовился к ярмарке, потому что к моменту ее открытия уже должны быть готовы программа на следующую весну и в общих чертах «Библиотека XXI века». Хойкен все время звонил по телефону и советовался по поводу авторов. Впервые он все решал сам. Яна была единственным человеком, которому он все рассказывал, потому что Байерман был занят корректурой романа Ханггартнера и его дневниками. Когда Гюнтер закончил свою работу, он позвонил Хойкену и попросил о встрече. Воспользовавшись случаем, Георг напомнил, что Байерман обещал сходить с ним в зоопарк. Тот согласился, и они договорились встретиться утром, около девяти, чтобы пойти в зоопарк, а заодно поговорить на актуальные деловые темы.
Когда Хойкен подошел к воротам зоопарка, Байерман уже был там. На нем была зеленая куртка с большими карманами, в руке он держал старый потертый рюкзак, как будто собирался в поход или в экспедицию. Последний раз Хойкен ходил в зоопарк с детьми много лет назад. Он вдруг вспомнил этот поход, тележку, которую тащил за собой, и спешку, которая ему тогда очень не нравилась. Он все время пытался приучить детей наблюдать за животными, но это ему никогда не удавалось. Они останавливались у вольера на три-четыре минуты, а потом уносились дальше. С Байерманом — совсем другое дело. Хойкен сразу обратил внимание на то, как медленно тот идет. Каждые сто метров Байерман останавливался и подносил к глазам бинокль. Фламинго. О чем они говорят? Маленькая стая фламинго стояла на берегу озера. Птицы двигались так неспешно и важно, казалось, их нужно было просить, чтобы они изволили сделать пару шагов. Байерман смотрел на них и что-то тихо говорил Хойкену. Движение стаи происходило, по-видимому, следующим образом: одна птица зондировала почву, а за ней следовала маленькая группка, к которой постепенно примыкали остальные. Байерман шутя назвал этот ведущий отряд авангардом. У края вольера он развернулся и пошел в другую сторону, похожий на пилигрима, который, кряхтя и молясь, совершает свой нелегкий путь.
После фламинго они подошли к сурикатам[25]. Байерман опять взял свой бинокль, хотя животные находились всего в нескольких метрах от них на песчаном, изрытом норами участке. Хойкен попытался уловить их движения, но самое большее, что ему удалось, это увидеть тесно прижавшуюся друг к другу парочку зверушек, которые стояли на бугорке и что-то высматривали. При этом они опустили свои лапки, как футболисты в ожидании пенальти. Байерман объяснил, как у них происходит разделение труда. Пока одни особи бегают в поисках пищи и складывают ее в норы, другие почти непрерывно ведут наблюдение за участком и охраняют его. Некоторые животные стояли под ярким светом лампы-обогревателя. Хойкен попросил у Байермана бинокль, чтобы рассмотреть их получше. Теперь ему было видно, как сурикаты опираются на хвост, чтобы держаться прямо. Здесь, в зоопарке, они вели себя так, словно находились на просторах Южной Африки. Они понятия не имели, что не нужно ничего охранять, а найти пропитание здесь очень просто. Хойкен думал, что зверушки могли бы жить здесь, ни о чем не беспокоясь, но инстинкт заставляет их сновать, как будто над ними все еще кружит хищная птица.
«Должен же когда-нибудь разговор переключиться на дела», — размышлял Георг, но Байерман с удовольствием ходил перед вольерами и, казалось, не собирался заниматься ничем другим. Хойкен предположил, что он изучает животных так же внимательно, как рукописи. Байерман внимательно наблюдал за поведением животных. Наблюдать отдельных животных — это, наверное, своего рода тренировка, чтобы потом лучше понимать капризных авторов с их чудачествами. Ханггартнера, например. Какому зверю он соответствует? Какому-нибудь неуклюжему и хитрому, который живет в самом центре зоопарка. Байерман сразу бы нашел аналогию.
Когда его спутник предложил пойти в обезьянник, Хойкен понял, что нужно запастись терпением. Обезьяны содержались в маленькой постройке со стеклянной крышей, через которую солнце, как в инкубаторе, обогревало тропические растения внутри. Чириканье воробьев сопровождалось криками обезьян-ревунов, которые бегали по клеткам, подвешенным над головами посетителей. Было тепло и душно, в воздухе висел запах соломенной подстилки, лежащей для того, чтобы шаги людей не тревожили животных. Однако последние все равно были раздражены, потому что это был их дом. Обезьяны хрипло ревели, волновались и иногда демонстративно опорожнялись прямо на головы людей, как будто считали их отпускающей свои бесполезные комментарии глупой шпаной.
Через пятнадцать минут Хойкен сел на скамейку, потому что устал ходить от вольера к вольеру. Байерман сел рядом и первый заговорил о деле:
— Я внимательно просмотрел черновики Ханггартнера. Будет непросто сделать из них читабельную книгу.
— Но почему же? Там сотни страниц. Из трехсот получится один том.
— В основном это записки, которые он почти слово в слово перенес в свои романы. К тому же в них много афоризмов. «Каждый писатель усердствует в своем желании пережить себя». Это неоригинально и неинтересно, это просто ужасно. Сейчас никто не пишет афоризмы.
— Ты хочешь сказать, что у нас не получится состряпать из этого книгу?
— Нет, ничего такого я утверждать не хочу. Книгу мы состряпаем, вот только какую… Если немного сократить его записи, оставив их в той же последовательности, в какой они велись, мы получим первый том на четыреста-пятьсот страниц. Мы можем преподнести это читающей публике как своеобразную мастерскую большого писателя, которая представляет собой сокровищницу его мыслей и позволяет приобщиться к его творческому процессу. Как вариант, можно поменять порядок записей и сделать из них маленькие рассказы. К примеру, первый рассказ был бы о твоем отце и его встрече с Ханггартнером, о его роли в творческих поисках великого писателя. И что-то в таком духе под названием «Пережитые истории».
— Ты хочешь продать ханггартнеровский коктейль как мемуары?
— Да, совершенно верно, это моя идея.
— Но как мы это сделаем? Ты читал когда-нибудь мемуары, состоящие из коротеньких историй, которые занимают самое большее три четверти страницы? Ни один книготорговец не возьмет у нас такой товар. Мы провалимся с такой смелой авантюрой.
— Минутку, я еще не закончил. Мы снабдим записки промежуточными текстами. Эти тексты свяжут рассказы в одно целое, они будут вводить читателя в соответствующий отрезок времени, разъяснять и обрамлять записки.
— Промежуточные тексты? Ты что, думаешь, Ханггартнер позволит, чтобы мы приправляли его заметки промежуточными текстами?
— Да, позволит, и по одной простой причине.
— Я хочу ее услышать, мой милый.
— Он позволит, потому что промежуточные тексты будет писать сам.
— Сам?!
— Сам. Ты ему все спокойно объяснишь, оказывается, ты хорошо с ним ладишь. Объяснишь, что у него есть выбор: или мы издаем все как каменоломню его великих мыслей, или мы моделируем черновики так, чтобы сделать их интересными для читателя. Первая формулировка принесет ему пятьдесят тысяч аванса, вторая — четверть миллиона.
— Четверть миллиона? Ты понимаешь, что говоришь?
— Отлично понимаю. Кстати, это ты подал мне такую гениальную идею. Название, которое ты предложил — «Страсти души», — тому причиной, потому что это название самое лучшее для всей книги. Это мне стало ясно, как только я начал читать. Оно, к сожалению, не подходит к запискам Ханггартнера. Мы должны их перестроить и приукрасить, чтобы они соответствовали названию. И может быть, Ханггартнер загорится и одарит нас еще одним своим произведением в виде промежуточных текстов.
— Ты имеешь в виду, что он не удовлетворится промежуточными текстами?
— Точно. Такой плодотворный автор, как Ханггартнер, начнет с промежуточных текстов, а закончит настоящими мемуарами. Он не сможет понять, почему должен останавливаться на полпути. Его словоохотливость сорвет все плотины, я в этом почти уверен.
Хойкен встал и указал на выход. Он не мог больше выносить запаха животных и теплого, муторного воздуха. Кроме того, блестящее предложение Байермана потрясло его так сильно, что он чувствовал потребность двигаться, выйти на открытый воздух. Преобразить черновики Ханггартнера в мемуары ему бы даже в голову не пришло! В такие минуты Георг понимал, кого имел отец в лице Гюнтера Байермана. Наверняка за последние годы Гюнтер не раз выручал старика своими многочисленными идеями.
— Давай зайдем в тропический домик, — предложил Хойкен, потому что знал: этот домик находится как раз на краю зоопарка, и они могут спокойно поговорить, пока туда доберутся.
— Что это? — Байерман остался стоять и посмотрел на него. — Ты не понял, что я предлагаю?
— Сногсшибательная идея, — сказал Хойкен и быстро пошел вперед, чтобы Байерман понял, что он не будет останавливаться возле следующего вольера. — Она укрепила мое решение прямо сейчас сделать тебе предложение, о котором я, вообще-то, хотел с тобой поговорить через пару недель.
— Догадываюсь, что ты мне хочешь предложить.
— Тогда скажи, скажи, что я тебе хочу предложить? Спорим, что ты далек от истины.
— Ты предложишь мне заняться мемуарами Ханггартнера, а в компенсацию за неприятную работу получить часть прибыли.
— Неплохо, и, если ты так хочешь, считай, что я уже согласился. Но я хотел предложить тебе другое.
— Так я не угадал? Минуту, дай мне подумать. Я хочу сам добраться. Это касается Ханггартнера?
— Нет.
— Это никак с ним не связано? Ну, тогда… Нет, тогда не знаю.
Он рассуждает как редактор, дальше его мысль не простирается. Хойкен раздумывал, как ему навести Байермана на правильный след.
— Это не касается ни Ханггартнера, ни любого другого твоего автора. Мое предложение глобальнее, такое предложение можно получить только раз в жизни.
Байерман продолжал стоять. Он не понимал, он выглядел встревоженным, словно ожидал чего-то плохого.
— Я рад твоему предложению заняться проектом Ханггартнера. Для меня это роскошное задание. А после того, как я выполню эту каторжную работу, можешь меня уволить.
Как он мог до такого додуматься! Гюнтер всегда трясся при мысли о том, что когда-нибудь его уволят. Однако было бы очень глупо уволить такого человека, как Байерман. Ведь работать для него означало жить. Если его уволят, он будет хиреть в своей маленькой квартире и посвятит остаток своей жизни созерцанию птиц на берегах Рейна. Нужно остановить Байермана, сказать, что это не должно его больше мучить.
— Я даже слышать не хочу ту ерунду, которую ты выдумал. Скажу только, что никто не посмеет уволить тебя, пока я работаю в концерне. Я сделаю так, что ты сможешь до конца жизни заниматься своими авторами, правда, не в качестве редактора.
— Что ты сказал? Как мне это понимать?
— Я хочу, чтобы ты руководил издательством, осел ты такой! — вскрикнул Хойкен. — Если мне удастся унаследовать от отца концерн, я передам издательство тебе.
Байерман покачал головой. Сейчас он стоял перед ним такой растерянный, как будто хотел попросить прощения.
— Ты шутишь, Георг.
— Вовсе нет, я не шучу, я говорю серьезно. Почему, черт возьми, мне не быть серьезным? Когда я буду возглавлять концерн, «Caspar & Cuypers» потребуется опытный издатель. На эту должность я не возьму человека со стороны. Я тебе это сразу говорю. Мне все равно, кто бы ни пришел наниматься, я откажу любому. Ты в курсе всех дел. Никто не знает издательство лучше, чем ты. Ты как раз тот человек, который мне нужен, и кроме того, с тобой мне хорошо работается.
Хойкен пошел вперед, хотя видел, что Байерман все еще стоит, словно не может понять, что говорил ему Хойкен. Конечно, о таком предложении Гюнтер не мог и подумать. Как профессиональный редактор, он никогда не мечтал быть издателем. Между издателями и редакторами никогда не было конкуренции. Издатели могли чувствовать себя спокойно, со стороны редакторов им ничего не угрожало. Имя редактора могло даже нигде не появляться — ни в книге, ни в поздравлениях, а когда в издательстве отмечали открытие выставки, на стендах никогда не было фото редакторов.
— Я слишком стар, Георг, — тихо сказал Байерман.
— Что за чепуха! Мой отец руководит концерном, хотя ему уже почти восемьдесят лет!
— Так не пойдет, Георг. Я могу создавать программы, но ничего не смыслю в финансах.
— Ну и что? Мы дадим тебе специалиста, который разбирается в финансах. Финансы — это то, чему можно научиться, но нельзя научиться сделать из записной книжки мемуары!
Теперь он почти тащил Гюнтера за собой и давно уже не смотрел на вольеры с тиграми и львами. Казалось, Байермана сейчас ничего не интересовало. Когда они дошли до тропического домика, он, как заведенная игрушка, по инерции пошел дальше по узкой, извилистой тропе между экзотическими растениями. Рад ли он? Счастлив ли сейчас хоть немного? Хойкен наблюдал за ним со стороны. Байерман втянул голову в плечи и был совсем не похож на человека, которому только что сделали самое лучшее предложение в жизни. Встряхнуть бы его и отругать хорошенько. Может, предложение кажется Гюнтеру чересчур щедрым и это так угнетает его, что он даже не способен радоваться? Вот Хойкен в последнее время мог радоваться. Еще никогда в жизни он не чувствовал такой легкости. Стоило ему только подумать о предстоящем вечере и освещенном окне его номера, как в душе уже поднималась теплая волна ожидания. Он не чувствовал своих ног, словно на голодный желудок выпил маленький глоток «Veuve Cliquot Rose». Это ожидание радости скрадывало трудности рабочего дня. Все у него получалось быстро и просто уже потому, что ко всему он относился легко и не так остро воспринимал текущие дела.
— Боже мой, — сказал наконец Хойкен, — ты бы мог хоть немного порадоваться.
Они остановились перед водопадом. Здесь висела табличка с надписью, сообщающей, что в водоеме обитают особенные птицы с нежным оперением, какой-то редкий вид голубя. На перилах сидели три птицы, такие надменные и неприступные, словно они понимали свою исключительность. Хойкен пошел дальше. Равномерный шум водопада, вокруг которого, брызгаясь, бегали дети, раздражал его. В сущности, теперь ему мешало все — это чириканье, кваканье, рычание, которое доносилось отовсюду, и эти животные, которые прятались в своих норах и все равно были заметными.
— Это совсем не то, что ты думаешь, — вдруг произнес Байерман. — Я очень рад, но должен сказать тебе одну важную вещь, о которой ты не имеешь понятия.
— О чем я не имею понятия? — спросил Хойкен. — О какой важной вещи я не имею понятия?
— Давай выйдем отсюда, — предложил Байерман. — И слепому видно, что тебе здесь не по себе.
— Спасибо за то, что ты меня понимаешь, — ответил Хойкен и сразу вышел наружу.
Наверное, кто-то пронюхал об их отношениях с Яной. Возможно, кто-нибудь видел их вместе. Они вели себя неосторожно. Влюбленные не способны быть осторожными. Сейчас он это узнает. Хойкен вышел и остановился. Когда же они об этом узнали? И что теперь будет? Он признает это, он не будет возражать. Это будет нелегко, но лгать он не станет.
— Итак, пожалуйста, — сказал он раздраженно, — о чем я не имею понятия?
Байерман видел, что Хойкен взволнован. Он взял Георга за руку и потащил дальше. Тот делал слабые попытки вырваться, но потом двинулся за Гюнтером.
— В последнее время я часто задерживался в издательстве, — сказал Байерман. — Я был занят романом Ханггартнера и его чертовым дневником. На второй вечер я увидел твоего брата. Он приехал в концерн.
— Мой брат?! Кристоф был в издательстве?!
— Он пришел довольно поздно, скорее всего, не хотел, чтобы его кто-нибудь видел. Он с кем-то встречался. Очевидно, ему нужны были какие-то документы.
— Теперь не темни! С кем он встречался? И о каких документах идет речь?
— В первый раз я это не выяснил. Я видел его мельком, когда он шел по коридору. Во второй раз я проследил за ним, чтобы удостовериться. Твой брат встречался с Минной Цех.
— С Минной? Ты не ошибаешься?
— Он вошел в ее кабинет и пробыл там несколько часов. На следующий день я спросил Минну об этом. Ты знаешь, что мы с ней очень давно знакомы и что она никому не лжет. Минна сказала, что помогает твоему брату. Она дала ему копию тайного плана проекта твоего отца и много чего другого. Она хочет, чтобы Кристоф был владельцем концерна, он, а не ты!
— Она так и сказала?
— Да, так и сказала.
— И почему же? Почему она хочет этого?
— Она говорит, что ты хочешь ее уволить. Минна уверена, что ты уволишь ее сразу, как только станешь главой концерна. Поэтому она за Кристофа. Он ее никогда не уволит, скорее даже подарит титул «добрая душа издательства».
— Вот оно что! Вот что за этим кроется! Наверное, она и в самом деле считает его лучшим издателем.
— Она так и сказала, но я думаю, она сама себя обманывает. В глубине души Минна давно знает, что тебя и Кристофа нельзя сравнивать.
— Нельзя? Гюнтер, скажи честно, кто, по-твоему, должен это делать — Кристоф или я?
Хойкен был в ярости. Он не знал, что и думать о том, что услышал от Байермана. Тайно приехать в Кёльн, чтобы достать документы, — это похоже на Кристофа. Он и в детстве вел себя так же: действовал тайно, как крыса, которая пробирается в подвал дома и нагло сжирает все лакомые куски.
Хойкен посмотрел на Байермана. Тот зажмурился, было видно, что ему сейчас не по себе. Не нужно быть таким прямым и грубым. Смешно пытаться таким образом все расставить по местам.
— Прости, дружище. Я беру свои слова обратно. Что ты можешь ответить на этот вопрос? Но скажи мне, по крайней мере, что не оставишь меня одного с моим чудесным предложением.
Они прошли несколько шагов молча. Каждый ждал, что скажет другой.
— Ну, — наконец сказал Байерман, — закроем пока эту тему. Твое предложение — это честь для меня, я его принимаю. Ты доволен? И второе. Ты — человек на своем месте, и сам об этом знаешь. В будущем не задавай мне таких дурацких вопросов, а то я все брошу и уйду.
Они остановились перед большим бассейном с тюленями. Раньше Хойкен очень любил наблюдать за движениями этих животных, когда они плавали. Как элегантно они изгибались, как легко переворачивались на спину!
— Знаешь ли ты, какое у них изумительное чувство обоняния? — спросил Байерман.
— Нет, — ответил Хойкен. — И какое же?
— Оно настолько тонкое, что тюлени могут определить содержание соли в морской воде. Они всегда знают, где найти рыбный косяк.
Хойкен подумал, что это на самом деле фантастично. Почти такой вкус, как у специалиста, который за милю чует свою добычу. Наилучшим чутьем обладала Лина Эккель. Авторов она чуяла, как тюлени — рыбный косяк. Ему следует как можно раньше встретиться с ней. Нельзя терять ни одного дня в поисках добычи для его проекта.
7
Хойкен сидел в ресторане старого Кёльна на берегу Рейна и смотрел на реку. Эта осень была очень неровная. Началась как середина зимы, дождями и заморозками, а потом снова стала теплой и дни стали теплее, чем летом. Последние листья не хотели опадать. В Мариенбургском саду сербы-садовники ждали, когда же наконец смогут собрать их граблями.
В полдень на этих скрипучих стульях сидели только два туриста. Пройдет немного времени — и здесь соберется целая толпа, которая будет до самой ночи пить кёльнское пиво. Он не хотел идти сюда, но Лину Эккель отговорить было невозможно. Она хотела, чтобы вокруг были люди. Лина обожала сидеть среди этих праздношатающихся, чувствуя себя маленькой мишенью их мимолетных взглядов. В нескольких километрах южнее этого места его дети жарили в саду мясо. Хойкен мог бы поспорить, что из глубины дома доносятся песни «Renato Zero» и его дочь, наверное, переживает первую в своей жизни любовь. Он не хотел быть свидетелем этого. К счастью, Клара еще в отъезде, что позволит ему быть подальше от эротических сцен подросткового возраста.
Наконец пришла Лина. Он узнал ее по неестественной походке, причиной которой была короткая узкая юбка, на которую пялились все окружающие. Своей короткой юбкой, чулками в «сеточку» и невообразимо высокими каблуками Лина обрабатывала своих партнеров по переговорам. Молодые авторы, которых она опекала, становились весьма податливыми, а симпатичные девушки, которые писали печальные рассказы о своих первых разочарованиях, обещали себе тоже стать когда-нибудь такими же несгибаемыми, как Лина. В 80-е годы, когда на полотнах молодых живописцев еще можно было заработать много денег, она была успешным организатором художественных выставок. Когда этот рынок свернулся, Лина ринулась в литературу. Она делала переводы и была авторитетным руководителем отдела печати одного из театров, а потом стала литературным агентом. И сразу ее белоснежные хоромы, в которых устраивались выставки, превратились в кабинеты. Там, где прежде мучительно пробовало себя молодое искусство, возникли приемная и комнаты для трех сотрудниц — финансистки, экономиста и переводчика. Хорошо организованный женский клуб. Каждое утро они являлись на работу и вместе завтракали. На обед у них были только кофе и выпечка. Так все должны были продержаться до вечера. «Это помогает девушкам оставаться красивыми и стройными», — говорила Лина и угощала их минеральной водой, потому что это якобы полезно для кожи и поддерживает жизненный тонус. Много лет назад она была замужем, но никто не видел ее мужа. Наверное, это была неправда. Невозможно было представить Лину замужем. Она была слишком самостоятельна и свободолюбива. Знатоки утверждали, что она настолько независима, что сама избегает мужчин. Возможно, это так и было. Хойкен, во всяком случае, считал, что в глубине души Лина романтик, поэтому внешне она цинична и холодна. Наверное, она увлечена каким-нибудь лириком из Средиземноморья и тайно встречается с ним на Сицилии или Кипре. Можно предполагать что-то в этом роде, если женщина категорически не желает связываться с немецкими авторами.
— О, — проворковала Лина своим грудным голосом, — ты и в самом деле меня ждешь! Какая честь, что меня ожидает такой шикарный молодой человек!
Она специально опоздала. Ей нужно было маленькое представление — сцена, аплодисменты. Она хотела сначала покорить, только так можно было добиться ее расположения. Сегодня Лина надела короткую черную юбку и широкий жакет в разноцветную клетку. На вопрос Хойкена она ответила, что такие жакеты можно купить только в Дамаске. В начале знакомства она любила разыграть любительницу путешествий, и многих это впечатляло. Нью-Йорк был ее козырной картой. Она бывала там много раз в году, чтобы всегда быть в курсе самых последних новинок на литературном рынке. «Жаль, что я не встретилась с Хемингуэем, — сказала Лина однажды. — Я бы сделала ему лучший немецкий перевод».
Хойкен встал, и они поцеловались в обе щеки в знак приветствия. Он не мог припомнить, чтобы когда-нибудь здоровался с Линой подобным образом.
— О, — произнесла она снова, — что это за аромат? Кажется, лилии. Так могут пахнуть только две дюжины лилий. Где ты шляешься? Влюбился в продавщицу цветов?
Хойкен попробовал улыбнуться, изумляясь, что она попала в точку. Действительно, в его комнате в отеле стояли две вазы с лилиями. Георгу очень хотелось рассказать ей об этом. Лина Эккель поняла бы его. Она считала такие истории совершенно нормальными и даже правильными. К сожалению, у нее ничего не держалось на языке, и уже на второй день об этом знал бы весь концерн.
— Я только что из клиники, — ответил Хойкен и был горд тем, что это почти правда. — Наверное, одежда пропахла цветами, которые стоят в комнате отца. Их там море.
Она пристально посмотрела на него и поверила. В один миг ее лицо приняло сочувствующее выражение.
— Боже мой, ну конечно! Извини. У тебя совсем другое на уме. Скажи, как дела у твоего отца? Когда я смогу снова пригласить его на переговоры?
Хойкен вздохнул. Ему было тяжело говорить о старике. Несколько дней Хойкен добивался, чтобы Лоеб разрешил забрать отца домой, но тот не соглашался. Профессор хотел перевести отца в реабилитационную клинику, но Георг был против. Отец должен быть в Мариенбурге, больше нигде. Георг обещал ему это.
— Если честно, Лина, — медленно сказал Хойкен, — я больше не верю, что отец вернется к прежней жизни. Он не хочет. Лежит на кровати тихо и отрешенно, дела концерна его не интересуют. Ему хочется домой. Иногда он рассказывает Лизель и мне странные истории, смысла которых мы не понимаем.
Обычно Лина отвечала сразу. В разговоре с ней пауз почти не было. Она хватала все на лету, но сейчас молчала, погрузившись в свои мысли.
— Он был самым лучшим собеседником, таких у меня больше не было. — Лина была расстроена. — Я говорила с ним не только об этих проклятых контрактах. Он был щедрым. В его присутствии жизнь казалась мне большим романом со множеством приключений и катастроф, которые благополучно кончаются прекрасными мгновениями, ради которых, в конечном счете, мы живем. Я всегда доверяла ему. Мы были не просто одной командой, мы были чем-то гораздо лучшим, неповторимым, вот что я тебе скажу.
Хойкен верил ей. Лине незачем было притворяться и врать. Почти десять лет они с отцом регулярно встречались. Рядом с ним она выглядела как дерзкая и веселая дочь, которой этот старый мужчина позволял говорить все. Наверное, они рассказывали друг другу вещи, о которых больше никто не знал.
— Я заберу его из больницы, — сказал Хойкен. — Отец не объект исследования для врачей. Они гордятся тем, что лечат такого известного человека, и мечтают об очередной операции. Когда старик окажется дома, ему сразу станет легче. Сейчас это для него важнее, чем все эти обследования и рекомендации по применению бесполезных лекарств.
— Я не понимаю, — отвечала Лина. — В последнее время он был в прекрасной форме, таким я давно его не видела. У него были грандиозные планы. Он все время говорил о большом проекте, я думаю, что у него была женщина, которая для него значила больше, чем все его предыдущие увлечения.
— Ты говорила с ним об этом?
— Конечно. «Ты меня не обманешь, — говорила я ему. — Влюбленного мужчину видно сразу».
— Ну? И что он ответил?
— Он засмеялся и попросил меня подождать открытия книжной ярмарки. «После книжной ярмарки ты узнаешь тайну, — сказал он. — До этого я ничего не скажу».
— Но ты же что-то подозревала?
— Конечно. Мне кажется, он хотел жениться. Он нашел женщину, которая, он был уверен, подходит ему. Он ничего от меня не скрывал, но это дело было для него таким важным, что никто не должен был о нем знать.
— Петер Файль говорил, что видел его с какой-то женщиной, которую, однако, не смог рассмотреть. Во всяком случае, она ему была не знакома.
— Черт побери, я бы все отдала, чтобы узнать, кто это. Неужели она ни разу не появилась в клинике, не навестила его? Ведь он собирался представить ее вам.
— Откуда ты знаешь, что он собирался это сделать?
— Он планировал отправиться с ней в путешествие и поделился со мной. Я ему открыто сказала, что знаю, что он едет со своей любимой.
— И что? Он признался?
— Да, признался, но сказал: «Лина, дело зашло слишком далеко. Давай больше не говорить об этом, иначе наша встреча будет последней».
— Значит, это было для него так серьезно? Но почему никому из детей он ничего не сказал?
— Я понимаю, почему он этого не сделал. Разве он должен был спрашивать вас, жениться ему или нет? Вы беспокоились о своем наследстве и стали бы отговаривать его от такого глупого шага в столь преклонном возрасте.
Георг разозлился. Вся эта история с отцом поворачивалась другой стороной, о существовании которой Хойкен не мог даже подумать. Отец и второй брак. Можно ли себе такое представить? Неужели именно эта связь дала ему силы для нового проекта? И любовь была причиной того, что он жил в отеле? Но почему эта женщина не показывается? Почему Хойкен ни разу не встретил ее в клинике? Она не хочет, чтобы ее узнали. Но почему? В конце концов, ей никто не сможет запретить быть любовницей Рейнхарда фон Хойкена.
— Я не понимаю, почему эта женщина прячется, — тихо сказал Хойкен. — Что скрывает? Если она хочет выйти за него замуж, то должна волноваться и появиться в больнице. Она должна быть возле него или связаться с кем-нибудь из нас.
— Наверное, она была в клинике, просто ты не знаешь.
— Нет, это невозможно. Лизель Бургер каждый день навещает отца. Она бы мне сообщила об этом.
Вот так. Отец всех обвел вокруг пальца. Не рассказал никому ни о своем книжном проекте, ни о своей любовной связи. Они встречались в концерне каждый день, но старик делал так, что кроме обычных дел они ни о чем не говорили.
— Что ты знала о книжном проекте, Лина? — спросил Хойкен.
— Я знала, что он задумал что-то грандиозное, потому что иногда приносил записки, из которых было видно, что это будет совершенно особенная серия книг, как-то связанная с Европой. Я его отговаривала. Я сказала ему, что он заблуждается насчет Европы, это никому не будет интересно.
— Но все-таки, — сказал Хойкен, — все-таки с тобой он об этом говорил, а со мной — нет. Между прочим, Кристоф, как и я, знает, что проект называется «Библиотека XXI столетия». Каждый месяц мы должны выпускать один том немецкого и один том другого европейского автора.
— Да, точно. Это была его идея. Как он до этого додумался? Ведь у него безупречный нюх относительно новых тем и направлений. Разве Европа может быть темой? Европа — это что-то рассеянное между Норвегией и Мальтой. Она ничего не выигрывает и ничего не проигрывает, у нее вообще нет никакого лица. Почему же твой отец считал, что в европейской литературе есть что почерпнуть?
— Ты видела его список первых книг? Тебе известно, с чего он хотел начать?
— Нет. Я знаю только, что он должен был начать с Кундеры. Он хотел во что бы то ни стало печатать Кундеру. Кундера должен был написать ему эссе о Европе, но он не соглашался. О Чехии — хорошо, о Франции — возможно, о Чехии и Франции — с удовольствием, но этого не хотел уже твой отец. Он хотел только что-нибудь о Европе.
Хойкена не покидало раздражение. Он не мог поверить, что так много от него скрывалось. Хоть нанимай детектива, чтобы прояснить ситуацию с таинственной женщиной. И что за бред с этим Кундерой? Кундера никогда не был связан с концерном. Почему отцу захотелось начать свою новую серию именно с него, ведь он с Кундерой даже не был лично знаком?
— Почему он думал именно о Кундере? Я не могу припомнить, чтобы отец когда-нибудь говорил о его книгах.
— К сожалению, это так. В последнее время он твердил о них без конца. Иногда мне казалось, что он помешался на этом Кундере. И именно сейчас, когда на него нет спроса! Только один аргумент был не в пользу Кундеры: он старше шестидесяти, и это все портило. Я сказала: «Нельзя начинать серию книг молодых авторов с книги писателя, которому уже семьдесят!» Старик еще немного сопротивлялся, говорил что-то об исключении из правил, но потом, слава богу, речь о Кундере больше не заходила… Однако давай больше не говорить о прошлом. Поговорим, в конце концов, о настоящем. Ты по телефону намекнул, что хочешь поддержать идею отца. Расскажи, как ты себе все представляешь.
Хойкен выложил на стол несколько листов, на которых изложил свою концепцию, и стал наблюдать, как Лина просматривает каждый пункт его плана, водя по нему карандашом. На столе, рядом с чашкой кофе и стаканом с минеральной водой, лежала толстая записная книжка, в которой Лина мелким почерком и делала свои заметки. Самое главное она всегда держала в голове. У нее была потрясающая память. Через многие годы Лина могла вспомнить тираж книги и сумму, которую на ней заработала. Она получала пятнадцать процентов от гонорара писателя. Это было очень много, и все же ее авторы не оставались внакладе.
— Ну, что ты на это скажешь? — спросил Хойкен и сделал глоток минеральной воды.
— Скажу, что твоя концепция лучше, чем концепция твоего отца. Мысль о том, чтобы два автора — немецкий и зарубежный — писали на одну и ту же тему, очень оригинальна. Но акцент делается не на европейской литературе, а на содержании и форме произведения разных авторов. Мне также нравятся сами темы: «Моя страна», «Музыка, которую я слушаю», «Что мы едим и пьем дома»… Если для этих тем ты найдешь авторов, успешно работающих в жанре эссе, то в целом получится замечательная серия.
Хойкен тоже так думал. Каркас серии — великолепные эссе, каждая пара — на одну тему, потом — романы, рассказы, лирика, умело связанные между собой. Он только немного изменил концепцию отца, но эти изменения заметно улучшили ее. Хойкен был доволен тем, что Лина заметила и оценила его вариации. Он очень ценил ее мнение.
— Ну, теперь мне спокойнее, — сказал он. — Давай посмотрим, о каких авторах думала ты.
Лина не заставила себя долго просить. Она достала списки и протянула их Хойкену через стол. Он читал, а она называла имена авторов и предполагаемую прибыль от продажи их произведений.
— Брунштеттер, ему скоро пятьдесят. Его последний роман не стал популярным, я посоветовала ему писать о том, в чем он разбирается. Коррупция, экономические преступления — он прекрасно ориентируется в таких вопросах. Он обещал, что через год его новый роман будет готов, и слово свое сдержит. Двадцать тысяч аванса. Раньше тираж его романов составлял десять тысяч, так что ты ничем не рискуешь.
Фабрицио Нерва, тридцать пять лет, а уже звезда. Популярный детский итальянский писатель. Живет в Риме, в Германии о нем знают мало. Его первый роман просто великолепен. Путешествие слепого мальчика, который спрятался на морском корабле. Ты получаешь права за сто тысяч. В Италии тираж его книг составляет миллион. Здесь должен поработать отдел рекламы. Устрой ему творческие встречи в крупных городах Германии. Уже одни его черные кудри и отлично сидящий костюм соберут полные залы.
Соня Венне, двадцать восемь лет. Дебютантка. У нее роман с этим тощим дятлом, который руководит литературной редакцией Юго-западного телеканала. Сейчас готовится ее выступление на телевидении. Она очень телегенична, половину фильма показывают ее лицо крупным планом. Ее книга не представляет ничего особенного — двенадцать рассказов о том о сем, ее маме, ее брате, ее собаке и о ее детстве. Десять тысяч аванса. Ты увидишь, что она добьется успеха.
Хойкен подумал, что отцу нравился голос Лины и то, что она очень редко ошибалась. Ее работа наполовину состояла из общения. Кроме того, у Лины на все был готов ответ. Хойкен мог бы поспорить, что она советует молодым писательницам, какие шмотки надевать, когда идешь на творческие встречи. Для молодых девушек она была кем-то вроде строгой матери, для юнцов — неприступной наставницей с плеткой, которую пускала в ход, если рукопись не была готова к сроку. «Я люблю профессиональных авторов», — сердито говорила Лина, сталкиваясь с зеленой молодежью, которая ссылается на свои проблемы. Многие авторы не выдерживали ее насмешек и меняли себе агента. «Да ну их, — говорила Лина. — Я работаю только с теми, кто ценит свои деньги».
— Как идут дела? — спросил Хойкен, когда они проработали весь список.
— Неплохо, — отвечала Лина. — Легче всего заработать на биографиях, экскурсах в историю и научно-популярных книгах. Раньше никто этим не интересовался, а сейчас каждый третий хочет знать о вандалах или брачном ритуале неандертальцев. Думаю, это инфантильность, но пока я могу на этом заработать, мое мнение останется при мне.
Хорошо было бы поговорить с Линой о чем-нибудь еще, кроме работы. Но такого одолжения она ему не сделает, слишком мало они знают друг друга. Как проводят свои вечера и ночи такие, как она? Может быть, Лина подсчитывает дневную выручку и делит ее на число сотрудников, а потом прикидывает дивиденды от всех своих сделок? Она ни разу не поужинала с ним, потому что держала дистанцию, и лишь позволяла угостить ее кофе или минеральной водой. Она всегда приглашала отца пообедать, и это говорило о том, насколько доверительными были их отношения. Их дружба длилась десять лет. С Георгом Лина начала с того, что подсунула Соню Венне и Фабрицио Нерву. Жирные куски она предоставит ему только после более длительного знакомства.
— Мне кажется, мы все просмотрели, — решительно сказала Лина, собирая со стола свои вещи.
— Давай выпьем за наши первые контракты, — осторожно предложил Хойкен.
Лина посмотрела на него. Наверняка она уже прикинула общую сумму авансов, которые сдерет с него.
— В обед я не пью, — ответила Лина, запихивая вещи в сумку.
— Ну, тогда я выпью один за удачу, — сказал Хойкен и сделал знак официантке.
Ее движения стали медленнее, теперь Лина внимательно смотрела на него. Хойкен понял, что в ее голове мелькнула общая сумма — словно загорелись цифры денежного выигрыша в игровом автомате.
— Один бокал шампанского, — согласилась она. — Но только один.
— Два бокала шампанского, — сказал Хойкен, когда официантка подошла к столику.
— Кроме твоего отца, ты единственный, с кем я позволила себе так забыться, — сказала Лина.
— Я знаю и ценю это, — ответил Хойкен. — Сколько я тебе должен за наш разговор?
— Почти четыреста тысяч, — ухмыльнулась она.
— Ага, понимаю, — сказал он. — Бокал шампанского ты выпьешь со мной только в крайнем случае, если после всего получишь четыреста тысяч, я правильно понял?
— Ты осел, — рассмеялась Лина.
— За нашу дружбу, — ответил Хойкен и сменил тему.
Этот ясный осенний день, предстоящая книжная ярмарка, свободная неделя после ее окончания, когда он сможет махнуть куда-нибудь на юг… О Венеции он Яне не говорил. Он сам еще не решил, что лучше — Венеция или локанда Киприани. Конечно, если будет хорошая погода. А если пойдут затяжные дожди, он будет сидеть в роскошных комнатах у камина и элегантно скучать.
Когда принесли шампанское, они чокнулись. Лина осушила свой бокал одним махом, как будто выполняя обязанность, а затем встала и попрощалась. Хойкен смотрел ей вслед. Быстро семеня, она исчезла в толпе. На минуту он засомневался, не обманула ли она его? Лина и отец были вместе очень часто. Могла ли эта связь быть большей? Большей, чем просто отношения отца и дочери? Нет, Хойкен не мог в это поверить. Это исключено. Лина просто не могла бы солгать ему. Она, конечно, хитрая. Но она хорошо разбирается в своем деле и дорожит независимостью. Теперь идея его проекта нашла свое воплощение. Темы, авторы — все обрело конкретные формы. Через несколько дней Хойкен закончит планирование и сможет отослать Урсуле свою концепцию, которая наверняка произведет на нее впечатление.
8
Когда Яна ушла, Хойкен заказал себе вторую чашку кофе и газеты, которые ему тут же принесли. Картины прошедшей ночи еще стояли у него перед глазами, и ему нужно было время, чтобы переключиться на события предстоящего дня. За окном на площади тусклый рассвет окутывал темную массу собора. Аромат крепкого кофе и опьяняющий запах лилий заполнили всю комнату. Больше всего Хойкену хотелось снова вдыхать этот запах, он никак не мог насытиться им. С тех пор как они сблизились, Яна изо дня в день становилась все искреннее. Когда-то она мечтала иметь свою собственную галерею и уже собиралась открыть ее, но вдруг получила предложение работать секретаршей. Ее увлечение старинной музыкой поначалу было непонятно Георгу, однако скоро он понял, что эта музыка является полной противоположностью ее интереса к современному искусству. Музыка — это тишина и покой, а искусство — движение и динамизм. Каким-то непостижимым образом эти два мира жили в Яне одновременно. Частица ее души тянулась к спокойной элегийности голоса Магдалены Кожены, и что-то совершенно другое заставляло ее жить суматохой современной жизни и быть в курсе самых последних новостей.
Он допил кофе. Пора отправляться в офис. Ему захотелось позвонить домой, в Мариенбург, куда он вчера вечером перевез отца. Лоеб сопротивлялся до последнего, говорил об ответственности, которую Георг берет на себя, но Хойкен стоял на своем, потому что отец ни о чем другом не мечтал, как о выписке из клиники.
Трубку взяла Лизель Бургер. Сейчас, когда старик снова был дома, ее голос, как и раньше, звучал спокойно и бодро. Когда Хойкен учился в США, он звонил в Мариенбург и часто попадал на Лизель. Потом он долго не мог унять в себе тоску, которую вызывал в нем ее голос. Тоску по ее кухне, по саду, по тишине большой прихожей, в которой было слышно только тиканье напольных часов.
— Лизель, это я, Георг. Как отец? Что он делает? Как провел ночь?
— Хорошо, Георг. В его положении даже очень хорошо. Он просидел весь вечер со мной на кухне, и мы просто болтали. Я считаю, он выглядит гораздо лучше, чем в клинике. Он даже поднялся по ступенькам наверх, в спальню, без посторонней помощи. Сейчас он сидит там в своем халате и читает газеты. Ты не поверишь, он читает их в первый раз с тех пор, как с ним случился инфаркт. Я каждый день приносила ему в больницу газеты, но он к ним не прикасался.
— Я очень рад. Нужно было давно забрать его из клиники.
— Конечно. Просто приди и посмотри. Ты будешь потрясен. Я точно знаю, что ему хорошо. Мы поставим его на ноги.
— Прекрасно, Лизель. Ты меня успокоила. Сейчас я еду в офис, а днем заеду к вам. Если отцу станет хуже, звони мне сразу.
— О чем ты говоришь? Все будет в порядке.
— Ну, хорошо, Лизель. Увидимся. Я сегодня заеду.
Когда Хойкен вышел из номера и начал спускаться по ступенькам, у него вдруг появилось чувство, будто кто-то со страшной силой отматывает время назад. Отец дома и скоро будет здоров, и Secondo каждый день возит его в концерн. Хойкен собирает чемодан, уезжает из отеля и возвращается в Роденкирхен. Руководство концерном, европейская библиотека — все это мираж. Отец объяснит ему, что ханггартнеровские записки — это записки, а не мемуары. Думал ли Георг, что так быстро разрушится все, что он создал за последние недели? Странно только, что он не пытается сопротивляться. Ему кажется даже, что все правильно. Он возвращает все назад, как будто взял на себя слишком много или присвоил себе роль, которая ему не предназначалась.
С такими мрачными мыслями Хойкен не мог работать. Что ему делать в концерне, когда перед глазами стоит его отец, который вновь читает газеты? Внизу, возле выхода из отеля, Хойкен встретил Макса, он разговаривал с клиентом. Сгоряча Георг чуть не объявил ему, что освобождает номер. Цветы, книги — вон. Номеру вернут его прежний скромный вид.
В горле пересохло, он так разволновался, что ему лучше уйти побыстрее. Бар только что открылся. Старый бармен помахал ему рукой. После недолгих колебаний Хойкен занял место за столиком. Он был в полном замешательстве. Он не мог решить, что ему делать дальше. Георг заказал стакан минеральной воды и залпом выпил. Его сердце колотилось, кончики пальцев стали влажными и холодными. Он посидел так несколько минут, словно поджидал знакомого, а потом позвонил Яне и сказал, что задерживается. Теперь он знал, чего хочет. Хойкен хотел этого с тех пор, как позвонил Лизель. Он поедет сейчас в родной дом, в котором снова живет его отец.
Через двадцать минут он был уже в Мариенбурге. Увидев его, Лизель нисколько не удивилась. Услышав, как подъехала его машина, женщина сразу вышла ему навстречу. Она обняла его так крепко, как будто они вместе совершили что-то великое и победили темные силы.
— Я знала, что ты приедешь, — прошептала она. — Я только что сказала отцу, что ты едешь сюда, чтобы его проведать.
— Он все еще сидит наверху, в своей комнате? — спросил Хойкен.
— Да, он сидит наверху, — ответила Лизель. — Иди же туда!
Мальчишкой он никогда не входил к отцу сразу, с улицы. Сначала нужно было умыться, причесаться и, конечно, спросить разрешения у мамы или Лизель. Хойкен не думал, что все для него повторится снова. Перед глазами до сих пор были голые ноги отца под покрывалом, такие неподвижные, что, казалось, они уже не будут двигаться никогда.
Он медленно поднялся по ступенькам в коридор и увидел туфли отца. Старик никогда не ходил в комнате обутым.
— Ну, заходи же! — вдруг услышал Хойкен. На мгновение его пальцы снова похолодели.
— Ну заходи, наконец! — крикнул отец. Хойкен еще раз внимательно посмотрел на туфли и вошел в комнату. В детстве он всегда оставался стоять у порога, стараясь понять, есть ли у отца время. Если тот стоял спиной к двери или сидел за письменным столом, значит, он был занят. Если же он смотрел прямо на вошедшего, можно было проходить дальше и садиться на кровать. Это была особая привилегия — сидеть на его кровати, на гладком, прохладном, тяжелом покрывале. Иногда отец подходил и тоже садился рядом. Хойкен рассказывал что-нибудь смешное или придумывал какую-нибудь историю, которую отец готов был слушать бесконечно, не обращая внимания на то, что уже поздно.
Отец на самом деле выглядел неплохо. Он сидел в своем пестром шелковом халате в старом кожаном кресле, которое раньше стояло в маминой спальне. Его волосы были растрепаны, а на носу висели очки, которые Хойкену не нравились. Руки старика немного дрожали, Георг заметил это по тому, как вздрагивала газета. Отец очень постарел за последнее время. Лицо бледно-желтое и кости все еще проступают, как было сразу после инфаркта. Однако сейчас это лицо ожило, в глазах появился блеск. Старик смотрел на сына ясным и осмысленным взглядом.
— Ну, наконец-то ты здесь, — улыбнулся отец. — Садись на стульчик у стола или на кровать!
Хойкен узнал его прежний стиль: или-или, третьего не дано, и ты сам не имеешь права предложить что-то свое. Он подошел к письменному столу, сел на маленький стул и сказал, пытаясь придать своему голосу бодрый тон:
— Я рад видеть тебя дома!
— Спасибо, Георг. Ты сделал доброе дело, освободив отца от этого идиота, который еще долго хотел держать меня в своих когтях.
— Лоеб — идиот? Раньше ты называл его своим хорошим другом.
— Раньше! Раньше Лоеб обследовал меня один раз в год и поздравлял с тем, как прекрасно работает мой организм. Он был не моим врачом, а моим автором. Он сотрудничал и дружил со мной как автор. Ты и сам знаешь, что его книги имели большой успех.
— Знаю и догадываюсь, что ты уговариваешь его написать еще одну книгу.
— Я?! Уговариваю его?! Я больше никого не буду уговаривать написать для нас книгу, ни одного человека. Это все в прошлом, Георг, в прошлом! В этой проклятой клинике я пообещал себе никогда не думать о новых программах и книгах.
— Ты это серьезно? Ты на самом деле думаешь, что сможешь обойтись без своей прежней бурной творческой жизни?
— Я в этом абсолютно уверен. Я больше не буду заниматься изданием книг. Это для меня слишком неспокойное занятие.
Хойкен заметил, что лицо старика снова выражает его чувства. Отец поднял брови, показывая этим важность своих слов, но потом сразу стал задумчивым, как будто и сам не очень верил в свое бахвальство. Люди, которые видели его впервые, часто не знали, как он будет вести себя дальше. Хойкен подумал, что ему тоже придется привыкать к этим контрастным «ваннам».
— В твое отсутствие нам довелось столкнуться с тем напряжением и заботами, которыми ты был занят в концерне, — произнес Хойкен. — Мы хорошо с ними справились, но это было нелегко.
— Это было нелегко, потому что я вам все усложнил — это ты хотел сказать?
— Да, именно это я хотел сказать.
Отец отложил газету, снял очки и опустил руки на колени. Впервые после инфаркта Хойкен осмелился разговаривать с ним о концерне. Может быть, это неправильно, может быть, нужно было подождать пару дней, но он не мог больше ждать. Он хотел знать, как отец представляет себе будущее.
— Я хочу пить, — сказал старик. — Принеси мне стакан воды, и мы продолжим наш разговор.
— Сейчас, — ответил Хойкен. — Но сначала нам нужно выяснить, можно ли тебе говорить о делах.
— Лоеб, мой милый, здесь ничего не может мне запретить. В клинике рядом со мной всегда находились медики, которые пресекали любые разговоры, которые касались концерна. Но сейчас мы можем говорить свободно. Какая роскошь!
Да, в больнице говорить о концерне было невозможно. Ведь отец был такой слабый, к тому же он сам не хотел затрагивать эту тему. Однако Хойкен был уверен, что большую часть времени, проведенного в клинике, отец занимался тем, что обдумывал будущее концерна. Размышляя об этом, Георг пошел на кухню. Все в доме теперь выглядело совсем не так, как несколько дней назад. В большой прихожей разложены чемодан и сумки. На кухне Лизель готовила обед. Одна кастрюля уже стояла на плите, на большом столе лежала горка мелко нарезанных овощей. Во дворе трудились сербы-садовники, возле машины хлопотал Secondo. Он носил ящики с минеральной водой и фруктовыми соками в подвал.
— Что ты готовишь, Лизель? — спросил Хойкен.
— Он захотел гуляш из дичи, — ответила Лизель. — Гуляш из дичи, домашнюю лапшу и бокал красного вина.
— Красное вино? Думаю, профессор это не разрешил бы.
— Кого интересует, что позволит нам господин Лоеб? — сказала Лизель и продолжала хлопотать, не поднимая голову от стола. Хойкен заметил, что здесь по-прежнему никто не осмеливается противоречить отцу. Все, что он сказал, исполняется без «если» и «но». Если вдруг он захочет бифштекс из кенгуру, Лизель обойдет полгорода, чтобы раздобыть все это.
Хойкен принес стакан воды и увидел, как отец использовал короткую передышку. Старик стоял у открытого окна и держал в руке зажженную сигару.
— Ты куришь! Так не пойдет! — возмутился Хойкен и поставил стакан с водой на маленький стол возле кресла.
— Я курю, пью, и мир пока не рухнул, — отвечал ему отец. — Давай не затевать бесполезных дебатов, лучше поговорим. Прежде всего — Ханггартнер. Его роман в печати? Вы уложитесь в срок?
— Экземпляр для чтения выйдет вовремя, — сказал Хойкен. — Ханггартнер сначала немного пококетничал, но потом мы с ним договорились, и он привез свою рукопись. Кроме этого, он нам подкинул новый проект, Байерман как раз над ним работает.
— Ну, это уже меня не касается. Я занимался новым романом Ханггартнера. Все, что будет после, — это ваше дело.
— Чье дело? — спросил Хойкен, замечая, что его голос стал резким. — Не хочешь ли ты сказать, что утвердил своего преемника?
— Нет, и это была моя ошибка. Теперь я могу в этом признаться.
— Точно, — сказал Хойкен. — Это же говорят все, с кем ты общался на досуге.
— Кого ты имеешь в виду? Кто это говорит?
— Петер Файль, Лина Эккель, тайный друг, который сопровождал тебя, когда ты жил в отеле «Соборный».
— А, вот ты о чем! Но это не было тайной, просто я не со всеми об этом говорил.
— Далеко не со всеми. Со мной, например, не говорил.
— Ты, наверное, был удивлен, когда узнал? Ну-ка, расскажи, как все происходило. Думаю, что ты основательно покопался в этом деле, это на тебя похоже.
— Если ты думаешь, что я вынюхивал что-то из любопытства, то ошибаешься. Просто я хотел выяснить, почему ты снял этот номер и что там происходило.
— И?.. Ты докопался?
— Думаю, да. Думаю, что тихая жизнь здесь, в Мариенбурге угнетала тебя. И еще — я предполагаю, что у тебя была женщина, с которой ты часто встречался, но пока не собирался жениться на ней.
— В десятку! Я не предполагал, что ты доберешься до сути вещей. Лина разболтала, я угадал?
— Лина намекала, и Петер Файль видел тебя в сопровождении какой-то женщины.
— Ага, Петер Файль! Ну, тогда ты знаешь, кто это.
— Нет, не знаю. Файль не знал ее, и Лина тоже.
— Ты не знаешь, кто?! Ну, тогда тебе придется потрудиться, чтобы это узнать. Я, во всяком случае, ничего тебе не скажу!
— Отец, что за ребячество! Когда-нибудь я, так или иначе, это узнаю.
— Конечно, ты прав. Но сейчас мне нравится держать вас в неизвестности. Вы узнаете все после книжной ярмарки.
— Лина утверждает, что ты со своей новой пассией собирался отправиться в путешествие.
— Да, собирался, и если мое выздоровление будет продвигаться так же успешно, как сейчас, я обязательно так и сделаю.
— Почему ты упомянул книжную ярмарку? Что с ней связано?
— На книжной ярмарке я представлю всем моего наследника и нового руководителя концерна.
Хойкен отошел от столика и сел на кровать отца. Что это значит? Неужели отец уже принял решение?
— Отец… — Георг пытался выглядеть спокойным. — Ты должен знать, что мы с братом и сестрой уже обсудили твое условие. Урсула рассказала нам о твоем завещании. Мы должны были представить собственные наброски твоего нового книжного проекта. Мой план готов, думаю, что Кристоф уже передал Урсуле свой. Она должна решать. Ты же сам сказал об этом в своем завещании. Все остается в силе или ты хочешь снова нарушить наши договоренности?
У Хойкена было такое чувство, словно он попал в темную пустую комнату. Ему нужно встать, но он так устал. Последние недели потребовали от него столько энергии. Только сейчас Георг понял, как много душевных и физических сил он потратил в борьбе за право быть наследником. Он уперся обеими руками в кровать и хотел встать, но отец опередил его. Он подошел к окну ближе, чтобы дым от сигары выходил наружу.
— Лизель очарована этим садом, — тихо сказал старик. — А ведь мы не слишком изощрялись, когда занимались его планировкой. Господин Фабер сделал маленький эскиз, где указал место расположения газонов, кустов и деревьев. Его единственной оригинальной идеей был пруд с каналом. Сегодня становится понятно, чем хороша такая простая планировка. Как красиво смотрятся эти широкие, ничем не загороженные газоны, ты не находишь?
— Да, последнее время я часто любовался нашим садом. Он действительно стал великолепным.
— Ты стал бывать здесь чаще, не так ли? Лизель мне рассказывала.
— Да, я был здесь несколько раз…
— И что ты чувствовал при этом?
— Я вспоминал свое детство.
— Правда? Ты думал о детстве? О тех прекрасных временах, когда здесь еще жила мама?
— О тех прекрасных временах, когда мы все были вместе, с мамой и с тобой, отец.
— Со мной?! Я был плохим отцом, вы меня почти не видели. Этот дом держался на вашей маме. Кстати, ты был еще маленьким, а она уже тогда говорила, что хочет, чтобы ты был моим наследником. Ты наверняка читал ее предложения по завещанию.
— Да, я нашел эти предложения в ящике ее письменного стола.
— И наверняка рассказал об этом Урсуле и Кристофу.
— Нет. Об этом я умолчал, потому что ты проигнорировал мамины предложения. Сейчас, когда они не имеют для нас никакого значения, Урсула и Кристоф не обрадуются, если узнают, что мама написала в своем последнем письме.
— Георг, подойди, пожалуйста, сюда.
Что он задумал? Хойкен встал с кровати и подошел к отцу. Они стояли рядом и молча любовались садом.
— Прости меня, Георг, — тихо сказал старый Хойкен. — Я должен был составить завещание с учетом маминых предложений. В сущности, я и сам хотел того же, что она. Но я был так упрям, я не хотел соглашаться с ее желанием. Только в больнице я понял, как глупо составил свое завещание. Теперь, к сожалению, поздно. Последнее слово за Урсулой, и я прошу, чтобы ты согласился с ее решением, хотя ты должен был быть наследником, как самый старший.
Голос старика звучал глухо. Георгу показалось, что они с отцом снова гуляют по Южному парку. Собака бежит впереди, лает и резвится в кустах. Отец идет молча, лишь изредка что-нибудь скажет. Птичий щебет среди деревьев становится все тише, и постепенно темнеет.
— Урсула сказала, что ты принял такое решение, потому что не хотел обойти Кристофа.
— Да, но это не совсем так. Все дело в тех письмах, которые твоя мать получала от наших авторов. Ты их, наверное, видел. Долгое время я ничего не знал о переписке, которую она вела за моей спиной. Когда я случайно узнал об этом, мы страшно поссорились, и это побудило нас расстаться.
— Но почему? Неужели ты не понимал, как мама помогала тебе этими письмами? Она сглаживала конфликты с твоими лучшими авторами и больше, чем кто-либо другой, заботилась о том, чтобы они были верны издательству.
— Да, это была ее заслуга. Но тогда мой гнев не позволил мне это понять. Тайная переписка глубоко оскорбила меня. Я был слишком горд, чтобы признать то, что сделала для концерна моя супруга. После ее смерти я долго считал себя обманутым и не мог признать ее идеи и предложения. Через несколько лет после нашего развода мы снова стали общаться, но только в письмах. Мама писала мне прекрасные послания, должен тебе сказать. Я хочу, чтобы после моей смерти ты их сохранил. Ты позаботишься о том, чтобы они не попали в чужие руки.
— А что будет с теми письмами, которые мама получала от твоих авторов?
— Они у тебя?
— Да, я взял их себе и прочитал.
— Они принадлежат тебе. Я не хочу, чтобы они находились в этом доме. Слишком тяжелые воспоминания с ними связаны.
— Георг! — позвала Лизель из прихожей. Хойкен вышел из комнаты и подошел к лестнице.
— Что такое, Лизель?
— Подойди к телефону, Урсула хочет поговорить с тобой.
— Сейчас спущусь.
Георг сбежал по ступенькам вниз и взял у Лизель трубку. Женщина улыбалась при этом. Хойкен понял, как хорошо ей сейчас, когда в доме есть два человека, для которых можно готовить и о которых можно заботиться. Он услышал голос Урсулы и постарался собраться с мыслями.
— Георг, это ты?
— Да, Урсула.
— Георг, это правда? Отец действительно со вчерашнего дня дома?
— Да, я говорил с ним сейчас, ему значительно лучше.
— Тогда я завтра приеду в Кёльн.
— Приезжай, он будет очень рад. Ты знаешь, когда прибывает твой поезд?
— Я буду там в начале одиннадцатого.
— Очень хорошо. Я встречу тебя на вокзале, и мы прогуляемся перед тем, как поехать в Мариенбург.
— Хорошо. До завтра. Встретимся после десяти.
Хойкен окончил разговор и пошел на кухню, чтобы вернуть трубку Лизель. Мелко нарезанные овощи уже давно перекочевали со стола в кастрюлю, в которой тушился гуляш. Хойкен взял маленькую ложку и откусил кусочек мяса. Уже много лет он не пробовал этого блюда. Гуляш — это еда его детства, с лапшой или с белым рассыпчатым рисом.
— На вкус — просто великолепно, Лизель. Я с удовольствием пообедал бы с вами вместе.
— Так оставайся, здесь хватит на троих.
— Я бы с радостью, но, к сожалению, мне нужно ехать в издательство.
— Издательство, издательство… вот так же раньше говорил и твой отец. Теперь-то он стал умнее, и у него есть время.
Хойкен обнял и поцеловал Лизель в щеку, а потом пошел попрощаться с отцом. В спальне никого не было, но окно широко распахнуто, чтобы комната проветрилась от дыма сигары. Где же отец? На кровати его тоже не было. Хойкен подошел к окну и выглянул в сад. Старик шел вдоль газона. Он был в том же шелковом халате, но теперь его шея была укутана красным шерстяным шарфом, который старик часто носил в ненастную погоду. Садовники узнали хозяина и шли навстречу ему. Он помахал им рукой, и вскоре они все вместе обсуждали следующий этап работы. Отец держал сигару в руке и был очень похож на импресарио маленького театра, не хватало только какой-то мелочи. Хойкен сразу не понял, какой именно, и только взглянув на ноги старика, догадался. Отец был без носков. Голое тело виднелось из старых черных туфель. Из туфель, о которых он мечтал всю прошлую неделю.
9
На следующее утро Хойкен вышел из отеля в девять часов. Урсула позвонила и сообщила, что ее поезд снова опаздывает. Георг хотел поехать на вокзал другой дорогой, но потом стал размышлять о своих планах относительно книги о соборе. Эту идею он хотел обсудить сегодня в полдень с Петером Файлем. Хойкен давно уже собирался пойти в собор, а теперь у него есть хороший повод. Итак — вперед!
Он вошел во вращающиеся стеклянные двери у правого портала и остановился. Здесь было прохладно и темно. Глаза не сразу привыкли к сумраку. Холод всегда вызывал у него легкую дрожь в теле. Ребенком он спасался от него, пробегая по боковому нефу. Хойкен прищурился, стараясь разглядеть золотую раку с мощами трех святых королей, которая стояла в своем стеклянном футляре в центре огромного помещения. Собственно, из-за этой раки и был построен весь Собор. В течение многих веков он был могучим экономическим и духовным центром города. Сюда приезжали паломники со всего света. Вряд ли сейчас кто-нибудь помнит легенду о драгоценном ларце. Посетители слушают рассказ экскурсовода, но это им ни о чем не говорит. Как будто не было двух тысяч лет развития культуры и религии. Сегодня люди несутся с пакетами «McDonald’s» и запихивают в себя картофель фри, ступая в своих кроссовках «Nike» в совершенно чуждый им мир. Однако что это он так разволновался? Ведь он сам давно, с самого детства, не молится регулярно и посещает церковные службы только по большим праздникам. Раньше они все вместе — родители, его брат и сестра — почти каждое воскресенье ходили в собор. Он хорошо помнил древнюю, трудную для понимания латынь, легкий дым вокруг алтаря и вечные «назад» и «вперед», «встать» и «на колени». Ребенком он боялся потеряться в огромном храме среди множества людей, поэтому не отходил от своих родных. Отец всегда целеустремленно направлялся к нужному ряду и после службы шел в Мариенкапеллу, чтобы зажечь свечу перед большой иконой патрона Кёльна работы Стефана Лохнера.
Хойкен видел, как на скамейке у входа собирались первые группы туристов. Вдруг его потянуло к средокрестию. Георг хотел как можно скорее пройти темный продольный неф. Он смотрел на колонны и видел, что возле каждой из них на маленькой консоли стоит фигура под готическим балдахином. Все эти скульптуры обязательно будут помещены в его книге о соборе, над которой уже работает Петер Файль. Одно издание — для взрослых, а другое — для детей, оформленное в виде игры, участники которой отправляются по собору на поиски деталей оформления и убранства.
Большую главу они посвятят иконе работы Лохнера «Поклонение волхвов». Хойкен подошел к средокрестию и вошел в капеллу мимо открытой решетки. Святая Мария сидела на троне и держала младенца-Христа на коленях. На ней была простая голубая накидка, а возле нее стояли два святых короля, закутанные в тяжелые парчовые мантии. Где третий король и какие дары они принесли? Слева стояла святая Урсула со своими спутницами, а справа — святой Гереон в блестящих золотых доспехах. Отец всегда путал его со святым Георгом. Благодаря этому Хойкен и получил свое имя. Кристофа назвали в честь святого Христофора, чья могучая фигура из камня с Иисусом-отроком на плечах нравилась отцу больше всех других скульптур в соборе.
Нужно ли ему зажечь свечу? Да, почему бы нет? Раньше со всем этим связывались их надежды и чаяния. Самой красивой церемонией была торжественная месса, когда министрант нес большую свечу. Кристоф и Георг были министрантами несколько раз. «Это научит их ходить прямо и не горбиться», — говорил отец. Настоящих восковых свечей сейчас почти не делают, вместо них предлагают маленькие свечки в пластиковых стаканчиках, которые больше подошли бы для чайной церемонии. Хойкен зажег одну, затем повернулся и подошел к раке с мощами, чтобы лучше рассмотреть ее. Рака была самой большой драгоценностью, которую он видел в детстве. Взрослые говорили, что это огромная святыня. Думая об этом, Хойкен сразу вспоминал слова «золотой топаз». Так в храме называли раку — прекрасную и таинственную. Мальчишкой он ждал, когда солнечные лучи проникнут через высокие церковные окна и упадут на сокровищницу. Она вспыхнет и засияет ярко-ярко, и тогда все поверят, что Святой Дух находится в золотом топазе и появляется в виде огня.
Хойкен прошел еще одну капеллу, перекрестился и вышел из собора через северный выход. По ступенькам он быстро спустился к железнодорожному вокзалу и решил посидеть в кафе, дожидаясь приезда Урсулы. Окружающий мир и внутренний мир собора уже не были связаны между собой. В соборе царили покой и умиротворение, в то время как снаружи каждую секунду нужно было реагировать на что-нибудь новое и всего бояться. Песни Магдалены Кожены были наполнены духом собора, ария «Наслаждалась покоем» точно характеризовала внутреннее настроение Хойкена. Ему, как и большинству людей, хотелось поскорее выйти из собора и оказаться в привычном мире. Для многих площадь более интересна, чем сам собор, поскольку точнее отражает их внутренний мир — сплошная серость без кусочка зелени. Не на что смотреть, никаких взлетов души — просто плоскость, по которой снуют несколько танцоров, певцов и скейтбордистов.
Немного позже Хойкен стоял на платформе и выглядывал поезд, на котором должна была прибыть Урсула. Сестра наверняка будет завтракать, поэтому Хойкен стоял там, где мог остановиться вагон-ресторан. Когда поезд подъехал и двери открылись, Георг увидел, что его расчеты оправдались: Урсула вышла именно оттуда. В руках у нее была коричневая кожаная сумка. Вместо накидки сестра надела сегодня синий костюм — пиджак и юбку. В первый момент Хойкен остолбенел, потому что в этом наряде она выглядела моложе и производила впечатление женщины, которая способна управлять большой фирмой или другим солидным предприятием. Зная, что сначала Урсула очень немногословна и сдержанна, Хойкен сам принялся рассказывать ей о том, что ходил в собор. На сей раз сестра не была пассивной, а, наоборот, стала задавать вопросы и сразу включилась в разговор. Внизу, возле камеры хранения, куда Урсула сдала свою сумку, она вспомнила, что золотой топаз трех королей — она могла поклясться — находится на самой крышке раки, тогда как Хойкен был уверен, что драгоценный камень прикреплен в центре боковой стенки, где были звезды.
Они вышли из здания вокзала и направились мимо музея Людвига к Рейну. Хойкен рассказал о своем вчерашнем визите в Мариенбург, о гуляше из дичи, который готовила Лизель, и о прогулке отца по саду. Ему нравилось то, что до сих пор он никому об этом не говорил, даже Яне — он только упомянул об этом сегодня утром, не вдаваясь в подробности. Сотрудники концерна были уверены, что старый Хойкен до сих пор находится в больнице. Георг еще не решил, как ему преподнести эту новость своим коллегам, чтобы они не подумали, что отец скоро вернется на верхний этаж концерна и будет возглавлять его как прежде.
— Ты твердо уверен, что он не появится снова в своем кабинете? — спросила Урсула.
— Он не появится. Дни, проведенные в клинике, были для него шоком. Отец хотел только одного — попасть домой. Но сейчас, когда он действительно вернулся в свой дом, он хочет освободиться от ненужных забот. Руководить концерном означало бы для старика подписать себе смертный приговор. У меня такое чувство, что он хочет совсем отойти от дел. Он все время говорит о том, что после книжной ярмарки назовет имя наследника. Если он выздоровеет, то сразу после этого отправится в путешествие.
— В путешествие? Куда?
— Это тайна. Он не хочет раскрывать ее до срока. Когда отец говорил об этом, у меня создалось впечатление, что он хочет не просто куда-то уехать, а вообще исчезнуть.
— Ты думаешь, он хочет уехать надолго?
— Наверное, будущую зиму он проведет где-нибудь на юге.
— Но как он поедет? Мы не можем отпустить его одного.
— А он и не поедет один. Он познакомился с женщиной, и она будет его сопровождать.
Они стояли на берегу Рейна, у пристани. Сюда приплывали белые корабли, на которых они в детстве плавали вверх по реке до Кобленца и Майнца. Урсула, казалось, ничего не знала о новом увлечении отца. Хойкен сделал такой вывод, потому что сестра долго и задумчиво смотрела на реку.
— Что это за женщина? — спросила она после паузы.
— Никто не знает. Отец познакомился с ней перед тем, как с ним случился приступ. Лина Эккель подозревает, что это серьезная связь, которая может привести к браку. Но это только предположения.
— Как давно тебе об этом известно?
— Я узнал об этом недавно и думаю, что мы должны действовать.
— Ты имеешь в виду то, что нам нужно объединиться в борьбе за наследство?
— Объединиться? Об объединении не может быть речи. Ты должна решить, кто будет наследником.
— Я уже решила.
— Уже? Ну, тогда я весь внимание. И кого же ты выдвинула?
— Сейчас я поеду в Мариенбург и скажу отцу, за какой проект проголосовала, чтобы мы могли сделать заявление во время проведения книжной ярмарки.
— Погоди минутку, — сказал Хойкен. — Перед тем как ты поедешь к отцу, я хочу тебе рассказать еще кое-что. Давай пройдемся немного вдоль берега.
Видя, что Урсула остановилась в нерешительности, Хойкен взял ее за локоть. Неожиданно она повернулась и взяла его под руку. Этот жест вдруг успокоил Хойкена. Прижавшись друг к другу и тихо беседуя между собой, они шли вдоль берега. В детстве они с Урсулой хорошо ладили. Как старший брат, он был ее защитником, они вместе играли и вместе ходили в школу. Они стали меньше общаться только после гимназии, когда Урсула начала посещать школу при монастыре. Все люди с годами меняются, но Хойкен не встречал человека, который изменился бы больше, чем его сестра. До этого она была спокойным и любознательным ребенком с разносторонними интересами. Из-за того, что эти интересы постоянно менялись, Урсула никак не могла сделать выбор между отцом и матерью. Она хотела быть хорошей дочкой для отца и доверенным лицом матери. Но эти желания противоречили друг другу. Чем больше она пыталась сблизиться с отцом, тем больше отдалялась от матери. С годами между Урсулой и матерью установились странные отношения. Иногда они общались между собой как сестры, иногда — как подруги, но все чаще следили друг за другом и боролись за то, чтобы находиться ближе к отцу. По отношению к сыновьям мать была снисходительной и сердечной, к Урсуле же она с каждым годом становилась все холоднее. Они едва уживались вместе, возможно, потому что имели одинаковый характер, который мешал наладить нормальные отношения. Урсула рано — сразу после окончания учебы — вышла замуж. Хойкен всегда думал, что она это сделала, чтобы досадить матери. Уже в первый год своего брака сестра родила ребенка. Когда Урсула разошлась с мужем, ей пришлось отдать своего сына в пансион, потому что обязанности матери с самого начала оказались для нее непосильной ношей. В тридцать пять лет сестра вдруг оказалась снова одна. Она замкнулась в себе, многие утверждали, что у нее появились странности. Во всяком случае, Урсула превратилась в легкоранимого, необщительного человека. Отец настоятельно рекомендовал ей обратиться к психоаналитику. Она послушалась и прошла курс терапии, который пошел ей на пользу. Через пять лет в день сорокалетия отец подарил Урсуле издательство, что ее очень обрадовало. Старик даже не предполагал, какой поддержкой станет для дочери этот подарок. Во всяком случае, все эти годы она, всем на удивление, хорошо справлялась со своей ролью. Правда, жизнь Урсулы, всецело посвященная работе в издательстве, была бедна событиями и богата одиночеством.
Хойкен начал свой рассказ. Он говорил о письмах, которые нашел в мамином столе, обрисовал ту огромную роль, какую мама незаметно играла в работе их концерна. Многие слова из писем Хойкен помнил так хорошо, что мог цитировать их наизусть. Чем больше Георг говорил о них, тем чаще ловил себя на мысли о том, как Урсула похожа на мать. Она так же дружила со многими своими авторами, и чем старше был писатель, тем большего доверия он удостаивался. Наконец Хойкен рассказал об отце и о том, что узнал от него вчера о причине развода с мамой. Разговор занял много времени. Урсула молча шла рядом, слушала и не отпускала его руки.
— Вот, это все, — произнес Георг, окончив рассказ. — Я очень хотел рассказать все это тебе. Думаю, ты должна это знать. Письма этих авторов заслуживают внимания. Представляешь, какая бы великолепная получилась книга, если выпустить их вместе с письмами мамы. Я предложил бы тебе заняться этим. Эта книга должна появиться в твоем издательстве.
Урсула отстранилась и посмотрела ему в глаза. Хойкен знал, что она думала в этот момент. Эта книга должна стать запоздалым примирением между матерью и дочерью. Такая идея пришла ему в голову ночью, когда он читал эти письма. Георг молчал об этом до последней минуты. Он хотел заслужить благосклонность сестры, чтобы сделать Урсулу своей союзницей, когда она будет принимать решение о наследнике. До сих пор все складывалось просто идеально, Хойкен понял, что эту историю он рассказал в очень подходящий момент. Она подействовала так сильно, как он и думал. Кажется, его сестра не могла поверить, что он передает ей письма в качестве подарка, ничего не требуя взамен.
— Ты действительно хочешь расстаться с этими письмами?
— Я дарю их тебе. Я считаю, что они должны увидеть свет не в моем, а в твоем издательстве. Полагаю, можно не говорить о том, что вы с мамой, несмотря ни на что, были очень близки.
— Да, — сказала Урсула, — мы с мамой были очень близки. Мы никогда не говорили об этом, но мы обе это знали.
Она вздрогнула. Хойкен взял ее за руку и медленно привлек к себе. Урсула сразу обмякла и опустила голову на его плечо. Со стороны их можно было принять за влюбленную пару, в которой один еще крепко связан узами брака и долга, а второй должен ждать, пока эти узы не будут разрушены. Они тайно встречаются каждые два дня, неделя проходит за неделей, и влюбленные становятся все несчастнее.
Хойкен задумчиво смотрел на Рейн. Забытые воспоминания детства вдруг стали ярче. Вот он стоит босиком на сверкающем берегу, белая майка трепещет от ветра. Кто-то зовет его, и он сразу поворачивается. Издалека мама машет ему рукой. Скоро будет ночь, мама возвращается с прогулки и зовет его домой.
Брат и сестра замерли и стояли какое-то время, не шевелясь. Велосипедисты сигналили и объезжали их. Наконец Хойкен предложил возвращаться.
— Урсула, пойдем? Отец уже ждет тебя.
Она ничего не ответила. Хойкен отошел от нее.
— Идем, Урсула! Давай вернемся на вокзал!
Она крепко схватила его за руку. Так крепко, что он испугался.
— Георг, пообещай мне продолжить дело отца. Я хочу, чтобы ты был его наследником. Через неделю, как пожелал отец, об этом узнают все.
Урсула снова крепко сжала его руку и строго посмотрела в глаза, как будто хотела, чтобы Хойкен здесь, на берегу Рейна, произнес клятву. Он будет наследником отца. Наконец это решено. Урсула сказала это так неожиданно, что ему пришлось повторить себе эту фразу дважды. Он будет наследником, не Кристоф. После книжной ярмарки он будет сидеть в кабинете отца. Он отправит Минну Цех на заслуженный отдых, и руководить его офисом будет Яна. Но перед этим он поедет с любимой в путешествие. Он уже сегодня зарезервирует на неделю самый лучший номер в локанде Киприани. Когда Хойкен думал о тех старых черно-белых фотографиях, на которых локанда, похожая на итальянский сельский дом, отражалась в лагуне, в его груди поднималась волна счастья. Он растроганно обнял сестру и помолчал, чтобы немного успокоиться.
— Боже мой, — сказал Хойкен. — Не могу тебе передать, как мне стало легко.
— Пошли, Георг, — ответила Урсула. — Нам пора возвращаться. Я возьму на вокзале такси, а ты поезжай в издательство.
Он глубоко вздохнул. Чувство радости еще не улеглось, но напряжение последних недель стало ослабевать. Хойкен поднял глаза. Другое, прекрасное будущее стояло перед ним. Он обнял сестру за плечи, и они медленно пошли вдоль берега назад. Теперь он напоминал растерянного юношу, который гуляет со своей первой любовью и не находит нужных слов, чтобы рассказать ей о своих чувствах. Сейчас он бы с удовольствием поцеловал Урсулу. Впрочем, подумав немного, он отказался от этой мысли. Уже много лет Георг не целовал сестру. Это было только в детстве, когда они, подражая взрослым, играли в поцелуи. Вспомнив об этой шалости, он вдруг начал говорить все, что приходило ему на ум. Маленькие истории, одна за другой, настоящий поток. «А ты помнишь?» — все время спрашивал Хойкен, но не давал ей открыть рта, чтобы ответить, а продолжал нанизывать свои истории, как бусы на нитку. Он и сам не знал, что с ним происходит.
Когда они проходили мимо собора, Урсула сказала:
— Давай только заглянем и проверим, кто из нас прав. Где расположен большой топаз — сверху, на крышке, или, как ты сказал, посередине?
Георг сразу согласился. Он был уверен, что камень находится посередине. В детстве они иногда брали с собой маленький бинокль и во время службы рассматривали раку издали. Это была их игра. Один из них выбирал какую-нибудь деталь, а другой должен был найти ее в течение минуты.
Они сразу направились к ларцу, и Урсула увидела, что большой золотой топаз находится в центре торца, а чуть поменьше — прямо на крышке.
— Ты прав, — сказала Урсула.
— Не совсем, — ответил Хойкен. — Если бы мы играли в нашу старую игру, я бы сказал 2:1.
— Согласна, — улыбнулась сестра. — А сейчас закрой глаза и скажи, где точно от этого места находится злой Нерон?
10
Петер Файль разложил на большом столе свои бумаги. Хойкен смотрел на макет двухтомника о соборе. Здесь же лежали материалы фотосерии города. Сейчас этот маленький суетливый человек совсем не раздражал его. Георг заставлял себя сосредоточиться. То, что Урсула ему сказала, было так неожиданно. В этот чудный осенний день она сидит с отцом в саду и объясняет ему, почему приняла такое решение, а старик радуется, что ее мысли совпадают с его собственными. «С моей точки зрения, в вопросе наследования на первом месте стоит Георг…» О маминых предложениях по завещанию знают только отец и он. Хойкен не сообщил о них Урсуле и никому другому не расскажет тоже. С какой радостью он сейчас рассказал бы эту новость всем и отметил это событие со своими сотрудниками! Вместо этого ему нужно внимательно слушать доклад Петера Файля и выбирать проспекты и эскизы обложек. Они выпустят для Кёльна карманные экземпляры книг. Хойкен видел, как город медленно исчезает под толстым слоем книг, только башни собора видны над морем печатной литературы. С их высоты открывается великолепный вид на Рейн.
Когда они все обсудили, Петер стал собирать со стола свои материалы и складывать их в сумку.
— Ах да, господин Хойкен, пока я не забыл. У меня есть для вас маленький сюрприз.
— Маленький сюрприз, как мило!
— Кип 730150, помните? Вы просили выяснить, что это означает. Мы были уверены, что это код книги или серии, но оказалось, это не так.
Хойкен совершенно забыл об этом. Только сейчас он вспомнил маленькую записку, которая лежала на письменном столе в номере отеля, где жил его отец. Георг сунул тогда записку в карман и позже спросил Файля, что могут означать эти цифры и буквы.
— Уверен, господин Хойкен, что мы никогда не докопались бы до истины, если бы вчера вечером я в шутку не включил поисковую программу «Google» и не внес туда наш загадочный номер. И знаете, какой я получил ответ?
Хойкен покачал головой. Его забавляло, что Петер Файль хотел докопаться до тайны. Раскрытие тайн соответствовало его натуре.
— Ну, давай, Петер, говори же!
— Буквы означают название WEB-сайта одной гостиницы в Италии, принадлежащей семье Киприани. Таким образом, «Кип» — это сокращенное «Киприани», а шестизначный номер — не что иное, как номер телефона локанды. Я распечатал для вас страницу. Очаровательный вид вблизи Венеции, там в последние годы жизни Хемингуэй…
— Петер, я знаю эту локанду. Мои родители провели там медовый месяц.
— Ваш отец уже бывал там? Ну, тогда все складывается. Наверное, он захотел отправиться туда еще раз.
— Да, так оно и есть. Я это запишу, чтобы как-нибудь тоже туда поехать. Просто фантастика, как вы до этого докопались. Теперь почти все загадки относительно номера в отеле разгаданы.
— Я вас не понимаю, господин Хойкен.
— А! Видите ли, Петер… Но это между нами. Когда мы с вами встретились в отеле в первый раз, я, честно говоря, понятия не имел о том, что мой отец снимал этот номер и ночевал там. Старик скрывал это от нас, поэтому я так подробно и расспрашивал обо всех обстоятельствах дела.
— Ах, вот оно что! Понимаю. И сейчас вы знаете все?
— Нет, не все. Я не знаю, например, что это за женщина, с которой отец там часто встречался.
— Вы действительно не знаете?
— Нет, а что?
— Господин Хойкен! Вы должны знать, потому что эта женщина сидит в вашей приемной. Я узнал ее и подумал, что не нужно говорить вам об этом, потому что вы давно уже обо всем знаете!
— Яна?! Вы хотите сказать, что видели Яну в сопровождении моего отца?
— Да. Эту женщину, сидящую в вашей приемной, я видел в сопровождении вашего отца на площади перед собором. Это была она. Меня поразил ее высокий рост. Она видная женщина, это бросается в глаза, и ее не забудешь.
Хойкен подошел к окну. Видимость сегодня была прекрасная. Осенний туман уже давно растаял. Солнечный свет разливался по реке словно жидкое золото, которое плывет в море.
— Вы об этом ничего не знали, господин Хойкен? — спросил Петер Файль.
— Нет, — ответил Георг.
— Я сказал что-то не то?
— Нет, Петер, вы не сказали ничего плохого. Расследование вы провели прекрасно.
— Благодарю, господин Хойкен, тогда я пойду.
— Да, Петер, хорошо. Я созвонюсь с вами, чтобы просмотреть макеты.
Хойкен даже не повернулся, когда Файль выходил из кабинета. Он смотрел вдаль и пытался вспомнить все детали. Лина Эккель… Разве она не говорила, что отец все время говорил о Кундере? Почему же он тогда не догадался, почему это имя не навело его на след Яны? И проектом «Европа» отец тоже занимался с Яной. Очень может быть, что это ее идея. Европа и тесная связь между Востоком и Западом — тема, которая должна быть интересна Яне, особенно если принять во внимание ее биографию… Теперь наконец он понял, почему отец в конце своей жизни принялся за осуществление грандиозного проекта. После инфаркта отца Яна поменяла постель, но не тему. Она просто перебежала от отца к сыну и помогла ему, Георгу Хойкену, усовершенствовать этот проект. По сути, таким образом она помогла ему стать наследником отца. Хойкен не мог утверждать, что Яна провоцировала его. Он сам сделал первый шаг. Если бы в тот сложный момент он не искал близости с ней, наверное, они бы никогда не были вместе. Но что же теперь делать?
Хойкен стоял и смотрел в окно. Он слышал, как в кабинет кто-то вошел. Наверное, Яна. Он не повернулся, а оставался стоять у окна. Шаги… вот она остановилась рядом, очень близко, обняла его, прижалась и поцеловала в затылок. Теперь они смотрели в окно вдвоем. Картина прямо как у Хоппера, только на этот раз все по-другому: мужчина смотрит на солнце. Его охватила тоска.
— С моим отцом ты тоже была в филармонии?
Яна молчала. Она медленно отпустила его и сделала шаг в сторону. Теперь они стояли рядом.
— Значит, ты все знаешь.
— Да, теперь знаю. Петер Файль видел, как ты сопровождала моего отца. Как давно ты с ним?
— Около шести недель.
— Ты спала с ним в номере?
— Нет, я просто была у него в гостях, но не ночевала.
— Он хотел на тебе жениться, это правда?
— Он хотел, чтобы наши отношения были прочными, но о браке не говорил.
— А ты? Чего хотела ты?
— Я еще не решила тогда, мы были слишком мало знакомы.
— Он хотел отправиться с тобой в путешествие?
— Да, он говорил об этом.
— И куда же вы собирались?
— Я не знаю, он держал это в тайне.
Сейчас Хойкен хорошо представлял себе, как это было. Отец сидит за письменным столом в номере, звонит в справочное бюро и узнает номер телефона локанды, который записывает на листок. Заходит официант. Отец встает и подходит к окну, потом подзывает официанта, поворачивается и в этот момент падает.
— Руководство концерном переходит ко мне, — сказал Хойкен. — На следующей неделе об этом будет объявлено. — Она не ответила, просто оставалась стоять рядом. Он ощутил легкое прикосновение — это Яна взяла его под руку. Уже второй раз за сегодняшний день его берет под руку женщина. В этом было что-то прекрасное, волнующее, почти забытое. — Моя сестра приехала в Кёльн, — сказал он тихо. — Сейчас я поеду на встречу с ней. До вечера меня не будет.
Они отстранились друг от друга. Он подошел к письменному столу и вспомнил о маленькой записке. Кип 730150, локанда в Италии.
Если ехать на велосипеде на юг вдоль берега, можно увидеть, как за городом река делает петлю. За Роденкирхеном начинаются деревенские пейзажи. В поселке Вайс есть паром, который перевозит пассажиров на другой берег, в Цюндорф.
После обеда Георг Хойкен сидел на скамейке у пристани и ждал, когда приплывет паром. Он хотел почувствовать себя свободным и ехать на велосипеде все дальше и дальше. В издательстве все было уже готово к проведению книжной ярмарки. На следующей неделе они открывают филиал издательства во Франкфурте. Ярмарка будет работать пять дней.
Ничего не хотел сейчас Хойкен так сильно, как скрыться на несколько дней в тихом, уединенном месте. Быть с Яной — первый раз дни и ночи напролет — вдали от посторонних глаз. Правда, сначала он должен все рассказать отцу. Объяснить, почему старик не может поехать в свое долгожданное путешествие. Яна не поедет с ним. Она нашла другого мужчину. Мужчину, которого она любит. А Клара? Клара еще две недели пробудет во Франции. Хойкен скажет ей, что взял тайм-аут и едет отдыхать. Однако о своей спутнице он не станет упоминать. После возвращения из Италии ему предстоит выбирать между браком и любовью. Он еще не знает, какое решение примет. Дни, проведенные с Яной, помогут ему разобраться в этом.
Он увидел маленькое судно, которое направлялось к берегу, достал мобильный телефон и набрал номер — его Хойкен знал наизусть. Когда паром причалил, он уже заказал номер в локанде в старом Торчелло возле Венеции. На неделю, после окончания книжной ярмарки.
© Susanne Schlever/autorenarchiv.de
Ганс-Йозеф Ортайль родился в 1951 году в Кельне. В настоящее время проживает в Штуттгарте. Он принадлежит к числу известнейших немецких писателей современности, его работы отмечены множеством призов, одним из которых была литературная премия Бранденбурга и премия Томаса Манна в Любеке. Профессор креативного письма и культурной журналистики преподает в университете Хильдесхайма.
Она повернулась к нему, а он облокотился о барную стойку и вдруг заметил, что девушка прильнула спиной к его руке и придвинулась к нему так близко, как будто хотела найти в нем опору и защиту. Короткий момент, когда Хойкен ощутил тяжесть ее тела, был для него сигналом: начать сейчас — самое время. Он подумал, что Яна перешагнула черту и увлекает его за собой, остановок больше не будет, и этому влечению невозможно противиться. Хойкен протянул руку назад и медленно положил ей на талию. Этот жест выглядел так, словно он хотел ее защитить, но на деле все было иначе. Он гладил ее тело, это было тайное, скрытое ото всех движение. Стало ясно, что прекрасное мгновение в его кабинете было своеобразным обещанием сегодняшнего вечера. Яна ничего больше не говорила. Она сидела, глядя на него и наслаждаясь его прикосновением. Он видел, как по-кошачьи изогнулось ее тело в ожидании чувственного наслаждения.
ISBN 966-343-300-0
Внимание!
Текст предназначен только для предварительного ознакомительного чтения.
После ознакомления с содержанием данной книги Вам следует незамедлительно ее удалить. Сохраняя данный текст Вы несете ответственность в соответствии с законодательством. Любое коммерческое и иное использование кроме предварительного ознакомления запрещено. Публикация данных материалов не преследует за собой никакой коммерческой выгоды. Эта книга способствует профессиональному росту читателей и является рекламой бумажных изданий.
Все права на исходные материалы принадлежат соответствующим организациям и частным лицам.
Примечания
1
Джон Колтрейн (1926–1967) — американский джазовый музыкант. (Здесь и далее — прим. ред.)
(обратно)2
«4711» — сорт духов.
(обратно)3
Эдвард Хоппер (1882–1967) — американский художник, представитель магического романтизма.
(обратно)4
Паоло Конте — итальянский шансонье.
(обратно)5
Фредерик Бремер (1892–1982) — бельгийский нейрофизиолог.
(обратно)6
Эдуард Фридрих Мёрике (1804–1875) — немецкий писатель романтико-лирического направления.
(обратно)7
Доминик Бём — немецкий архитектор XV в., построивший множество церквей и соборов.
(обратно)8
Парсифаль — персонаж оперы Рихарда Вагнера «Парсифаль» (1899).
(обратно)9
Грааль — в опере «Парсифаль» так назван лабиринт.
(обратно)10
Эрих Риббек — тренер сборной Германии по футболу в 2000–2004 гг.
(обратно)11
Берти Фогтс — тренер сборной Германии по футболу до 2003 г., сейчас тренер сборной Шотландии.
(обратно)12
Адольф Фридрих Эрдман Менцель (1815–1887) — немецкий исторический и жанровый живописец.
(обратно)13
Милан Кундера — чешский писатель, автор известных романов, в том числе «Бессмертие», «Невыносимая легкость бытия».
(обратно)14
Магдалена Кожена — чешская певица, восходящая оперная звезда.
(обратно)15
Lamento (итал.) — жалоба.
(обратно)16
Август Сандерс — немецкий фотограф первой половины XX в.
(обратно)17
Император Август (27 г. до н. э. — 14 г. н. э.) — римский император, внучатый племянник Гая Юлия Цезаря.
(обратно)18
Императрица Ливия Друзилла — жена императора Августа.
(обратно)19
Нерон Клавдий Цезарь Август (27–68) — император Римской империи.
(обратно)20
Лукас Подольски — немецкий футболист.
(обратно)21
Джульетта Греко — французская певица, одна из знаменитых шансонье.
(обратно)22
Брунгильда (534–613) — франкская королева, с 545 г. фактически правила Австралазией.
(обратно)23
Вейн Шотер — английский композитор, который пишет произведения для виброфона.
(обратно)24
Райнер Мария Рильке (1875–1926) — австрийский поэт лирикофилософского направления.
(обратно)25
Сурикаты — вид грызунов.
(обратно)

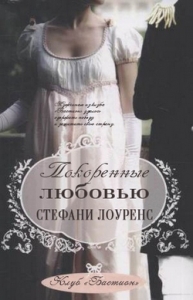




Комментарии к книге «Ночные тайны», Ганс-Йозеф Ортайль
Всего 0 комментариев