Дмитрий Быков Отчуждающие
Мы были знакомы пять дней, и вышло так, что ей надо было ехать на родину, в южный город, который всегда у меня ассоциировался с помидорами, сушеной рыбой, провинциальной пылью и с одним поворотом на пути из Крыма: прямо было на Запорожье, а направо на него. Я тогда еще каждый год ездил на машине в Крым, во что теперь трудно поверить, и верный «жигуль» меня ни разу не подводил, и каждый раз, возвращаясь из Гурзуфа, я думал об этом южном пыльном городе как об утраченной возможности. Свернуть бы, продлить отпуск — тоже ведь у моря! Но ни разу не свернул, а то бог знает, как бы все обернулось. Там однажды в полуголодной молодости был мой дед, и запомнились ему поэтому только помидоры и сушеная рыба. Может быть, он там и трахнул кого-нибудь, и мне встретилась теперь дальняя родственница, потому что такая полнота совпадений, такая страшная тяга — всей кожей к чужой коже — бывает или во сне, или, говорят, при инцесте. То есть не говорят, а пишут — у любимой английской сочинительницы был рассказ о том, как героиня отдается однокласснику отца, не подозревая, что он и есть настоящий биологический отец. Я должен процитировать наизусть, как там это выглядит, потому что зачем же пересказывать.
«Время перестало существовать. Все дело в химическом сродстве тел, вернее, их оболочек — человеческой кожи. Они либо сочетаются и сплавляются в единую ткань, растворяясь друг в друге и обновляясь, либо ничего не происходит, как при неисправной проводке. Но когда механизм срабатывает — а сегодня он сработал, — тогда раскалывают небо стрелы, пылают леса… И пусть я проживу до девяноста лет, выйду замуж за очень славного человека, рожу пятнадцать детей, завоюю всяческие театральные призы и «Оскары», второй такой ночи у меня не будет — не брызнет осколками мир, не сгорит у меня на глазах. Но как бы там ни было, я это испытала».[1]
Три ночи она сопротивлялась, на четвертую сдалась, а могла бы не сдаваться — я не почувствовал никакого утоления; невозможно было насмотреться, наобниматься, натрогаться — при том что, клянусь, внешне там не было ничего особенного. Интересно было только, что она на меня смотрела снизу вверх, с некоторым испугом и выжидательно, и призналась потом, что очень хотела понравиться и притом страшно боялась этого. Я совершенно точно помню, после какой реплики начал к ней присматриваться и как, собственно, пробежала первая искра — это когда я внимательно вгляделся в глаза, увидел, как они меняют цвет, какие они темно-синие, черные с синими искрами, как мартовская ночь, первая ночь с теплым ветром, с разрывами синевы в тучах; чернильные глаза, как их еще называют, цвета синих чернил моего детства. Дальше все очень быстро шло по нарастающей, и больше всего меня в ней поражала доброта, ненавистное человеческое качество: ненавистное именно потому, что я его почти никогда не встречал и решил от греха подальше возненавидеть по принципу «зелен виноград». Она была очень молода, очень добра, очень отважна — средоточие всех совершенств, короче; она не боялась подставляться, не смотрела на себя со стороны ненавидящим взглядом, полностью мне доверяла, была абсолютно естественна, не стеснялась собственного тела, с абсолютной откровенностью рассказывала обо всех печалях своего детства, без которых не получается нормального человека, — о травлях, страхах, маниях, идиотских суицидных мыслях, школьных предательствах, а больше ей почти и не о чем было рассказывать. И четыре дня мы проболтались по Москве, по всем моим родным местам, и оказалось, что мне почти нечего было ей рассказывать в ответ, потому что я немедленно все забыл, как забываешь армейский рацион после того, как впервые после дембеля пообедаешь дома. Ну я, по крайней мере, так устроен. Это, может быть, особое милосердие памяти. Я даже забыл начисто, с какого хлеба и на какой квас перебивался без нее. Мне казалось, что я в жизни уже никого серьезно не захочу, что возраст, пора, в конце концов. Но до этого, как выяснилось, было далеко, а просто я слишком долго довольствовался суррогатами, полужизнью, компромиссом. И я все это забыл. И невозможно было представить, что я буду спать без нее с чужими людьми, с другим человеком. К счастью, у меня были тогда ровные, прочные отношения, не предполагавшие обязательных совместных ночевок, хотя дело шло к браку и непременно им увенчалось бы, и это был бы, наверное, не худший брак. И я даже сочинял что-то, и мне казалось очень уютным сочинять в общей тогдашней съемной квартире, и меня не смущало чужое присутствие, которого я теперь не мог и вообразить. Все немедленно стало чужим до такой степени, что меня передергивало от любых случайных прикосновений в метро. Это началось сразу после того, как я ее проводил на вокзал.
На вокзале еще было истерическое веселье — мы думали, что у нас полно времени, пошли в ресторан, заказывали что-то, всего этого не оказывалось, и при каждом новом обнаружившемся обломе мы принимались хохотать все громче, и даже радовались, кажется, отсутствию всей этой пищи, потому что можно было вместо еды опять обниматься; она улеглась на безобразный плюшевый диван, положила голову мне на колени, принесли единственное имевшееся — напрашивается вымя, но это были пельмени. В меню было написано, что с пятнадцатого века пельмени триумфально шествуют по Зауралью. Мы вообразили это триумфальное шествие, с флагами, хоругвями, боевыми криками, — тут я посмотрел на часы и ахнул: срочно заплатили за всю эту несъеденную еду и побежали. «А ты бы хотела опоздать?» — «Знаешь… скорее… бессознательно», — выговорила она на бегу (она не умела и не любила бегать и в этом тоже признавалась очень легко; при всей легкости и худобе ненавидела всякий спорт). Я впихнул ее в вагон, она выскочила обратно, несмотря на крик проводницы, — поцеловаться, и снова я почувствовал этот ни на что не похожий вкус: вообще никогда не понимал, когда читал или слышал о вкусе чужих губ. Они бывают гладкими или шершавыми, сухими или пухлыми, но здесь у них был ни на что не похожий вкус, солоновато-сладкий, и я ей успел сказать, что не было в моей жизни ничего вкусней, чем она. «Самое вкусное, чем меня кормили». Проводница взревела совсем уж сиреной, и мне пришлось отскочить от вагона. Тут и поезд тронулся, и поначалу я чувствовал себя легко и уверенно, и на перроне мне все улыбались — такая аура счастья меня окружала; но дальше, уже в метро, начались проблемы.
Я нарочно поехал в метро, потому что, видите ли, есть у меня такое суеверие, особенно обостряющееся в моменты счастья, — что за все это придется платить, и надо срочно отдать в чем-то малом. Все люди с обсессиями — то есть, строго говоря, вообще все люди — делятся на тех, кто этим обсессиям особенно подвержен в опасности, и тех сравнительно немногих, у кого они обостряются в радости. Для меня радость — отклонение от нормы, я привык к тому, что всем неудобен и почти всем неприятен, и когда меня любят — такое бывает, не поверите, — мне хочется немедленно чем-то отдать, хоть деньгами. Потому что неизбежно ведь придется платить. Мне всегда хочется в таких случаях, я не знаю, попасть под машину. Не смертельно, конечно, и не серьезно, но как-то нарваться на неприятности, пока еще мелкие, потому что пока еще можно. Самое ужасное — встретить именно такую любовь, такую дикую полноту всех совпадений, и после этого, на пике счастья, вдруг ослепнуть, или арестуют за любую ерунду, или убьют по ошибке (или не по ошибке, все мы заслуживаем, это очевидно). И я прямо в метро начал думать, что срочно надо в чем-то отдать, и подавал всем нищим, в чьих благодарностях мне уже слышалось ехидство.
И еще — вам, конечно, должно быть знакомо это чувство, это дикое подозрение, что все подосланы. Когда-нибудь им всем особо еще отплатится за то, что мы перестали друг другу доверять, что самое человеческое, самое вкусное, что у нас вообще бывает, — любовь, совместный сон — они отравили в первую очередь. Все эти выкладываемые порносъемки, все эти подсылаемые девки. Самое интересное, что мне однажды подослали. Тогда я всерьез испугался: значит, они придают мне значение! Старый поэт, учитель и друг, помог мне отбрехаться: я написал этой девочке, осаждавшей меня письмами и подстерегавшей после выступлений, гомерическое письмо, полное стихотворных цитат и рассуждений в духе школьных песенников, и она отстала, потому что, кажется, все поняла. Я до сих пор не знаю, что в этом было бы такого компрометирующего, — подумаешь, трахнул начинающую актрису, — но потом понял: у них одна цель — все загадить, заср…ть. Любовь они точно загадили, потому что теперь в каждой девушке, да что там — в каждом друге, в любом человеке, который тебя узнал на улице и остановился поздороваться, видишь агента. Эта чуженина влезла во все отношения. Я успел, кстати, высказать ей эти подозрения уже на второй день: откуда ты так все про меня знаешь? И она усмехнулась: «Нас готовят». Это было отлично, и я успокоился, а теперь вспомнил — ведь в каждой шутке только доля шутки?!
Самое ужасное, что влюбленному хочется со всеми говорить о предмете своей любви, невозможно вечно носить это в себе, и я говорил — и только тут меня резануло, до какой степени, оказывается, чужими были мне все так называемые друзья. Они мгновенно стали именно так называемыми. Самое странное, что никто за меня не радовался. Это теперь я понимаю, как их всех грузили мои неуместные исповеди, как им было в самом деле не до меня, как неуместен и даже бестактен казался я им со своим счастьем. Священники, психоаналитики, старые писатели знают: когда к ним навязываются со своими исповедями, обязательно повторяют: такого вы еще никогда не слышали! Но они слышали все, и представьте себе, как ужасен должен быть сорокалетний, уже лысеющий мужик, тогда еще, кстати, официально женатый, — рассказывающий о романе со студенткой на двадцать лет младше себя! Вообразите, каков я должен был им казаться со своей болтливой любовью, с рассказами об ангельском виде и характере новой пассии, и вы легко представите себе типовые реакции. Реакция А: все это столько раз уже было, мы столько раз от тебя все это выслушивали, и ровно теми же словами! А теперь вспомни, где А, Б, чем кончилось с В, которую ты потом вообще караулил у подъезда, потому что она изолгалась… Почему еще и об этом надо было мне напоминать! Они доказывали мне полную бесперспективность этих новых отношений с тем же злорадством, с каким атеист объясняет верующему тайну фокуса со священным иерусалимским огнем. Им кажется, что это фокус, а главное — они убеждены, что разоблачение этого фокуса убивает главную загадку мира! Второй тип реакции: да ладно, это даже хорошо, что ты еще способен на такие сильные чувства. Не важно, что получится, но сейчас тебе хорошо. Это произносилось с таким кислым, кисло-сладким видом, с такой априорной уверенностью в том, что ничего хорошего не получится, — я еле сдерживался, чтобы не заорать в ответ. Им всем всегда хочется, чтобы не получилось, потому что они и есть чужие, эмпатия у них на нуле. И с тем большей остротой я вспоминал, как реагировала на все она, как перекашивалась от физической боли, когда я ей рассказывал про собственную мигрень. Она не просто читала мысли, но полностью включалась в любое чужое переживание, не только в мое, — добрый балованный поздний ребенок из книжной провинциальной семьи; и, пересказывая это даже ближайшему другу, я видел, какой пошлостью, какой банальностью ему все это кажется. Все было чужое после нее, вообще все, и я лишний раз оценил собственную давнюю догадку: нам так неохотно подбрасывают своих, чтобы мы не понимали, какой это ужас — чужие. Люди в метро вообще казались инопланетянами, забравшими меня к себе для исследований. Я не понимал, что у меня с ними общего. И всего ужасней, что я не понимал, как мне теперь спать с тогдашней подругой, а точнее — как не спать, какие предлоги изыскивать. Я уже и забыл, что бывает это чувство: когда любое чужое прикосновение грязнит, мучает, как грязь в ране. Я скоро перестал о ней говорить с кем бы то ни было. Я даже и представлять ее перестал.
Мы прожили в разлуке уже почти столько же, сколько были знакомы. Я понимаю, как по-идиотски это звучит, когда речь идет о неделе, но тут важно не число, а пропорция. И тогда начался настоящий кошмар: я стал ее подозревать. То есть эта грязь все-таки проникла в язву, и стало нарывать. Само собой, я закидывал ее эсэмэсками, и она, отдадим должное, все время отвечала, и отвечала ровно в своем духе, так что на короткое время этот пожар удавалось залить. Но потом все возобновлялось, а звонить я боялся. Один раз позвонил, и голос показался мне настолько чужим, что я час потом не находил себе места. В сети была единственная ее фотография, с какой-то студенческой филологической олимпиады, где она была почти неузнаваема, — и я начал уже думать, что мне вообще все показалось, что она на самом деле некрасива, что только от глубочайшего одиночества я мог вообще попасться на эти простейшие приемы… И в последнюю ночь я почти себя уговорил, что она подослана, хотя кому я мог быть так нужен? Нет, не властям, конечно, не всем этим действительно и по-настоящему чужим, которые прилетели к нам неизвестно с какой планеты, уничтожили последних, кто мог сопротивляться, а остальным сделали инъекцию своей зеленой слизи, и теперь у всех внутри эта зеленая слизь. Нет, я был нужен не им. А может, идиотский розыгрыш все тех же друзей, в которых я теперь тоже не верил; а может, кто-то из коллег… Ведь любовь — такая слабость, и так прекрасно человека на ней подловить! Нет ничего жальче и беззащитней, чем идиот, уже пожилой по меркам прошлого века, поверивший вот в такое, купившийся на три аккорда и пять общеупотребительных цитат… Помесь одиночества, тщеславия и сексуальной фрустрации, вот что такое вы и ваша любовь, — так я уже говорил себе, потому что, видите ли, уже научился смотреть на себя глазами чужих. Бремя мира, в котором появилась она и почти сразу же исчезла, было невыносимо. Я еще мог все это выносить до нее, пока не понимал, что со мной и кто вокруг меня. Но когда она все это открыла и подчеркнула — боже мой, что со мной стало! Всю последнюю ночь я выл. Вставал, пил воду, курил на кухне, ложился, метался, принялся смотреть идиотское кино — мне все любимое кино тогда казалось невыносимой пошлостью, я не понимал вообще, как мог любить все это… Чужой мир меня стискивал, лез в глаза, в рот, я возненавидел собственный запах. И к утру я твердо решил, что никаких отношений не будет. Позвонил ей, но она уже была, видимо, в самолете и не ответила. У нас назначена была заранее — мы обо всем договорились — встреча у того самого музея, куда она пришла меня слушать, нам это казалось страшно романтичным, и я, как идиот, в жару, под сотнями чужих взглядов топтался у этого музея, понимая, что сейчас из-за угла выкатится она со съемочной группой или просто с организаторами розыгрыша, и пойдет веселуха.
Я почти себя уговорил. И за десять минут до назначенного времени повернулся и пошел оттуда к чертовой матери, чтобы никогда уже больше не попадаться ни на какие приманки, не наделять никого из чужих собственными качествами; я всегда был чужим в мире, и нечего надеяться, что за мной стоит какая-то правда, которая в бесконечно отдаленном будущем возьмет и победит. Она никогда не победит, хватит ценой любых унижений сохранять себя до ее победы, хватит уживаться с инопланетянами ради глотка зеленой слизи, хватит стараться им понравиться. Всего вообще хватит! И знаете, если бы я ушел тогда — как знать, это могло стать началом совершенно нового этапа; когда человек полностью отказывается от надежды, от жизни вообще, из него что-то может получиться. Может быть, после этого моя писанина перестала бы выглядеть бесконечными обещаниями чего-то, и я заговорил бы в полный голос, и я стал бы тем, кем и должен был стать с самого начала: ведь без этой последней инициации — поманить самым прекрасным, самым вкусным и отобрать его так бессовестно — вообще ничего не происходит, и вот почему вокруг нас так много неосуществившихся гениев: не так-то легко отдать последнее. И я уже был в полушаге от этого превращения, но тут — понимаете, за десять минут до назначенной даты — она побежала ко мне из метро, чуть не попадая под машины, среди гудков и проклятий, и на лице у нее было написано такое отчаяние, такой гнев, она была такая красная, что, верите ли, ничего прекраснее мне в жизни не показывали.
Она кинулась на меня, как ураган на картинке в учебнике накидывается на американскую ферму. Она на мне повисла, она меня колотила, она дергала меня за волосы — на это их вполне еще хватало, — она била меня кулачонками в живот, и только врожденный вкус удерживал ее от пощечины. Я так и знала, орала она, я знала, я чувствовала, что ты черт-те чего успел выдумать. Меня весь день с утра тошнит, я, может быть, беременна! Меня тошнит от всего, от всех, у меня, наверное, пахнет изо рта. Черт бы тебя побрал, как ты мог, как смел! Если бы ты ушел, если бы тебя здесь не было, я бросалась бы на людей, я подожгла бы к такой-то матери этот музей. Скотина! Я поссорилась с отцом впервые в жизни. Он мне сказал, что таких, как ты, у меня будет еще тысяча, и я никому больше не могла о тебе говорить. Ты мне мерещился на всех перекрестках. Тварь. Я никогда уже не буду свободной. Я никогда не предполагала, что это прежде всего ужасная зависимость. До тебя все было так легко, так понятно. И сейчас ты уходил, чтобы меня предать, ты растоптал меня и уходил, сволочь, я не забуду этого никогда! И через какое-то время мы начали уже хохотать, и я почувствовал от этого смеха такую слабость, что буквально упал на скамейку. Мы там, не разлипаясь, просидели до вечера.
И вот вы спрашиваете — потому, собственно, я и стал вам об этом рассказывать, хотя разговор был совсем о другом: вы спрашиваете, как все это кончится? Что будет со всеми этими людьми, когда это кончится? Уверяю вас, ничего ужасного. Все ужасное мы придумываем, пока вокруг чужие. А как только схлынет сероводород и хлынет кислород — уверяю вас, будет именно то, что я почувствовал, когда она набросилась на меня, когда на меня сладкой волной налетел ее благоуханный пот, когда она обкладывала меня своими подростковыми ругательствами. Вот только это и будет — в один миг мир снова станет своим. И невозможно будет представить, что когда-то было иначе. Ведь счастье, в сущности, и есть то, чего не могло не быть. Простите меня, милый друг, за эту сентенцию. Счастье на хороший вкус плевать хотело, именно плевать — сладкой детской слюной.
20 мая 2016 11:00
Примечания
1
Цитируется повесть Дафны Дюморье «На грани» в перевод М. А. Шерешевской (прим. верстальщика).
(обратно) Fueled by Johannes Gensfleisch zur Laden zum Gutenberg





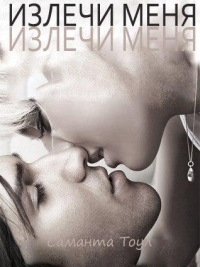
Комментарии к книге «Отчуждающие», Дмитрий Львович Быков
Всего 0 комментариев