Генри Джеймс ЗВЕРЬ В ЧАЩЕ (рассказ)
1
Вряд ли существенно, чем были вызваны слова, поразившие его при их случайной встрече, — возможно, каким-нибудь замечанием, им же самим оброненным, когда, возобновив знакомство, они, то и дело останавливаясь, медленно прохаживались по комнате. Марчер гостил у друзей вместе с целой компанией общих знакомых, в чьем многолюдстве, как в любой толпе, он, по твердому своему убеждению, совершенно стушевывался; эти-то друзья и затащили его часа два назад на званый завтрак в Везеренд, где теперь жила она. После трапезы гости разбрелись кто куда — завтрак, собственно, для того и был затеян, чтобы приглашенные могли полюбоваться своеобразием самого Везеренда и его сокровищами: собранием картин, семейных реликвий, творений всех видов искусства, доставивших этому поместью немалую славу; комнаты были так просторны и многочисленны, что гости не мешали друг другу, кто хотел, тот отделялся от общего роя, а особенно ревностные любители самозабвенно предавались таинственным сопоставлениям и обмерам. Были и такие, что, в одиночку или парами, склонялись над каким-нибудь предметом в укромном углу и, упираясь ладонями в колени, поматывали головой, точно в нос им ударял необычайно острый запах. Если их было двое, они либо сливали воедино возгласы восторга, либо растворялись в молчании, еще более многозначительном, так что Джону Марчеру стало мерещиться, будто он пришел на «беглый осмотр», который всегда предшествует широко объявленному аукциону и, судя по обстоятельствам, разжигает или, напротив того, совсем гасит мечту о покупке. Но в Везеренде мечты о покупках были ни с чем не сообразны, поэтому Марчер, смущенный подобными мыслями, почувствовал себя равно неловко и среди тех, кто знал слишком много, и среди тех, кто не знал ничего. Огромные залы обрушили на него чрезмерный груз поэзии и истории, и, чтобы установить с ними достойную связь, он решил побродить в одиночестве, хотя, надо оговориться, поведение его при этом отличалось от повадок иных гостей, которые так разлакомились, что их вполне можно было уподобить псам, обнюхивающим буфет. Решение Марчера довольно быстро привело к исходу, который невозможно было предугадать заранее.
Короче говоря, оно привело его в тот октябрьский день к более близкому знакомству с Мэй Бартрем,[1] чье лицо, скорее помнившееся, чем памятное, поначалу будило в Марчере лишь смутно-приятные мысли, когда он взглядывал на нее через разделявший их длинный стол. Это лицо было связано с каким-то забытым начальным впечатлением. Марчер отдавал себе в этом отчет и приветствовал продолжение, хотя не мог вспомнить, чего именно; ему было тем более интересно или, скажем, занятно, что без явного подтверждения со стороны молодой женщины он догадался: она связующей нити не утратила. Да, не утратила, но не отдаст Марчеру, пока он сам не протянет руку; догадался он и о многом другом, и это было тем примечательнее, что, когда коловращенье гостей свело их лицом к лицу, он все еще не мог отделаться от мысли о незначительности их прошлого знакомства. Но если оно было так незначительно, как объяснить его нынешнее ощущение, говорящее как раз о противном? Ответ напрашивался сам собой: при той жизни, которую все они, видимо, ведут сейчас, вещи следует принимать, не вникая в их смысл. Марчер был убежден — а почему, он и сам не знал, — что молодая женщина живет в этом доме на положении, грубо говоря, бедной родственницы, что она не кратковременная гостья, а составная, даже рабочая, оплачиваемая часть всего механизма. Ей, надо полагать, оказывают здесь покровительство, а она рассчитывается за него, среди прочих услуг взяв на себя роль проводника докучных посетителей, которых надо водить по дому, и все им показывать, и отвечать на вопросы, когда что построено, и какого стиля те или иные предметы обстановки, и чьей кисти та или иная картина, и какие комнаты облюбованы привидениями. Не о том, конечно, речь, что кто-нибудь осмелится дать ей на чай — такое, глядя на нее, и представить себе немыслимо. И все-таки она неспешно направилась к нему — безусловно красивая, но старше, много старше, чем тогда, в прошлом, — может быть, как раз потому, что почувствовала: за последние несколько часов он посвятил ей больше мыслей, чем всем остальным, вместе взятым, и, таким образом, уловил истинную суть дела, которую другие по своей тупости проглядели. Да, она живет здесь на условиях куда более жестких, чем все прочие; она живет здесь из-за всего, постигшего ее за прошлые годы, и при этом помнит его, как и он ее, только гораздо лучше. Когда наконец они обменялись первыми словами, вокруг не было ни души, их друзья ушли из этой комнаты, где, кстати, над камином висел отличный портрет и особую прелесть всему придавал их молчаливый сговор отстать от других для беседы с глазу на глаз. Впрочем, по счастью, прелесть была и во многом другом — в Везеренде, пожалуй, любой закоулок стоил того, чтобы в нем задержаться. Прелесть была и в том, как, угасая, осенний день глядел в высокие окна, и в том, как багряные лучи, выбившись на закате из-под нависших угрюмых туч, широкой полосой проникали в комнату, и в том, как они играли на старинных стенных панелях, на старинных шпалерах, на старинной позолоте, на старинных потемневших красках. А всего более, вероятно, в том, как Мэй Бартрем подошла к нему: поскольку ее обязанностью было водить по дому людей скромного пошиба, Марчер при желании вполне мог бы приписать ее сдержанное внимание обычному в Везеренде ритуалу и таким образом свести их встречу на нет. Но едва она заговорила, как брешь заполнилась, все связалось воедино, и сразу потеряла остроту легкая ирония, сквозившая в ее интонациях. Он буквально ринулся в разговор, только чтобы опередить Мэй Бартрем.
— А мы с вами тысячу лет назад встречались в Риме. Я все отлично помню.
Она не скрыла легкого разочарования — у нее и сомнений не было, что он забыл, — и тогда, чтобы доказать ее неправоту, Марчер начал сыпать подробностями; стоило к ним воззвать, и они мгновенно возникали. Теперь к его услугам были ее лицо, ее голос, и под их воздействием произошло чудо, подобное тому, которое совершает в руках фонарщика факел, зажигая один за другим длинный ряд газовых фонарей. Марчер не без самодовольства полагал, что освещение получилось отменное, но, по правде говоря, был весьма доволен, когда с мягкой насмешкой она объяснила, как много он напутал и, торопясь все расставить по местам, почти все разместил наобум. Встретились они вовсе не в Риме, а в Неаполе, и не семь лет назад, а без малого десять. И была она там не с тетушкой и дядей, а с матерью и братом; вдобавок ко всему, он приехал туда из Рима с Бойерами, а не с Пемблами — на этом она, к некоторому его смущению, особенно настаивала и тут же доказала, что права: Бойеров она тогда уже знала, а Пемблов нет, хотя и слышала о них, меж тем представили их друг другу как раз те люди, в чьем обществе он находился. И под ту страшную грозу, которая так разбушевалась, что им пришлось прятаться в каких-то раскопках, они попали не возле Дворца Цезарей,[2] а в Помпеях, куда приехали по случаю очень интересной археологической находки.
Марчер принял ее поправки, порадовался ее уточнениям, хотя мораль их сводилась к тому, что, по сути — она это подчеркнула, — он ровным счетом ничего о ней не помнит, но приуныл, когда истина восторжествовала и разговор, в общем, иссяк. Тем не менее они не спешили расстаться (она — пренебрегая своими обязанностями, так как уже не имела права на Марчера, поскольку он оказался столь сведущим, оба они — пренебрегая домом) и выжидали, не осенят ли их еще какие-нибудь воспоминания. Как игроки, открывающие свои карты, они за считанные минуты выложили все, что помнили, и тогда-то обнаружилось: колода, к несчастью, не полна, прошлое, вызванное, выманенное, обласканное, дало им, натурально, только то, что в себе содержало. А содержало оно встречу ее, двадцатилетней, с ним, двадцатипятилетним, и они без слов как бы признались друг другу, что всего труднее понять, почему это прошлое, озаботившись их встречей, не озаботилось хоть чем-нибудь ее наполнить. Они смотрели друг на друга как бы с ощущением упущенного случая: насколько богаче было бы настоящее, если бы то далекое в чужой стране не оказалось таким нелепо-скудным! В итоге оно, очевидно, вмещало не больше десятка пустяковых событий, слегка их обоих затронувших: тривиальностей, обычных для юности, простодушного вздора, обычного для непосредственности, глупостей, обычных для неведения, крохотных зерен возможного, зарытых слишком глубоко, так глубоко, что, не правда ли, им уже не пустить ростков после стольких лет… Марчер твердил себе, что ему следовало бы оказать ей в ту пору какую-нибудь услугу — например, спасти с тонущего в Неаполитанском заливе парохода или хотя бы вернуть дорожный несессер, украденный в Неаполе прямо из коляски lazzarone[3] со стилетом за поясом! А как было бы мило, если бы он заболел лихорадкой и лежал один как перст в гостинице, а Мэй Бартрем приходила бы и ухаживала за ним, и писала бы письма его родным, и ездила с ним, выздоравливающим, на прогулки! Вот тогда у них был бы в руках козырь, которого их нынешней игре явно недостает. И все же эта игра сама по себе была так хороша, что не хотелось ее портить, поэтому еще несколько минут ушло на беспомощно-недоуменные вопросы — как могло случиться, что при довольно многочисленных общих знакомых они до сих пор были разъединены? Этого слова ни он, ни она не произнесли; но, медля и медля догнать остальных, они как бы отказывались признать, что игра проиграна. Туманные догадки, почему им не довелось встретиться раньше, лишний раз подчеркивали, до чего мало они знают друг о друге. И наступила минута, когда у Марчера по-настоящему сжалось сердце. Смешно прикидываться, что она старый друг, если никакой общности у них нет. При этом он чувствовал, как хорошо она подходит ему в роли именно старого друга. Новых было хоть отбавляй — к примеру, в том доме, где он сейчас гостил, но будь она из их числа, он, скорее всего, даже не взглянул бы на нее. Как ему хотелось придумать что-нибудь романтичное, из ряду вон выходящее, и потом притвориться вместе с нею, будто они в самом деле пережили это событие. Попирая законы времени, он старался придумать подходящую историю, мысленно говоря себе, что, если ничего не изобретет, этот подступ к продолжению окажется обыкновенным и неприглядным тупиком. Они разойдутся в разные стороны, и нового шанса у них уже не будет. Их нынешняя попытка окончится крахом: И тогда, в этот поворотный миг — так мысленно называл его потом Марчер, — она прибегла к последнему средству, все взяла в свои руки и спасла положение. Стоило ей заговорить, и он понял, что до сих пор она сознательно не касалась этой темы, надеясь, что и не придется коснуться, — деликатность, глубоко его тронувшая, когда несколькими минутами позже он смог по достоинству ее оценить. Так или иначе, слова Мэй Бартрем все прояснили, утраченное звено нашлось — то самое звено, которое Марчер с таким загадочным легкомыслием ухитрился потерять.
— Знаете, вы однажды рассказали мне кое-что о себе, я запомнила наш разговор и потом часто-часто думала о вас. День был немыслимо душный, и мы по заливу отправились в Сорренто подышать прохладой. Вы сказали мне это на обратном пути — мы сидели под тентом на палубе и наслаждались ветерком. Не помните?
Он не помнил и был удивлен еще больше, чем сконфужен. Но важнее было другое: речь, несомненно, шла не о «признании в нежных чувствах». У женского тщеславия долгая память, но Мэй Бартрем не собиралась взыскивать с него за какой-то комплимент или бестактность. Будь на ее месте другая, иного склада женщина, Марчер, возможно, даже испугался бы — вдруг ему собираются напомнить о совсем уже дурацком «предложении». А сейчас, признавая, что начисто забыл, он ощущал это как потерю, не как выигрыш, сразу уловив скрытую значительность ее слов.
— Пытаюсь вспомнить, но не могу. Хотя и не забыл того дня в Сорренто.
— Не уверена в этом, — помолчав, заметила Мэй Бартрем. — И даже не уверена, надо ли мне хотеть, чтобы вы вспомнили. Ведь это ужасно — насильно возвращать человека к тому времени, когда он был на десять лет моложе. Если вы уже переросли это — что ж, тем лучше.
— Если не переросли вы, почему должен был перерасти я? — спросил он.
— Не переросла себя, какой была тогда? Вы это хотите сказать?
— Нет, меня, каким был тогда я. Что ослом, это ясно, — продолжал Марчер, — но вот какого сорта? Вы ведь имеете в виду что-то определенное, так уж скажите мне, не оставляйте в неведении.
Она все еще колебалась.
— Но если вы уже совсем не такой?…
— Тем легче я перенесу ужасную правду, Впрочем, скорее всего, такой же.
— Скорее всего. Хотя, пожалуй, — продолжала она, — вы бы тогда помнили. Само собой, мое впечатление о вас совсем не совпадает с вашим уничижительным определением. Покажись вы мне глупым, — пояснила она, — я сразу бы забыла обо всем. Это касалось вас. — Она подождала, как бы давая ему время вспомнить, но он ответил ей непонимающим взглядом, и тогда она сожгла свои корабли: — Оно уже случилось?…
И тут в его сознании словно вспыхнул свет; Марчер продолжал пристально смотреть на нее, а кровь медленно приливала к его лицу, опаленному догадкой.
— Значит, я сказал вам?… — И не договорил — что, если он ошибается, если понапрасну выдает себя?
— Это касалось вас и не могло не запомниться, если, конечно, запомнились вы сами. — Она опять улыбнулась. — Поэтому я и спрашиваю: то, о чем вы говорили, уже произошло?
Да, теперь Марчеру все было ясно, но он не мог опомниться от удивления, онемел от неловкости. И видел: заметив его смущение, она огорчилась, словно, напомнив ему о прошлом, совершила бестактность. Но уже через несколько секунд он понял: при всей неожиданности вопрос ее не был бестактен. Более того, едва Марчер пришел в себя от легкого остолбенения, как, неведомо почему, почувствовал сладость причастности Мэй Бартрем. Она одна делит с ним это, делит уже столько лет, меж тем как сам он непостижимым образом запамятовал, что когда-то шепнул ей свою тайну. Не удивительно, что их встреча не была встречей посторонних людей!
— Полагаю, — сказал он наконец, — мне понятно, о чем вы говорите. Только, как это ни дико, у меня совершенно выпало из памяти, что в своей откровенности с вами я зашел так далеко.
— Наверное, потому, что очень многих посвящали в это?
— Никого не посвящал. Ни единой души с тех пор.
— Значит, я одна знаю?
— Одна на целом свете.
— Я тоже никому не говорила, — с живостью подхватила она. — Никому, никому не рассказывала о вас. — И так на него посмотрела, что он безоговорочно ей поверил. Они обменялись взглядом, не оставлявшим сомнений. — И никому не расскажу.
Горячность ее тона, даже немного чрезмерная, совсем его успокоила: о насмешке нет и речи. И вообще все это было еще неизведанным наслаждением — неизведанным до той минуты, пока Мэй Бартрем не оказалась причастной. Если нет привкуса иронии, значит, есть сочувствие, а его-то Марчер и был лишен долгие-долгие годы. И еще он подумал, что нынче уже не мог бы открыться ей, но, пожалуй, может извлечь утонченную радость из той давней случайной исповеди.
— И не рассказывайте, прошу вас. Нам больше никто не нужен.
— Ну, если не нужен вам, мне-то и подавно! — рассмеялась она. Затем спросила: — Значит, вы теперь чувствуете то же самое?
Интерес ее был подлинный, не признать этого он не мог, и принял как некое откровение. Столько лет он считал себя беспросветно одиноким, и вот, подумать только, это неправда! Не одинок и ни секунды не был одиноким с того самого дня, когда они вместе плыли по Неаполитанскому заливу! Одинока была она — так, глядя на нее, чувствовал Марчер, одинока из-за его постыдной неверности. Рассказать о том, о чем рассказал он, — это ведь равнозначно просьбе! И она в своем милосердии эту просьбу исполнила, а он даже не поблагодарил ее хотя бы мысленно, хотя бы ответной памятью сердца, если уж им не случилось снова встретиться! Попросил же он вначале только об одном: не поднимать его на смех. И она великодушно не высмеивала целых десять лет, не высмеивает и сейчас. В каком же он безмерном долгу у нее! Лишь поэтому ему необходимо уяснить себе, каким он тогда предстал перед ней.
— Но как все же я описал?…
— Свое ощущение? Ну, очень просто. Вы сказали, что с юных лет всеми фибрами чувствуете свою предназначенность для чего-то необыкновенного, разительного, возможно даже — ужасного, чудовищного, и что рано или поздно ваше недоброе предчувствие сбудется, в этом вы убеждены, и, быть может, то, что случится, сокрушит вас.
— По-вашему, это «очень просто»? — спросил Марчер.
Она на мгновение задумалась.
— Возможно, мне потому так показалось, что, когда вы говорили, я очень хорошо понимала вас.
— Понимали? — взволнованно переспросил он.
И снова она пристально и ласково посмотрела ему в глаза.
— Вы все так же убеждены?
— Бог мой! — беспомощно воскликнул он. У него не хватало слов.
— Значит, как бы это ни назвать, пока что оно не произошло, — уточнила она.
Уже безоговорочно сдавшись, он покачал головой.
— Пока не произошло. Только поймите: я вовсе не должен что-то сделать, совершить, чем-то отличиться, заслужить восхищение. Пусть я осел, но не до такой же степени. А жаль: мне, безусловно, было бы легче.
— Значит, должны что-то претерпеть, так я вас поняла?
— Скажем, должен ждать, встретить лицом к лицу, увидеть, как оно вломится в мою жизнь и, кто знает, навеки уничтожит мое сознание или даже меня самого, а возможно, только все перевернет, подрубит под корень мой сегодняшний мир и предоставит мне расхлебывать последствия, любые последствия.
Она напряженно слушала, глаза ее блестели, но насмешки в них по-прежнему не было.
— А чувство, которое вы описали сейчас, не может быть ожиданием или даже обычной для многих боязнью любви?
Марчер задумался.
— Вы и тогда спрашивали меня об этом?
— Нет, тогда я еще не чувствовала себя с вами так непринужденно. А сейчас мне вдруг пришло это в голову.
— Не могло не прийти, — помолчав, сказал он. — Не могло не приходить в голову и мне. Вполне вероятно, что только это и припасено для меня в будущем. Но, понимаете ли, какая штука, — продолжал он, — будь это так, я уже знал бы.
— Потому что уже любили? — И когда он молча поглядел на нее, продолжала: — Любили, и любовь оказалась вовсе не таким крутым поворотом, не таким огромным событием?
— Да вот, я перед вами. Она меня не сокрушила.
— Значит, это была не любовь.
— Как вам сказать… Мне по крайней мере казалось, что любовь. Я так считал, считаю и поныне. Это было приятно, чудесно, мучительно, — объяснил он. — Но не сверхобычно. Не то событие, которое ждет меня.
— Вы хотите чего-то исключительно вашего, такого, чего ни с кем не случается, никогда не случалось?
— Не в том дело, чего «хочу» я. Видит бог, я не хочу ничего. Дело в недобром предчувствии — оно держит меня за горло, оно во мне.
Марчер произнес это с провидческой убежденностью, которая не могла не произвести впечатления. Не возникни у Мэй Бартрем интереса прежде, он возник бы сейчас.
— Может быть, это ощущение, что вам грозит какое-то насилие?
И опять было очевидно, что он рад возможности выговориться.
— Нет, мне не кажется, что это случится — когда случится — обязательно как нечто насильственное. Скорее, как нечто естественное и, разумеется, не оставляющее сомнений. Оно — так я мысленно называю это — будет выглядеть совершенно естественно.
— Какая же в нем будет сверхобычность?
— Для меня никакой, — поправил себя Марчер.
— А для кого?
— Ну, хотя бы для вас. — Тут он наконец улыбнулся.
— Значит, я буду при этом?
— А вы уже при этом — с того дня, как узнали.
— Понимаю. — Она обдумывала его слова. — Я хотела сказать — буду при катастрофе?
На несколько минут их легкий тон уступил место глубокой серьезности. Они обменялись долгим взглядом, который как бы соединил их.
— Это зависит только от вас — захотите ли вы быть вместе со мной на страже.
— Вам страшно? — спросила она.
— Не оставляйте меня одного теперь, — проговорил он.
— Вам страшно? — повторила она.
— Вы считаете, что я просто спятил? — сказал он вместо ответа. — Эдакий безобидный маньяк.
— Нет, — сказала Мэй Бартрем. — Я вас понимаю. Верю вам.
— То есть чувствуете, что у моей одержимости — ох, уж эта одержимость! — может быть, есть реальные основания?
— Да, реальные основания.
— И вы согласны быть на страже вместе со мной? Она поколебалась, потом в третий раз спросила:
— Вам страшно?
— Говорил я вам об этом… в Неаполе?
— Нет, тогда об этом речь не заходила.
— Потому что я и сам не знаю. А как бы хотел знать! — сказал Джон Марчер. — Так это или не так, скажете мне вы. Если согласитесь быть вместе со мной на страже, вы увидите сами.
— Что ж, согласна. — Они уже подошли к дверям, но остановились у порога, словно скрепляя печатью свой договор. — Я буду на страже вместе с вами, — сказала Мэй Бартрем.
2
Она знала, знала, но не высмеяла, не предала его, и между ними почти сразу установились довольно короткие отношения, которые еще больше упрочились, когда, через год без малого после разговора в Везеренде, у них появилась возможность встречаться чаще. Возможность эту им дала смерть двоюродной бабки Мэй Бартрем, той самой, под чьим крылом она, лишившись матери, нашла столь надежное прибежище; престарелая леди была всего лишь овдовевшей матерью нового владельца, унаследовавшего поместье, но благодаря редкостной сановитости и редкостно-крутому нраву сохранила положение главы этого знатного семейства. Низвести упомянутую леди с престола удалось только смерти, которая, среди прочих перемен, изменила обстоятельства и Мэй Бартрем, чья подневольность и раненая, но присмиревшая гордость не ускользнули от чуткой наблюдательности Марчера. Давно уже ничто так не умиротворяло его душу, как мысль, что мисс Бартрем может теперь обзавестись в Лондоне своим гнездом и раны ее постепенно затянутся. На небольшие средства, которые покойная оставила ей по головоломно-сложному завещанию, она позволила себе роскошь купить домик, что потребовало, разумеется, времени и, когда дело подошло наконец к благополучному завершению, тотчас сообщила об этом Марчеру. Он и раньше виделся с ней — мисс Бартрем наезжала в Лондон, сопровождая ныне покойную леди, а Марчер еще раз приехал в гости к тем друзьям, которые так удачно превратили Везеренд в одну из приманок своего радушия. Они снова повели его в знаменитое поместье, там он без помех беседовал с Мэй Бартрем, а в Лондоне ему порою удавалось подбить ее хотя бы ненадолго оставить почтенную родственницу в одиночестве. В таких случаях они отправлялись в Национальную галерею или Кенсингтонский музей и там, окруженные живыми образами Италии, много говорили об этой стране, но, в отличие от первой встречи в Везеренде, уже не пытались возвратить вкус и запах своей юности, своего неведения. Тогда возвращение вспять сослужило им службу, немало дало обоим, и, как считал Марчер, теперь их лодка уже не мешкает в верховьях дружбы, а энергично плывет по ее течению. Они в буквальном смысле слова плыли вместе; в этой совместности наш джентльмен так же не сомневался, как и в том, что возникла она благодаря кладу знания, сбереженному Мэй Бартрем. Он своими руками выкопал это маленькое сокровище, открыл его дневным лучам, вернее сказать — сумеречному свету их сдержанной, сокровенной близости, добыл драгоценность, которую сам же запрятал, а потом так необъяснимо долго не вспоминал о тайнике. Наткнувшись на него и радуясь поразительной удаче, Марчер ни о чем другом уже не думал; несомненно, мысли его куда чаще обращались бы к столь странному провалу памяти, когда бы не были поглощены предвкушением успокоительной поддержки в будущем — поддержки, из-за этого провала особенно нежданной. Марчеру никогда и в голову не приходило, что кому-то случится «узнать», — главным образом, потому, что он никому не намеревался довериться. Откровенность была под запретом, она лишь позабавила бы равнодушный свет. Но уж если неисповедимая воля судьбы заставила его в юности, как бы наперекор самому себе, поделиться своей тайной, он рассчитывал извлечь теперь из этого величайшую пользу и отраду. Случилось узнать той, на кого можно было надеяться, и Марчер, при всегдашней своей недоверчивости, даже и вообразить не мог, до какой степени это обстоятельство смягчит жестокость тайны. Да, Мэй Бартрем — надежная конфидентка, потому что… ну просто потому, что надежная. Она знала, и все было яснее ясного: окажись она ненадежной, это уже давно вышло бы наружу. Видимо, именно своеобразие обстоятельств было причиной того, что Марчер видел в Мэй Бартрем не более чем конфидентку, считая источником ее тепла к нему интерес — всего-навсего интерес — к столь сложной судьбе, и объяснял милосердием, способностью сочувствовать, вдумчивостью, отказ смотреть на него как на чудака из чудаков. Поэтому, дорожа ею именно за столь бережное понимание и сознавая это, он твердо решил не забывать, что в общем, и у нее есть своя жизнь, что и она может столкнуться с неожиданностями, с которыми друг обязан считаться. Тут надо сказать, что в Марчере произошла в связи с этим открытием разительная перемена, некий мгновенный переворот всего образа мыслей.
До тех пор, пока никто не знал его тайны, он считал себя самым бескорыстным человеком на свете: ни на кого не перекладывал обременительной ноши — вечной тревоги и ожидания, не роптал, помалкивал, не заикался о ней и о ее влиянии на свою жизнь, не просил себе скидок, зато охотно их делал, когда об этом просили его. Никого не приводил в замешательство жутковатой мыслью, что приходится иметь дело с маньяком, хотя иной раз, слушая сетования людей на неустроенность, испытывал соблазн заговорить. Будь они так же не устроены, как он, с самого начала выбитый из строя, им было бы понятно, что это означает. Но они не поймут, и ему только и остается, что учтиво слушать. Вот почему так безупречны — и так невыразительны — были его манеры, а главное — вот почему Марчер полагал, что в алчном мире являет собой пример человека вполне пристойно неэгоистического, хотя и с оттенком высокомерия. Таким образом, мы хотим подчеркнуть, что он достаточно высоко ценил в себе это свойство и, понимая, как велика опасность утратить его сейчас, дал себе обещание быть начеку. Однако он оставлял за собой право на малую толику эгоизма, поскольку такая приятная возможность предоставлялась ему впервые. Под «малой толикой» Марчер разумел — в тех пределах, в которых так или иначе это допустит мисс Бартрем. Он не позволит себе никакой назойливости, возьмет за твердое правило быть внимательным, очень-очень внимательным. Установит как некий закон, что ее дела, нужды, особенности — Марчер зашел так далеко, что расщедрился на столь емкое слово, — входят непременным условием в их дружеское общение. Из чего следует, что само дружеское общение он уже принимал как данность. Об этом можно не думать. Оно попросту существует, рожденное тем первым поразительным вопросом, который Мэй Бартрем задала ему в озаренном осенним светом Везеренде. Отношениям, чья основа заложена столь прочно, естественно было принять форму брака. Но в том-то и загвоздка, что именно она, эта основа, исключала даже мысль о браке. Не может он предложить женщине разделить с ним его уверенность, недоброе предчувствие, говоря короче — одержимость; отсюда — все особенности его поведения. В извивах и петлях грядущих месяцев и лет что-то, притаившись, подстерегает его, как припавший к земле зверь в чаще. И не в том суть, что предназначено припавшему к земле зверю — стать убийцей Марчера или его жертвой. Главное — непреложность прыжка этой твари, из чего с такой же непреложностью следует: порядочный мужчина обходится без спутницы, если ему предстоит охота на тигра. Таким уподоблением Марчер подводил итог раздумьям о своей жизни.
Вначале, однако, в те редкие часы, которые им удавалось провести вместе, они ни о чем таком не говорили; тем самым Марчер великодушно давал понять, что не ждет и не хочет непрерывных разговоров о своей персоне. Но подобная особенность внутреннего склада все равно что горб на спине: рассуждай о нем или не рассуждай, факт, которым окрашена каждая минута каждого дня, все равно остается фактом. Ясно, что горбун способен рассуждать только как горбун, хотя бы потому, что он и есть горбун. От этого никуда не уйти, и Мэй Бартрем настороженно наблюдала за Марчером, а так как наблюдать, да еще настороженно, в общем, легче в молчании, их совместное бдение не отличалось многословием. Вместе с тем, ему не хотелось выглядеть чопорным — по его разумению, как раз чопорностью он и грешил в обществе всех прочих. А с единственным человеком, которому дано было знать, он желал быть простым и естественным, упоминать интересующий их обоих предмет, а не подчеркнуто умалчивать о нем — умалчивать, а не подчеркнуто упоминать, и в любом случае касаться его между прочим, даже шутливый тон предпочитая педантству и ходульности. Этим, несомненно, и объясняется веселое замечание Марчера в письме к Мэй Бартрем о том, что великое событие, которое, по его безошибочному предчувствию, припасали ему боги, состоит, судя по всему, ни много ни мало в ее нынешней покупке собственного дома, поскольку оная покупка столь сильно его затрагивает. То было первое возвращение к разговору в Везеренде — до сих пор они в таких возвращениях не нуждались; но когда она написала в ответ, уже после того, как изложила свои новости, что отказывается допустить мысль, будто его ни с чем не сравнимое тревожное ожидание завершится подобной малостью, Марчер даже подумал — а не рисует ли себе мисс Бартрем его будущее еще более исключительным, чем кажется оно ему самому? Так или иначе, но постепенно, с ходом времени, Марчеру пришлось убедиться: она непрерывно всматривается и вникает в его жизнь, взвешивает ее в свете того, что знает о нем и что с годами вошло у них в обычай называть не иначе как «истинной правдой о нем». То была его всегдашняя формула, и Мэй Бартрем усвоила ее так неприметно, что, оглядываясь назад, он не мог бы сказать, когда именно она, по его выражению, целиком влезла в его шкуру или сменила великодушную снисходительность на еще более великодушную веру.
При этом у него всегда была возможность заявить, что она считает его всего лишь безвредным маньяком, и поскольку в конечном счете это определение отличалось многозначностью, Марчер охотно прибегал к нему, характеризуя их дружбу. Не сомневаясь в том, что он свихнулся, мисс Бартрем тем не менее относится к нему с симпатией, оберегает его от всех прочих, как добрая и мудрая сиделка, которая не получает платы, но зато искренне развлекается и, не связанная ни с кем тесными узами, заполняет досуг вполне благопристойным занятием. Для всех прочих он, разумеется, странный человек, но только она, она одна знает, чем и, более того, из-за чего он странный, поэтому так умело расправляет складки спасительного покрова. Переняв у него тон, который обоим мнился веселым, как переняла и все остальное, Мэй Бартрем, однако, умела с присущим ей удивительным тактом убедить чуткого Марчера, что безоговорочно ему верит. Во всяком случае, она неукоснительно называла тайну его жизни «истинной правдой о нем» и на редкость искусно создавала впечатление, будто этой тайной проникнута и ее собственная жизнь. Вот почему Марчер неизменно чувствовал, что она все принимает в расчет — иного названия для этого у него не было. Он и сам старался все принять в расчет, но сравниться с ней не мог хотя бы по той причине, что, занимая более выгодный наблюдательный пост, она следила за продвижением его горестной одержимости на путях, которые от него были скрыты. Марчер знал, что он чувствует, а она знала, как он при этом выглядит; он помнил каждое существенное дело, от которого изменнически увильнул, а она могла бы высчитать, сколько таких дел накопилось, — другими словами, сколько Марчер сделал бы, не будь у него этого груза на душе, и, следовательно, могла бы объяснить, почему при всех его способностях он оказался неудачником. Сверх того, она проникла в тайну разрыва между внешними формами его жизни — малоприметной государственной службой, обменом приглашениями и визитами с лондонскими приятелями, заботами о небольшом наследственном имуществе, о собранной им библиотеке, о загородном саде — и жизнью внутренней, столь отстраненной от этих форм, что все поведение Марчера, все, хоть немного заслуживавшее этого названия, превратилось в сплошное лицедейство. А в результате — маска с намалеванной идиотически приветливой улыбочкой, меж тем как глаза, глядевшие из прорезей, выражали совсем другое. Но хотя прошли годы и годы, тупоумный свет так до конца этого и не понял. Поняла одна лишь Мэй Бартрем, только ей с помощью непостижимой магии удалось совершить чудо: глядеть прямо в эти глаза и одновременно или, может быть, попеременно устремлять, словно из-за его плеча, взор в ту даль, куда был направлен и прищур маски.
Они понемногу старились, и Мэй Бартрем была вместе с ним на страже, пока эта совместность не окрасила и не очертила ее собственной жизни. Тогда и у нее под внешними формами поселилась отстраненность, а поведение уподобилось, на ее взгляд, недобросовестному отчету, сфабрикованному для отвода глаз. Единственный же подлинный, правдивый отчет она не могла дать никому, Джону Марчеру — в особенности. Все ее поступки с самого начала говорили сами за себя, но их явный смысл точно так же не мог пробиться в пределы его сознания, как множество других вещей и явлений. Впрочем, если бы за жертвы, которые во имя «истинной правды» приходилось приносить не только ему, но и ей, Мэй Бартрем была бы вознаграждена, можно не сомневаться, она в любую минуту сочла бы награду и более чем своевременной, и более чем естественной. В эту пору их лондонской жизни бывали долгие периоды, когда разговоры Марчера и мисс Бартрем не вызвали бы у стороннего слушателя и тени любопытства, но в какой-то миг тема «истинной правды» вдруг всплывала на поверхность, и уж тут вышеупомянутый слушатель, конечно, насторожился бы — о чем, скажите на милость, толкуют эти двое? Они давно и твердо решили, что, к счастью, живут в обществе на редкость ограниченных людей, поэтому у них вошло в обычай не считаться с ним. Все же иногда особенность их отношений обретала почти первоначальную свежесть, и причиной тому большей частью была какая-нибудь фраза Мэй Бартрем. Эти фразы повторяли друг друга, но произносила она их очень не часто.
— Знаете, что спасает нас? Полнейшее внешнее сходство наших отношений с таким привычным явлением, как дружба женщины с мужчиной, до того уже повседневная, что стала как бы обязательной.
Поводов для подобных замечаний было достаточно, но в разные времена она по-разному их развивала. Нам особенно важен оборот, который придала одному из них Мэй Бартрем в день своего рождения, когда Марчер пришел поздравить ее. Было это в воскресенье, в ту пору года, которая отмечена густыми туманами и беспросветной мглой, что не помешало Марчеру явиться к ней и, по обыкновению, с подарком: их знакомство было уже такое давнее, что он успел обзавестись уймой мелких обыкновений. Этими подарками Марчер всякий раз доказывал себе, что не погряз в грехе эгоизма. Почти всегда он дарил какую-нибудь безделушку, но неизменно изящную; к тому же он старательно выбирал для нее вещи, которые, по его мнению, были ему не по карману.
— Вас по крайней мере эта повседневность спасает — и понятно почему: в глазах пошляков вы сразу становитесь таким же, как они сами. Что особенно характерно для большинства мужчин? Их способность проводить бездну времени с заурядными женщинами. И они, наверное, даже скучают при этом, но охотно мирятся со скукой, не срываются с поводка и, значит, все равно что не скучают. Я — ваша заурядная женщина, часть того самого хлеба насущного, о котором вы молитесь в церкви. И наилучший для вас способ замести следы.
— Ну, а вам что помогает заметать следы? — спросил Марчер; рассуждения его заурядной женщины пока что казались ему только забавными. — Я отлично понимаю, что так или иначе, но вы спасаете меня во мнении окружающих. Давно это понял. А вот что спасает вас? Я, знаете ли, частенько об этом думаю.
Судя по выражению лица, она тоже нередко думала об этом, но под несколько иным углом.
— Спасает во мнении окружающих, вы это хотите сказать?
— В общем, вы так безраздельно в этом со мною потому — да, лишь потому, что я так безраздельно в этом с вами. Я хочу сказать, что бесконечно вас ценю и нет меры моей благодарности за все, что вы для меня сделали. Но иногда я спрашиваю себя — а честно ли это? То есть честно ли было вовлечь вас и, смею добавить, так по-настоящему заинтересовать? Мне даже кажется иногда, что у вас больше ни на что не остается времени.
— Ни на что, кроме настоящего интереса? — спросила она. — Но что еще человеку нужно? Я, как мы когда-то условились, вместе с вами «на страже», а это занятие поглощает все мысли.
— Ну разумеется, если бы вам не было так любопытно… — заметил Джон Марчер. — Но не кажется ли вам, что годы идут, а ваше любопытство не слишком вознаграждено?
Мэй Бартрем помолчала.
— Может быть, вы потому спрашиваете об этом, что и ваше любопытство не вознаграждено? То есть вы слишком долго ждете?
Он понял ее — еще бы ему было не понять!
— Слишком долго жду, чтобы случилось, а оно все не случается? Зверь так и не прыгнул? Нет, для меня ничего не изменилось. Я ведь выбирать не могу, не могу отказываться или соглашаться. Тут выбора нет. Что боги припасли, тому и быть. Человек во власти своего закона, с этим ничего не поделаешь. И закон сам решает, какой образ ему принять и каким путем совершиться.
— Вы правы, — согласилась мисс Бартрем, — да, от судьбы не уйдешь, да, она свершается своим особым образом, своим особым путем. Но, понимаете ли, в вашем случае и образ, и путь были бы — ну, совершенно исключительными и, так сказать, предназначенными для вас одного.
Что-то в ее словах насторожило Марчера.
— Вы сказали «были бы», как будто в душе уже начали сомневаться.
— Ну, зачем так! — вяло запротестовала она.
— Как будто начали думать, что уже ничего не произойдет.
Она покачала головой — медленно и, пожалуй, загадочно.
— Нет, я думала совсем о другом.
Он все еще настороженно вглядывался в ее лицо.
— Так что же с вами такое?
— Со мной все очень просто, — опять не сразу ответила она. — Я больше чем когда-либо уверена, что буду вознаграждена за свое так называемое любопытство, и даже слишком щедро.
Теперь от их легкого тона не осталось и следа; Марчер встал с кресла и еще раз прошелся по маленькой гостиной, где год за годом неизменно возвращался в разговорах все к той же теме, где под всевозможными соусами вкушал их сопричастность — так, вероятно, выразился бы он сам, — где вся обстановка стала не менее привычной для него, чем в собственном доме, где даже ковры были протерты его стремительными шагами, как сукно конторок в старинных торговых домах протерто локтями целой череды клерков. Целая череда изменчивых настроений Марчера отметила эту комнату, превратившуюся в дневник зрелых лет его жизни. Под влиянием слов Мэй Бартрем он, неведомо почему, с такой остротой ощутил все это, что через минуту снова остановился перед своей приятельницей.
— Может быть, вам стало страшно?
— Страшно?
Ему почудилось, что, повторяя за ним это слово, она немного изменилась в лице, и на случай, если вопрос его попал в цель, мягко пояснил:
— Помните, именно этот вопрос вы задали мне давным-давно, во время нашего первого разговора в Везеренде?
— Очень хорошо помню. И вы ответили, что не знаете, что я сама увижу, когда придет время. А потом мы за все эти годы ни разу, кажется, не заговаривали об этом.
— Совершенно верно, — подхватил Марчер, — не «говаривали, словно такой деликатной материи вообще лучше не касаться, словно думали: стоит вглядеться — и сразу обнаружится, что мне и впрямь страшно. А тогда, — продолжал он, — мы бы не знали, как нам быть дальше. Я ведь прав?
На этот раз она особенно долго медлила с ответом.
— Да, я иной раз думала, что вам страшно, — сказала она наконец. Потом добавила: — Но чего только мы иной раз не думали!
— Чего только не думали! — У него вырвалось негромкое «ох!», полуподавленный стон, точно ему сейчас так отчетливо, как редко бывало, явился образ, всегда живший в их воображении. В самые непредсказуемые мгновения на него устремлялись яростные глаза, те самые глаза того самого Зверя, и, хотя Марчер уже давно сжился с ними, тем не менее он до сих пор неизменно платил им дань вот таким вздохом из самых глубин своего существа. Все их предположения, от первого до последнего, закружились над ним, и прошлое свелось к одним лишь бесплодным умствованиям. Это и поразило его сейчас: все, чем оба они населили гостиную, было упрощением — все, кроме тревоги ожидания. Да и тревога ощущалась только потому, что ничего другого не было. Даже его прежний страх, если называть это чувство страхом, тоже затерялся в пустыне. — Полагаю все-таки, — закончил он, — что вы сами видите: теперь мне не страшно.
— По-моему, я вижу, что вы совершили почти невозможное, до такой степени приучив себя к опасности. Так сжились и сблизились с ней, что перестали ее ощущать; она рядом, вы это знаете, но вам уже все равно, и даже нет прежней потребности напускать на себя бодрость. А эта опасность такого свойства, что я должна признать: вряд ли кому-нибудь удалось бы держаться лучше, чем держитесь вы. Джон Марчер попытался улыбнуться.
— Героически?
— Ну что ж, назовем это хотя бы так.
— Значит, я действительно мужественный человек?
— Вот это вам и предстояло доказать мне. Он, однако, все еще сомневался.
— Но мужественный человек должен знать, чего он страшится, а чего не страшится. Как раз этого я и не знаю. Понимаете? Не могу разглядеть. Не могу назвать. Знаю только, что я под угрозой.
— Да, под угрозой и — какое бы тут подобрать слово? — под очень прямой. Под угрозой самому сокровенному. Это мне вполне ясно.
— Настолько ясно, что, так сказать, к концу нашей совместной стражи вы убедились: мне не страшно?
— Вам не страшно. Но нашей страже не наступил конец. Вернее, не наступил конец вашей страже. Вам еще предстоит все увидеть.
— А вам — нет? Но почему? — спросил он. Весь день его не покидало чувство, что она что-то утаивает. Было оно и сейчас. Ничего похожего Марчер прежде не ощущал, и это ощущение стало своего рода вехой. Тем более что Мэй Бартрем не торопилась с ответом. — Вы знаете что-то, чего не знаю я! — не выдержал он паузы. И голос мужественного человека немного задрожал. — Знаете, что должно случиться. — Ее молчание, выражение ее лица были почти признанием, подтверждали его догадку. — Знаете, но вам страшно сказать мне. Все так плохо, что вам страшно, а вдруг я догадаюсь.
Вероятно, он был прав, потому что вид у Мэй Бартрем был такой, точно он, сверх ее ожиданий, переступил незримую черту, которой она себя обвела. Впрочем, она могла не беспокоиться, а главное, в любом случае не было оснований беспокоиться ему.
— Вы никогда не догадаетесь.
3
Тем не менее, повторяю, тот разговор стал вехой в их отношениях, и в дальнейшем это полностью подтвердилось: все, происходившее между ними потом, даже спустя много времени, все оказывалось лишь отзывом на него, лишь его результатом. Вначале, как прямое следствие, смягчилась настойчивость Марчера — пожалуй, даже перешла в свою противоположность, словно его вечная тема отпала под воздействием собственной тяжести, более того, словно Марчера вновь стали посещать мысли об опасности впасть в эгоизм. Он считал, что, в общем, недурно усвоил, как важно не быть себялюбцем, и, действительно, согрешив в этом смысле, всегда спешил загладить свой грех. Во время театральных сезонов он охотно искупал такие проступки, приглашая свою приятельницу в оперу, и порою столь рьяно доказывал стремление разнообразить пищу для ума мисс Бартрем, что ей случалось появляться там вместе с ним раз десять, а то и двенадцать в месяц. Иногда, проводив ее до дому, Марчер даже заходил к ней, дабы завершить, по его выражению, вечер, и, желая подчеркнуть свою позицию, соглашался разделить с хозяйкой легкий, но изысканный ужин, который всегда был для него наготове. А сводилась эта позиция к тому, что он никогда не настаивал — или считал, что не настаивает, — на разговорах о собственной персоне: к примеру, готов был сесть за фортепьяно, благо оба играли на этом инструменте, стоявшем тут же в гостиной, и повторить в четыре руки пассажи из прослушанной оперы. И все же в один из таких вечеров Марчер напомнил Мэй Бартрем, что не получил ответа на вопрос, который задал во время разговора, отметившего последний день ее рождения. «Что спасает вас?» — спросил он тогда, имея в виду — спасает от угрозы прослыть не такой, как все. Пусть она права, и он лишь оттого не привлекает к себе внимания, что важнейшую сторону своей частной жизни устроил по образцу большинства мужчин, то есть, довольствуясь малым, заключил своего рода союз с женщиной, не более примечательной, чем он сам, — но вот как она ухитрилась не привлечь к себе внимания, и почему такой союз, всем, конечно, известный, не вызвал кривотолков?
— А я не говорила, что кривотолков не было, — сказала Мэй Бартрем.
— Ах, так! Значит, вы-то не были «спасены».
— Мне это безразлично. Если вы нашли свою женщину, то я нашла своего мужчину, — ответила она.
— Стало быть, вас такое положение устраивает? Она помедлила с ответом.
— Оно устраивает вас, так почему бы, по тем простым человеческим понятиям, о которых мы говорили, оно не должно устраивать и меня?
— Понимаю. «По простым человеческим понятиям», из которых вытекает, что вам есть для чего жить. То есть не только для меня и моей тайны.
Мэй Бартрем улыбнулась.
— По-моему, из этого совсем не вытекает, что я живу не для вас. Речь идет как раз о моей с вами близости.
Он понял ее реплику и рассмеялся.
— Ну да, ну да, но если, как вы говорите, я для всех окружающих вполне зауряден, вы для них тоже заурядны, не так ли? Вы помогаете мне слыть таким же, как все. А если я такой, как все, ваша репутация, считаете вы, в безопасности. Правильно я вас понял?
И опять она помедлила, но ответ ее был достаточно ясен:
— Правильно. Только это и важно для меня — помочь вам слыть таким, как все.
Он не поскупился на слова благодарности:
— Как вы добры ко мне! Как великодушны! Не знаю, как и доказать вам свою признательность.
И снова, уже в последний раз, она задумалась, словно выбирала ответ. Но ее выбор был предрешен.
— Будьте верны себе, вот и все.
И он остался верен себе, все шло как всегда, и на этот раз так долго, что наступил, не мог не наступить день, когда они вновь попытались проникнуть в душевные глубины друг друга. Казалось, их нервы требовали, чтобы время от времени оба опускали лот в эти глубины, стараясь измерить бездну, обычно скрытую помостом, достаточно прочным, хотя и шатким с виду, порою даже вздрагивающим под напором воздушных вихрей. К тому же в отношениях Марчера с Мэй Бартрем появился новый оттенок из-за ее нежелания опровергнуть укор, будто она не решается поделиться с ним своей догадкой, укор, который вырвался у него к концу последнего и едва ли не самого прямого их разговора. Он тогда вдруг почувствовал — она что-то «знает», что-то плохое для него, такое плохое, что не смеет рассказать ему об этом. На его слова — все, очевидно, настолько плохо, что ей страшно, как бы он не догадался, — последовал уклончивый ответ, который требовал немедленного прояснения, но Марчер из-за особой своей чувствительности не осмелился снова подступиться к столь грозному предмету. Он ходил вокруг да около, то приближаясь, то удаляясь; впрочем, беспокойство его умерялось сознанием, что не может она «знать» ничего такого, чего не знал бы он сам. Источники знания у обоих общие, разве что у нее восприимчивее нервы. Такова природа женщин: если кто-то вызвал их интерес, они улавливают такие тонкости, касающиеся этого человека, которые сам он зачастую уловить не может. Нервы, чувствительность, воображение — вот их дозорные и поводыри: что касается Мэй Бартрем, ее несравненное достоинство как раз в том и состояло, что она так близко к сердцу приняла его судьбу. В эти дни он познакомился с чувством, до тех пор, как ни удивительно, ему неведомым: все растущим страхом утратить ее в катастрофе — в какой-то катастрофе, но не в той самой. Этот страх был вызван отчасти внезапным и острым ощущением, что дружба с Мэй Бартрем сейчас ему нужнее, чем когда-либо прежде, отчасти нынешней ее болезненностью, явной и тоже совсем непривычной. Весьма характерно для внутренней отстраненности, которую он так долго и успешно в себе взращивал — собственно, этому его свойству и посвящен весь наш рассказ, — итак, весьма характерно, что в этих критических обстоятельствах с небывалой силой обострились его предчувствия: Марчер даже начал подумывать, не вступил ли он уже в пределы, где видим и слышим, осязаем, досягаем и полностью подвластен тому, что его подстерегает.
Когда тот неминуемый день наступил и Мэй Бартрем призналась Марчеру, что у нее есть основания опасаться серьезного заболевания крови, он ощутил тень близких перемен и ледяной холод катастрофы. И сразу стал представлять себе всяческие осложнения и несчастья и, главное, думать, какой утратой грозит ему недуг мисс Бартрем. Но тут в нем, как бывало уже не раз, зашевелилось чувство справедливости, и он, по обыкновению, порадовался этому: значит, и теперь его в первую голову волнует мисс Бартрем, которая, быть может, столь многого лишится… А вдруг она умрет, так и не узнав, так и не увидев?… Было бы слишком жестоко задать ей этот вопрос сейчас, в самом начале недуга, но себе Марчер задал его немедленно и с большой горечью, глубоко сострадая мисс Бартрем из-за возможности такого исхода. И если она «знает» в том смысле, что ее осенило некое — как бы это назвать? — неопровержимое мистическое откровение, от этого, разумеется, не легче, а даже тяжелее, ибо, так давно и так полно разделив с ним любопытство к его судьбе, она положила это любопытство краеугольным камнем своей жизни. Мэй Бартрем жила, чтобы увидеть все, что должна была увидеть, и как мучительно ей будет уйти, прежде чем предвиденное сбудется! Эти размышления, как я уже сказал, освежили великодушные чувства нашего джентльмена, однако с ходом времени он обнаруживал в себе все большую растерянность. Двигаясь с какой-то странной плавностью, время несло ему — ну, не удивительно ли? — не только угрозу немалых затруднений, но первую настоящую неожиданность на всем его жизненном поприще — если слово «поприще» вообще применимо к жизни Марчера. Мэй Бартрем уже совсем не выходила из дому, он виделся с ней только в ее гостиной, больше нигде, хотя не было, кажется, такого уголка в их любимом старом Лондоне, где в прошлые годы им не доводилось бы назначать друг другу встречи; теперь она всегда принимала его, сидя у камина в покойном старинном кресле, с которого ей все труднее было подниматься. Однажды, наведавшись к ней после сравнительно долгого отсутствия, он был поражен внезапной переменой в ее облике: она выглядела куда старше, чем, по его представлениям, была на самом деле. И тут же спохватился: перемена произошла отнюдь не внезапно, это он внезапно ее заметил. Мэй Бартрем выглядела старше потому, что за столько лет успела состариться или почти состариться и, разумеется, это еще в большей степени относилось к ее гостю. Если она почти состарилась, то Джон Марчер состарился без всякого «почти», но эту истину он постиг, только глядя на свою приятельницу. С этого открытия начались для него неожиданности и, начавшись, принялись умножаться, набегать друг на друга, словно их, связанных в тугой пучок, где-то прятали по непонятной прихоти, приберегая для предвечерней поры его жизни, для той поры, когда большинство людей давно поставили крест на неожиданном.
Прежде всего Марчер поймал себя — именно поймал — на вполне серьезном раздумье: не заключается ли великое событие всего-навсего в том, что он станет вынужденным свидетелем постепенного ухода от него этой прелестной женщины, этого замечательного друга? Никогда еще так безоглядно не превозносил он в своих мыслях Мэй Бартрем, как теперь, столкнувшись с подобной перспективой, однако почти не сомневался, что если бы ответ на загадку стольких лет сводился к обыкновенному исчезновению даже такой пленительной особенности его судьбы, это было бы слишком постыдным снижением самой загадки. При занятой им жизненной позиции рухнуло бы самоуважение Марчера, а под грузом такого обвала и все его бытие превратилось бы в смешное и уродливое банкротство. А он был далек от признания себя банкротом, хотя и затянулось ожидание неведомого, которому предстояло увенчать это бытие успехом. Нет, он ожидал иного, не того, что сейчас предстояло. И все же, когда Марчер до конца понял, как долго он ждал и, во всяком случае, как долго ждала Мэй Бартрем, даже его вера заколебалась. Думать, что она-то, несомненно, ждала втуне, было мучительно, тем более что эта мысль, которой сперва он лишь играл, становилась все тяжелее по мере того, как все тяжелее становился недуг его приятельницы. Постепенно Марчер пришел в такое состояние духа, которое тоже можно причислить к постигшим его неожиданностям; кончилось это тем, что он научился смотреть на него со стороны, как смотрел бы на уродливое изменение своего внешнего облика. И, неразрывно связанное с этим состоянием, в мозгу у него копошилось нечто, совсем ошеломляющее, чему он, если бы посмел, придал бы форму вопроса. Не означает ли происходящее, то есть она, и ее тщетное ожидание, и, вероятно, близкая смерть, и беззвучное предостережение, которое во всем этом заложено, — не означает ли оно яснее ясного, что слишком поздно, что ни для чего уже не осталось времени? Никогда прежде не допускал он в своей одержимости даже намека на сомнение, никогда, вплоть до последних месяцев, не изменял убеждению, твердой уверенности в том, что предназначенное сбудется в свое время, даже если ему, Марчеру, покажется, будто время уже истекло… Но теперь, теперь оно и впрямь, кажется, истекло, запас мизерно мал, и при том, как все складывалось, уже и его давняя одержимость вынуждена была с этим считаться; не облегчал дела тот все более очевидный факт, что для воплощения в действительность великого неведомого, в чьей длинной тени жил Марчер, уже почти не осталось места. Встретиться с судьбой ему предстояло во Времени — следовательно, обрушиться на него она тоже должна была во Времени; едва он осознал, что уже не молод, иначе говоря, изношен, а это, в свою очередь, означает — слаб, как осознал и другое. Все на свете взаимосвязано — он и великое неведомое равно подчинены единому закону. Когда, в соответствии с этим законом, изнашиваются возможности, когда тайна богов теряет крепость или — как знать? — совсем испаряется, тогда, и только тогда приходит сознание банкротства. Претерпеть разочарование, бесчестие, позорный столб, виселицу — это еще не банкротство; банкротство — ничего не претерпеть. Бредя на ощупь темной долиной, куда его завел неожиданный поворот тропы, Марчер все время размышлял об этом. Пусть его постигнет самое страшное крушение, пусть он окажется связанным с любой гнусностью, с любым постыдным, даже чудовищным деянием, он готов ко всему, поскольку, в конце концов, не так уж стар, чтобы избежать возмездия, лишь бы сохранилась пристойная соразмерность между жизнью, которую он вел в ожидании обещанного события, и самим событием. У него осталось одно желание: не оказаться в дураках.
4
И вот однажды — то было ранней, юною весной — Мэй Бартрем на свой особый лад ответила Марчеру, когда с редкой прямотой у него вырвалось признание в этих страхах. Он пришел к ней под вечер, но еще не стемнело, и ее озарял долго не меркнущий, напитанный свежестью свет последних апрельских дней, порою стесняющий нам сердце печалью более томительной, чем самые сумрачные осенние часы. С неделю стояла теплая погода, весна, судя по всему, выдалась дружная, и Мэй Бартрем впервые в том году сидела при незажженном камине; по ощущению Марчера, это придало всей картине, куда входила и она, ту отполированную завершенность, которая своим образцовым порядком и видом холодной, ничего не значащей приветливости как бы давала понять, что никогда ей уже не увидеть зажженного камина. Что-то во внешности хозяйки подчеркивало эту ноту, но что именно, Марчер затруднился бы объяснить. Ее бледное, почти восковое лицо покрывала тончайшая сетка бессчетных морщинок и пятнышек, словно нанесенных гравировальной иглой; белое свободное, мягко струящееся платье оживляла лишь блекло-зеленая шаль, над чьим нежным оттенком потрудилось время; Мэй Бартрем была подобием безмятежного, изысканного, но непроницаемого сфинкса, с головы до ног запорошенного серебряной пылью. Она была сфинксом, и в то же время ее можно было уподобить лилии с белым венчиком и зелеными листьями, но лилии искусственной, изумительной подделке, правда, уже чуть поникшей и покрытой сложным переплетением едва заметных трещинок, хотя хранили ее в незапятнанной чистоте под прозрачным стеклянным колпаком. В ее комнатах, всегда заботливо убранных, каждая вещь блестела и лоснилась, но сейчас Марчеру мерещилось — там все доведено до такого совершенства, так расставлено и расправлено, что Мэй Бартрем остается лишь сидеть сложа руки в полном бездействии. Она уже вне игры, думал Марчер, свое дело она уже сделала, и он чувствовал себя безмерно заброшенным, потому что Мэй Бартрем подавала ему голос точно с другого края разделившей их пропасти или с острова отдохновения, куда успела добраться. Значило ли это, вернее, могло ли не значить, что после многих лет совместного несения стражи ответ на их общий вопрос не только замаячил на ее горизонте, но и воплотился в слова и, следовательно, ей теперь действительно больше нечего делать? Марчер, собственно говоря, уже несколько месяцев назад упрекнул ее в этом: она что-то знает, но утаивает от него, сказал он тогда. Но больше на своем утверждении не настаивал, смутно опасаясь разногласия и даже размолвки. Короче говоря, в последнее время он начал нервничать, чего во все предыдущие годы с ним не случалось: вот это и удивительно, что его нервы только тогда сдали, когда он усомнился в неминуемости события, что всё выдерживали, пока он уверенно ждал. Он чувствовал — в воздухе скопилось что-то незримое, и при первом неосторожном слове оно падет ему на голову или по меньшей мере положит предел тревожному ожиданию. И остерегался неосторожного слова — слишком все стало бы тогда уродливо. Если неведомое должно обрушиться на него, пусть оно обрушится под воздействием собственной своей величавой тяжести. И если Мэй Бартрем решила покинуть его, что ж, пусть сама и делает первый шаг. Поэтому он не ставил ей вопроса напрямик и поэтому же, избрав окольный путь, все-таки на этот раз спросил:
— Как по-вашему, что было бы самым плохим из всего, что еще может случиться в мои годы?
Он часто спрашивал ее об этом и прежде; когда периоды замкнутости с прихотливой неравномерностью сменялись периодами откровенности, они вместе строили бессчетные предположения, а потом, во время трезвых антрактов, от этих предположений не оставалось следа, как от знаков, выведенных на морском песке. Особенность их общения всегда была такова, что, если самая давняя тема хотя бы ненадолго замирала, исчерпав себя, она возвращалась потом, звуча уже совсем по-новому. Поэтому на его вопрос Мэй Бартрем ответила без признака нетерпения, как на нечто неожиданное:
— Ну, конечно, я часто думала об этом, но раньше как-то не могла ни на чем остановиться. Я придумывала всякие ужасы и не знала, какой выбрать. С вами, должно быть, было то же самое.
— Еще бы! Теперь мне кажется — я ничем другим и не занимался. Такое ощущение, будто вся жизнь ушла на придумывание ужасов. О многих я в разное время говорил вам, а иные не смел даже назвать.
— Такие ужасы, что и назвать не смели?
— Да. Были и такие.
С минуту она смотрела на него, и, отвечая на ее взгляд, Марчер без всякой связи подумал, что когда Мэй Бартрем раскрывает всю ясную глубину своих глаз, они так же прекрасны, как в юности, только теперь их красота светит странно-холодным светом — тем самым, который отчасти составляет или, может быть, предопределяет бледное, жестокое очарование этого времени года и этого часа суток.
— А между тем, — проговорила она наконец, — мы с вами перебрали немало ужасов.
Ощущение необычности усилилось, когда она, такая фигура в такой картине, заговорила об «ужасах», но через несколько минут Мэй Бартрем предстояло сделать нечто еще более необычное — впрочем, даже это он по-настоящему понял лишь потом, — уже заранее как бы звучавшее в воздухе. Яркий, как в молодости, блеск ее глаз был одним из предвестий того, что последовало. А пока Марчеру пришлось согласиться с ней.
— Да, когда-то мы с вами далеко заходили.
Он осекся, заметив, что говорит об этом, как о чем-то, оставшемся в прошлом. Что ж, он хотел бы, чтоб так оно и было, но исполнение его желания, по мнению Марчера, все больше и больше зависело от Мэй Бартрем.
Но тут она мягко улыбнулась.
— Далеко?…
В ее тоне звучала непонятная ирония.
— Вы хотите сказать, что готовы пойти еще дальше? Хрупкая, ветхая, прелестная, она по-прежнему смотрела на него, но, казалось, забыла, о чем они говорят.
— По-вашему, мы так далеко зашли?
— Но, если я правильно вас понял, вы сами сказали, что мы почти всему смотрели прямо в лицо.
— В том числе и друг другу? — Она все еще улыбалась. — Впрочем, вы совершенно правы. Мы с вами много фантазировали, иногда многого боялись, но кое-что так и осталось неназванным.
— Значит, худшему мы в лицо не посмотрели. Хотя, по-моему, я мог бы, если бы знал, что вы имеете в виду. У меня такое чувство, — пояснил он, — что я потерял способность представлять себе эти вещи. — И тут Марчер подумал: а видит ли она, до какой степени он опустошен? — Эта способность исчерпана.
— А вам не приходит в голову, что и у меня она исчерпана?
— Вы сами проговорились, что это не так. Для вас это уже не вопрос воображения, раздумий, догадок. Не вопрос выбора. — Наконец он заговорил в открытую. — Вы знаете что-то, чего не знаю я. Вы и раньше давали мне это понять.
Он сразу увидел, что последние слова сильно ее задели.
— Я, мой друг, ничего не давала вам понять, — с твердостью сказала она.
Он покачал головой.
— Вы не умеете скрывать.
— О-о-о! — Это относилось к тому, чего она не умела скрыть, и было похоже на подавленный стон.
— Вы признали это много месяцев назад, когда я сказал, что вам страшно, как бы я не догадался. Вы ответили тогда, что мне все равно не догадаться, бесполезно и пробовать, и не ошиблись, я не догадался. Но вы думали о чем-то определенном, и теперь я понимаю — это касалось, это касается возможности, которую вы считаете наихудшей. Поэтому, — продолжал он, — я и взываю к вам. Поймите, сейчас меня страшит только неведение, знание уже не страшит. — Она молчала, и тогда он снова заговорил: — Я потому еще так уверен, что вижу по вашему лицу, чувствую в воздухе, во всем, что населяет эту комнату, — вы вне игры. Покончили с этим. Вам уже все известно. Вы предоставляете меня моей судьбе.
И Мэй Бартрем слушала его, белая, неподвижно застывшая в кресле, словно в ней зрело решение, и в этом было прямое признание, хотя какая-то тонкая, полупрозрачная преграда еще не совсем рухнула, внутреннее сопротивление не до конца сломилось.
— Это действительно было бы наихудшим, — произнесла она, с трудом разжимая губы. — Я имею в виду то, о чем никогда не говорила вам.
На секунду он онемел.
— Чудовищнее, чем все наши чудовищные догадки?
— Чудовищнее. Ведь вы сами сказали слово «наихудшее» — разве этого не достаточно? — спросила она.
— Достаточно, если и вы, как я, разумеете нечто, что соединяет в себе все мыслимые утраты и весь мыслимый стыд, — подумав, ответил Марчер.
— Так оно и будет, если будет, — сказала Мэй Бартрем. — Но помните, это ведь только мое предположение.
— Ваше убеждение, — возразил Марчер. — Для меня этого довольно. Потому что я чувствую — оно правильное. И если вы по-прежнему не желаете объяснить мне, значит, решили бросить меня.
— Нет же, нет! — настойчиво сказала она. — Разве вы не видите, я с вами, все еще с вами. — И как бы для большей убедительности поднялась с кресла, а это редко случалось с ней в последнее время, и встала перед ним, прекрасная и хрупкая в своем белом, струящемся платье. — Я не покинула вас!
Этим усилием одолеть слабость она так великодушно подтверждала свои слова, что, если бы ее порыв не увенчался, к счастью, успехом, Марчер скорее огорчился бы, чем обрадовался. Она стояла перед ним, и холодная прелесть глаз сообщалась всему ее облику, так что в ту минуту Мэй Бартрем как бы вновь обрела юность. Поэтому он не жалел ее, он принимал то, что она предлагала, — готовность помочь ему и сейчас. Но вместе с тем чувствовал — этот свет в любой миг может угаснуть и, значит, нельзя терять времени. Ему не терпелось задать ей несколько самых важных вопросов, но тот, что как бы сам собой вырвался у него, по сути вмещал все остальные.
— Тогда скажите мне, буду ли я сознавать, что страдаю?
Она, не колеблясь, покачала головой.
— Нет!
Теперь он окончательно уверовал: ей ведома тайна — и был потрясен.
— Но что может быть лучше? Почему вы считаете, что это самое худшее?
— А по-вашему, самое лучшее?
Она явно говорила о чем-то конкретном, так что Марчер опять встревожился, хотя луч успокоения все еще брезжил ему.
— Но чем плохо, когда человек не сознает?
Он задал этот вопрос, и они молча взглянули в глаза друг другу, луч стал еще ярче, и тут Марчер прочел в ее лице что-то, бьющее прямо в цель. И тогда, до корней волос залившись краской, он задохнулся — так пронзительна была догадка, разрешавшая как будто все сомнения. Его вздох гулко разнесся по комнате.
— Понял! Если я не страдаю… — проговорил он, когда снова обрел дар речи.
В ее взгляде, однако, было сомнение.
— Что вы поняли?
— Как что? То, конечно, что вы имеете, что имели всегда в виду.
Она опять покачала головой.
— Сейчас я имею в виду не то, что прежде. Это совсем другое.
— Новое?
— Новое, — помолчав, сказала она. — Не то, что вы думаете. Я знаю, о чем вы подумали.
Теперь можно было передохнуть от догадок; но что, если она все-таки неверно поняла?
— Вы не считаете, что я действительно осел? — спросил он не то горестно, не то угрюмо. — Что все это — заблуждение?
— Заблуждение? — повторила она с глубокой жалостью. Ему стало ясно — такая возможность представляется ей чудовищной, и не ее имела она в виду, обещая, что он не будет страдать. — Нет, разумеется, нет! — твердо сказала она. — Вы были правы.
Однако он не мог отделаться от мысли — а вдруг, прижатая к стене настойчивостью допроса, Мэй Бартрем просто пытается спасти его? Ведь всего гибельнее для него — так, во всяком случае, казалось Марчеру — было сознание, что история его жизни глупа и банальна.
— Это правда? Может быть, вы боитесь, что я не выдержу, если до конца пойму, каким я был болваном? Ответьте, вся моя жизнь не была отдана пустому вымыслу, дурацкому заблуждению? Не зря я ждал? Дверь не захлопнулась перед самым моим носом?
Она еще раз покачала головой.
— Что бы там ни было, но это не так. И какая бы ни была реальность, она реальна. Дверь не захлопнулась. Дверь открыта, — сказала Мэй Бартрем.
— Значит, что-то случится?
И опять она выжидающе помолчала, не отводя от него пленительных холодных глаз.
— Для этого нет слова «поздно».
Скользящим шагом она подошла к нему, приблизилась, постояла с минуту совсем рядом, точно переполненная тем, что не было произнесено. Этим движением она, видимо, хотела придать чуть больше весу словам, которые не решалась и все-таки намеревалась сказать. Он стоял у незажженного камина, украшенного только маленькими старинными часами отличной французской работы и двумя безделушками из розового дрезденского фарфора, и Мэй Бартрем длила его ожидание, ухватившись за каминную доску, как бы ища в ней поддержки и ободрения. Она длила и длила ожидание, вернее, длил его он сам. И вдруг ее движение, ее поза с прекрасной живостью подсказали ему, что у нее есть еще что-то для него: поэтому так нежно сияло ее изможденное лицо, так светилось белым свечением серебра. Марчер видел — она не ошибается, из ее глаз глядит та самая истина, о которой шел их разговор, до сих пор наполнявший воздух недобрыми отголосками, но сейчас, без всякой логики и оснований, эта истина почудилась ему несказанно успокоительной. Охваченный изумлением, он с жадной благодарностью ждал ее откровений, и минута шла за минутой, а они все молчали, она — обратив к нему светящееся изнутри лицо, он — ощущая невесомую настоятельность ее близости, глядя на нее ласково и по-прежнему только выжидательно. Но напрасно он ждал, слово так и не было произнесено. Произошло другое, выразившееся сперва в том, что она закрыла глаза. В тот же момент ее слегка передернуло, и, хотя Марчер продолжал в упор смотреть на нее, продолжал смотреть еще требовательнее, она, отвернувшись, направилась к креслу. Она отказалась от напрасной попытки, но он ни о чем другом уже не мог думать.
— Вы так и не сказали…
Отходя от камина, она коснулась звонка и, бледная неживой бледностью, опустилась в кресло.
— Простите, мне очень нездоровится.
— Так нездоровится, что вы не можете сказать мне?… — В страхе он подумал и чуть было не крикнул — а вдруг она умрет, ничего не открыв ему, но, спохватившись, задал вопрос по-иному; впрочем, она ответила, как будто те слова были сказаны.
— Вы и сейчас… не знаете?
— Сейчас? — Она, казалось, подразумевала, что за последние минуты что-то изменилось. Но, без промедления повинуясь звонку, в комнату уже вошла горничная. — Я ничего не знаю. — Потом он корил себя за то, что в голосе его, должно быть, звучало отвратительное нетерпение, явно говорившее — он до последней степени разочарован и умывает руки.
— Ох! — вздохнула Мэй Бартрем.
— Вам больно? — спросил он, когда горничная подошла к ней.
— Нет, — ответила Мэй Бартрем.
Обняв ее за плечи и собираясь увести из гостиной, горничная, как бы в опровержение, просительно взглянула на Марчера, но он все-таки еще раз подчеркнул свое недоумение:
— Но что же произошло?
С помощью служанки Мэй Бартрем опять стояла перед ним, и он, чувствуя, что не смеет задерживаться, машинально взяв шляпу и перчатки, направился к двери. Потом остановился, по-прежнему ожидая ответа.
— То, что должно было, — сказала она.
5
Назавтра Марчер снова пришел к ней, но — небывалый случай за все их долгое знакомство — она не смогла его принять, и, потерянный, уязвленный, даже рассерженный, во всяком случае уже не сомневаясь, что такое нарушение установленных обычаев означает начало конца, он отправился бродить наедине со своими мыслями, из которых одна была особенно неотвязна. Мэй Бартрем умирает, он скоро ее утратит, она умирает, и это конец его собственной жизни. Он забрел в парк и там остановился, вглядываясь в подступившее вновь сомнение. В ее отсутствие оно становилось все настойчивее: когда она была рядом, он верил ей, но сейчас, в горестной своей заброшенности, хватался за объяснение, которое, само собой напрашиваясь, несло немного убогого тепла и не слишком много холодного отчаянья. Она обманула его, стараясь спасти, стараясь всучить хоть что-то, в чем он мог бы найти успокоение. То неизбежное, что должно было произойти с ним, разве в конечном счете оно уже не происходит? Ее смертельная болезнь, ее смерть, его последующее одиночество — это и представлялось ему в образе зверя в чаще, это и припасли ему боги. В общем, она так и сказала на прощание, иначе и нельзя было понять ее слова. Вместо чудовищного события, высокого, исключительного жребия, вместо удара судьбы, который, сокрушив, обессмертил бы его, — печать обыкновенной людской обреченности. Но в этот час своей жизни бедный Марчер считал, что вполне довольно и обыкновенной людской обреченности. С него хватало и этого; его гордыня готова была смириться даже с таким завершением бесконечно долгого ожидания. Смеркалось. Он сел на садовую скамью. Нет, он себя не дурачил. Что-то должно было произойти, сказала она. Когда Марчер собирался встать со скамьи, его вдруг пронзила мысль о том, как точно соответствует завершающее событие той длинной дороге, по которой он брел к этому завершению. Мэй Бартрем пядь за пядью прошла с ним весь путь, деля его тревожное ожидание неизбежного, отдавая себя целиком, отдавая жизнь, дабы оно наконец разрешилось. Она помогала ему жить, и, оставив ее позади, как жестоко, с какой раздирающей болью он будет ощущать эту утрату! Может ли быть что-нибудь сокрушительней?
Это он узнал через неделю; продержав в отдалении, лишив покоя, измучив отказами допустить к себе, когда день за днем он приходил к ней, Мэй Бартрем все же положила конец его испытанию и приняла Марчера в той самой гостиной, где принимала всегда. Но для этого ей пришлось с немалым для себя риском выдержать встречу со всем, что так бесспорно и так тщетно составляло добрую половину их прошлого, и, при всем ее очевидном желании смягчить и умерить его одержимость, избавить от долгих терзаний, вряд ли она могла ему помочь. А она только этого и хотела — во имя собственного спокойствия в последний раз помочь ему, пока силы еще не совсем ее оставили. Марчер был так взволнован переменой в ней, что, подсев к креслу, решил ни о чем больше не спрашивать, но она сама вернула его к тому разговору и перед расставанием повторила сказанные тогда слова: она не скрывала, как ей необходимо оставить в полном порядке то, что их связывало.
— Я не уверена, что вы поняли. Вам нечего ждать больше. Оно пришло.
Каким взглядом он впился в нее!
— Вы уверены?
— Уверена.
— То, что, по вашим словам, должно было прийти?
— То, чего мы с юности ожидали с вами.
Она была рядом, и Марчер опять верил ей, хотя бы потому, что так мизерно мало мог противопоставить ее утверждению.
— По-вашему, оно пришло — реальное, окончательное с именем и датой?
— Реальное. Окончательное. Насчет имени не знаю, но безусловно с датой.
Он снова стал в тупик.
— Но пришло среди ночи, пришло и обошло меня?
Мэй Бартрем бледно и как-то загадочно улыбнулась.
— О нет, не обошло.
— Но если я ничего не заметил и оно меня не коснулось?…
— Вы не заметили. — Она нерешительно помолчала, как бы сомневаясь, стоит ли ей говорить об этом. — Не заметили, и вот это самое удивительное. Это всего непонятнее. — Голос у нее был слабый, как у больного ребенка, и все же сейчас, стоя у последнего предела, она говорила с непреклонностью сивиллы. Она не сомневалась, что действительно знает, и в этом, казалось Марчеру, была та возвышенность, которая соответствовала закону, им управлявшему. Он как бы слышал голос этого закона, вещавшего устами Мэй Бартрем.
— Оно коснулось вас, — продолжала она, — и свое дело сделало. Завладело вами.
— И мне об этом ничего не ведомо?
— И вам об этом ничего не ведомо. — Он наклонился к ней, взявшись за подлокотник ее кресла, и она, улыбаясь своей нынешней туманной улыбкой, положила свою руку на его. — Довольно, что ведомо мне.
— Ох! — смятенно вздохнул он, как не раз в последнее время вздыхала она.
— Мои давнишние слова оправдались. Теперь вы уже никогда не узнаете и, по-моему, должны этому радоваться. Оно вас не миновало, — сказала Мэй Бартрем.
— Но что «оно»?
— То, что было вам предназначено. Ваш внутренний закон. Он свершился. И я очень рада, — храбро добавила она, — что успела увидеть, чем он не был.
Марчер не спускал с нее глаз; слова Мэй Бартрем, да и она сама были так непостижимы, что он бросил бы ей открытый вызов, когда бы не чувствовал: нельзя злоупотреблять ее слабостью, надо смиренно принимать все, что она еще может дать, смиренно и безропотно, как откровение свыше. И заговорил он только потому, что уже предвидел, какое одиночество его ждет.
— Если вы радуетесь тому, чем он не был, значит, могло быть хуже?
Она отвела от него глаза и глядела куда-то вдаль.
— Но ведь вы помните наши страхи, — сказала она через секунду.
— Значит, этого мы никогда не боялись? — недоуменно спросил он.
Она медленно перевела глаза на него.
— Мы представляли себе много всякого, но представлялось ли нам хоть раз, что когда-нибудь приведется вот так разговаривать об этом?
Он попытался было вспомнить, но их бессчетные фантазии словно растворились в густом холодном тумане, где даже мысль сбивалась с дороги.
— Но, вероятно, тогда мы еще не могли так говорить?
— Да, пожалуй. — Она изо всех сил старалась ему помочь — Во всяком случае, не с этой стороны. Это ведь другая сторона.
— Для меня все стороны одинаковы, — ответил бедный Марчер, но, когда она в знак несогласия тихонько качнула головой, спросил: — Может быть, мы уже перешли?
— Перешли? Нет, мы ничего не перешли. Мы — здесь, — подчеркнула она слабым своим голосом.
— Нам-то какой от этого прок? — с полным чистосердечием отозвался Марчер.
— Не такой уж маленький. Прок хотя бы в том, что уже нечего ждать. Все прошло. Осталось позади, — сказала Мэй Бартрем. — До сих пор… — Но тут ее голос прервался.
Боясь утомить ее, он встал, но нелегко было справиться с желанием узнать. В конечном счете она только и сказала ему, что он бродит в потемках, а это Марчер понимал и без нее.
— До сих пор? — тупо повторил он.
— Понимаете, до сих пор это могло прийти в любую минуту и, значит, всегда присутствовало.
— Ох, пусть что угодно приходит, мне теперь все равно! — сказал Марчер. — По мне, пусть бы оно всегда присутствовало, как вы выражаетесь, чем отсутствовало вместе с вами!..
— Ну, я!.. — Бледными своими руками она отмахнулась от его слов.
— Отсутствовало вместе со всем на свете! — Было мучительно сознавать, что он стоит перед ней в последний раз в их жизни, во всяком случае, в последний раз меж ними идет речь о его безусловном, о его бездонном падении. Невыносимая тяжесть этого сознания, видимо, и вырвала у него последний членораздельный протест: — Я верю вам, но говорю прямо — по-прежнему не понимаю. Для меня ничего не прошло. И не пройдет, пока не пройду я сам — дай бог, чтобы это случилось поскорее. Вот вы говорите, — продолжал он, — будто я уже все получил сполна, но объясните, как я мог не почувствовать того, что именно мне и было предназначено почувствовать?
Она ответила ему, быть может, немного уклончиво, но без всякого замешательства:
— Вы заранее поверили, что обязательно «почувствуете». Вам предстояло претерпеть свою судьбу. А ее можно претерпеть и не зная об этом.
— Но ведь… Разве претерпеть не значит выстрадать?
Она молча смотрела на него.
— Нет… Вы не понимаете.
— Я страдаю! — сказал Джон Марчер.
— Не надо, не надо!
— Но уж с этим я ничего не могу поделать.
— Не надо! — повторила Мэй Бартрем.
Несмотря на слабость, она произнесла это таким необычным тоном, что он уставился на нее, уставился, словно ему на мгновение забрезжил невидимый прежде свет. Потом опять спустилась темнота, но мелькнувший свет успел превратиться в новую мысль.
— Потому что я не имею права?…
— Не надо вам знать, не следует, — полная жалости к нему, увещевала она. — Не следует, потому что мы не должны.
— Не должны? — Когда бы он знал, о чем она говорит!
— Да. Это было бы слишком.
— Слишком? — продолжал он спрашивать, но уже через секунду его недоумению пришел конец. В только что блеснувшем свете и в свете, исходившем от измученного лица Мэй Бартрем, ее слова наполнились смыслом, который охватывал все, иначе они вообще не имели смысла; это открытие вместе с мыслью, чем было для нее такое знание, обрушившись на Марчера, вырвало у него вопрос: — И из-за этого вы умираете?
Но она сосредоточенно вглядывалась в него, как бы стараясь понять, до чего он додумался, и, возможно, что-то увидев или чего-то испугавшись, прониклась глубоким состраданием.
— Я еще пожила бы для вас, если б могла. — Прикрыв глаза, она погрузилась в себя как бы для последней попытки собраться с силами. — Но не могу. — И снова посмотрела на него, прощаясь взглядом.
Она действительно не могла, это слишком быстро, слишком бесповоротно подтвердилось, и всякий раз, когда потом ему удавалось мельком увидеть ее, он видел только мрак и обреченность. Этот странный разговор был их последним. Спальню, где ее терзала болезнь, неусыпно оберегали, доступ туда был почти закрыт для Марчера; к тому же в присутствии врачей и сиделок, двух-трех родственников, которых, без сомнения, привлекало возможное наследство, он чувствовал, как мало у него так называемых прав и как должно всех удивлять, что после стольких лет дружбы их не оказалось больше. Даже какой-то четвероюродный брат, тупица из тупиц, и то был правомочнее, хотя в жизни подобного персонажа Мэй Бартрем ничего не значила. А вот в его жизни она занимала особенное место — чем иначе объяснить ее незаменимость? Как непонятно устроено человеческое бытие, как парадоксально то, что у него, Марчера, нет привилегий по отношению к Мэй Бартрем! Эта женщина, можно сказать, была для него всем, но никто не считал себя обязанным признавать их близость. Еще труднее, чем в завершающие недели, оказалось положение Марчера, когда на огромном сером лондонском кладбище отдавали последний долг тому, что было смертно, что было бесценно для него в его друге. Похороны были немноголюдны; но с Марчером обошлись так небрежно, словно провожающих были сотни. Говоря короче, с этой минуты он уже не мог закрывать глаза на то, что участие, которое принимала в нем Мэй Бартрем, не дает ему никаких преимуществ. Марчер затруднился бы объяснить, чего он ждал, но нынешнее ощущение двойной утраты, во всяком случае, было неожиданностью. Он не только лишился ее участия, он к тому же не почувствовал — а почему, решительно не понимал — той атмосферы особой почтительности или хотя бы пристойного соболезнования, которая обычно окружает человека, понесшего тяжкую потерю. Казалось, что, с точки зрения общества, никакой тяжкой потери он не понес, словно это не явно и не очевидно, более того, словно у него нет на это законных прав и оснований. Шли недели, и порой Марчеру хотелось открыто, даже вызывающе утвердить невосполнимость своей утраты — пусть бы кто-нибудь попробовал усомниться в этом и дал ему повод облегчить душу прямой отповедью! Но такие порывы почти сразу сменялись беспомощным раздражением, и тогда добросовестно, безнадежно вороша прошлое, он задавался вопросом, не следовало ли вести себя по-другому уже, так сказать, в начале начал.
Он задавался многими вопросами, поскольку этот всегда вел за собой вереницу других. Мог ли он, Марчер, при жизни Мэй Бартрем поступать иначе, не выдавая их обоих? Нет, не мог, ибо разгласи он, что они вместе стояли на страже, все узнали бы о его суеверном ожидании Зверя. Вот почему и сейчас он принужден молчать, сейчас, когда чаща опустела, а Зверь бесшумно ускользнул. Как глупо, как плоско звучали эти слова! А вместе с тем стоило исчезнуть из его жизни вот этой тревоге ожидания, и все вокруг до того переменилось, что даже он сам был удивлен. Это исчезновение трудно было чему-нибудь уподобить, разве что внезапно умолкнувшей музыке, полному запрету музыки в помещении, издавна к ней приученном, созданном только для ее звуков и вслушивания в них. Во всяком случае, если в какую-то минуту былого своего существования он мог отважиться и приподнять завесу над образом, им самим придуманным (ведь перед ней он эту завесу приподнял!), то пойти на это теперь, рассказать чужим людям об опустевшей чаще, о том, что отныне он в безопасности, значило бы прослыть среди них пустым фантазером, более того, показаться пустым фантазером самому себе. И в конце концов все свелось к тому, что бедный Марчер с трудом волочил ноги по своей истоптанной заросли, где заглохла жизнь, замерло ее дыхание, где в потаенном логове уже не сверкали чьи-то злобные глаза, и словно все еще высматривал зверя, а главное, томился тоской по нему. Он брел по существованию, которое стало непонятно-просторным, и вдруг застывал в местах, где подлесок жизни казался ему погуще, уныло спрашивая себя, недоуменно и горестно гадая, не здесь ли прятался в засаде Зверь. Но так или иначе, Зверь прыгнул, ибо в несомненной истинности утверждения Мэй Бартрем у Марчера не было сомнений. Перемена в строе его мыслей была безусловная и окончательная, ибо предназначенное уже совершилось с такой безусловностью и окончательностью, что не осталось ни страхов, ни надежд; короче говоря, вопрос о том, чего ждать в будущем, попросту отпал. Теперь предстояло неотступно решать другой вопрос — вопрос о неопознанном прошлом, о судьбе, которая так и осталась скрыта непроницаемым покровом.
Мучительные попытки сдернуть этот покров, найти разгадку превратились в главное занятие Марчера, и, возможно, они-то и удерживали его в жизни. Она, его друг, сказала — пусть не пытается догадаться, наложила запрет на знание, будь оно даже ему доступно, усомнилась в самой его способности проникнуть в тайну; именно это и отнимало у него покой. Пусть ему не дано снова пережить уже случившееся, но, во имя простой справедливости, зачем было подвергать его подобному унижению, погружать в сон до того беспамятный, что утраченного сознанием уже не обрести никакими усилиями мысли? Случалось, он давал себе слово или восстановить пробел, или вообще покончить с сознанием; постепенно это превратилось в лейтмотив его существования, в страсть, по сравнению с которой меркли все прежние чувства. Марчер горевал об этой утрате, точно безутешный отец об украденном или заблудившемся ребенке, и как тот стучится во все двери и наводит справки в полиции, так он дни и ночи проводил, заглядывая во все уголки своего сознания. В таком состоянии духа он, естественно, стал думать о путешествии, и притом очень длительном: ему представлялось, что поскольку другое полушарие не может дать меньше, чем это, значит, не исключена возможность, что оно даст больше. Перед отъездом из Лондона Марчер совершил паломничество к могиле Мэй Бартрем, добрался до нее по лабиринту улочек пригородного кладбища, отыскал среди множества чужих могил; он собирался просто еще раз попрощаться, но, оказавшись наконец у цели, оцепенел, завороженно уставясь на могильную плиту. Он простоял целый час, не мог ни уйти, ни постичь мрака смерти, вглядывался в имя и дату на плите, безуспешно пытался выведать тайну, которую они хранили, ждал, боясь вздохнуть, что, сжалившись над ним, камни откроют сокрытое. Марчер даже преклонил колени на этих камнях, но тщетно: они не выдали ему того, что лежало под ними, и могила обрела для него лицо лишь потому, что имя и фамилия Мэй Бартрем казались ему глазами, для которых он был чужим. Марчер долго и потерянно смотрел на них, но не увидел ни проблеска света.
6
После этого Марчер год путешествовал, но и в глубинах Азии, оглушая себя впечатлениями, полными то увлекательной романтики, то безгреховной чистоты, он неизменно ощущал: для человека, познавшего то, что довелось познать ему, внешний мир всегда будет суетен и убог. Душевная настроенность стольких лет, отраженная памятью, сияла мягким радужным светом, и в сравнении с ним блеск Востока казался дешевкой, грубой и безвкусной. А горькая истина была проста: в числе других утрат он утратил и своеобычность. На что бы он ни смотрел, все невольно тускнело под его взглядом: так как он сам потускнел, стал вровень с посредственностью, окружающее было для него крашено одним цветом. Случалось, стоя перед храмами богов и гробницами царей, он в поисках высоких мыслей обращался к чуть заметной могильной плите на пригородном лондонском кладбище, и чем больше времени и пространства разделяло их, тем напряженнее взывал Марчер к этой единственной свидетельнице его былого величия. Только она и укрепляла в нем твердость и гордость, а что ему до былого величия фараонов? Неудивительно, что назавтра после возвращения Марчер отправился на кладбище. Его и в прошлый раз непреодолимо тянуло туда, но теперь в нем появилась какая-то уверенность, обретенная, без сомнения, за многие месяцы отсутствия. С тех пор, помимо воли, изменился весь строй его чувств, и, блуждая по земле, он, так сказать, с окраин своей пустыни прибрел к ее центру. Он притерпелся к жизни в безопасности, смирился с собственным угасанием и довольно образно сравнивал себя с теми, некогда знакомыми ему старичками, жалкими и сморщенными, о которых тем не менее все еще шла молва, будто они дрались на десятке дуэлей и были любимы десятком герцогинь. Впрочем, старичкам дивились многие, а ему, Марчеру, дивился один лишь Марчер; вот он и торопился вернуться к самому себе, как, вероятно, сказал бы он сам, и освежить это чувство удивления. Поэтому так быстры были его шаги, так невозможна всякая отсрочка. Марчера подгоняла слишком долгая разлука с той единственной частью его «я», которой он теперь дорожил.
Итак, можно без натяжек сказать, что на кладбище он шел в приподнятом настроении и стоял там, ощущая даже какой-то прилив бодрости. Та, что лежала под плитой, знала о его необычайном душевном опыте, и теперь могила, как ни странно, перестала чуждаться Марчера. Она встретила его не насмешкой, как прежде, а мягким доброжелательством, и, казалось, так искренне радуется ему, как иногда, после долгой разлуки с нами, радуются вещи, которые издавна принадлежат нам и сами тоже как бы признают нашу общность. И участок земли, и табличка с выгравированной надписью, и аккуратно посаженные цветы — все это было словно его собственностью, и он чувствовал себя как помещик, удовлетворенно обозревающий свои владения. Случившееся — каково бы оно ни было — уже случилось. Он вернулся не для того, чтобы суетно допытываться: «Но что же? Что?» — этот мучительный вопрос сам собой приглушился. Тем не менее он не хотел надолго отрываться от этого места, собирался каждый месяц приходить сюда хотя бы потому, что только здесь он мог высоко держать голову. Вот таким удивительным образом могила превратилась для него в источник жизненных сил, и он действительно из месяца в месяц бывал на кладбище, пока эти посещения не стали чуть ли не самой прочной его привычкой. А дело было в том, что в своем донельзя упростившемся мире Марчер, как это ни удивительно, чувствовал себя живым лишь на клочке земли в саду смерти. В любом другом месте он ни для кого, даже для себя, ничего не значил, зато здесь был всем, и не потому, что об этом свидетельствовали многие, или хотя бы кто-то один, кроме самого Джона Марчера, а по неоспоримому праву, которое давала ему книга записей гражданского состояния, чья открытая страница лежала сейчас перед ним. Этой открытой страницей была могила Мэй Бартрем, его друга, и тут таилось все его прошлое, истина его жизни, те оставшиеся позади просторы, где он все еще мог укрыться. И он порою уходил туда, и ему казалось — он бродит по былым годам рука об руку с товарищем, который почему-то тоже он, Марчер, только намного моложе и, что еще непонятнее, они все время движутся вокруг кого-то третьего, но она, эта третья, никуда не идет, она неподвижна, она застыла, лишь ее глаза неотрывно следят за его круговращениями, и эта фигура — его единственный, так сказать, ориентир. Такова была нынешняя жизнь Марчера, и питало ее только убеждение, что когда-то он жил, только оно поддерживало его и, более того, сохраняло ощущение тождества с самим собой. Он, в общем, довольствовался им много месяцев, целый год, существовал бы так, наверное, и дальше, если бы происшествие, с виду малопримечательное, не всколыхнуло Марчера куда сильнее, нежели впечатления от Индии и Египта, не («правило его мысли совсем в другое русло. То был чистый случай, редчайшее, как он думал потом, совпадение обстоятельств, но отныне ему предстояло жить верой, что не этим путем, так иным свет пробил бы пелену на его глазах. Повторяю, Марчеру предстояло жить этой верой, но — не могу не добавить — ничем другим он свою жизнь не заполнил. Оставим же ему эту утешительную и дорого давшуюся уверенность, что, как бы там ни было, в конце концов он и сам пробился бы к свету. В тот осенний день случайность сыграла роль искры, которая подожгла пороховой шнур, издавна протянутый отчаянием Марчера. Когда все озарилось светом, он понял, что и в последние месяцы его боль была лишь временно приглушена. Ее словно одурманили, но рана продолжала пульсировать; при первом прикосновении из нее хлынула кровь. Таким прикосновением оказалось выражение обыкновенного человеческого лица. Когда на кладбище, густо засыпанном опавшими листьями, серым днем, уже перевалившим за половину, Марчер взглянул в это лицо, оно было как стальное лезвие. Вернее, оно полоснуло его, как стальное лезвие, так глубоко, так метко, что он зашатался. Марчер заметил этого человека, столь беззвучно напавшего на него, как только подошел к надгробию Мэй Бартрем, — тот стоял неподалеку, погруженный в себя, у свежего холмика, и его горе в своей незачерствелости было под стать могиле. Уже одно это налагало запрет на проявление интереса к нему, тем не менее Марчер все время смутно ощущал присутствие соседа, человека средних лет, в трауре; его сгорбленная спина точно застыла среди тесноты надгробий и скорбных тисов. Надо сказать, что уверенность Марчера, будто только здесь, в кладбищенской обстановке, он оживает, в это посещение по неведомой причине сильно поколебалось. Впервые за последнее время осенний день окутался зловещей тенью, и, сидя на низком надгробии с именем Мэй Бартрем, Марчер ощущал совсем особую тяжесть на сердце. Он сидел, обессиленный, точно по неисповедимому произволу в нем лопнула пружина и уже навсегда. Сейчас ему больше всего хотелось растянуться на могильной плите, улечься на ней, как на ложе, приготовленном для его последнего сна. Было ли в целом мире что-нибудь, ради чего ему стоило бы бодрствовать? Он спрашивал себя об этом, глядя куда-то в пространство, и вот тогда человеческое лицо нанесло ему удар.
Сосед с трудом отвел взгляд от могильного холма, как сделал бы сам Марчер, будь у него на это силы, и направился к воротам. Он медленно шел по дорожке мимо могилы Мэй Бартрем и, поравнявшись с Марчером, заглянул ему в глаза ищущим голодным взглядом. Марчер сразу почувствовал, как глубоко ранен этот человек, почувствовал с такой остротой, что все остальное — возраст, одежда, черты характера, печать сословия — исчезло, существовало только лицо, изборожденное глубоким и разрушительным страданием, подлинным страданием. Подлинное страдание — в этом было все дело; когда он проходил мимо Марчера, в нем что-то шевельнулось, то ли участие, то ли, скорее всего, вызов чужому горю. Может быть, он успел заметить нашего друга, успел уже раньше обнаружить в нем благодушную примиренность с кладбищем, которая своей несовместимостью с его собственным чувством покоробила незнакомца как режущий диссонанс. Так или иначе, сперва Марчеру передалось ощущение, владевшее этим олицетворением раненой страсти — ощущение незримого присутствия чего-то кощунственного, а затем, когда тот продолжил свой путь, он, взволнованный, обескураженный, задетый, поймал себя на том, что с завистью глядит ему вслед. То, что за этим непроизвольным взглядом последовало, что явилось прямым следствием впечатления от встречи, было поистине невероятно — впрочем, он и прежде многое случившееся с ним считал невероятным. Незнакомец ушел, но глаза с их обнаженной мукой по-прежнему исступленно глядели на Марчера, и, полный жалости, он попытался понять, какая беда, какое несчастье, какая непоправимая утрата может придать глазам такое выражение. Что этому человеку было дано, без чего он истекает кровью, хотя и продолжает жить?
Что-то, что ему, Джону Марчеру, дано не было, и доказательство этому — он сам со своей иссохшей жизнью, подумал Джон Марчер. Его ни разу не захватила страсть — он только что видел, каково это, быть ею захваченным; он выжил, бесцельно бродил по свету, томился, но это ли называется разрушительным страданием? Откровение, мгновенно последовавшее за вопросом, и было тем невероятным, о чем мы говорим. На только что мелькнувшем лице словно огненными буквами было написано упущенное Марчером, и оно, это безвозвратно и безрассудно упущенное, превратилось в подожженный пороховой шнур, оно отдавалось в нем взрывами пульсирующей боли. Он увидел вовне, а не испытал изнутри, что значит скорбеть о женщине, которую любил за нее самое, и открыло ему это с потрясающей убедительностью лицо незнакомца, все еще вспыхивавшее перед его глазами, как дымный факел. Знание не прилетело к нему на крыльях опыта, нет, оно задело, толкнуло, опрокинуло его с пренебрежительностью случая, с наглостью уличного происшествия. Теперь все осветилось до самых небес, и Марчер стоял, глядя в пустынный провал своей жизни. Он глядел, с трудом переводя дыхание, затем в смятении отвернулся, и в глаза ему ударила своей особенной четкостью открытая страница его жизненной истории. Имя на могильной плите сразило его с не меньшей силой, чем лицо незнакомца, оно крикнуло во весь голос, что упустил он ее. Вот оно — страшное сознание, ответ на всю прошлую жизнь, откровение столь чудовищно-бесспорное, что Марчер застыл как каменное надгробье у его ног. Все сошлось, стало понятно, очевидно, бесспорно, и теперь Марчер никак не мог постичь той слепоты, которую с таким упорством пестовал в себе. Назначенное совершилось с полнотой даже чрезмерной, чаша была выпита до последней капли: он оказался человеком своего времени, олицетворил собой человека, с которым ничего не может случиться. Вот какой удар его постиг, вот что ему открылось. И, как мы уже сказали, он стоял, охваченный мертвящим ужасом, а части прошлого все крепче спаивались между собой. Значит, когда он был слеп, она все видела, и в этот час опять-таки она открыла ему глаза на истину. А смысл этой жгучей и уродливой истины состоял в том, что Марчер всю жизнь прождал, ибо только ожидание и было его уделом. Та, что вместе с ним несла стражу, вовремя поняла это и дала ему шанс перехитрить судьбу. Но судьбу перехитрить невозможно, и в тот день, когда она сказала, что уже все произошло, он тупо не заметил предложенного ею спасительного выхода.
Спасением была бы любовь к ней; вот тогда его жизнь действительно стала бы жизнью. Она жила — никому уже не узнать, как страстно и скорбно! — потому что любила его за него самого, а он думал о ней (как яростно надвинулась на него эта мысль!) с ледяным эгоизмом, греясь в лучах ее желания помочь ему. Он вспоминал ее слова, и цепь все разматывалась и разматывалась. Зверь подстерег добычу и прыгнул — прыгнул в те холодные апрельские сумерки, когда, бледная, больная, изможденная, но все еще прекрасная и даже, может быть, способная побороть болезнь, она поднялась с кресла и остановилась перед ним, Марчером, стараясь помочь ему понять. Но он все равно не понял, и зверь прыгнул, она беспомощно отвернулась, и зверь прыгнул, и к тому времени, когда он ушел от нее, все назначенное уже свершилось. Он не напрасно боялся, он был верен своей судьбе, он обанкротился во всем, в чем ему было назначено обанкротиться; вспомнив, как она молила его не пытаться понять, он громко застонал. Ужас пробуждения — вот что означает такое знание; оно дохнуло, и даже слезы как будто смерзлись на ресницах. Но и сквозь слезы он, не отрываясь, смотрел в лицо истине, старался ничего не упустить, все разглядеть, чтобы и ему испытать скорбь. В ней есть хотя бы отдаленный привкус живой жизни, пусть даже и горький. Но от этой горечи Марчер внезапно почувствовал дурноту, жестокий образ словно воплотился в отвратительную реальность, Марчер воочию увидел предназначенное и сбывшееся. Он увидел Чащу своей жизни и Зверя; увидел, как этот огромный, уродливый Зверь, затаившись, припадает к земле, а потом, точно поднятый ветром, весь напружившись, взлетает для сокрушительного прыжка. В глазах у Марчера потемнело, он отпрянул — Зверь был уже рядом — и, спасаясь от галлюцинации, ничком упал на могилу.
Комментарии
В предисловии к 17 тому нью-йоркского собрания сочинений, где напечатаны произведения, которые Генри Джеймс назвал «рассказами о псевдосверхъестественном и ужасном» («tales of quasisupernatural and gruesome»), он утверждает, что подобные фантазии никогда не вышли бы из-под его пера, если бы не его давняя любовь к «историям как таковым», к искусству создавать напряжение, вызывать тревогу, любопытство и ужас: «Должен признаться, что в поисках странного я пробудил ужасное в духе «Поворота винта», «Веселого уголка», рассказов «Друзья друзей», «Сэр Эдмунд Орм», «Подлинная вещь». Я искренне стремился избежать избыточности, исходя из того, что экономия в искусстве всегда красива. <…> Любопытный случай, редкое совпадение, каким бы оно ни было, еще не составляют истории, в том смысле, что история — это изумление, возбуждение, напряжение и наше ожидание; историю создают чувства людей, их оценки, сочетание жизненных обстоятельств. Удивительное удивляет больше всего тогда, когда оно происходит с вами и со мной, оно представляет ценность (ценность для других), когда его нам непосредственно предъявляют. И все же, хотя и может показаться странным заявление о том, что я чувствую себя уверенней, рассказывая о таких приключениях, какие случились с героем «Веселого уголка», нежели о бурных похождениях среди пиратов и сыщиков, я полагаю, что вышеупомянутое сочинение ставит некий предел, который я сам себе положил в рамках «приключенческого рассказа»; причина этого — вовсе не в том, что я лучше «изображаю» то, что мой несчастный герой пережил в нью-йоркском особняке, нежели описываю сыщиков, пиратов или каких-нибудь изгоев, хотя и в последнем случае мне было бы что сказать; причина в том, что душа, связанная с силами зла, интересна мне особенно тогда, когда я могу представить самые глубокие, тонкие и подспудные (драгоценное слово!) связи».
На атмосферу, воссоздаваемую в рассказах Генри Джеймса и многих других писателей конца XIX — начала XX века, несомненно, повлияла установившаяся в то время мода на спиритизм. Современные писателю трактовки феномена медиумизма и мистического транса были известны ему, в частности, из трудов его брата Уильяма Джеймса. Последний не давал однозначного объяснения этим явлениям, и это обстоятельство также повлияло на способ их изображения в рассказах и повестях его брата. Уильям Джеймс в знаменитом сочинении «Многообразие религиозного опыта» подытожил результаты многолетних исследований и размышлений в специальном разделе, где заявил, что «если мы хотим приблизиться к совершенной истине, мы должны серьезно считаться с обширным миром мистических восприятий». Рассуждая о подобных явлениях, он предлагал приписать их либо исключительно нервному «разряжению», имеющему сходство с эпилептическим, «либо отнести их к мистическим или теологическим причинам». Ученый не находил достаточных оснований, чтобы окончательно отвергнуть реальность «невидимого мира».
Джеймс не намеревался печатать «Зверя в чаще» по частям в каком-либо из журналов, и поэтому произведение, написанное еще в 1902 году, было впервые опубликовано лишь в 1903 году в сборнике писателя «Лучшее» (The Better Sort). По мнению многих ведущих критиков, шестидесятилетний Джеймс достиг в этом рассказе вершины мастерства. В отделе книжных рецензий журнала «Нэйшн», в отзыве, напечатанном после публикации рассказа, говорится: «Произведение поражает своей отстраненностью и широтой жизненных наблюдений, пониманием главных мотивировок и их бесчисленных оттенков, невероятным многообразием превосходных способов их изображения».
В рассказе очевидны автобиографические мотивы, отразившие размышления Джеймса по поводу его отношений с мисс Констанцией Фенимор Вулсон, американской романисткой, покончившей с собой в Венеции в 1894 году.
Она познакомилась с Джеймсом в 1879 году, и до самой ее смерти их связывала нежная дружба, переросшая с ее стороны в более глубокое чувство. Джеймс, однако, предпочел не замечать перемены, а быть может, и в самом деле не заметил влюбленности мисс Вулсон. Так или иначе, почти через восемь лет после ее смерти эта романтическая история трансформировалась под пером Джеймса в литературный сюжет.
О постепенном развитии замысла или, во всяком случае, центральной темы «Зверя в чаще» свидетельствуют несколько дневниковых записей Джеймса, сводимых к общей идее «запоздалости» («too late»), нереализованности, напрасно прожитой жизни. В 1895 году писатель обдумывает сюжет рассказа, герой которого встречает свою давнюю возлюбленную. Женщина в этом случае должна была символизировать, по словам Джеймса, «умершее «я» мужчины: он жив лишь в ней, а сам по себе мертв». В августе 1901 года Джеймс оставляет запись в дневнике о сюжете некой «маленькой фантазии»: «Человека преследует страх, со временем нарастающий все больше и больше, — страх того, что с ним что-то случится: правда, он не вполне понимает, что именно».
По свидетельству секретаря писателя, Джеймс написал «Зверя в чаще» за три-четыре дня напряженной работы, сразу после окончания романа «Крылья голубки» (1902), героиня которого, Милли Тил, умирает в Венеции. Главный герой романа, вероятно, не случайно «отправлен» писателем на это время в Лондон. Отметим, что Джеймс также был в Лондоне во время самоубийства Констанции Вулсон.
В эстетическом отношении сюжет «Зверя в чаще» представляет собой ироническое переосмысление как «готической» прозы, так и приключенческой литературы. На месте традиционного привидения или экзотического зверя в рассказе Джеймса оказывается фантом сознания. Джона Марчера, как ему кажется, поджидает некий Зверь — символическое чудовище, готовящееся к сокрушительному прыжку из джунглей. Марчер ощущает жизнь как загадочное, пугающее, дикое пространство. Герой не подозревает, что «чужое» в его случае — это не «иное в другом», а «иное в себе». Именно в джунглях (а не в чаще, как в русском переводе), то есть абсолютно чужом пространстве реальности (или сознания?), таится, как представляется Марчеру, страшная разгадка изначально предначертанного, чего-то исключительного, что должно перевернуть до той поры мирное и ничем не примечательное течение его жизни. Навязчивое состояние героя выражается в ощущении подстерегающей, едва ли не инфернальной опасности. Именно это качество наряду с поэтическими соображениями, повидимому, привело Джеймса к решению поместить «Зверя в чаще» в один том с рассказами о привидениях, то есть 17 том нью-йоркского собрания сочинений.
В «Звере в чаще» ирония Джеймса распространяется за пределы характерологического анализа. Своеобразному переосмыслению подвергнута, в частности, и кальвинистская концепция предестинации (предопределения), согласно которой «спасение» вовсе не зависит от усилий индивидуума, ибо его судьба заранее предрешена. Таким образом, судьба Марчера трагична и как выражение его частных, в целом весьма романтических иллюзий, и в свете извечной проблемы выбора между действием и бездействием.
Джон Марчер — «наследник» традиции сугубо интровертных персонажей, которые существуют исключительно во внутреннем мире, среди реалий, созданных их воображением. «Родоначальником» это традиции был Родерик Ашер из новеллы «Падение дома Ашеров» Эдгара Аллана По, чье влияние становится ощутимым в прозе Джеймса с 1890-х годов. Джон Марчер целиком отдается ожиданию чего-то исключительного, что должно выделить его из числа обыкновенных людей. Подобно Ашеру, Марчер «гоняется за призраками», не замечая того, что происходит в действительности. Только внутренние переживания героя-повествователя, с чьей «точки зрения» мы и можем оценивать происходящее, определяют интригу и ритм развития событий. Антагонизм, испытываемый Марчером по отношению к внешнему, «враждебному» миру, миру толпы, — доминанта не только его теоретизирования, но и поведения. Его одиночество — это тот «код» или «кодекс», которому подчинена вся жизнь. Интроспекция вкупе со своеобразным фатализмом приводят к ощущению предопределенности. Болезненное ожидание судьбоносного события разрушает саму возможность переживания жизни как значимого потока, в котором каждый, самый незначительный эпизод или встреча могли быть поворотным моментом, началом обновления. Однако Марчер готов признать доподлинным лишь нечто выдающееся, из ряда вон выходящее. Только некое знаменательное и пугающе сокрушительное событие, согласно его убеждению, способно осветить обыденность тайным смыслом, полностью меняющим все, что ему предшествовало. Ужас, испытываемый Марчером, складывается из двух фобий: герой боится сокрушительного «прыжка», вместе с тем опасаясь, что никакого «скачка» вовсе не случится или что он, Марчер, его не почувствует, а значит, и не осмыслит значение и цель своей жизни. Таким образом, лишь возможное будущее способно наделить смыслом прошлое, настоящее же при подобном самоощущении самостоятельной ценностью не обладает. Трагический конец — понимание навсегда упущенного — усиливает общий иронический подтекст рассказа об «избранности» как одной из величайших иллюзий интеллекта.
1
Мэй Бартрем. — Главные герои рассказа не случайно получили имена, ассоциирующиеся с названиями месяцев, с сезонными изменениями, с плавным течением времени от рождения к смерти. Имя героини означает «май». Фамилия главного героя Марчер, с одной стороны, происходит от английского «мар» (March), а с другой стороны, означает «того, кто движется, эволюционирует». Основополагающая для повествования встреча Мэй с Марчером происходит в апреле. Впервые герои видятся за десять лет до того, как Марчер приезжает в Везеренд. В тот первый раз они вместе отправились на раскопки Помпей, совершив своего рода путешествие вглубь истории, в прошлое. В заключительной сцене Марчер приходит на могилу Мэй и переживает там подлинное откровение, распознав наконец Зверя. Осознав крах своих иллюзий, пораженный страшным ликом судьбы, герой падает на могилу. Расставив таким образом акценты на образах земли как пространства, скрывающего в себе прожитые жизни, Джеймс метафорически замыкает художественное время в круг, подчеркивая, что «иссохшая жизнь» Марчера, так и не пережившего ничего существенного в отпущенный ему срок, символически возвращается к отправной точке. Так завершается сюжет, который писатель остроумно охарактеризовал как «большое отрицательное приключение» («a great negative adventure»), имея в виду, разумеется, «антиприключение». Иронический смысл рассказа выражен Джеймсом в предисловии к 12 тому собрания сочинений: «Марчер и в самом деле был отмечен судьбой, он действительно не миновал ее: его судьба заключалась в том, что он был человеком, которому не суждено было пережить ни единого приключения».
Время, трактуемое как набор потенциальных и безвозвратно упущенных возможностей, осознается в качестве одного из главных мотивов рассказа, что явственно подчеркнуто в конце третьей части. В начале четвертой части образ тяжело больной Мэй Бартрем трансформируется в глазах Марчера так, что она представляется ему подобием «безмятежного, изысканного, но непроницаемого сфинкса». Характерно, что Марчер, разглядев это новое качество в своей подруге, не просто ощущает пропасть, отделившую их друг от друга, но и усматривает причину возникшей отстраненности в том, что Мэй знает нечто важное, но утаивает это от него. Иными словами, герой полагает, что ей известна тайна Зверя. Согласно греческой мифологии, Сфинкс, чудовище с головой женщины и телом льва, пожирал всех, кто не смог разгадать его загадку про человека: «Кто ходит сперва на четырех ногах, затем на двух, а потом на трех?» Однако текст загадки — это не просто характеристика человека как «не-зверя». Это метафора времени человека, этапов его жизни. Сравнение Мэй со Сфинксом, таким образом, оказывается не просто поэтическим, но еще и мифологически обоснованным приемом.
(обратно)2
Дворец Цезарей — одна из достопримечательностей Рима, представляющая собой развалины нескольких дворцов, которые строили на Палатинском холме римские императоры начиная с 14 года н. э.
(обратно)3
Здесь мошенником (ит.).
(обратно)


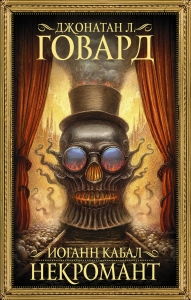


Комментарии к книге «Зверь в чаще», Генри Джеймс
Всего 0 комментариев